Паскаль Киньяр Секс и страх
ПРЕДИСЛОВИЕ
Мы несем в себе смятение нашего зачатия.
Нет такого шокирующего образа, который не напоминал бы нам жестов, нас создавших.
Человечество извечно ведет свое происхождение от сцены зачатия, сталкивающей двух млекопитающих, самца и самку, чьи мочеполовые органы, при условии анормального возбуждения, заставляющего их разбухать и становиться откровенно бесформенными, соединяются друг с другом.
Мужской член увеличивается, извергает сперму — сама жизнь внезапно вырывается наружу щедрым потоком семени, несущего в себе все свойства, определяющие человечество. Нас повергает в смятение тот факт, что мы не способны отделить животную страсть владеть, подобно животному, телом другого животного от семейной, а затем исторической генеалогии. И смятение это усугубляется тем, что селекция, которую производит смерть, не может быть отделена от генеалогической преемственности индивидуумов, которые черпают возможность стать индивидуализированными, «выделенными» лишь в результате случайной, пущенной на самотек половой репродукции. Таким образом, случайная половая репродукция, селекция, осуществляемая непредвиденной смертью, и периодическое индивидуальное сознание (которое сон возрождает и размывает, которое дар речи реорганизует и затемняет) являют собой одно Целое, рассматриваемое в одно и то же время.
Однако это «целое, рассматриваемое в одно и то же время», мы увидеть никак не можем.
Ибо мы — плод события, в котором не участвовали.
Человек — существо, которому не хватает образа.
Что ни делает человек — закрывает глаза и грезит в ночи, открывает их и внимательно разглядывает реальные предметы, ярко освещенные солнцем, блуждает взглядом в пространстве или обращает его к книге, которую держит в руках, завороженно следит за развитием действия фильма, неотрывно созерцает картину, он — взгляд желания, ищущий другой образ за всем, что видит.
Патрицианки, изображенные на фресках древних римлян словно прикованы к невидимому якорю. Они недвижны; их уклончивый взгляд застыл в напряженном ожидании в драматический миг рассказа, который нам уже не дано понять. Мне хотелось бы поразмышлять над трудным римским словом «fascinatio». Греческое слово «phallos» переводится на латынь как «fascinus». Песни, ему посвященные, зовутся фесценнинами.[1] Fascinus останавливает и завораживает взгляд до такой степени, что тот не в силах от него оторваться. Песни, на которые он вдохновляет, лежат в основе изобретения римского романа — «satura».[2]
Влечение, завороженность (fascinatio) — это восприятие мертвого аспекта речи. Вот почему этот взгляд всегда уклончив.
Я стремлюсь понять нечто необъяснимое — перенос эротики греков в имперский Рим. Эта мутация до сих пор не была осмыслена по неизвестной мне причине — я чувствую в ней страх. За пятьдесят шесть лет правления Августа, который перестроил весь римский мир на имперский лад, произошла удивительная метаморфоза: радостная, точная эротика греков превратилась в испуганную меланхолию римлян. И мутация эта произошла всего за каких-нибудь тридцать лет (с 18 г. до н. э. по 14 г. н. э.); тем не менее атмосфера страха до сих пор окружает нас и правит нашими страстями. Христианство было всего лишь следствием этой метаморфозы; оно восприняло эротику в том состоянии, в каком ее переформулировали вдохновленные принципатом Октавия Августа римские чиновники; следующие четыре века Империи усугубили ее подавленность.
Я говорю здесь о двух землетрясениях.
Эрос — это нечто архаическое, предчеловеческое, абсолютно животное; психическая природа человека воспринимает и выказывает его в двух формах — смятении и смехе. Смятение и смех — вот хлопья, медленно падающие из густой тучи пепла над проснувшимся вулканом. Не будем говорить ни о бушующем огне, ни о расплавленной породе, что вырывается из недр земли. Общества и язык до сих пор защищаются от этого грозящего им извержения. Генеалогическое развитие имеет у людей непроизвольный характер мускульного рефлекса; это сны для гомойотермных животных, подверженных циклической сонливости; это мифы для обществ; это семейные романы для индивидуумов. Люди придумывают отцов — иными словами, истории, — чтобы придать смысл случайности спаривания, которое никто из нас — никто из тех, кто рожден на свете этого спаривания и десяти темных лунных месяцев, — не может видеть.
Когда две цивилизации сходятся и противоборствуют, следует катаклизм. Один из таких катаклизмов произошел на Западе, когда греческая цивилизация коснулась края римской цивилизации и системой ее ритуалов, когда эротическое смятение превратилось в fascinatio, когда эротический испуг стал саркастической издевкой над тем, что звалось lubidrium.[3]
Случилось так, что 24 августа 79 года другой катаклизм, на сей раз чисто природный, стал причиной погребения четырех городов, которые сохранили свидетельство об этом событии. По крайней мере никто другой — ни Бог, ни Тит, ни люди — не спасли развалины Помпеи, Оплонтиса, Геркуланума и Стабий. Нужно благодарить огненную лаву, уничтожившую жителей названных городов, хотя бы за то, что она на века сохранила для человечества, под слоем пемзы и пробкового дуба, эти «завораживающие» образы.
Атрани, июнь 1993
ГЛАВА I ПАРРАСИЙ И ТИБЕРИЙ
В сентябре 14-го года Тиберий наследовал Августу.
Тиберий остался в истории как человек двух загадок и двух атрибутов. Куннилингвус и анахорез — это загадки. Никталопия и порнография — атрибуты. Император Тиберий коллекционировал рисунки и картины греческого художника Паррасия Эфесского.[4] Древние говорили, что Паррасий изобрел pornographia в Афинах около 410 г. до н. э. Pornographia буквально переводится как "изображение проститутки".[5] Паррасий любил гетеру Феодоту и писал ее обнаженной. Сократ утверждал, что живописец был сластолюбцем (abrodiaitos).
Светоний рассказывает,[6] что император Тиберий велел повесить у себя в спальне картину Паррасия, изображавшую Аталанту, что питала к Мелеагру "постыдную страсть" (Meleagro Atalanta ore morigeratur). Представьте себе Людовика XIII, который неожиданно приказал повесить в своих покоях картину Жоржа де Латура "Святой Себастьян", а все прочие холсты вынести вон. Светоний пишет далее: "Живя в уединении на Капри, Тиберий возжелал обустроить комнату со скамьями для тайных услад (arcanarum libidinum). Там собирал он юных девушек и молодых развратников, которых называл spintrias (сфинктеры),[7] для чудовищных совокуплений; он располагал участников тройной цепью, и они предавались обоюдным любострастным играм, дабы возбудить его угасающие желания (deficientis libidines). Он украшал свои покои рисунками и статуэтками — копиями самых непристойных картин и скульптур (tabellis ас sigillis lascivissimarum picturarum et figurarum), к коим добавлял еще и книги Элефантиды,[8] чтобы каждый участник оргии мог повторить позу (schemae), выбираемую там самим императором. Он называл «рыбешками» (pisciculos) детей самого нежного возраста, которых приучал играть и резвиться у него меж ног, когда он плавал; они должны были возбуждать его языком и покусывать (lingua morsuque). Он давал младенцам, еще не отлученным от груди, сосать свой половой орган, дабы они освобождали его от семени. Это ему нравилось более всего. В лесах и рощах Венеры он повелел устроить гроты и пещеры, в которых молодые люди обоих полов, в костюмах сатиров и нимф (Paniscorum et Nympharum), предавались чувственным наслаждениям.
Древние считали, что фелляция происходит от куннилингвуса греческих женщин с острова Лесбос. Глагол «lesbiazein» означал «лизать», "сосать". И то, что было вполне терпимой практикой в гинекеях, рассматривалось как непристойность в отношении свободнорожденного мужчины, как только у него отрастала борода.
Ни у греков, ни у римлян никогда не существовало понятия гомосексуальности. Само слово «гомосексуализм» появилось в 1869 году. Слово «гетеросексуализм» возникло в 1890 году. Ни греки, ни римляне не делали различия между гомосексуализмом и гетеросексуализмом. Они различали другое — активность и пассивность. Они противопоставляли фаллос (fascimis) всем отверстиям (spintrias) человеческого тела. Греческая педерастия была ритуалом социальной инициации. В процессе ритуального совокупления (содомии) мужчины с мальчиком (pais) сперма взрослого наделяла мужественностью ребенка. Греческий глагол, означающий процесс содомии — eispein,[9] буквально соответствует латинскому inspirare. Объект любви подчиняется старшему по возрасту гражданину (inspirator) и, таким образом, приобщается к охоте и культуре — обе они находят свое воплощение в войне. Жизнь, частная, общественная, торговая, артистическая, другими словами, война — есть охота, где добычей является человек.
В греческой педерастической паре участники никогда не менялись ролями. В Афинах мужская проституция влекла за собою лишение гражданских прав; пассивный гомосексуалист, уличенный в занятии политикой, предавался смерти. Таких презирали еще сильнее, чем неверных жен (супружеская измена смертью не каралась). Ритуальный педерастический акт был строго функциональным: его смысл состоял в передаче ребенка из гинекея в мужские руки, в избавлении от пассивной сексуальности гинекея с тем, чтобы превратить мальчика в зачинателя (отца) и гражданина (взрослого, активного любовника, воина-охотника). Появление растительности на теле проводило границу между двумя сексуальными позициями: активные и «волосатые» принадлежали городу (polis), пассивные и безволосые — гинекею. Так, статуи Гермеса на перекрестках изображали его то гладкокожим и женственным, то бородатым и му жественным. Ни один мужчина, ни одна женщина не имели права вожделеть к носящему бороду. Желанным, красивым считалось лишь то, что было безволосым. Греческое противопоставление было незыблемо: бородатый, хмельной и активный против безбородого, трезвого и пассивного объекта любви. Отсюда и два ритуала (или две церемонии) — охота на зайца с голыми руками, олицетворявшая собой педерастическую любовь (когда добыча становится хищником), и сцена, в которой бородатый мужчина с напряженным фаллосом держит на ладони поникший пенис безволосого партнера (всякий взрослый — активен). Вот два основных сюжета, фигурирующих на большинстве греческих эротических ваз.
Педерастический ритуал греков возникал из противопоставления гинекея и города (polis). Римляне, не знавшие гинекеев, не знали и этой оппозиции. Римская любовь отличается от греческой наличием следующих черт: оргия (gens), словесная политическая непристойность, противопоставленная целомудрию (castitas) матроны-покровительницы касты и ее представителей (gentes), и, наконец, покорность (obsequium) рабов. Римская сексуальная мораль была чрезвычайно жесткой, уставной и особенно активной у мужчин. Сенека Старший определяет ее ("Контроверсии", IV, 10) сентенцией консула Квинта Атерия:[10] "Impudicitia in ingenue crimen est, in servo necessitas, in liberto officium[11] (Пассивность есть преступление для свободнорожденного гражданина, неизбежная необходимость — для раба и долг для вольноотпущенника, который он обязан уплатить своему патрону). Сенека Старший добавляет, что эта сентенция Квинта Атерия дошла до императора Августа и весьма позабавила его новым смыслом, который оратор вложил в слово officium.
Римские нравы чрезвычайно категоричны: содомия и иррумация считаются добродетелями, фелляция и пассивность — непристойны. Pedicare — глагол, означающий содомию через анус. Irrumare — содомия через рот. Фелляция — современное слово, которое многое говорит об обществе, его избравшем. Fellare — сосать половой орган — действие, для римлянина совершенно непостижимое. В его понимании можно только активно irrumare себе подобного, то есть заставить того принять в рот fascinus и принудить лизать и покусывать его до тех пор, пока не извергнется семя.
Запрет на пассивность (считавшуюся постыдной) распространялся в Риме на всех свободнорожденных граждан любого возраста. В Греции подобный же запрет касался свободных граждан лишь с того момента, как у них начинала расти борода (до этого безволосые мальчики считались пассивными, женоподобными). В Риме мужчина назывался целомудренным, если он никогда не подвергался содомии (то есть всегда был сексуально только активным). Pudicitia — добродетель свободного человека. Все свободнорожденные юноши (praetextati et ingenui) неприкосновенны — вот что римляне противопоставили инициации paiderastike молодых людей (paides) взрослыми (erastes), которую утвердил греческий polis. И только в эпоху принципата несколько римских поэтов предложили также ввести в обиход практику «политической», педагогической любви, на равных началах, старших (erastes) к младшим (paides), непорочным (pueri). Для начала они распространили эту форму любви на продажных женщин, затем на наложниц и, наконец, на патрицианок. Мучеником сей метаморфозы стал всадник Публий Овидий Назон. Овидий — первый из римлян, в чьем понимании сладострастие (voluptas) должно было быть взаимным, а мужское желание подавляемым, дабы бесстыдно (ибо для римлянина любовное чувство есть непристойность, желание понизить свой статус, безумие) отвечать на страсть, обуревающую женщину, матрону. "0di concubitus qui non utrumque resoluunt" (A ненавижу объятия, в коих один или другой не отдается полностью[12]). И Овидий добавляет, также употребляя слово officium, которое произнес до него консул Атерий: "Officium faciat nulla puella mihi" (Я не желаю услуги от женщины[13]). Тотчас после публикации этого "Ars amatoria" Август сослал всадника Овидия "на край света", в Томы, на берега Дуная. Тиберий не отменил эту ссылку. Смерть унесла Овидия в 17 году.
Сознание греха или хотя бы виновности никогда не омрачало и не осложняло сексуальные отношения древних, какую бы форму они ни принимали. Но в Риме их подавляет страх перед потерей статуса. Пуританство затрагивает только мужественность, а отнюдь не сексуальность. Любовный акт всегда предпочтительнее воздержания, но ценность его полностью зависит от статуса объекта, утоляющего желание, — это может быть матрона, куртизанка, гражданин, вольноотпущенник, раб. Легализация развода и бурная полигамия, последовавшая за этим, эмансипация матрон и распространение obsequium значительно пошатнули традиционную мораль. Любовь в браке многим показалась триумфом разврата. Август был возмущен. Вергилий поддержал это возмущение. Овидий воспротивился подобной реакции. Август выразил свое отношение, введя новую теологию и новое законодательство. Он подверг изгнанию одного актера только за то, что его любовница, римская матрона, обрезала себе волосы: обнажив голову подобно рабыне, она тем самым отринула свой status, стала рабыней, проявила покорность (obsequium) мужчине, которого имела дерзость полюбить. Именно за любовные похождения Август и сослал свою дочь Юлию на крошечный островок Пандатарию, близ побережья Кампании. Ее супруг Тиберий одобрил эту ссылку. Смерть унесла Юлию в конце 14 года. Она отказалась принимать пищу, желая умереть.
Пассивность в любви со стороны патриция считалась таким же тяжким преступлением, как любовное чувство или супружеская измена со стороны матроны. Однако мужская активная гомосексуальность или мастурбация, сделанная рукою матроны своему любовнику, воспринимается как нечто вполне невинное. Любой гражданин может делать все, что пожелает, с незамужней женщиной, с наложницей, с вольноотпущенником и рабом. Отсюда сосуществование в римском обществе самых шокирующих актов и самой жесткой ограниченной морали. Добродетель (virtus) означает сексуальную мощь. Мужественность (virtus), будучи долгом свободнорожденного человека, отмечает его сексуальной силой; фиаско расценивается как позор или козни демонов. Единственной моделью римской сексуальности является владычество (dominatio) властелина (dominus) над всем остальным. Насилие над тем, кто обладает низшим статусом, есть норма поведения. Наслаждение не должно разделяться с объектом наслаждения, лишь тогда оно — добродетель. Эту норму ясно определяет одна из эпиграмм Марциала:[14] "Я хочу продажную девку, которая до меня отдалась моему юному рабу и которая одна способна удовлетворить троих мужчин разом. Что же до недотроги с заносчивой речью (grandia verba sonantem), то пусть ее поимеет какой-нибудь дурень из Бордо!" (mentula crassae Burdigalae). Всякий сексуально активный и несентиментальный мужчина — порядочный человек. Всякое наслаждение, доставленное другому (officium, obsequium), есть рабская услуга и является признаком недостаточной virtus, недостаточной мужественности, иными словами, говорит о бессилии. Отсюда безжалостное наказание за проступки, которые нам кажутся незначительными, а в том обществе являлись преступлениями. С точки зрения римлян, изнасилованная девушка чиста, зато изнасилованная матрона заслуживает смерти. Поцелуй, данный ребенку вольноотпущенником, обрекает этого последнего на казнь. Валерий Максим рассказывает, что Публий Мений убил педагога, который поцеловал его двенадцатилетнюю дочь.[15]
Раб не мог осквернить содомией своего господина. На это, согласно Артемидору,[16] был наложен строжайший запрет. Даже увиденная во сне, подобная содомия создавала множество проблем для того, кому она пригрезилась в ночной тиши. Зато обратное действие, со стороны господина, было нормой. Патрицию стоило лишь указать пальцем и сказать: "Те paedico" (Возьму тебя через анус) или "Те irrumo" (Возьму тебя через рот). Такова была сексуальность Цицерона в конце существования Республики. Такова же она и у Сенеки при Империи.
Римский город — это pietas мужчин, castitas матрон и obsequium рабов. Эти три римских слова позволяют понять кодифицированную резкость сексуальных анекдотов Светония о Тиберий, императоре — любителе куннилингвуса и страстном коллекционере порнографических картин Паррасия.
Римская pietas совершенно не соответствует позднейшему производному этого слова — французскому piete. Римская pietas — это Эней, несущий на плечах своего отца Анхиза. Это в высшей степени римское понятие связи. Оно означало не чувство сыновней любви, как это ошибочно толковали многие латинисты. Оно было обязательной нормой поведения, ведущей свое начало от погребальных церемоний; это «груз» на сыновних плечах. Это не взаимное, но одностороннее чувство, идущее от сына к отцу. Как ни странно, в основополагающем мифе почитается не Венера (мать Эрота и Приапа, а позже — Энея; покровительница Рима, прародительница всего земного — перед тем, как стать генеалогической прародительницей цезарей), — напротив, здесь воспевается связь, идущая от сына к отцу, благочестивый Эней, несущий на своих плечах супруга Венеры, Анхиза. Сыновнее отношение избавлено от взаимности в той же мере, в какой от нее должно быть избавлено сексуальное отношение римлянина к своему партнеру. Pietas — это неразрывная обязательная связь, что идет от младшего к старшему. Это исключительно сыновняя любовь, которая привязывает сумерки к заре, плод к семени, взгляд к фасцинусу. (И она же породила те связи клиентов с патроном, крестников с крестным, которые затем вылились в братства священников в римском католицизме или в сицилианскую мафию.)
Гомер описывает Афродиту, что приближается к Анхизу, пасущему быков на горе Ида. Анхиз развязывает пояс Афродиты, и она зачинает от него Энея. Анхиз теряет Афродиту, нарушив зарок молчания, который дал ей. И как Анхиз потерял Афродиту, так и сын его, Эней, покидает свою супругу Креусу, чтобы спасти своего отца Анхиза и своего сына Аскания. Один меж отцом и сыном, он исполнен божественной любви (pietas), которую рассматривает как долг. Между женою и мужем существует чисто человеческая связь (римский брак заключался простым пожатием руки); их союз строился не на любовном желании, но в надежде на плодовитость, продолжение рода.
Точно так же Эней покидает и Дидону: он жертвует своим желанием во имя долга по отношению к соратникам (gens). Вот так сын Венеры трижды жертвует Венерой ради того, что зовется pietas.
Римское слово castitas также не имеет того смысла, что современное французское chastete (чистота). Castitas — это Лукреция, изнасилованная Секстом и убившая себя из отвращения к тиранической, «этрусской» жестокости мужского вожделения; ее самоубийство с помощью бронзового кинжала явилось основой создания «римской» республики.[17] Республика произошла от столкновения желания и плодовитости, столь же несовместимых, как Венера и pietas, как братоубийственная тирания и республика Отцов.[18] А еще точнее: несовместимых, как этрусская цивилизация и римские ценности. Точно так же, во время основания города, Ромул безжалостно убил своего брата Рема. И точно так же Отцы убили Ромула,[19] провозгласив его затем богом на небесах, лишь бы избавиться от его царского гнета здесь, на земле.
Отчего Лукреция, образцовая супруга (она никода не ложится, она сидит даже по ночам, прядя шерсть!) Тарквиния Коллатина убивает себя после насилия Секста? Mater certissima, pater semper incertus (Мать всегда известна, отец всегда под сомнением). Это насилие ставит под сомнение чистоту рода. Супружеская верность не есть чувство привязанности к супругу, но осознание непрочности чистоты рода. Castitas — единственное, что способно сохранить эту чистоту. Matrona, не являющаяся беременной, не только должна хранить верность мужу, но не имеет права подвергнуться насилию. В этом случае насильник может понести то или иное наказание, но его жертва однозначно заслуживает смерти. Это бесчестье, позор, полная противоположность понятию чистоты. Женщине дозволено все, если она еще не мать или никогда не станет ею. Stuprmn[20] касается только матерей и вдов. Stuprum — это осквернение крови как результат незаконных плотских сношений. Изнасилованная женщина-мать или вдова виновна и покрыта позором. Такова pudicitia — активная неприкосновенность плоти. Castitas есть неприкосновенность «касты», которая свойственна тем женщинам, что носят в чреве ребенка, зачатого, согласно верованиям древних, исключительно мужем, его семенем. Изнасилованная Лукреция должна была убить себя, и она себя убила.
Эта так называемая «чистота» весьма сомнительна. Ее хорошо иллюстрирует одна история Макробия ("Сатурналии", II, 5, 9). Некто удивлялся поразительному сходству трех сыновей Юлии Старшей с их отцом Агриппой.[21] Юлия Старшая ответила: "Numquam enim nisi navi plena tollo vectorem" (Я беру пассажиров лишь тогда, когда мой трюм полон). Беременная женщина, подвергшаяся насилию, считается чистой, ибо сохранена родовая чистота ее потомства. Наслаждение в супружеской любви преследовало лишь одну цель — оплодотворение. Связь не идет от оплодотворяющего к оплодотворяемому, поскольку pietas должна идти лишь от оплодотворяемого к оплодотворяющему (то есть от верующего к Богу, от сына к отцу, от vulva к fascinus, от раба к господину, от domus к семейным божествам — «образам» мертвых Отцов, в Этрурии их запечатлевали в воске или, ранее, в глине и выставляли на крышах домов). Наслаждение (voluptas) есть сама природа, животное воспроизведение, такое же, как воспроизведение растений, как сперма или волна, породившая Афродиту, как растущий живот матери или рост месяца в ночном небе, как движение светил в чередовании ночи и дня. Единственная верность идет от сына к отцу. Земля является «родиной» постольку, поскольку один лишь фасцинус является осеменителем, "родоначальником".
Гений, Мутун,[22] Фасцинус, Либер Патер[23] — таковы были имена разных богов, охранявших победоносный талисман. Что есть Фасцинус? Это обнаженное божество богов. Природа находится в неустанном оргазме. Отцы неустанно зачинают живое. Для богов процесс зачатия непрерывен. Божество Великих Богов — это aeternalis operatic, бесконечное совокупление. Такова его безграничная actualitas. И каждый его миг — это цветок, который нужно срывать тотчас же, ибо Бог всегда пребывает в вечном мгновении. Вот это и есть Бог, которого Август дает своей Империи, — Semper vetus, semper novus (вечно древний, вечно новый). Этим и объясняется политическое решение Августа во время переоценки римского пантеона — дать Империи двух соединенных в браке богов. Марса и Венеру. Он сочетал отца Ромула с матерью Энея, что было совершенно невозможно: Эней был плодом любви Анхиза и Венеры, а Ромул и Рем произошли от насилия Марса над Реей Сильвией.[24] Он объявил эту неправдоподобную, несовместимую пару прародителями Рима. В результате сей нелепый союз стал сюжетом великого множества фресок, впоследствии обнаруженных при раскопках.
Весталки, хранительницы пенатов и фетишей римского народа, почитали напряженный мужской член. На Велиевом холме стоял Тугун Мутун — камень в виде фаллоса, на который сажали невесту. Каждый год, 17 марта, все pueri, впервые надевшие мужскую тогу и вступившие в сословие Patres, везли по городу колесницу Фасцинуса. В ритуал входила и словесная непристойность в виде фесценнинских стихов. Римская непристойность вообще может быть определена как свадебный язык-заклинание. Сдержанность выражений была запрещена, ибо вела к бесплодию. Ритуальная словесная распущенность и ритуальная оргия — это две составляющие той активной силы, что оплодотворяла женское чрево и несла победу народу; ее воплощали в непристойных статуэтках, которые можно было видеть в каждом доме, на каждой крыше, на каждом перекрестке, в каждом поле и над каждым морским маяком. Но в 186 г. до н. э. число участников ритуальных оргий было ограничено пятью, а человеческие жертвоприношения, их сопровождавшие, запрещены.
Римляне считали, что в супружеском союзе главенствующая роль принадлежит жене (женщины вступали в брак в возрасте семи — двенадцати лет), — именно она, по их мнению, вкладывала большую часть самой себя в договор о castitas (но не о девственности), который заключала с мужчиной, ибо в основном от ее инициативы, от ее плодовитости, от ее «материнства» зависел успех коитуса, забот о супруге, воспитания детей и ведения дома. «Патронаж» римской матроны осуществлялся богиней Юноной Югой.[25] Таким образом, римское слово, означавшее брак, имело отношение только к женщине. Латинское matrimonium (брак), означавшее буквально "стать женщиной-матерью", трансформировалось в слово matrona — "матрона, замужняя женщина".
Римский брак был то, что называется societas, — союз для зачатия. Ритуальная формула, произносимая невестой во время ритуального пожатия рук, давно утратила смысл; вполне вероятно, что мы никогда не разгадаем ее тайное значение: Ubi tu Gaius, ego Gaiai (Там, где ты будешь Гаем, я буду Гайей[26]). Ясно, что формула эта означает начало супружеского ига, но, оставаясь загадочной, она тем не менее не означает, что иго будет мужским. Женщина, вступившая в брак, сохраняла свое девичье имя и оставалась вполне самостоятельной личностью, которую отнюдь не подавлял союз с мужчиной.
В 195 г. до н. э. римские матроны вышли на улицы, чтобы потребовать отмены закона Оппия.[27] Ювенал описывает толпу женщин, яростно кричавших: "Homo sum!" Имея право отвергать мужей, они теперь избавились и от отцовской опеки. Супруги владели имуществом раздельно, и так же раздельно писались завещания.
Брак был ритуалом, в результате которого женщина освобождалась от всех видов услуг и работ (включая кормление грудью младенцев), кроме прядения шерсти. Венерины утехи и вино были матронам запрещены, равно как и лежачая поза за столом (в противоположность женам этрусков). За трапезой матрона (в отличие от gens), госпожа (в отличие от рабов) сидела в кресле. Приданое, выплачиваемое родителями, должно было компенсировать расходы на содержание рабынь, которые входили в дом (domus) в качестве служанок, дабы избавить госпожу (domina) от низменных занятий, несовместимых с ее статусом. Единственной заботой матроны был уставной страх. Страх перед насилием Фасцинуса — вот она, комната Мистерий. Знатные семейства, кланы (gentes), обручали своих детей с колыбели; девочек выдавали замуж в возрасте семи — двенадцати лет, еще не созревших, инфантильных, напуганных своим новым положением. Считалось, что половая зрелость у девочек наступает в двенадцать лет, но эротические и педагогические удовольствия, извлекаемые из незрелости, приветствовались. Римский закон был в этом пункте, как и во всех прочих, непререкаем: с рождения до семи лет ребенок считался неприкасаемым (infans означает "неспособный говорить", «животное», отвечающее за свои действия не более, чем безумец, furiosus, или черепица, упавшая с крыши). С семи до двенадцати лет разрешались эротические игры, возможные при половой незрелости. Но после этого — только рождение детей и полное забвение всего, относящегося к эросу. (Римлянина убеждает в непорочности отнюдь не девственность; половая незрелость и удовольствия, с нею связанные, приручают юную девушку; ее изолированность обеспечивает ее castitas. Воздержание отнюдь не является римской чертой, это изобретение стоицизма.) В этом случае брак воспроизводил pietas. Покровительство девочке мужем (протекция, rectus, означает "крыша"), равно как obsequium ребенка по отношению к отцу, формирует невзаимные связи брака и призывает «воплощать» их в определенных позах в миг сексуального «воспроизводства». Жена есть маленький Эней, чью руку держит Pater. Каждый супруг — это старый Анхиз, которого его будущие сыновья понесут на своих плечах и чье изображение они будут хранить в доме.[28] Плавт говорит, что само слово «любовь» — табу (infandus) для матрон. Матрона, проявившая любовное чувство, лишается своего статуса. Девочка не должна быть влюбленной в своего отца, она должна трепетать перед ним. Вот двенадцатая ода Горация: "Несчастны те юные девы, что не могут отдаться любовной игре (amori ludum), что трепещут от страха, заслышав строгую речь какого-нибудь из дядьев" (exanimari metuentes patruae verbera linguae). Любовная страсть (то есть рабство по отношению к мужчине) есть прелюдия, недопустимая в браке (когда женщина — matrona для своего gens и domina для своего servus). Представленная на сцене любовь или страсть гетеры была бы освистана римлянами, а автор пьесы был бы тотчас сослан на какой-нибудь остров или в румынские туманы Овидия. Voluptas — это разрушительница castitas. Венера — покровительница волчиц (louves), Юнона же опекает матрон. В пьесе Теренция,[29] датированной 165 г. до н. э., героиню, Филумену, насилуют ночью, в темноте, когда она спешит на мистерии. Она выходит замуж за Памфила, скрыв от него учиненное над нею насилие, но супруг не притрагивается к ней — он страстно влюблен в блудницу Вакхиду. Памфил отправляется в путешествие. Филумена обнаруживает, что беременна от своего насильника, тогда как муж ни разу не спал с ней. Она в ужасе ждет его возвращения. В конечном счете Памфил понимает, что это он изнасиловал Филумену ночью, еще до их свадьбы, не зная, кто она. Все плачут от радости: насильник оказался законным мужем. Такой happy end в русле римской морали и есть "непорочность".
Obsequium — это почтение, которое раб должен оказывать господину. Постепенно это понятие распространилось на граждан в отношении их правителей. Вот самая серьезная мутация Империи, подготовившая почву для христианства: распространение уставного почтения, почитания, которое римский народ (Populus Romanus) вменил себе в долг по отношению к Genius принцепса, бюрократизация свободы, ставшей раболепием для всех классов и статусов (включая преклонение отцов-сенаторов перед принцепсом), и рождение комплекса вины (который есть не что иное, как психическое воплощение раболепия). Тацит рассказывает, что Тиберий, принуждаемый стать императором и сожалевший о Республике, всякий раз говорил, по выходе из курии: "Люди, как же вы любите рабство!" — и с отвращением слушал, как сенаторы, консулы и всадники молили его об отказе от республиканских свобод и о согласии стать их повелителем, обещая ему свое повиновение (иными словами, officium — нечто вроде пассивной, постыдной услужливости вольноотпущенника или покорности раба).
Народ, боявшийся власти царя (rех), основавший республику, внезапно дрогнул, отверг гражданскую братоубийственную борьбу (которая была, однако, основополагающим мифом) и ринулся (ruere — именно так выразился Тацит) в рабство: императору была предоставлена неограниченная власть в неограниченном пространстве (то есть мировая гегемония, без всякой оппозиции), единоличное правление (дающее право избавляться от противников тех законов, что вменялись отныне главам покорившихся кланов) и право назначать своим преемником кого вздумается. Именно такой образ правления сегодня называют империей, а древние звали Принципатом.
Октавиан, став Августом, дисциплинировал сенат, подавил Форум, закрыл Трибуну, запретил ассоциации, ввел цензуру на нравы, увеличил число легионов на границах, укрепил морской флот, навел порядок в торговле, отправил в изгнание свобод ных людей, сожалевших о республике и не принявших obsequium, который он вменял в обязанность всем своим подданным. Термы, театры, амфитеатры и цирки способствовали "покорению и усмирению городов" (Сенека, "О гневе", III, 29).
В 18 г. до н. э. Август регламентировал сексуальную жизнь граждан, издав Lex Julia de adulteriis coercendis.[30] Император простер свою власть даже на собственную дочь Юлию, жену его пасынка Тиберия. Теперь кара за любовь матроны предусматривала не смерть, но relegatio in insulam (ссылку на остров), — правда, эта мера при императоре Константине вновь сменилась казнью. Это было начало долгого репрессивного периода, из которого христианская партия двумя веками позже извлекла огромную пользу. "Plenum exiliis mare", — пишет Тацит (Все морские острова полны ссыльных). Имперская политика была столь же противоречивой, сколь и жестокой. В течение двух веков тирания насаждала гражданское рабское повиновение и пассивность (impudicitia), внедряя их в умы глав родов и закрепляя законодательно.
Власть в Риме свела воедино, "в один пучок" (по-латыни пучок — «фасцы» — означал березовые прутья, скрепленные ремешком, которые ликторы несли перед сенаторами, направлявшимися в курию; это слово имеет общий корень со словами fascinus, fascinatio, fascisme) сексуальную силу, словесную непристойность, фаллическое господство и нарушение уставных норм. Это означало приверженность к грубой простоте речи, абсолютно исключавшей возможность любой лжи, иными словами, абсолютно стерильной (бесплодной), и суеверный ужас перед потерей мужской эрекции, неотделимой, в глазах римлян, от понятия potentia (мощь, плодородие, победа).
Таким образом, физическая сила, военное превосходство, сексуальная мощь, упрямый характер и необузданная voluptas образов дали этот сплав под названием мужская добродетель (virtus). У еврейских племен знаком принадлежности к религии было обрезание; у римлян таковым стал отказ от пассивности — закон для народа, чьим фетишем была волчица. Теперь можно понять причину ритуального отказа принцепса от власти: это гомосексуальная пассивность, животные черты натуры, фелляция. Нерон приветствовал гомосексуальные браки. Тиберий избрал куннилингвус (и даже куннилингвус матрон). Светоний рассказывает, что Тиберий велел привести в личные покои своего дворца, где висели картины Паррасия, патрицианку по имени Маллония. Маллония отказалась удовлетворить сексуальные фантазии императора. Она назвала его "стариком, чей рот извергает непристойности, волосатым и вонючим, как старый козел" (obcaenitate oris hirsute atque olido seni). Маллония, по примеру Лукреции, пронзила себя кинжалом (хотя ее castitas вовсе не была осквернена). Во время игр, проводившихся после ее смерти, римский народ бурно аплодировал стихам: "Hircum vetulum capreis naturam ligurire" (Старый козел лижет зады у коз).[31]
Властители провозгласили себя потомками Венеры. Это отражено в «Энеиде». Кто является сыном Венеры и Марса? Эрот. Так императоры стали erotikoi. Чем больше укреплялась и распространялась имперская сексуальная агрессивность, тем прочнее был мир в Империи, тем беззаботнее были ее граждане. Сверхъестественная сексуальность (или легенды о ней) императоров стала неотъемлемым свойством римских правителей. Это неограниченное сластолюбие укрепляет неограниченное могущество Империи. Все ее плодородие, вся ее сексуальная мощь воплощается в принцепсе. Он один может преступить любой закон, ему одному дозволено все — и гнев, и капризы, и женоподобие, и инцест, и животные проявления натуры. Бесчисленные легенды, которыми обрастала жизнь правителей Рима, предавали им роль сексуальных оберегов. В этом смысле император — всего лишь большой tintmnabulum (бубенец), которым отгоняют импотенцию.
19 августа 14 г. н. э., в Ноле, близ Неаполя, в три часа пополудни скончался от диареи император Август. Ужас сменился тревогой, молчание — молчанием. Все повторяли слова, сказанные умирающим императором по поводу своего зятя: "Miserum populum qui sub tarn lentis maxillis erit!" (Мне жаль народ, который попадет в столь ленивые челюсти). Люди шепотом обсуждали смерть человека, который испустил дух в годовщину своего рождения, в той самой комнате, где он был зачат и вышел на свет из чрева матери. В течение тридцати семи лет он был трибуном, тринадцать раз — консулом, двадцать один раз — триумфатором.
Тиберий делал вид, будто не желает занимать освободившийся трон. Веллий Патеркул пишет, что он робел взять на себя ответственность за империю, созданную его приемным отцом, и страшился власти до такой степени, что предложил поделить ее между несколькими правителями.[32] По свидетельству Диона Кассия, он оправдывался тем, что ему уже пятьдесят шесть лет и что днем ему изменяет зрение, которое обостряется лишь по ночам.[33] К 17 августа 14 года Тиберий все еще колебался и не давал ответа сенату, раздумывая, не лучше ли было бы восстановить республику Отцов.
Тиберий был единственным императором, который в течение всего своего правления испытывал страх перед собственным неограниченным могуществом. Тиберий являл собой воплощенное отвращение (taedium) властителя перед мазохистским духом добровольного рабства, свойственным республике Отцов. Он панически боялся возложенной на него власти. Он искренне стыдился корыстолюбивой расчетливости и безволия, ставших причиной гибели республики. Он утверждал, что жертвы тирании сами способствовали усугублению своего рабского положения, доверяя одному человеку всю полноту власти и обожествляя его (а заодно и обрекая на насильственную смерть, подобно новому Ромулу[34]).
Восемь из двенадцати римских императоров погибли насильственной смертью, как разбойники с большой дороги, как простые рабы, как Иисус из Назарета, и виною этому было отсутствие закона о престолонаследии.
Наконец Тиберий согласился принять бразды правления, выразив при этом надежду, что он в скором времени избавится от сей напасти, и всю свою жизнь на вопрос, как он переносит тяготы власти, неизменно отвечал, что ему кажется, будто он "держит волка за уши" (lupus se auribus tenere). Пусть читатель попытается представить себе этот мир, где вся власть принадлежит отцу нации (если не считать Венеры, волчицы и призрака Rea Silvia): это и впрямь волчья стая. Волчица — это животное-тотем, Lupa, истинная мать Ромула и Рема. Тем же словом — Lupa — называли и блудниц.[35] На латыни бордель назывался волчьим логовом (lupanar). Латинское Vixit на могилах — это перевод этрусского Lupu.[36] Тиберий утверждал, что хорошо видит только в темноте. Он говорил, что видит то, чего не дано увидеть другим. Что же таит в себе мрак ночи? Никталопия тесно связана с порнографией. Не является ли загадочное, скрытое во тьме нечто тем самым пресловутым «волком», которого этот человек держал за уши? Светоний пишет:[37] "У Тиберия были очень большие глаза, которые странным образом ясно видели в ночной темноте, в самом густом мраке" (noctu etiam et in tenebris). Плиний Старший (которого впоследствии погиб под пеплом проснувшегося Везувия) написал:[38] "Рассказывают, будто император Тиберий, единственный из всех смертных, имел способность, проснувшись среди ночи, видеть в течение нескольких мгновений так же хорошо, как днем". Говорили также, что именно его подозрительный нрав побудил его распространить этот слух, дабы избежать ночных покушений на свою жизнь. "Сперва он был волком, потом филином и в конце концов превратился в козла" — так издевательски острила над ним аристократка Маллония, впоследствии пронзившая себе кинжалом грудь под повязкой.
Греческое слово anakhoresis означает "уединиться, удалиться от света, покинуть общество людей". Eremus — это пустыня. Отшельник — тот, кто живет в пустыне. Тиберий являет собой самый странный вид правителя — он император-анахорет.
До восшествия на престол он в течение семи лет (с 6 г. до н. э. до 2 г. н. э.) уединенно жил на Родосе. Добиваясь того, чтобы Август и Ливия отпустили его, он четыре дня отказывался от пиши. Они уступили. Он покинул их, не сказав ни единого слова. Процарствовав уже семь лет, он более чем на год (с января 21 года до весны 22-го) удалился в Кампанию. Завершил он свое правление в одиннадцатилетнем (с 26 по 37 год) уединении на острове Капри. Это называлось auto-relegatio in insulam. Остров Капри казался ему неприступным; он был окружен подводными рифами, отвесные прибрежные скалы круто обрывались в море. Внешний его вид был horridus (грубый, ужасный, отталкивающий). В Риме этим сокровенным эпитетом определяли красоту, а также фесценнины. Если человек трижды в жизни принимает решение все оставить и сделаться отшельником, значит, внутренние побуждения, толкающие его на попытки раз за разом удаляться в пустыню или превращать в «пустыню» место своего обитания, таятся в самой заповедной глубине его естества.
Пустынник Тиберий был очень высокого роста и мощного сложения, если не считать слабой правой руки. Лицо его было белым и мрачным. Он обожал вино. Римляне говорили, что император так любит вино оттого, что оно напоминает ему кровь. Тиберий был великим знатоком вин. Он утверждал, что коитус и опьянение — единственные средства, позволяющие человеку мгновенно впадать во временную смерть — сон. Он любил Косса за то, что тот мечтал кончить свою жизнь, утонув в вине.
Он ожидал новолуния, чтобы дать остричь себе волосы. Ненавидел свой высокий рост, заставлявший его сутулиться. Никогда не упускал случая пожелать здоровья чихнувшему человеку, будь то мужчина или женщина. Никогда не расставался с астрологом. Любил слушать чтение из греческих авторов, рассказы риторов, философские диспуты. Всю жизнь провел в окружении образованных людей. Он клал себе припарки на лицо. Отказывался от осмотров врачей. Питал к ним стойкое презрение. По свидетельству Тацита, перед самой смертью он отослал врача Харикла в Мизен, сказав, что тот, кто столько лет провел в собственном теле, знает свое жилище куда лучше, чем случайный гость. Светоний рассказывает,[39] как умер Тиберий: будучи в Астуре, в Кампании, он внезапно почувствовал сильную слабость. Но все же приказал везти себя в Цирцеи. Там, в цирке, он метнул копье в кабана на арене и тотчас ощутил резкое колотье в боку (latere convulso). Однако пожелал ехать в Мизен, где устроил пир. Буря помешала ему продолжать путь, и он умер в своей постели. По крайней мере, окружающие сочли его мертвым. Калигула поспешил возгласить себя императором. Однако 16 марта 37 года Тиберий пришел в сознание. Он позвал слугу. Сенека Старший рассказывает,[40] что он даже встал, но тут же рухнул наземь. По свидетельству Тацита,[41] Макрону[42] пришлось помочь старику умереть, навалив ему подушку на лицо, на губы, которым были так хорошо знакомы другие губы (curmus) патрицианок.
Я подхожу к самому моменту смерти. Тиберий, "чувствуя приближение конца, снял с руки перстень, словно желая передать его своему преемнику, но, подержав несколько мгновений, снова надел себе на палец левой руки и сжал ее в кулак (compressa sinistra manu). После чего и умер".[43]
Идеал древних римлян делился между героизмом и славой. Оба эти понятия находят свое воплощение в миге смерти. Римлян неодолимо влекла "прекрасная смерть", надежда вырвать (саrреrе) из потока бытия это мгновение перехода к смерти. Тиберия убило чрезмерное для его семидесятитрехлетнего возраста усилие, с которым он метнул копье в кабана, на арене Цирцеи. Миг смерти — это не только живопись, не только сюжет для од или исторических анналов. Миг смерти таится еще и в амфитеатре, где людей отдают на растерзание диким зверям, где корриды, где обнаженные тела и пытки, где человек встречает смерть лицом к лицу. Древние римляне переняли у этрусков игру Phersu.[44] Римский плебс заключал пари на гладиаторов, которых ждала гибель на арене. Jus gladii — право меча, право даровать жизнь или смерть — вот что такое римская империя.
Фрески живописцев, как и арены римских городов, питались этой принимаемой на людях смертью. Тиберий был не единственным, кто восхищался Паррасием Порнографом. Один короткий рассказ Сенеки Старшего, который можно назвать романом в миниатюре, посвящен Паррасию, соединившему взгляд с надвигающейся смертью. Это взгляд ужаса; сам Паррасий за четыреста лет до этого написал на одной из своих картин, что обязан ею своим ночным видениям или снам (visiones noctumae).
Сенека Старший рассказывает ("Контроверсии", X, 5), что, когда Филипп выставил на продажу захваченных в бою олинфий цев, Паррасий из Эфеса, афинский живописец (pictor atheniensis), купил одного из них, старика, и велел подвергнуть его пытке, дабы тот послужил ему моделью (ad exemplar) для картины "Пригвожденный Прометей", которую граждане Афин заказали ему для храма богини Афины.
— Parum, inquit, tristis est (Он недостаточно печален)! — изрек Паррасий, глядя на пленника, стоящего в центре мастерской. Живописец позвал раба и велел жестоко мучить старика, чтобы заставить сильнее страдать.
Рабы начали истязать старика.
Присутствующие пожалели несчастного.
— Emi (Я его купил)! — возразил художник. Clamabat (человек кричал от боли). Его пригвоздили к кресту. Люди, окружавшие Паррасия, снова воззвали к его милосердию.
— Servus, inquit, est meus, quern ego belli jure possideo (Он мой, я владею им по праву победителя)! — отвечал художник.
Тем временем он приготовил краски, порошки и закрепители, палач же, со своей стороны, развел огонь пожарче, накалил щипцы и взялся за хлыст.
— Alliga (Скрути его покрепче)! — добавил Паррасий. — Tristem volo facere (Я хочу добиться выражения истинного страдания).
Старик из Олинфа издал душераздирающий вопль. Услышав его, присутствующие спросили у Паррасия, к чему он питает большую склонность — к живописи или к пыткам. Он не удостоил их ответом. Напротив, крикнул палачу:
— Etiamnunc torque, etiamnunc! Вепе habet; sic tene; hie vultus esse debuit lacerati, hie morientis (Мучай его как следует, еще, еще! Прекрасно, держи его в таком состоянии, вот оно — лицо Прометея терзаемого, Прометея умирающего)!
Старик бессильно повис на кресте, рыдая от боли.
Паррасий крикнул ему:
— Nondum dignum irato Jove gemuisti (Твои стоны еще не похожи на стоны человека, преследуемого гневом Юпитера)!
Старик впал в агонию. Он простонал еле слышно, обращаясь к афинскому живописцу:
— Parrhasi, morior (Паррасий, я умираю)!
— Sic tene (Вот-вот, оставайся таким)!
Вся суть живописи — в этом мгновении.
ГЛАВА II РИМСКАЯ ЖИВОПИСЬ
В одном из диалогов Ксенофонта Сократ спрашивает Паррасия, в чем суть живописи. Сократ был приговорен к смерти в 399 г. до н. э. Ксенофонт написал свои «Воспоминания» в 390 г. до н. э. в Скилле.
Однажды Сократ пришел в мастерскую афинского художника (zographos) Паррасия. Греческое слово zographos означает «изображающий живое, живописец». По-латыни это artifex — тот, кто создает произведение искусства (произведение artificialis).
«— Скажи мне, Паррасий, — спросил Сократ, — что есть живопись (graphike)? He есть ли это изображение вещей, которые мы видим (eikasia ton oromenon)? Можно ли сказать, что вы изображаете с помощью красок выпуклости и впадины, светлое и темное, жесткое и мягкое, шершавое и гладкое, свежесть кожи и дряблость тела?
Ты прав, — отвечал ему Паррасий.
А когда вы хотите изобразить красивые формы (Kala eide), но не находите человека, в котором все было бы безупречно, не соединяете ли вы в одной модели черты нескольких, беря у каждой то, что в ней красивее всего? Не так ли вы создаете поистине прекрасное тело?
Да, именно так мы и поступаем, — сказал Паррасий.
Увы! — вскричал Сократ. — Значит, вы бессильны изобразить самое проникновенное, самое изумительное, самое трогательное, самое желанное и достойное изображения — состояние Души (to tes psuches ethos)? Неужто изобразить (mimeton) ее невозможно?
Но какими средствами изобразить ее, Сократ? — вопросил Паррасий. — Душа не обладает ни пропорциями (summetrian), ни цветом (спгбша), ни одним из перечисленных тобою качеств. Она невидима (oraton).
Это не так! — отвечал Сократ. — Разве не замечал ты людские взгляды (blepein), выражающие благоволение, и другие взгляд ды, в другие моменты, в которых горит ненависть?
Да, это справедливо, — признал Паррасий.
И разве нельзя изобразить эти чувства через взгляды?
Ты совершенно прав, — сказал художник.
Когда люди счастливы или несчастны, лица (ta prosopa) друзей, которых волнует их счастье или несчастье, не походят на лица других, которым это безразлично, разве не так?
Клянусь богом, так! — ответил Паррасий. — Счастье озаряет лицо. Несчастье кладет на него мрачную тень, затуманивая взгляд (scuthropoi).
Значит, можно создать образ (apeikazein) через такие взгляды? — спросил Сократ.
Истинно так, — ответил художник.
Значит, величие и благородство, униженность и подобострастие, умеренность и воздержание, излишества (hubris) и то, что не имеет никакого отношения к красоте (apeirokalon), — все это отражается (diaphainei) на лице (prosopou), в позах и движениях (schematon) человека?
Ты прав, — сказал Паррасий.
Стало быть, необходимо запечатлеть (mimeta) эти вещи, — заключил Сократ.
Поистине, необходимо, — согласился Паррасий» (Ксенофонт, «Воспоминания», III, 10, 1).
Этот диалог между Сократом и Паррасием формулирует идеал древней живописи. Путь от видимого к невидимому делится на три этапа. Сначала живопись изображает то, что видимо. Затем живопись изображает красоту. И наконец, живопись изображает to tes psyches ethos (душевное состояние человека в какой-то ключевой момент его существования).
Как же изобразить невидимое в видимом? Как схватить движение душ в ключевой момент мифа? В дискуссии между Сократом и Паррасием есть множество слов, затрудняющих понимание. Слово prosopon означает у греков одновременно и лицо анфас и театральную маску (а также грамматические лица: «я» и «ты» — это греческое prosopa, этрусское phersu, латинские personae — «лица-маски» людей, которые говорят). Аристотель в своей «Поэтике» пишет:[1] «Взгляд перед последствием поступка — вот лучший othos. Например, взятие и пожар Трои, мертвые в царстве Гадеса. И лишь потом являются лица, движения, одежды, в соответствии ролью героя в действии, в миг ethikos — «ключевой» миг» (риме crucifixio, например, было ключевым моментом в рассказе о казни бога-назареянина).
Иными словами, за древней живописью всегда стоит книга или, по крайней мере, рассказ о событии, сжатом в один «этический» миг.
Греческие скульпторы и живописцы были образованными и учеными людьми. Современными эквивалентами Паррасия или Эвфранора[2] можно назвать не Ренуара или Пикассо, но Микеланджело или Леонардо. Афинянин Эвфранор мог претендовать на звание универсального эрудита и знатока своего века. Собрание амфиктионий[3] (большой греческий Совет) постановило, что Полигнот[4] может пользоваться гостеприимством в каждом доме Греции, и обязалось оплачивать все его расходы по пребыванию в любом городе, где ему захочется остановиться. Художники жили в окружении славы. Платон осудил этих «ремесленников» (Сенека Младший назовет их «отребьем») за то, что они пользовались почестями, коих были лишены математики и философы. Платона раздражала слава Паррасия, этого «софиста видимого», этого «фокусника», этого нового Дедала, сделавшего своим ремеслом обманчивую видимость, этого зазнайку, щеголявшего в роскошных вышитых плащах. Пурпурный расшитый плащ Паррасия — самый знаменитый его атрибут в Афинах конца V в. до н. э.
И, кроме воспоминания об этом плаще, больше у нас под руками ничего нет.
От самых прославленных творений древности нам остались лишь разрозненные упоминания в старинных книгах volumen или почти утраченные фрагменты копий с копий на стенах вилл. Археология и чтение позволяют извлечь их из мрака забвения. Две тысячи лет спустя мы стараемся уловить их формы, столь же зыбкие, как туман на исходе ночи, бесследно тающий под первыми лучами солнца.
Время не сохранило для нас творения Полигнота, Паррасия и Апеллеса,[5] в отличие от произведений Эсхила, Софокла и Еврипида. Люди, которые восхищались их мастерством до такой степени, что осыпали их подарками и привилегиями за счет свободных городов, вероятно, любили живопись и фрески за их красоту не меньше, чем трагедии названных авторов.
Но нам уже не суждено увидеть их.
Эта книга — сборник грез, посвященных остаткам руин.
Паррасий был родом из города Эфеса в Малой Азии. Его отец также был живописцем и звался Эвенором. Паррасий стал величайшим художником своего времени. Он превзошел известностью Зевксида.[6] Его гордость и самомнение не знали границ. Однажды он простер вперед правую руку и возгласил: «Вот эта рука нашлаа суть искусства» (technes termata).[7] Клеарх рассказывал,[8] что Паррасий, не довольствуясь пурпурным плащом, надевал иногда золотую корону. Его рисунки на коже и деревянные шаблоны (которыми пользовались ювелиры и керамисты) были так прекрасны, что граждане, еще при его жизни, коллекционировали его vestigia. Teoфраст пишет, что художник был счастлив и напевал за работой. Этим мурлыканьем (hypokinuromenos) он старался облегчить свой тяжкий труд.[9] Техника Паррасия еще была условна, краски — еще этичны (так в наши дни, в нашем обществе, черный символизирует траур, синий — юношу, зеленый — надежду). Афинский живописец Эвфранор, живший в начале IV в. до н. э., говорил, что розовые тона Тезея кисти Паррасия — это не розовый цвет мужского тела, но розовый цвет розового куста.
Паррасий изобрел не только порнографию. Он придумал еще и так называемую крайнюю линию, контур (extremitas, termata technes). To, что Плиний Старший разумел под extremitas, Квинтилиан называл circumscripsio, что на языке риторики значит «период» фразы. Плиний уточняет: «Ambire enim se ipsa debet extremitas et sic desinere ut promittat alia post se ostendatque etiam quae occultat» (Ибо крайняя линия должна поворачиваться и завершаться таким образом, чтобы создавать впечатление, будто за нею находится еще что-то, и даже показать, что именно она скрывает[10]). И наконец, Паррасий был первым художником, который соединил вымышленный образ с изображением видимого. Вот какую поразительную надпись-заклинание художник самолично сделал внизу картины с изображением Геракла, борющегося с жестокой смертью: «Каким являлся мне в частых грезах (phantazeto), в ночном мраке (ennuchios) бог, таким вы можете видеть его здесь (огап)».[11]
Суть диалога Паррасия и Сократа заключается в следующем: в основе искусства лежит натурализм; если красота в нем — лишь внешняя видимость (phantasma), то смысл кроется в этическом выражении (великие страсти, божественные или сверхчеловеческие). Аристид Фиванский[12] уточнял, что искусство должно соединять представление ethos с представлением pathos. Каким должен быть великий художник? Великий художник — это тот, кто умеет выразить борьбу в душе вымышленного персонажа между характером и эмоцией. Плиний Старший описал картину Аристида Фиванского, которая так понравилась Александру, что он похитил ее во время разграбления города в 334 г. до н. э.: «Город захвачен; мать смертельно ранена; младенец тянется к ее обнаженной груди. Взгляд матери исполнен ужаса; ребенок сосет ее кровь вместо молока, иссякшего в бездыханной груди» (Плиний Старший, «Естественная история», XXXV, 98). Аристид Фиванский, написавший мертвую мать, питающую кровью своего ребенка, избрал тот же ключевой момент, что и Паррасий, пипгущии распятого Прометея с пленника-олинфийца. Это миг смерти.
Как расшифровать древнюю живопись? Аристотель в «Поэтике» объясняет, что трагедия состоит из трех различных элементов: рассказ, характер, развязка (muthos, ethos, telos).[13] В зависимости от того, как ситуация выявляет характер героя, художник определяет цель своей картины. Нужно установить совпадение muthos, запечатленного на фреске, с ethos центрального персонажа в момент telos или непосредственно перед ним. Наилучшая этика — это либо последствие акта (пылающая Троя, повесившаяся Федра, Кинегир с отсеченными руками[14]), либо предшествующий миг (Нарцисс перед своим отражением, Медея рядом со своими двумя сыновьями, которых собирается убить). Этическое последствие становится атрибутом, позволяющим больше не указывать имени героя рядом с его фигурой. Алкуин в средние века писал: «Мне недостаточно взглянуть на женщину с младенцем на руках, чтобы назвать ее имя. Может быть, это Богородица и Иисус? А может, Венера и Эней? Алкмена и Геракл? Андромаха и Астианакс?» Он рекомендовал писать имя персонажа под его фигурой или давать художественный атрибут. Что такое атрибут? Когда Неалку нужно было изобразить Нил, он написал реку и крокодила на ее берегу.[15] Вергилий углубил понятие атрибута: ясень — это дерево, украшающее лес. Сосна — дерево, украшающее сад. Тополь — дерево, украшающее крутую тропу, бегущую вдоль ручья. Ель — дерево, украшающее склон горы. Каждое место имеет свой атрибут, одно присутствие которого является знаковым.
То была «интеллигентская» живопись, еще более «книжная», чем живопись Ренессанса, бросившая ей вызов. «Ut pictura poesis» Горация[16] имело подлинный смысл в античности, но глупцы Ренессанса презрели его. Художник никак не может быть безмолствующим поэтом, как поэт не может стать говорящим художником. Древняя живопись — это рассказ поэта, сконденсированный в образе. Симонид говорил: «Слово есть образ (eikon) поступков». Этический Момент — это «немое слово» образа. Выражаясь по-гречески, zoSraphia (изображение живого) связана с интригой, которая онемела, сконцентрировавшись в образе, и этот образ — добавлял Симонид — «говорит, сохраняя молчание»[17] (sioposan). Образы-действия производят следующий эффект: люди запечатлеваются в памяти людей в сконденсированной форме ethos (становясь богами).
Этика была идеалом красоты ваяния. Трудно провести границу между атараксией и окаменением. Это то, что называли tranquilla pax, placidapax, summa pax (спокойный, безмятежный, нерушимый мир) божеств. Отсюда странная формулировка цели искусства, принадлежащая Лукрецию: «Дать мгновение покоя мудреца тому, что лишено мудрости».[18] Это апофеоз (теоморфоз) — возможность примерить на себя облик бога. Слиться с атараксиками. Те, чья радость неколебима, те, что избавлены от боли, избавлены от сострадания, избавлены от гнева, избавлены от доброты, избавлены от вины, избавлены от зависти, избавлены от страха смерти, избавлены от чувства любви, избавлены от усталости, связанной с трудом, не правят миром. Они созерцают. И эти театральные маски богов город выдавал некоторым из людей согласно свойственному им ethos.
У Вергилия Дидона в миг самоубийства, бледная от ужаса близкой смерти, с дрожащими губами, с налитыми кровью глазами, возглашает: «Я кончила жить (Vixi). И теперь я спущусь под землю подобно великому образу (magna imago)».[19]
Красота таит в себе свойства застывшего бога. Это дары отдохновения и безмолвия (otium et quies), которые подстерегают людей в близящейся смерти. «Великий образ» — это скульптура в могиле. Вот главный вопрос живописи: как показаться в виде бога — того, кто показывается в свой вечный миг?
Греческие керамисты использовали «лекала», вырезанные по силуэту тени на стене, обведенной мелом или углем. Это и называлось «контур». Аристотель определял живопись как сочетание пятен чистого цвета, видимых с близкого расстояния.[20] Удаленная видимость красочных пятен составляла задачу скульпторов — мастеров фриза — и художников, украшавших интерьеры храмов — задолго до мозаистов. Это была техника, называемая poikilos (или, иначе, skiagraphia, иллюзорное изображение просцениума, где цвета сливаются лишь на расстоянии). Римляне избрали для фресок на своих виллах греческую skiagraphia — живопись сценографического жанра.
Zographia греков подразделяется в живописи на два вида — станковую и декоративную (где, как уже было сказано, цвета не смешиваются, а кладутся раздельно). Легендарной медлительности Зевксида можно противопоставить слова Антипатра: «Я потратил сорок лет, чтобы научиться писать картину за сорок дней». Римляне назвали compendiaria via эту быструю технику, которой особенно хорошо владели азианисты — александрийские живописцы.[21] Via compendiaria — вершина этой незавершенной иллюзорной техники чистых красок, основанной на использовании лекал-контуров в отличие от живописной техники оттенков и теней. Аньес Рувре показала, что scaenographia распадалась на две разных операции: с одной стороны, adumbratio (собственно skiagraphia), то есть архитектурная иллюзорная живопись стен и простенков; с другой стороны, frons — фронтальная выпуклость и схождение всех горизонтальных и вертикальных линий в центре круга (ad circini centrum omnium linearum). У Лукреция есть описание одного портика, где говорится о странной, трудной «перспективе», которая не была реальной и которую римляне определяли как «темный конус, требующий созерцания издали». Лукреций уточняет: «Разумеется, этот портик имеет твердые очертания и надежно, незыблемо (in perpetuum) стоит на колоннах равной высоты; разумеется, он высок и хорошо виден со всех сторон; тем не менее, с какой бы точки ни смотреть на него, контур его зыбок, и чудится, будто все его линии тяготеют к узкой верхушке, которая сворачивается в конус (angustia fastigia coni), a правая часть сооружения тяготеет к левой, сужаясь к темной верхушке того же конуса (in obscurum coni acumen)».[22]
Книга Лукреция «О природе вещей» множит подобные примеры. Лукреций упоминает о квадратной башне, издали кажущейся круглой. Он говорит, что неподвижность — это не что иное, как медлительность, не видимая невооруженным глазом; ее воплощения — стадо, пасущееся вдали, корабль, плывущий по морю.[23] Таким образом, великий поэт-эпикуреец еще раз формулирует трагический миг этической живописи. «О природе вещей» (вместе с трагедиями Сенеки Младшего) предлагает нам самую обширную галерею римских фресок из тех, что дошли до наших времен.
Более того, в книге «О природе вещей» называется секрет римской живописи. Фрески второго стиля в Помпеях построены на том же принципе, что описанный Лукрецием портик: только верхняя часть панно украшена так, чтобы создавать иллюзию объемного пространства, нижняя же половина образует выступающий передний план. И тут возникает эффект того самого frons портика Лукреция, где сходятся линии боковых стен, ложные параллели «тают» в некоей точке на половинном расстоянии линий панно, а «темная верхушка конуса» затрагивает только верхнюю половину фрески (то есть реально расписанное пространство стены).
Для Лукреция, как и для всей эпикурейской школы, объект incertus занимает сердцевину locus certus. Это Adelos, который так же, как фасцинус на вилле Мистерий скрыт под покрывалом. Латинское incertus соответствует греческому adelos (невидимое). Не подлежащее показу, невидимое и есть реальное. Невидимое — это атомическая ткань мира. Анаксагор говорил: «Та phainomena opsis ton adelon» (Феномены суть видимое выражение неведомых вещей).[24] Портик, находящийся вдали от зрителя, сужается до размеров конуса, и верхушка его тает в точке incertus (adelos, obscurum coni). В этой воображаемой точке, и фокальной и неясной, таится res incerta. Эта тайна точки incertus, в которой перспектива сужается до предела, противостоит широкому панорамному плану, который разворачивает перед зрителем то, что римские архитекторы определяли, напротив, как locus certus. Объединяя понятие нормального расстояния с понятием обманчивой перспективы, они называли locus certus сцену (proscenium) в театре. Это место считалось certus, ибо архитектор, проектировавший этот театр, предвидел зрительную деформацию, неизбежную на большом расстоянии, и соотносил с ней размеры трибун.
Новаторство римских архитекторов состояло в том, что они переносили на стены комнат в частных домах принципы иллюзорной архитектуры эллинских театров. Частный римский дом был первым политическим театром, где patronus распространял свою власть на клиентов и gens. Однако patronus остерегался соперничать по этой части с тираном (tyrannus). Частная вилла не могла уподобляться дворцам принцепса; сходство виллы с дворцом должно быть чисто иллюзорным, отраженным на стенной фреске, не более того; между виллой и дворцом существовала такая же односторонняя, «сыновняя» связь, как между Энеем и Анхизом.
И так же, как граждане могли наслаждаться подобием императорской охоты на спектаклях (opsis), играх (ludus) и аренах, так и стены их вилл становились «стенографией» дворцов, фиктивных охот и театральных сцен.
Тот, кто не понимает театра, арены, триумфов, игр, не понимает Рима. Любая власть есть театр. Любой дом (domus) есть dominatio, распространяемая господином на своих домашних (gens), вольноотпущенников и рабов. Так же и любая живопись есть театральная маска (phersu, persona, prosopon) для того, кто ее надел, кого она возвышает, как домашнего царька, кого она уподобляет семейному божеству. Античные художники были вполне способны придавать лицам индивидуальность, сходство с оригиналом. Латиняне почитали портретные маски (imagines) своих предков, которые размещались в маленьком шкафчике атрия. Но греческое народное собрание или римская аристократия, заказывающая картины, требовали отнюдь не портретного сходства, напротив, — заказчик хотел, чтобы живописец придал его лицу сходство с «колоссом» (с иконой), иными словами, изобразил его в виде бога или героя. Именно этот ирреальный метод — сорвать с персонажа его личную маску и наградить взамен идеальной, теоморфической внешностью — и принес богатство и славу Полигноту.
Таким образом, произошла любопытная метаморфоза: трагическая scaenae frons, созданная в середине V в. до н. э. в Афинах благодаря Эсхилу, тремя веками позже пришла в итальянские дома, создала визуальную теорию живописи, театральную иллюзорную архитектуру и подчинила стенную иллюстрацию этической иллюзии. Котурны, приподнимающие актера на театральной сцене, в свою очередь приподнятой в виде эстрады над просцениумом, объясняют принцип, согласно которому верхняя часть фрески приподнималась над линией, служащей основанием фрески. Эта линия, выполняющая роль эстрады на стене, и есть первое значение слова orthographia.[25]
Цицерон писал Аттику: «Я раскритиковал перед архитектором Веттием Сиром слишком узкие оконные проемы в доме, но он возразил на это, что обзор сада через широкие окна не доставляет такого удовольствия, как через узкие».[26] Он добавляет, что световые волны, исходящие из глаз, проходят вдаль свободно, тогда как оконный проем ограничивает конус света, идущего из сада, и концентрирует на краю окна сталкивающиеся атомы, формирующие образ; в результате этот последний получается более ярким, более контрастным, более живым, более привлекательным (suavitas). Римляне представляли себе рай в виде сада. Греческое слово paradeisos означает «парк».[27] Одна из философских школ называла себя Академией, другая — Ликеем, третья — Портиком,[28] но самая строгая и несомненно самая глубокая из них, оказавшая на Рим решающее воздействие (начиная с 230 г. до н. э.), звалась Садом.[29] Знатные римские семейства, лишенные при императоре Августе политических привилегий, старались отличиться от других сословий красотою своих вилл и садов, численностью рабов, роскошью стола, редкостными безделушками, старинными скульптурами и картинами, коллекциями драгоценных вещей, отнятых у побежденных врагов, — «добычи», которую делили меж собой сановники победоносной империи.
Бесполезность службы (officium) имитирует otium (праздность) правителей. A otium правителей имитирует ataraxia богов на небесах.
Так что же такое римский сад? Золотой век вновь осеняет собою настоящее. Нужно вообразить нечто подобное божественной праздности. Замереть, как звезды в небе, окружив себя нимбом. Замереть, как хищник за миг до прыжка на добычу. Замереть, как смертное мгновение, что приобщает человека к богам. Замереть, как листва перед грозой, как статуи этих богов, белеющие в рощах, — таковой должна быть жизнь перед лицом смерти. Замереть, как видение сада в рамке окна, остановленное двумя лучами света, исходящими из зачарованных глаз.
Платон был против изображения пейзажей. По его мнению, природа (physis) непредставима, ибо создана богами. Платон написал, что следовало бы называть «профанацией» artifex и псевдодемиургом того, кто дерзнул соперничать с самим создателем и его творением, что вырывается из глубины природы (physis) в виде нашей Вселенной (cosmos):[30] Именно при Августе появились пейзажи и берега рек. В какие-нибудь десять лет Вергилий ввел моду на ручьи, на скользящие по воде тени, на старые грабы, на лесные тропинки и изгороди, над которыми вьются пчелы, на гортанное воркование горлиц, на вареные каштаны, на птиц, щебечущих в ветвях вяза, на облака, проплывающие над полями.
Вергилий был гением. Пятнадцать лет он дарил римлянам природу. Он один сумел это сделать. Он умер 21 сентября 19 года в порту Брундизий, куда прибыл двумя днями раньше из Греции; эти дни он провел в лихорадке у очага, который разожгли, так как его бил озноб; в бреду он указывал на свои таблички, прося бросить «Энеиду» в пылающий огонь.
Изобретение силуэта принадлежит художнику Лудию.[31] До Лудия живописцы называли типичные пейзажи topia. Topia были далеки от реальных пейзажей; их цель заключалась в другом: показать типичные черты «приятных» (suavitas) сцен, чьими атрибутами они являлись, — берег моря, деревня и пастухи, порт с его кораблями, ручей и нимфы, места святилищ. Плиний Старший рассказывает, что именно Лудий начал оживлять topia с помощью маленьких персонажей-силуэтов, шагавших по дороге, ехавших на осликах или в повозке (asellis aut vehiculis), переходивших реку по горбатому мосту, удивших рыбу на червяка или муху, собиравших виноград вдали, ловивших птиц в силки на склоне холма (Плиний Старший, «Естественная история», XXXV, 116).
Что означает римское слово suavis? Когда Лукреций начинает второй том «Природы вещей», отыскивая определение греческой мудрости по Эпикуру (eudaimonia, доступной человеку), он описывает suavitas (сладость). Он начинает так: «Сладостно (suave est) наблюдать берег, куда буря выбросила другого. Сладостно созерцать с высоты лесистого холма равнину, где воины убивают друг друга. Сладостно погрузить мир в смерть и наблюдать жизнь, будучи избавленным от всех привязанностей, от всех страхов». Лукреций добавляет, что suavitas ни в коем случае не означает жестокости (crudelitas): эта последняя выражается в voluptas — смаковании людских страданий.
Suavitas — это миг смерти, но такой миг смерти, в котором участвуешь даже тогда, когда он тебя уничтожает. Созерцание смерти лечит людей, говорили эпикурейцы, а вместе с ними и стоики, хотя исходили при этом из прямо противоположной аргументации. Сенека Младший также говорил, что созерцать смерть с пренебрежением (contemne mortem) — это лекарство (remedium), помогающее всю жизнь.
Окно, которое выходит в сад, должно быть узким (angusta). Слово angusta породило французское angoisse (тоска) — то, от чего сжимается горло. Красота центростремительна. Всякая красота сосредотачивает, собирает, притягивает мысли, отгораживаясь от устремленного на нее взгляда. Рамочные мастера — это создатели границ. Они делают из картины святилище. Окно, подобно рамке, создает храм из кусочка мира. Окно создает сад, как рамка создает и выделяет сцену, в ней заключенную. Формы, ищущие заключения в рамке, отталкивают, заставляют отступать того, кто медленно, шаг за шагом, приближается к ним.
Изображение жизни, внедренной в жизнь, обозначило живое (где), преданное смерти (zo-graphia).
Это движение уже само по себе является отшельничеством. Живопись отнимает человека у мира.
Стыдливость — другая форма анахореза. Сексуальный анахорез, заставляющий удаляться в темную комнату, чтобы предаться любви, одевает тело тончайшей аурой (той самой extremitas, которую, по свидетельству Плиния, изобрел Паррасий). Она окутывает человеческое тело флером неуязвимости, защищает его неосязаемым барьером; это невидимый храм (templum). Это тема невидимого «одеяния», «костюма Адама», магической ткани вожделения, нимба. Это в одинаковой мере и боязнь отвращения и бегство от жестокой близости.
Это аура почитания — та, что окутывает звезды (иными словами, тела богов). Посидоний[32] говорил, что элементы красоты художественного произведения суть элементы космоса. В сиянии светил он различал форму, цвет, величие и переливы.
ГЛАВА III ФАСЦИНУС
Желание завораживает. Фасцинус — это римское слово, означающее фаллос. Существует грубо обтесанный камень в виде фасцинуса, на котором скульптор выбил следующую надпись: «Hie habitat felicitas» (Здесь заключено счастье). Все испуганные лица персонажей на вилле Мистерий, которую лучше было бы назвать виллой Зачарованности или чарующей комнатой, обращены к фасцинусу, прикрытому тканью в священной корзине.
Поскольку mentula (пенис) не является отличительной чертой человечества, общества избегают обнажения напряженного органа (fascinus), который слишком явно напоминает людям об их животном происхождении.
Почему природа разделила — два миллиарда лет назад — все живое на два пола и подчинила их этому древнему наследию, чья функция столь же случайна, сколь и непредсказуема, наследию, которое ставит под сомнение происхождение каждого живого существа, терзает тела и мучит души?
Растениям, ящерицам, светилам, черепахам неведома, при их размножении, та сила любовного вожделения, что отнимает столько времени у людей, заставляя их проходить через поиск партнера, визуальный отбор, ухаживание, совокупление, смерть (или близость смерти), зачатие, беременность и роды.
Римляне боялись зачарованности, дурного глаза, рока, того, что называлось invidia, jettatura. Они всегда и все решали жребием — устройство пиров, соития, дни празднеств, войны. Они жили в окружении запретов, ритуалов, предсказаний, снов, знаков. Боги, мертвые, близкие, клиенты, вольноотпущенники, рабы, иноземцы, враги — всё это могло навредить тому, что они желали, ели, предпринимали. Взгляд, падавший на любой предмет, на любое существо, оставлял на нем след, заражал его своей invidia, своим ядом, наводил порчу, бесплодие или импотенцию.
Марциал пишет: «Crede mini, поп est mentula quod digitus» (Поверь мне, этому органу не прикажешь, как собственному пальцу) («Эпиграммы», VI, 23). Плиний называл фасцинус «врачевателем желания» (invidia). Это талисман Рима. Человек (homo) — мужчина (vir) лишь тогда, когда его орган способен на эрекцию. Отсутствие потенции внушало страх. Современные люди унаследовали от римского понятия любви то, что называется taedium vitae — отвращение к жизни, которое следует по пятам за наслаждением, сокращение символической вселенной, сопровождающее фаллический спад, горечь, порождаемую объятиями, которая никогда не проводит разницы между желанием и ужасом, связанным с внезапным, невольным, «наведенным», демоническим бессилием (impotentia).
Рим характеризуется ритуальной непристойностью — это ludibrium. Эта римская склонность к словесной непристойности проистекает из фесценнинских песен, исполняемых во время церемонии приапеи (шествие бога Liber Pater). Во время приапеи жрецы воздымали вверх фасцинус, отгоняя всеобщую invidia.
В 271 г. до н. э. Птолемей II Филадельф, желая отпраздновать завершение первой войны против Сирии, возглавил многолюдный кортеж повозок, где были выставлены на всеобщее обозрение богатейшие трофеи из Индии и Аравии. На одной из повозок был водружен гигантский фаллос из золота, в сто восемьдесят футов длиной, который греки называли Приапом.[1] Это имя, Приап, постепенно вытеснило в Риме прежнее — Liber Pater.
Какие бы формы ни принимал этот ритуал — соревнование в непристойностях, saturae, declamationes, человеческие жертвоприношения на аренах, имитация охоты в парках — имитациях леса (ludi), — собственно римская церемония называлась ludibrium. Этот ритуал приапических сарказмов распространился на всю империю. Эта саркастическая игра — вклад Рима в античную цивилизацию. Прикрываясь ритуальными наказаниями или человеческими жертвоприношениями на арене, в виде боя насмерть, общество мстит за себя и сплачивается перед безжалостной судьбой. Это ludus (буквально — «игра», слово, пришедшее из этрусского языка), игра, которая еще до того, как ее начали представлять в амфитеатрах, выражалась в фесценнинских плясках и непристойностях; это саркастическое торжество фасцинуса на каждой пяди Римской земли, в каждой социальной группе. Всякий триумф включает в себя частицы садистских унижений, которые вызывают смех и объединяют смеющихся в некое мстительное сообщество. К наказанию, предусмотренному законом, добавляется саркастическая мизансцена, куда общество валит толпами, объединенное общим порывом, словно римский народ стал одним гигантским существом; оно спешит на узаконенное зрелище, и притом коллективно участвует в мщении за нарушение закона.
Ludibrium открывает нашу национальную историю. В сентябре 52 г. до н. э., после взятия Алезии, Цезарь привез в Рим, в повозке Верцингеторикса.[2] В течение шести лет он держал его в заточении, в темнице. В сентябре 46 г. до н. э. Цезарь объединил и отпраздновал все свои четыре триумфа (победы над Галлией, Египтом, Понтийским царством и Африкой). Триумфальное шествие началось от Марсова поля, прошло мимо цирка Фламиния, пересекло Via Sacra и Форум и завершилось у храма Юпитера Благого. Статую (imago) Цезаря, отлитую в бронзе, везли на колеснице, запряженной белыми конями. Перед колесницей со статуей шли семьдесят два ликтора: с фасциями в руках. Позади ехала длинная вереница повозок с военными трофеями и захваченными сокровищами. Далее следовали военные машины, географические карты с обозначениями захваченных территорий и цветные картины на огромных деревянных панно (афиши). На одном из таких панно был изображен Катон в момент смерти. В самом конце процессии, осыпаемые насмешками толпы, шли сотни пленных, среди них Верцингеторикс, скованный по рукам и ногам, царица Арсиноя[3] и сын короля Юбы.[4] Тотчас после этого четырехкратного триумфа Цезарь велел предать смерти Верцингеторикса в темной камере Мамертинской тюрьмы.
Ludibrium служит основанием христианской истории. Сцена раннего христианства — пытка на кресте, назначенная тому, кто мнит себя Богом, бичевание (flagellatio), надпись Iesus Nazarenus Вех Iudaeorum (Иисус из Назарета, царь Иудейский), пурпурный плащ (veste purpurea), царский венец из терний (coronam spineam), тростниковый скипетр, постыдно обнаженное тело — все это ludibrium, задуманный для увеселения толпы. Китайцы XVII века, которых отцы иезуиты пытались обратить в христианство, воспринимали это именно так и не понимали, как можно извлечь символ веры из столь комической сцены.
В начале фесценнин стихи имели форму наигрубейших сарказмов и непристойностей сексуального толка, которыми перебрасывались молодые люди обоих полов. К этим стихам (которые звучали поочередно — то мужские, то женские — и сопровождались пляской) добавлялись фарсы-ателланы и то, что называлось saturae. Мужчины изображали козлов, привязывали к животу fascinum (иначе — годмише или olisbos). Во время Луперкалий[5] они наряжались волками и «очищали» всех встречных бичеванием. Во время квинкватрий[6] они переодевались женщинами. На Матроналии[7] все матроны становились рабынями. На Сатурналии[8] рабы надевали одежды Отцов (Patres), а солдаты изображали волчиц. Иисуса, в одежде «короля Сатурналий», вели к его кресту (crux senilis). До того как satura стала означать «роман», словами lanx satura называли смесь первых плодов всего, что росло на земле. Первый большой роман — satura, написанный Петронием во времена Империи, представлял собою попурри из непристойных историй, весь смысл которых сводился к тому, чтобы разбудить и взбодрить поникший пенис (mentula) героя, дабы превратить его в фасцинус.
Carior est ipsa mentula (Мой пенис драгоценнее, чем моя жизнь). В Риме было шесть весталок, надзор за ними поручался самой старшей — Virgo maxima. Весталки охраняли некий заветный, укрытый от глаз талисман и поддерживали священный огонь. Если какая-нибудь из них нарушала обет непорочности, ее обрекали на казнь и погребали заживо на Проклятом Поле (Campus Sceleratus), возле Коллинских Ворот, там, где «волчицы» (проститутки, носившие обязательную коричневую тогу, в которую позже облекутся кающиеся монахи) воздавали каждый год, 23 апреля, почести Венере Дикой[9] и раздевались донага перед народом, дабы люди могли судить об их статях. Весталки защищали Рим (его огонь и его сексуальную силу). Фасцинус каждого мужчины находился под покровительством гения — божества, которому он приносил в жертву цветы (иначе говоря, женские половые органы) под защитой бога Liber Pater. To были празднества, называемые Floralia.[10] Гением называли доброго духа — покровителя оплодотворения (gignit, или, иначе, quia me genuit). Этот первый «ангел-хранитель» был сексуальным ангелом. Потому-то супружеское двуспальное ложе называлось lectus genialis. Каждый мужчина имел своего гения, который охранял его genitalia от импотенции, а всех женщин дома от бесплодия. Галену принадлежит любопытнейшее высказывание о том, что logos spermaticos является для тестикулов тем же, что слух для ушей и взгляд для глаз.[11]
Импотенция (languor) представляла для римлянина самую страшную угрозу, предмет постоянных опасений. В III книге «Любовных элегий» Овидий рассказывает о подобном фиаско и о суеверном ужасе, которым окружено это понятие: «Напрасно сжимал я ее в объятиях. Я оставался бездейственным (languidus). Мертвым грузом лежал я на постели. Я горел желанием. Она горела желанием. Но я не мог взбодрить мой член (inguinis). Он был мертв. Тщетно обвивала она мою шею руками, белыми, как снега Ситонии, тщетно ласкала языком мой язык, тщетно прижималась ногами к моим ногам, называла меня своим господином, (dominum), шептала мне возбуждающие слова. Мой поникший словно натертый холодной цикутою член не слушался меня… Я лежал недвижный, никчемный, безразличный, представляя собою нечто среднее между мужским телом и бесплотной тенью ада. Она вышла из моих объятий такой же чистой, как Весталка, благоговейно возжигающая неугасимый огонь. Уж не яд ли (veneno) Фессалии отнял у меня силы? Уж не околдовали ли меня? Не опоили ли волшебным зельем? Быть может, колдунья написала мое имя на красном воске или воткнула иглу в живот моему изображению? Если произнести некоторые заклинания, Церера становится бесполезной, как сорная трава, а источники иссякают. Колдовство отделяет желудь от дуба. Срывает гроздь винограда с лозы. Мрачные песнопения заставляют плоды падать с дерева, не дав им созреть. Так неужто магическое искусство не может отнять силу у этого органа? Не колдовство ли навело на меня эту порчу (impatiens)? И ко всему этому примешивается стыд (pudor). И этот стыд усугубляет бессилие. А ведь какая обольстительная женщина предстала моему взору! Я приникал к ее телу так же, как ее собственная туника. Но несчастная встретила не мужа (vir). Жизнь и мужественность изменили мне. Какое удовольствие могут доставить глухому песни Фемия?[12] Какую радость может принести мертвому взору Фамира[13] прекрасная картина (picta tabella)? О каких только наслаждениях не мечтал я этой ночью! Я грезил о прикосновениях. Я воображал себе позы. И все это ради моего члена, жалкого, полудохлого (praemortua), более вялого, чем роза, сорванная накануне. И вот теперь, когда в нем уже нет нужды (intempestiva), он вдруг твердеет и наливается силою. Теперь он требует себе работы и рвется в бой. О, худшая моя часть (pars pessima nostri), неужто тебе не стыдно? Ты, коварный орган, предал своего хозяина (dominum)! Она нежно касалась его, брала в руку, гладила и сжимала (sollicitare). Но, видя, что все ее искусство остается втуне, вскричала: «Ты насмехаешься (ludis) надо мною? Кто заставлял тебя, безумец, прийти сюда и разлечься в моей постели, если тебе незнакомо вожделение? Быть может, отравительница заколдовала тебя? Быть может, другая женщина истощила твои силы перед тем, как ты пришел ко мне?» И тотчас она проворно спрыгнула с ложа в одной тунике, не успев даже надеть сандалии. Потом, желая скрыть, что она осталась чистою от моего семени, притворилась, будто моет себе живот и ноги».[14]
Секс тесно связан со страхом. У Апулея, в «Метаморфозах» (VI, 5), Психея вопрошает: «В какой тьме (tenebris) могу я спрятаться (ab scondita), дабы избежать (effugiam) безжалостного взгляда (inevita biles oculos) великой Венеры (magnae Veneris)?» Лукреций говорит об "омраченном желании», об «испуганном желании» (dira cupido) и деляет cupiditas этого желания как «тайную рану» (volnere caeco) людей.[15] Вергилий так определяет саму любовь: «Старинная и глубокая рана, что жжет слепым или скрытым огнем» (gravi jamdudum saucia cura volnus caeco igni).[16] Катулл считает ее смертельной болезнью (76-е стихотворение): «О Боги, если вам ведома жалость, если вы даруете людям в их смертный час что-либо, кроме страха, обратите свой взор на меня, на мое несчастье (me miserum adspicite). Моя жизнь была чистой. Так избавьте же меня от этой чумы (pestem) — любви, от этого яда (torpor), оледенившего мои кости, проникшего в кровь, отравившего мою сердечную радость (laetitia)!»
Оргазм описывался как summa voluptas, сначала нечто горячее, затем щекочущее, затем бурлящее и, наконец, взрывное. Это взрыв на гребне волны (до появления мужской пены), который помогает смертной плоти узнать власть над воспроизведением и возможность продолжить социальный род. Греческое и римское общества не различали биологию и политику. Тело, город, море, пашня, война, творчество, все эти понятия определялись только одним качеством — своей жизнеспособностью, подвергались только одной угрозе — стерильности (бесплодию); их успех, плодотворность зависели от молитв и заклинаний людей.
Мужчина не может всегда находиться в состоянии эрекции. Он подвержен непостижимому, не зависящему от него чередованию потенции и импотенции. Он — поочередно — то пенис, то фаллос (mentula — fascinus). Вот отчего проблема власти — чисто мужская проблема, ибо эта характерная ненадежность и страх слабости неотрывно терзают и мужчину и властителя.
Эякуляция есть «потеря в сладострастии». И потеря возбуждения, следующая за ней, сопровождается печалью, ибо означает иссякший источник того, что еще миг назад так нетерпеливо рвалось на волю. На наш взгляд, нет в мире цивилизации, которой эта печаль была бы более присуща, чем римлянам. Правда, потеря семени может принести плоды, но в тот унизительный миг, когда membrum virile, сникнув, покидает женскую vulva, человек об этом не помнит.
Fascinus проникает в vulva и выходит из нее уже как mentula. Мужественность мужчины растворяется в наслаждении так же, как сам человек растворяется в смерти. Ибо самое интимное ego мужчины (vir) таится не в голове и не в чертах его лица — оно там, куда инстинктивно тянется мужская рука, когда телу что-то угрожает.
Религия, основанная на заразительной магии, которая становилась все более синкретической, поскольку присоединяла к своему собственному торжеству, к своей собственной «набожности» все релитии покоренных народов и сопровождалась все более суеверным страхом. Римляне, и без того приверженные разного рода заклятиям, вооружались всеми видами apotropaion, чтобы избежать дурного глаза, обезоружить его сарказмом ludibrium или вернуть обладателю, как это сделал Персей, обратив на Медузу, с помощью отражения на своем щите, ее собственный взгляд. Греческое слово apotropaion означает «изображение, отводящее порчу»; его карикатурно уродливый (terribilis) вид вызывает одновременно и смех и испуг. Греческий apotropaion соответствует римскому fascinum. Fascinum (искусственный фасцинус) есть baskanion (оберег против дурного глаза). Плутарх говорит, что подобный талисман[17] притягивает дурной взгляд, отвлекая его от самой жертвы. Отсюда невероятно разнообразный арсенал приапических амулетов — непристойного вида брелки, пояса, ожерелья, странные фигурки карликов — из золота, слоновой кости, камня, бронзы, — составляющих большую часть археологических раскопок и богатство наших музеев. Среди них можно увидеть вытянутые средние пальцы (комбинация digitus impudicus — то есть все пальцы, сжатые в кулак, кроме среднего, mesos dactylos, направленного вверх, — считалась наивысшим оскорблением); амулеты, изображавшие фигу (большой палец, просунутый между указательным и средним); фаллической формы ножки столов и ламп; наконец, железные или бронзовые tintinnabulum (фасцинусы с прикрепленными к ним маленькими колокольчиками, которые носили на поясе, на пальцах, в ушах, подвешивали к потолку, к лампам, к треножникам). Человеческое тело обладает некоей частью, которая болтается наподобие колокольчика, — у мужчин это пенис и, в меньшей степени, мошонка, у женщин — груди и ягодицы, когда они поражены тканевым ожирением. С этой точки зрения человеческая сексуальность наиболее уязвима именно в тех частях тела, что возбуждают желание и свидетельствуют о желании своим колыханием, подрагиванием, напряжением. И люди заботливо охраняют эти свои органы, подверженные непрерывным метаморфозам, выступающие за пределы тела, грозящие «опасть». Этот маниакальный страх выражался у женщин республиканского и имперского Рима в том, что они затягивали груди тугой повязкой. Таким образом, сей своеобразный «бюстгальтера называвшийся по-гречески strophion, а по-латыни fascia, состоит родстве с fascinum мужчин. Эта длинная повязка, сделанная из цельного куска ткани, была снабжена ремешками из бычьей кожи, сжимавшими грудь. Эротические картины, на которых женская грудь была бы обнажена, крайне редки. Тацит («Анналы», XV, описывает Эпихарис, вовлеченную в заговор Писона,[18] которая разматывает свою fascia, чтобы задушить себя ею. «Наш квартал столь изобилует божествами-хранителями, что в нем легче встретить бога, нежели человека», — насмешливо объявляет Квартилла в романе Петрония.[19] (На улицах Рима, Помпеи или Неаполя гораздо чаще можно видеть фасцинус из камня или бронзы, чем мужскую mentula.) В Неаполе Агриппина крикнула Алисету, пришедшему убить ее в собственной постели: «Бей в живот!» «Бей в живот!» — чисто римское требование.[20] В романе Апулея Фотида поворачивается к Луцию и замечает, что его напрягшийся член приподнял тунику (inguinum fine lacinia remote). Она обнажается, садится на него верхом и, прикрыв своей розовой ручкой лоно с выщипанными волосами (glabellum femina rosea palmula obumbrans), кричит ему: «Occide moriturus (Бей насмерть того, кто должен умереть)!»[21]
Марий[22] был властелином Рима, когда ему пришлось бежать, спрятавшись в повозке. Он достигает морского побережья. Изнуренный, измученный, добирается он до барки. Пока он спит, матросы бросают весла и оставляют его одного. Схваченный в Минтурновых болотах, брошенный в тюрьму, победитель кимвров находит себе убежище лишь в развалинах Карфагена. Какой-то римлянин выгоняет его и оттуда, словно простого раба. Но Марий вновь захватывает власть и в течение шести дней обагряет кровью улицы Вечного города. Ни Октавия, ни Мерулу не спасает их высокое положение консулов. Марию уже семьдесят лет. От постоянного пьянства у него трясутся руки. Он умирает на восьмой день своего седьмого консульства. Марий необузданно предавался разврату, и, когда в момент агонии на нем задралась туника, один из стражников увидел, что от его mentula остался лишь жалкий лоскуток плоти, размером не более ногтя.
В 79 г. до н. э. Сулла отрекся от своей диктатуры и удалился в свои дом в Кумах. «Счастливец Сулла» (Felix Syila) умер, заживо съеденный вшами, которые в первую очередь набросились на его mentula.[23] Вспомним слова Цезаря о Бруте: «Я не опасаюсь тех, кто любит разврат, и тех, кто живет в роскоши; я боюсь тех, кто худ и бледен».
В один из дней мартовских ид Метелл схватил Цезаря за тогу и обнажил его плечо, а Каска первым вонзил в него кинжал. Заговоришки наносили удары то порознь, то вместе; некоторые в запале даже ранили друг друга. Плутарх пишет, что Цезарь умер, получив двадцать три раны. Брут, его племянник, нанес ему удар в низ живота, ибо дядя осквернил своей mentula чрево его матери. Увидев I что Брут направил кинжал ему в пах, Цезарь перестал сопротивляться нападающим, прикрыл лицо полою одежды и покорно отдал себя железу и смерти.[24]
Афродита родилась из пены от брошенного в море отсеченного фаллоса. Древние греки говорили, что сперма, извергаемая фаллосом, походит на морскую пену. Гален в своем «De semine» описывает сперму как белую жидкость (dealbalum), густую (crassmn), пенистую (spumosus), животекующую и напоминающую запахом бузину.
От какого же соития родилась Афродита? Уран овладевает Геей. Крон, укрывшийся в груди своей матери и державший в правой руке узкий серп (harpe), хватает левой детородный орган Урана, отсекает его и бросает за спину, остерегаясь повернуться и взглянуть (Гесиод, «Теогония», 187). Капли крови падают наземь и превращаются в войны и раздоры. Фаллос же, все еще напряженный, падает в море, и тотчас из волн выходит Афродита.
Если секреции женщин более обильны (кровь и молоко), то они все же кажутся менее таинственными, чем мужской «эякулят» — бурная, активная струя, вырывающаяся из фасцинуса, точно маленький фонтан. Сущность римской сексуальности имеет сперматический характер. Jaeere amorem, jaeere umorem.[25] Понятия «любить» и «эякулировать» не различаются. Это jaculatio, мужская jactantia. Это Анхиз и Венера, и неспособность Анхиза сохранить тайну (jactantia), о чем его просила Венера. Это означает — влить в другое тело сперму, брызнувшую из собственного тела (jaeere umorem in corpus de corpore ductum). Это означает исторгнуть свое семя, подчинив соитию либо pueri, еще не обросших волосами (таких зовут «свежие щечки», «щечки-яблочки» или «щечки-персики»), либо женщин, безразлично, кого именно. Это означает истово, почти набожно удовлетворять вожделение, которое чужая красота зажгла в твоем теле.
Природа вещей и природа человека подчинены единому закону. Греческое слово physis означает рост, развитие всех подлунных или небесных созданий. В шестой книге своей поэмы «О природе вещей» Лукреций описывает прилив, вторжение, бурление спермы в мужском теле, битву, которая проистекает отсюда, болезнь (rabies, ярость — по Лукрецию; pestis, чуму — по Катуллу), которую она сообщает: «Едва лишь взрослый возраст (adultum aetas) укрепляет твои мьшцы, семя (semen) начинает бродить в тебе. И для того чтобы заставить его истечь из тела человека, нужно, чтобы другое тело возжаждало этого. И вот семя изгнано (ejectum) из своего укрытия. Оно уходит, оно спускается и проникает во все части тела, во все члены, сосуды, органы; оно покидает их и скапливается в генитальных частях (partis genitalis corporis). Тотчас оно начинает раздражать (tument) половой орган, нагнетать в него сперму. И тогда рождается желание эякуляции (voluntas ejicere), стремление вбросить его в тело, к которому тебя влечет пугающее желание (dira cupido). Будучи раненными, мы, мужчины, всегда падаем на нашу рану (volnus). Кровь брызжет в ту сторону, откуда был нанесен удар, заливая противника своим багровым огнем (ruber umor). Так, волею Венеры, кем бы ни был твой противник — юношею с чертами женщины или женщиною, терзаемой желанием, — мужчина всегда тянется к тому, кто нанес ему рану. Он горит стремлением соединиться с ним (coire), влить в его тело горячий поток, рвущийся из его собственного тела; его мучит немое желание (muta cupido), которое предвещает наслаждение (voluptatem). Так определяем Венеру мы, эпикурейцы. Вот что означает слово «любовь» (nomen anions). Вот тот бальзам, который Венера, капля за каплей, вливает в наши сердца перед тем, как оледенить их тоскою. Положим, что тот, кого любят, отсутствует. Но его образ здесь, перед тобою. Сладкое имя его постоянно звучит у тебя в ушах. О, сколько призраков дарит нам любовь, призраков, от коих бежать бы на край света! Сколько приманок любви (pabula amoris), от коих следовало бы воздержаться! Не лучше ли обратить свои мысли в другую сторону и оросить накопившейся спермой любое другое тело, чем хранить ее для той единственной любви, что завладела тобою и терзает тоской и болью?! Ибо ублажить женское чрево (ulcus) трудно, ему требуется все новая и новая пища. День за днем возрастает этот безумный голод (furor). День за днем несчастье гнетет тебя все сильнее, если ты не умеешь исцелить первую рану Другими, многими, если ты не почтишь вниманием своим уличную Венеру (volgigava), если ты не можешь отвести бурный поток в боковые каналы. Бежать любви вовсе не означает отказа от наслаждения. Бежать любви — значит приблизиться к плодам Венеры, не попавшись при этом на приманку. Сладострастие будет сильнее и чище для того, кто мыслит хладнокровно, а не для того, чья душа смятена и несчастна, чей жар, в самый миг обладания, охлаждает сомнение. У такого человека глаза, руки, все члены охвачены смятением и не знают, с чего начать. И в безумии своем он терзает предмет своего вожделения столь яростно, что исторгает у него крики боли. Его зубы оставляют кровавые следы на любимых губах. Его сладострастие, не будучи чистым и разумным, без жалости и колебаний наносит раны любимому телу (кому бы оно ни принадлежало), которое пробудило к жизни ростки (germina) этой ярости (rabies). Никто не может загасить пламя с помощью огня. Сама природа восстает против этого. Это единственный случай, когда чем больше мы обладаем, тем сильнее обладание это зажигает наше сердце пугающим вожделением (dira cupidine). Голод, жажда все эти желания утолимы; тело поглощает больше, чем образ воды или образ хлеба. Но оно не может поглотить ни частицы красоты лица, гармонии черт. Ему остается питаться лишь призраком, видимостью, надеждами, столь легковесными, что их уносит первый же ветерок. Так человек мучится жаждою во сне. И никакая вода не освежит его иссохших губ. Он мечтает лишь о призраке ручья. Он терзается понапрасну. Он умирает от жажды среди потока, из которого якобы пьет. Так же и любовники в любви: они всего лишь игрушки прихотей Венеры. Наступает миг, когда их счастье (gaudia) кажется близким. Миг, когда Венера благоволит засеять поле женщины. Они жадно сливают воедино (adfigunt) свои тела. Они смешивают свою слюну (jungunt salivas). Каждый из них дышит воздухом уст другого, искусанных его зубами. Но все тщетно. Ни один из них не может забрать у другого тела ни единой частички. Ни один не может внедриться целиком в другое тело (abire in corpus corpore toto). Глядя на то, как яростно приникают они друг к другу, чудится, будто они стремятся стать единым, неразъемным телом. И когда наконец нервы их не в силах более сдерживать обуревающее их желание, когда это желание извергается наружу (erupit), наступает короткий миг передышки. На малое мгновение этот всепожирающий огонь успокаивается. Но скоро он возгорается с новой силою (rabies), с новой страстью (furor). И вновь они ищут то, на что уповали. Обезумевшие, ослепшие, утоляют они свое вожделение, терзаясь болью невидимой раны (volnere саесо)».[26]
Морфо — это прозвище Венеры Спартанской.[27] Афродита в глазах лакедемонян была именно morphe (по-латыни forma — красота) — в противоположность мужскому, фаллическому, фасценнинскому божеству, богу amorphos (или, иначе, kakomorphos, или asemos, a по-латыни deformis). Аристотель определяет мужской орган так («О частях тел животных», 689а): «То, что увеличивается и уменьшается в объеме». Metamophosis — это мужское желание. Греческое слово phvsis имеет двойное значение — природа и phallos.
Глагол augere дал два производных — auctor и Augustus. Рождение Империи совпадает с этим эпитетом, который уже означает судьбу, повелевающую сексуальностью Империи. 16 января 27 г. до н. э. Октавиан становится Августом,[28] и шестой месяц получает название «август». Augustus — умножитель — такова уставная императорская функция. Мы хотим, чтобы к нам вернулась весна, чтобы урожаи были обильны, чтобы дичь водилась во множестве, чтобы дети выходили из чрева матерей, чтобы пенисы воздымались, как фасцинусы, и проникали туда, откуда выходят дети, дабы посеять там новых детей. Целий говорил, что у болезней есть четыре периода — атака (initium), приступ (augmentum), отступление (declinatio), ремиссия (remissio). Момент живописи — это всегда augmentum.
Греческая aedaimonia стала этим augmentatio, этим inflatio, которое являет собой торжественную римскую auctoritas. Современным людям неизвестен древний смысл слова «инфляция», а именно: «надув, придать форму». Flare, inflare, phallos, fellare — все эти слова имели отношение к тем, кто играл на дионисийской флейте или занимался ремеслом стеклодува. Это означало придать чему-то реальному раздутую, преувеличенную форму.
В философии Эпикура медицина и философия неразделимы. В философии стоиков сперматический logos правит миром. Вселенная — это одно гигантское животное, cosmos — один великий zoon, который описывается художником (zo-graphos). Платон утверждает («Menexem», 238а): «Ибо это не земля подражала (memimotai) женщине в беременности и родах, но женщина — земле (alia gino gen)». Плутарх передает нам следующее высказывание Ламприя[29] («О лике, видимом на Луне», 928): «Светила суть глаза, несущие свет и вставленные в оправу лица Сущего. Солнце, подобно любящему сердцу, посылает свет во все пределы, согревая им все живое, точно кровь, греющая тело. Море — это мочевой пузырь природы. Луна же — меланхолическая печень мира». Венера считалась матерью Рима, и торжественный призыв к ней, согласно Лукрецию, озарял ее красотой «природу вещей»: «О, мать рода Энеева, voluptas мужчин и богов, о, Венера-кормилица, ты, что под блуждающими знаками неба оплодотворяешь море, несущее корабли, удобряешь землю, рождающую злаки, ибо всякое зачатие исходит от тебя, ибо твоею силою все живое рождается на свет божий, под солнцем; о, богиня, ветры затихают при твоем появлении, облака тают, цветы раскрываются, волны вздымаются, небеса сияют, птицы взлетают ввысь, и взбодряются стада. Моря, горы, бурные реки, зеленеющие поля — все обязано жизнью твоему желанию. Ты способствуешь процветанию и благополучию. Без тебя ничто не может достигнуть божественного берега света. Ты одна правишь природою».[30] Лукре. ций Кар объединяет в одной и той же voluptas Спартанскую Венеру Forma, Капитолийскую Венеру[31] Calva, Венеру-Покорную (Obsequens) Большого Цирка,[32] Венеру-Благочестивую (Verticordia) матрон, отвращающую сердца от разврата, и, наконец, Венеру Дикую обитающую у Коллинских ворот. Именно эта последняя — Венера Дикая (или, иначе, Эрицина, или Африканка, или Сицилианка) стала богиней для Суллы,[33] Венерой Победоносной (Victrix) для Помпея,[34] Венерой-Прародительницей, Genetrix (матерью Энея и всех Юлиев) для Цезаря[35] и, наконец, Венерой — покровительницей Империи — до такой степени, что Веспасиан уподобил ее самому Риму, называя Roma.[36] Это она стала богиней — покровительницей вина, празднества 23 апреля, любой весны, любого цветения, любого изобилия, любого богатства, всего, что делает жизнь счастливой.
Игроки в кости называли «даром Венеры» самую благоприятную комбинацию — выпавшие одновременно 1, 3, 4, 6.
Тремя веками позже, к 160 году, Апулей завершил свои «Метаморфозы» гимном лунному божеству, которое повелевает рождением людей и снов, демонов и теней. Луций просыпается на Кенхрейском берегу, охваченный внезапным страхом (pavore subito). Он открывает глаза и видит полную луну, встающую из волн Эгейского моря. Герой бежит к морю и семь раз погружает голову в волны. Лишь тогда он осмеливается воззвать к царице небес (regina caeli), произнеся все ее имена — Венера, Церера, Феба, Прозерпина, Диана, Юнона, Геката, Рамнузия… и вновь засыпает на Кенхрейском берегу.
Ему видится во сне царица ночи в облике Исиды. Она увенчана зеркалом, окутана просторным черным плащом — просторным плащом столь глубокой черноты, что от нее исходит сияние (palla nigerrima splendescens atro nitore). Исида отвечает Луцию: «Я природа, я мать всех вещей, повелительница всех стихий, начало и течение времен, высшее божество, царица манов, первая среди обитателей небес, воплощение всех богов и богинь. Сияние небесного свода, целительное дыхание моря, печальное безмолвие ада — все подчиняется мне».[37] Именно так daimon луны, или, вернее, повелительница демонов, единственная влиятельная богиня в подлунном мире, «меланхолическая печень мира» (по Ламприю), демоница, охраняющая богов, наблюдающая за кровью женщин и рождением детей, защитница Гениев мужчин и Манов отцов, внезапно подменила собой Венеру Лукреция, Цезаря, Августа, которая основала римский род, начиная с Анхиза, узаконила имперскую генеалогию позволила обожествление первых императоров. Исида вытеснила Венеру. Империя поглощала, одно за другим, все соседние государства, а религия присваивала себе мифологические сцены самых разных религий римских провинций, неизменно перерабатывая их в одну и ту же сцену: Исида ходит по земле в поисках фаллоса Осириса, который сама же и отсекла. Или (другой вариант) это Аттис, кастрирующий себя для Кибелы.
В Тиволи была обнаружена надпись, гораздо более поздняя, чем текст обращения к Исиде у Апулея. Стела с надписью была воздвигнута неким Юлием Агатемером. Фронтальная надпись гласит: «Гению божественного Приапа, могущественному, непобедимому. Юлий Агатемер, императорский вольноотпущенник, воздвиг сей монумент, с помощью своих друзей, после того, как увидел вещий сон». А вот надпись сзади: «Приветствую тебя, священный (Sanctus) Приап, отец всего сущего, приветствую! Даруй мне цветущую молодость. Сделай так, чтобы я нравился юношам и девушкам, чтобы фасцинус мой пробуждал в них желание (fascino procaci), чтобы я мог прогонять докучные заботы частыми играми (lusibus) и забавами (jocis). Чтобы я не слишком страшился печальной старости и не ожидал с тоскою и страхом (pavore) злой смерти, смерти, которая унесет меня в ужасный мрак Арверна, где царит повелитель манов, от коих остались лишь предания (fabulas), и откуда никто не возвращается. Привет тебе, Святой Отец Приап, привет!» Боковые надписи гласили следующее: «Собирайтесь вместе, девушки, юные девушки, что поклоняются священному лесу, что почитают священные воды! Собирайтесь все и скажите ласковыми своими голосами очаровательному богу Приапу: «Приветствуем тебя, Священный Отец Природы Приап!» Поцелуйте фасцинус (inguini) Приапа. Затем увенчайте его тысячей благоуханных венков и вновь скажите хором: «Привет тебе, о Всемогущий Приап! Кто бы ты ни был, Создатель (Genitor) и Творец (Auctor) Мира или сама Природа (Physis) и Пан, привет тебе! Это благодаря твоей мощи (vigoге) создается все живое и неживое на земле, в небесах и на море, Приветствуем же тебя, Приап, приветствуем, Святой! Ибо это по твоему велению Юпитер собственноручно мечет безжалостные свои молнии и, смущаемый твоим желанием (cupidus), покидает свои светлые чертоги. Ибо это тебя почитают милосердная Венера и пылкий Купидон, Грация и две ее Сестры, а также Бахус, даритель радости (laetitiae dator). Ибо без тебя не бьшо бы и Венеры. И Грации не блистали бы грацией. И не было бы ни Купидона, ни
Бахуса, о, Приап, Всемогущий наш покровитель и друг, привет тебе! Это к тебе обращают свои молитвы стыдливые девственницы дабы ты развязал их пояс, которого так долго не касалась мужская рука. Это к тебе взывает супруга, моля о том, чтобы нерв мужа ее всегда был напряжен и готов к бою (nervus saepe rigens potensque semper). Привет тебе, Святой Отец Приап, привет!»
Кто он — этот Агатемер-Вольноотпущенник? И не является ли приведенная надпись пародией гимна Венере, которым открывается «О природе вещей»? Или, быть может, это ludibriimi? Кто выбил ее на камне — не усердный ли ученик Эпикура, который, подобно Апулею, явно читал книги Лукреция? По правде говоря, даже если мы найдем ответ на все эти вопросы, он мало что будет значить. В Риме нельзя различить lusus и religio, сарказм и почитание, Бога высмеиваемого и Бога всемогущего, Фасцинусу или Приапу воздвигались стелы в течение всего существования Империи. Приап был «первым из богов», бог Prin, бог Priopoiein (бог, который «создает еще до начала» самого творения). Можно с полной уверенностью сказать, что Приап был самым «изображаемым» богом Империи. Слово «сарказм» происходит от греческого «sarx»; Эпикур использовал это слово, чтобы назвать тело (soma) человека и единственное место возможного счастья.[38] Sarcasmos — это кожа, содранная с убитого врага. Сшивая эти «саркастические» кожи, солдат изготавливал себе плащ победителя. Афина чаще всего изображается с головой Горгоны на щите, но иногда мы видим эту богиню с кожей (sarcasmos) Медузы, наброшенной на плечо. Латинское carnivore является буквальным переводом греческого sarko-phage.
Это странное, аморфное sarx греческого фаллоса или римского фасцинуса нигде не находит себе места. То, что зовется atopos, помещается в atopia и скрывается под одеждами Отцов; ему нет места в городе, ему нет места в изображении. То, что не существует, обретает пристанище в несуществующем, то есть в воображении. И однако, это несуществующее внезапно возникает между телами. То, что вздымается, уже не принадлежит мужчине, как не принадлежит и женщине, возбудившей в мужчине желание. То, что вздымается помимо воли человека, рвется наружу, за пределы места, за пределы видимости, — это бог. Очевидно, что скульптура посвящена вечно воздетому. Очевидно, что живопись посвящена обнажению (aletheia) того, что не может открыться взгляду. И та и другая пытаются преобразить развращенность и смертность в эрекцию и вечную жизнь. И та и другая являют собой тот самый миг перед прыжком в смерть, который стремился уловить Паррасий-Живописец, писавший старика-раба из Олинфа «как раз» перед тем, как тот умер.
ГЛАВА IX ПЕРСЕЙ И МЕДУЗА
Иногда мы смотрим на нечто красивое с ощущением, что это может нам повредить. Мы восхищаемся этой красотой, но без радости. Впрочем, слово «восхищение» здесь неуместно: скорее мы «почитаем» предмет или существо, чья притягательность оборачивается для нас отвращением. Произнеся слово «почитание», мы возвращаемся к Венере. Существует также высказывание Платона об отказе различать красоту и испуг.[1] И тогда нам приходит на ум слово «оцепенение»: оно мешает нам спасаться бегством от того, чего нужно избегать, и заставляет «почитать» даже сам страх до такой степени, что мы, с риском погибнуть, предпочитаем его нашей собственной безопасности.
Такова история Медузы: три чудовища обитали на дальнем Западе, за пределами мира, на границе Ночи. Два из них были бессмертны — Стено и Эвриала. Третье было смертно и звалось Медузой. Вместо волос у них были змеи, вместо зубов — клыки наподобие кабаньих; руки их были из бронзы, а крылья из золота. Глаза их злобно сверкали. И кто бы ни встретился с ними взглядом, бог или человек, он обращался в камень.
У царя Аргоса была дочь-красавица, которую он безмерно любил. Она звалась Данаей. Оракул предрек, что, если она родит сына, тот убьет своего деда. Потому царь заключил дочь в подземный чертог с бронзовыми стенами.
Зевс проник к ней под видом золотого дождя. Так родился Персей. Царь горько плакал. Он вышел на морской берег. Он приказал посадить Данаю с ребенком в деревянный сундук и бросить его в море. Сундук попался в сети рыбаку. Тот взял к себе мать с сыном и воспитал ребенка. Случилось так, что тиран Полидект влюбился в Данаю и возжелал овладеть ее телом. Персей сказал тирану, что, если тот повременит со своим желанием, он подарит ему голову чудовища с женским ликом.
Горгона (Медуза) убивала своим взглядом. Тот, кому удалось бы спрятать в мешок эту голову с убийственным взглядом, получил бы священное звание «повелителя страха» (mestor phoboio).[2] Какое же лицо было у Медузы? Оно было широким и круглым, как львиная морда, с расширенными застывшими глазами, с густой гривой волос, вздыбленных и извивающихся, словно тысячи змей, с бычьими ушами, с разверстым ртом, где торчали страшные кабаньи клыки. Язык ее высовывался наружу и свисал на щетинистый подбородок.
Персей знал, как выглядит Медуза; он схватил свое копье, надел на руку щит и пошел навстречу смерти. У западной окраины мира он повстречался с Граями;[3] их также было три, и они делили один зуб на троих, передавая его из рук в руки, когда пожирали добычу. И глаз у них был один на троих, и они передавали его одна другой, чтобы видеть то, что они пожирали.
Персей ринулся на них, вырвал этот единственный глаз, схватил] единственный зуб, узнал тайну нимф. У нимф он похитил четыре волшебные вещи, охранявшие от смертельного взгляда Медузы. Первой из них была кипёё — шапка бога мертвых, сшитая из волчьей кожи и делавшая человека невидимым (ибо смерть «накрывает живых капюшоном мрака»). Второю были крылатые сандалии, позволявшие в единый миг облететь весь мир, вплоть до подземных его обиталищ. Третьей была kibisis — сумка или, вернее, мешок для отрубленных голов. И наконец, последней был harpe — узкий острый серп, тот самый, который послужил Крону для кастрации его отца.
Персей достигает жилища Медузы. Он принимает все предосторожности, чтобы избежать ее взгляда. Во-первых, он решает проникнуть в страшную пещеру ночью, когда уснувшие Горгоны смыкают веки. Затем, когда он входит в темный грот, он устремляет взгляд в сторону, противоположную той, где может находиться Медуза. И наконец, он протирает свой бронзовый щит.
Так Персей избежал взгляда на Медузу в тот миг, когда напал на нее: он глядел в свой щит, как в зеркало. Увидев свое отражение в этом щите, Медуза в ужасе окаменела сама.
Тогда Персей, все еще не снимая волшебной шапки (кипёё) И по-прежнему устремляя взгляд в темную глубину пещеры, поднял свой серп. Он отсек голову женщины с женским ликом. Глядя в сторону, он на ощупь схватил голову Горгоны-Медузы и бросил ее в свой kibisis. Персей преподнес голову богине — покровительнице города Афине, которая прикрепила ее в центре своей эгиды (щита).
Три Горгоны — чудовища-отшельники, иначе не скажешь. Они обитают вдали от богов и людей, на краю мира, не только на границах ночи, но на границе земли и моря. Когда приходит время, они предшествуют смерти.
Горгона произвела на свет волка с пятьюдесятью головами, бронзовоголосого Цербера, сторожа «гулких обиталищ» (echeentes domoi) Персефоны. Две женщины, знаменитые в греческом мире, одна «похищенная», другая «похищающая», — сестры. Это Елена и Персефона.
В истории древних греков похищение (и по причине любви, и по причине смерти) стало разделяться на eros и pothos довольно поздно. Pothos — это не сожаление и не желание. Pothos — и простое и трудное понятие. Когда человек умирает, его pothos рождается у оставшегося в живых: он непрестанно посещает его мысли. Имя (опоша), образ (eidolon) умершего навещают души живых и возвращаются в свое невидимое, нежеланное обиталище.
Нечто подобное происходит и с тем, кто любит: имя и образ предмета любви тревожат душу и проникают в грезы и сны влюбленного с таким же неуловимым и неодолимым упорством, вплоть до того, что заставляют вздыматься фаллос спящего в момент его любовных грез.
Существуют три крылатые фигуры — Гипнос, Эрот, Танат. Сегодня люди различают сон, иллюзию (видение) и призрак. В Древней же Греции они составляли одну, единую способность, одновременно и неосязаемую и всепроникающую, посещать душу человека. Эти три крылатых божества повелевали одним и тем же похищением, не связанным с физическим присутствием и социальным статусом. Персефона, похищенная повелителем ада, и Елена, похищенная троянцами, являют собой жертвы одного и того же похищения, где смешаны воедино сон, желание и смерть. Слово harpyes происходит от глагола harpazein (похищать). Сирены и гарпии — одинаково грозные силы, уносят ли они во сне, похищают ли в желании или пожирают в смерти. Сон — тот же бог, даже более могущественный, чем смерть и желание.
Образ грезы возвышается тогда во сне. Это гипноз Гипноса. И если даже прерывистый сон осенен грезою, то какая «великая греза» осеняет вечный сон смерти?! Какой великий образ посещает лежащего в могиле?!
Третий фрагмент Алкмана еще более точно определяет сходство этих трех трудноразличимых сил: «Желание (pothos), которое обессиливает все члены (lusimeles), делает взгляд женщины еще более изнуряющим (takeros), нежели Гипнос и Танатос».[4] Этот эротический, гипнотический и «танатический» взгляд и есть взгляд Горгоны, повергающий в оцепенение.
Этот взгляд и составляет тайну римских фресок.
Древние римляне очень боялись чужого прямого взгляда, приписывая ему магическую недобрую силу (invidia). По верованиям древних, глаз, который видит, бросает свет на видимое. Взгляд и то, что он видит, встречаются на полдороге — как атомы взгляда и атомы сада в проеме узкого окна в истории Цицерона и архитектора Веттия Сира. И так же, как древние римляне делили любовное поведение на активное и пассивное, так и активное, пристальное разглядывание казалось им жестоким, сексуальным, злонесущим. Взгляду, который несет страх, Горгониеву, цепенящему взгляду отвечает внезапный ночной мрак. Мифы отражают эти злонамеренные, пугающие, убийственные, цепенящие взгляды. В романе Апулея чиновники понуждают рассказчика поднять покрывало, которым накрыты три трупа. Он отказывается. Тогда чиновники приказывают ликторам схватить рассказчика за руки, заставить его снять покрывало и смотреть. Рассказчик, пораженный недвижностью и пораженный испугом, произносит про себя obstupefactus — слово, которое наилучшим образом определяет позы и лица на римских фресках. Затем рассказчик продолжает: «Я замер (fixus) в той же позе, в какой снял саван, похолодев, как камень, и уподобившись статуям или колоннам театра. Я словно попал в ад».[5] Человек obstupefactus превращается в imago — изображение на могиле. Взгляд Дианы, застигнутой в лесу, во время купания, превращает нескромного соглядатая в оленя. Медуза в своей пещере на краю мира убивает, подняв веки. В «Исходе» (XXXIII, 20) сам Бог говорит Моисею: «Non poteris videre faciem meam, non enim videbit me homo et vivet» (Лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых). Смотреть прямо в лицо запрещается. Смотреть на солнце — значит сжечь себе глаза. Смотреть на огонь — значит опалить себе лицо. Тиресий — человек, увидевший сцену первого соития, ставший одновременно и мужчиной и женщиной,[6] членом мужчины в лоне женщины, — ослеп. Увидеть женщину обнаженной или мужчину, готового к совокуплению, означает увидеть ту же сцену. В «Книге Левит» (XVIII, 8) этот аргумент, изложенный еще более сжато, звучит вполне ясно: «Наготы жены отца твоего не открывай (turpitudinem uxoris patris tui); это нагота отца твоего» (turpitudo patris tui). Тот, кто увидит Горгону Медузу, высунувшую язык изо рта, разверстого в rictus terribilis; тот, кто увидит женское лоно (зев наготы), как оно есть; тот, кто увидит «Цепенящее», тотчас застывает в окаменении (в эрек ции) — это и есть первая форма скульптуры.
В 1898 году в Приене, что в устье Меандра, напротив Самоса, два немецких археолога нашли при раскопках множество маленьких глиняных статуэток, вид которых крайне их озадачил. Это были грубо вылепленные женские фигурки; широкое плоское лицо переходило прямо в живот с зияюшим отверстием чрева и парой коротких ног. Оба «рта», и верхний и нижний, почти сливались. Это была жрица Баубо,[7] чревоголовая женская богиня. Olisbos (кожаный или мраморный фасцинус) также назывался по-гречески baubon. Как и Приап, этот языческий идол в женском обличье одновременно и пугает и вызывает смех.
Вот легенда Баубо: когда Деметра потеряла свою дочь Персефону, похищенную Аидом, она, в своем материнском горе, начала блуждать по свету, закутавшись с головы до ног в темный пеплос. Деметра пришла в Элевсин, но отказывалась от всего — от еды, от питья, от речи. Жрица Баубо сказала: «Ego de luso» (Я освобожу ее). Баубо задрала свой пеплос, обнажив чрево, и тем рассмешила Деметру. Так Баубо положила конец посту великой богини, и та согласилась принять пищу — kykeon, смесь вина, воды и муки, — которую приготовила для нее Метанира.[8]
Баубо показывает нам лицо-чрево, застывшее в terribilis rictus (устрашающий смех зарождения, невидимого для самцов). Описанное задирание пеплоса по-гречески называется anasurma. Anasurma Приапа, чей вздыбленный член приподнимает тунику, нагруженную фруктами, соответствует anasurma Баубо, которая своим жестом возвращает плоды земле (или, иначе, возвращает свое лицо земле, чьей повелительницей является Деметра).
Малый ребенок впервые видит окруженное волосами женское лоно, откуда он появился на свет. Открытая vulva повергает того, кто ее видит, в оцепенение эрекции. Таков миф о Горгоне, о Медузе, о Баубо. Цепенящее и Завораживающее близки друг другу.
Миф о Баубо — это миф о задранной одежде. Женское лоно, показанное другой женщине, вызывает смех. Это ludibrium. Сказать, что солнце встает, что цветы и злаки произрастают, что деревья обременены фруктами, значит сказать, что пенис стал фаллосом. Это значит: вот он — Фасцинус.
Прямому, уничтожающему взгляду отвечает уклончивый взгляд Римских женщин. Уклончивый, испуганный, стыдливый взгляд женщин напоминает о взгляде хитрого Персея, а также о запрете смотреть назад (миф об Орфее) и запрете смотреть прямо (миф о Медузе).
Всякий подглядывающий за богинями превращается в человека ночи — слепого или мертвого, либо в зверя.
И если взгляд на половой орган служит причиной изгнания во мрак желания, сна или смерти, нужно прибегнуть к уловке, которая спасет взгляд от этого цепенящего, смертоносного «столкновения» с тем, что не имеет имени. Нужно спасти себя с помощью отражения — на щите, в зеркале, на картине, в воде ручья Нарцисса. В этом, кажется мне, и заключается двойная тайна уклончивого (ибо он изображен на стене) взгляда римских женщин.
Караваджо, живший в первой половине XVII века, говорил: «Всякая картина — голова Медузы. Можно победить ужас изображением ужаса. Всякий художник — Персей». И Караваджо написал Медузу.
Завороженность означает следующее: тот, кто видит, больше не может отвести взгляд. Во встрече двух пристальных взглядов — как в мире людей, так и в мире животных — таится цепенящая смерть.
Маска Горгоны — это маска самой зачарованности; это маска, заставляющая окаменеть добычу перед хищником; это маска, что неодолимо влечет воина к смерти. Это маска, превращающая в камень живого человека. Это маска адского смеха с разверстым ртом, из которого рвется крик агонии в вакханалии Гадеса. Когда Еврипид описал буйную пляску вакханок Гадеса, он уточнил, что речь идет о пляске волков или диких псов, которых Лисса[9] заставляет кружиться под мелодию флейты, называемую «Испуг» (Phobos). Еврипид добавляет: «Это Горгона, порождение ночи, с ее цепенящим взглядом и стоглавыми змеями на голове» (Геракл, 884).
У Гомера Горгона смотрит и с эгиды Афины и со щита Агамемнона. По Гомеру, это лицо, устрашающее врага и сеющее смерть. Гомер говорит,[10] что лицо Ужаса сопровождается Испугом, Паникой и «Преследованием, что леденит сердце». В «Илиаде» голова Горгоны — это лик воинственной ярости (menos), несущий гибель врагу, это тройной смертельный клич во время атаки. В Спарте Ликург приказывал юношам,[11] выходящим из эфебии, носить длинные волосы, дабы казаться более мощными и «более устрашающими» (gorgoterous). Молодые воины-лакедемоняне отпускали длинные волосы и, умастив их маслом, разделяли на две пряди, чтобы они выглядели «еще ужаснее» (phoboterous).
В «Одиссее» (песнь XI), когда Улисс спускается в ад, толпа мертвых, объятая ужасом, издает вопль. Улисс признается: «Безумный страх, что Персефона пошлет мне, из бездны царства Гадеса, чудовище с цепенящим взглядом Горгоны, овладел мною». Тотчас Улисс отвел глаза и бросился назад.
Признание Улисса в «Одиссее» может дать нам ключ к разгадке тайны этой маски. Существует две маски — маска смерти и маска Phersu. Phersu в переводе с этрусского означает «носитель маски смерти».[12] Этрусское слово Phersu могло стать греческим Персеем. Имя Phersu обнаружено рядом с маской в так называемой гробнице Авгуров в Тарквиниях, которую датируют 530 г. до н. э.; то же имя написано рядом с kunee — шапкой из волчьей кожи, что носил Персей. Тогда этрусское Phersipnai может соответствовать греческому имени Персефона. У Апулея, когда Психея спускается в ад, драконы, «чьим глазам назначено вечно бодрствовать, никогда не закрываясь; чьи зрачки постоянно обращены к свету», внезапно устремляют на нее взгляд; Психея обращается в камень (mutata in lapidem). Это вечно открытые глаза трупов. Маска смерти — это маска трупа, закрывающая в агонии лицо живого. Таковы общие корни дурного глаза, глаза смерти, единственного глаза прицелившегося лучника. Воин натягивает лук, прищуривает один глаз, широко раскрывает другой и впивается взглядом в того, кому несет смерть. Этому единственному глазу соответствует либо отражающий взгляд единственного глаза вульвы, либо циклопический глаз фаллоса (щит-вульва или копье-фаллос).
В храме Ликосуры,[13] в Аркадии, справа от алтаря было вделано в стену зеркало. Молящийся видел в нем вместо своего лица мрачную, неясную (amudros) маску смерти. Греческое amudros служило определением призрака. В зеркале верующие видели в отражении собственную смерть. Зеркало Ликосуры отсылало живым образ смерти. Взгляд Медузы несет смерть тому, кто зачарован. В храме Ликосуры говорили, что вода зеркала ясно отражает лишь богов.
Lycosoura переводится с греческого как «святилище волков».[14]
Согласно верованиям древних, зеркала никогда не повторяют облик того, кто в них отражается; их темная вода (зеркала, как и Щиты, делались из бронзы) всегда отсылает человека к иному, а не реальному миру. Зеркало — это загадочный единственный глаз. Мужчина и женщина, глядящие друг другу в глаза или в единственный глаз полового органа каждого из них, суть зеркала. Так любовь, когда она порождает плоды, порождая детей, порождает «отражения родителей», которые умножают род человеческий; эти отражения переживают их самих и воспроизводятся в них самих, как отражения. Именно в этом смысле коитус — это первое зеркало, прародитель отражений.
Психея созерцает невыносимую красоту мужчины, которого обнимает каждую ночь во тьме. Ибо невыносим фасцинус взгляду женщины. Как невыносима для силы мужчин зачаровывающая эрекция. Ибо тотчас эрос и психея исчезают. Ибо тотчас Эрот, cтав птицей, вылетает в окно и садится на ветвь кипариса.
Реальное присутствие не видимо никому, если не считать единственного, циклопического взгляда воздетого фасцинуса. Нам подтверждает это грубоватый стих Марциала: «Мой таран глух (mentula surda), но хоть он и одноглаз (lusca), видит он прекрасно (illavidet)».[15] Желание «оскорбляет» реальность. Единственный глаз греков, Циклопа, Фасцинуса — это реальное, которое проникает в то, что реальность отвергает. Марциал говорит, что глухой (surdus) глаз фасцинуса видит. Более, чем глухой, — «нелингвистический», «неграмотный» (illiteratus), добавляет эпикуреец Гораций в своем VIII, очень странном, грубо-выразительном и крайне антистоическом эподе. Единственный глаз фасцинуса не способен прочесть человеческую речь: «Ты осмеливаешься, женщина, столетняя развалина с черными зубами, с изборожденным морщинами лбом, ты чьи иссохшие ягодицы (aridas nates) скрывают зияющую дыру, более омерзительную, чем зад (podex) коровы, готовой к случке (crudae bovis), ты осмеливаешься спрашивать меня, отчего член мой не вздымается (enervet)? Уж не думаешь ли ты, что ежели в твоем доме, на шелковых подушках (sericos pulvillos) разбросаны труды стоиков (libelli Stoici), мой член обязан уметь прочесть их? Уж не надеешься ли ты, что книги возбудят его? Что фасцинус мой (fascinum) от этого чтения воспрянет? Нет, ежели хочешь, чтобы он воздвигся высоко над моим презрительным лобком, соси (ore)!»
ГЛАВА V РИМСКАЯ ЭРОТИКА
Археологи свидетельствуют, что в узорах одежды мужчин и женщин отражены два явления — война и эрос. На латыни — Марс и Венера. Марс — это противостояние смерти. Венера — соблазняющее разглядывание, которое вызывает гнев (Марс) коитуса, но подчиняет себе утоление желания и смягчает (усмиряет) его смертоносную жестокость. В конце молитвы, обращенной к Венере, Лукреций поминает бога Марса: «Повелитель жестоких сражений (fera), могучий бог оружия, Марс побежденный (devictus), Марс, раненный вечной раною любви (aeterno volnere amoris), ищет убежища у тебя, о, Венера! Он склоняет голову на твои груди. И, устремив на тебя взор, приоткрыв губы, он смотрит в твое лицо, богиня. Глаза его полны жажды этого волшебного видения. Запрокинув голову, он пьет дыхание твоих уст. О, божественная, когда он отдохнет, приникнув к твоему священному телу, растай в его объятиях и нежно проси у него надежного мира для римлян!»
Но этот мир сопряжен с насилием. Скорее, это плодотворное, активное, бьющее ключом умиротворение, это восстановление спермы (sperma). Геракл, лежащий у ног Омфалы, Эней, уединившийся с Дидоной в тунисском гроте, Марс в объятиях Венеры — все эти сцены в первую очередь приложимы к восстановлению virtus (силы, энергии, мощи, семяизвержения, победы).
Наслаждение, демоница Voluptas, дочь Эрота и Психеи, сообщает взгляду тот «дрожащий свет», который свойствен взгляду смерти и взгляду безумия (furor). Апулей говорит о взгляде Венеры: «Ее подвижные зрачки иногда заволакивает томная нега, иногда же они уподобляются стрелам и мечут видения, возбуждающие плоть. Богиня танцует одними глазами» (saltare solis oculis).[1] Влюбленная женщина обращается к возлюбленному (Овидий, «Метаморфозы», Х,3): «Это твои глаза (tui oculi), встретившись с моими глазами (per meos oculos), пронзили меня до самого сердца. Они зажгли пламя, которое сжигает меня. Ах, сжалься!» У биологов брачные танцы птиц ассоциируются с позами, свойственными страху. Угрожающая поза стоящей чайки напоминает застывшую позу испуга. Боязнь опасности, если выделить едва заметные признаки враждебности и многократно усилить их, очень похожа на призыв к сексуальной схватке. Агрессивное поведение и сексуальное поведение так и не разошлись полностью. Процесс обольщения — это ритуализированное поведение страха, смешанного с эмфазой.
Мужскому желанию предлагаются два пути, когда оно сталкивается с соблазном женского тела: насильственное овладение (praedatio) или же гипнотическая, запугивающая fascinatio. Животное запугивание уже есть предчеловеческая эстетика. Рим посвятил свою судьбу, свою архитектуру, свою живопись, свои арены и свои триумфы гипнотическому запугиванию.
В своем замечательном эссе, озаглавленном «Thalassa», Шандор Ференци описал эротическую страсть под видом боя, исход которого должен решить, кто из двух соперников, мучимых тоской по навсегда утраченному материнскому чреву, сможет проникнуть в тело другого, в заветный domus.
Техника гипноза — это всего лишь один из эффектов этого животного поиска зачаровывающей жестокости, которая, напугав жертву, привела бы ее к повиновению (obsequium) или, по крайней мере, ввергла бы в изначальное детское, каталептическое, пассивное, подчиненное состояние. Никто не может ясно осознать, какое зерно садизма кроется в нежности. Один из партнеров обречен на пассивное подчинение другому, активному, который овладевает им путем насильственного принуждения. Но тот, кто достигает оргазма, сам поневоле обречен на пассивность.
Римляне ассоциировали взгляд пассивности (дрожащий огонек ярости — furor, огонек сладострастия) со взглядом умирающих, со взглядом мертвых. В произведениях Овидия множество раз описаны эти «дрожащие» глаза: «Поверь мне, не торопи последнее наслаждение Венеры. Умей оттянуть его. Умей сделать так, чтобы оно наступало постепенно, шаг за шагом, с задержками, которые только обострятат его. Если угадаешь то место у женщины, которое наиболее чувствительно к ласке (loca quae tangi femina gaudet), ласкай его. Ты увидишь в ее блестящих глазах (oculos micantes) дрожащий огонек (tremulo fulgore), подобный солнечному зайчику на поверхности воды (ut sol a liquida refulget aqua). И тогда зазвучат стоны (questus), и нежный шепот (amabile murmur), и тихие всхлипывания (dulces gemitus), и возбуждающие слова (verba apta)» («Искусство любви», II) Без сомнения, именно по этой причине Овидий — единственный римский писатель, предпочитающий незрелым девушкам взрослых женщин, которым страх не мешает наслаждаться любовью: «Я люблю женщину, коей возраст перешел за тридцать пять лет. Пускай те, кто торопится, пьют молодое вино (nova musta). Я же люблю женщину зрелую, знающую толк в наслаждении. Она обладает опытом, а он уже сам по себе составляет талант. Она умеет отдаться любви так, как тебе хочется, принять тысячу всевозможных, любезных тебе поз. Никакой альбом рисунков (nulla tabella) не предложит тебе такого разнообразия поз в любви. Сладострастие у нее не притворно. Скажу вам: вершина наслаждения — это когда женщина достигает оргазма одновременно со своим любовником. Я ненавижу объятия, где один или другой не отдается всецело. Вот отчего меня куда менее трогает любовь с мальчиками. Ненавижу женщин, отдающихся потому, что надобно отдаться, которая остается сухою, которая во время объятий думает о своей прялке. Мне не нужна женщина, которая ублажает меня из чувства долга (officium). Долг в любви — о, только не это! Мне нравится слушать ее голос, в котором звучит радость (sua gaudia), который нашептывает мне, что не нужно торопиться, что я должен сдержаться еще немного. Мне нравится смотреть, как любовница моя (dominae) тает в наслаждении, с умирающими глазами» (victos ocellos).[2]
В Риме слово aversio означало всего лишь отведенный в сторону взгляд. Не знаю, связано ли изображение женщины, стоящей в полуобороте, которое столь часто встречается на остатках римских фресок, с кокетством (то есть с предстоящим коитусом) или с деструкцией (Орфей, обернувшийся и тем самым погубивший Эвридику). Апулей не делает различия между влекущим и уклончивым взглядом кокетки, брошенным через плечо (saepe retrorsa respiciens), с подмигиванием, с прищуром (cervicem intorsit, conversa limis et morsicantibus oculis), и взглядом, недвижно устремленным к смерти, глазами, опущенными долу (in terram), к аду (ad ipsos infernos dejecto) и лишь изредка бросающими уклончивый взгляд (obliquato).[3] Тот факт, что владение требует усилий и жертв, лишь увеличивает соблазн. Таково «кокетство» — слово, отсьлающее нас к животной основе, где берет начало человеческая соблазнительность. Кокетство помогает продлевать желание, сделать его постоянным и самому сделаться постоянно желанным. Невозможность взять повышает стоимость желаемого; отсрочка делает наслаждение поистине драгоценным. Скрывая себя, тело усугубляет свою тайну. Кокетство — это конечная цель без конца. Это означает отказ в том, что возбуждает желание. Быть желанной без конца — значит быть ценностью, которую ничто не может уменьшить. На римских фресках часто изображается незавершенное обнажение невидимого лона уснувшей женщины. Возможно, женщина, повернувшаяся спиной к зрителю, полагает, что она скрывается oт него, но этот знак отказа есть также животный знак сексуальной пассивности, подчинения. Эти два типа фресок всегда посвящены недоступности дара, который ничего не дает, подчиненного вечному чередованию близости и отдаления, присутствия и отсутствия} Это сцена Вергилия, в которой Эней находит в аду Дидону: «Дидона блуждала в нескончаемом лесу. Едва лишь Эней оказался рядом с нею и узнал ее, бледную тень средь других теней (так в первые дни месяца люди замечают — или думают, будто замечают, — луну, едва видную из-за облаков), как герой Трои дал волю слезам. Он сказал ей кротким голосом: «Злосчастная Дидона, так, стало быть, правдива была весть о твоей смерти? Значит, отчаяние побудило тебя взять меч и покончить счеты с жизнью? Увы, не я ли был причиною твоей смерти? Но клянусь тебе всеми небесными светилами, всеми богами, что в небесах, и всем святым, что есть в подземном мире, — это не я, о царица, решил бежать прочь oi твоих берегов. Я сделал это не по своей воле. Меня принудили к этому боги — те, по воле которых я и спустился нынче в царство теней ужасными адскими тропами, средь густого мрака ночи. Я не мог знать, что мой отъезд станет для тебя таким горем. Остановись же, Дидона! Подними на меня свой взор! От кого хочешь ты бежать? Ведь это в последний раз судьба позволила мне говорить с тобою!» Таковыми словами Эней пытался смягчить горе, терзавшее душу Дидоны, увлажнить слезами ее угрожающий взгляд (torva взгляд исподлобья). Однако царица, отведя от него глаза, упорно глядела вниз» (Ilia solo fixos oculos aversa tenebat) (Вергилий, «Энеида», VI, 460).
To ли это взгляд мертвой Дидоны, что отвернулась (aversa) и молчит. То ли взгляд Паррасия, который убивает, пока кричит от боли его модель. Покрывало, повязка на груди и сандалии — вот три атрибута римской эротики. Aletheia имеет второе значение — «срывание покрова». Истина (aletheia) — это незабытое. Поэт-певец, благодаря Музам, дочерям Памяти, спасает от забвения (lethe) мифы, которые сочиняет изустно. Истина снимает покров с прошлого. Она делает юными мертвых в преисподней. Aletheia связана с наготой.
Первичная нагота никогда не бывает сексуальной — только генетической «Обнажение» в переводе на греческий — anasurma, на латынь objectio. Обнажить груди — значит снять нагрудную повязку и выставить их на обозрение, что было запрещено патрицианкам, Objectus pectorum переводится на греческий как ekbole maston (обнажение грудей). Первое «обнажение» (первый «объект») — это женская грудь. Обнаженные женщины, выстроенные в ряд во время сражения, представляли собой залог победы (оружие Марса). Objectus во время боя, задранная, обнажившая тело туника, anasurma, придают бодрости и силы сыновьям и мужьям, сражающимся на глазах своих матерей и супруг. Тацит рассказывает, что жены германцев во время битвы обнажали груди (objectu pectorum), дабы напомнить своим мужьям и сыновьям о позоре плена, грозившего им в случае поражения.[4] Плутарх свидетельствует, что жены ликийцев заставили отступить Беллерофонта, задрав свои пеплосы (peplos).[5] Помпеи Трог пишет в первом томе своей «Всемирной истории», что во время сражения медийцев Астиага с персами Кира эти последние начали, шаг за шагом, отступать; тогда их жены и матери ринулись к ним, подняли подолы платья (sublata veste) и, обнажив срамные части тела (obscena corporis ostendunt), саркастически вопросили, уж не желают ли мужчины укрыться в чреве их матерей и супруг (in uterus matrum vel uxorum vellent refugere). Пристыженные зрелищем этой наготы, персы сомкнули ряды и обратили в бегство воинов Астиага.
Anasurma — иными словами, обнажение ноги, лона или грудей — составляет на большинстве римских эротических фресок единый застывший жест. Однажды Луций Вителлий попросил у Мессалины, как великой милости, дозволения разуть ее. Сняв с ее правой ноги сандалию, он взял ее себе и с тех пор носил на груди под тогой. Он постоянно доставал ее и то подносил к носу, вдыхая запах, то к губам, чтобы поцеловать. Апулей рассказывает историю Золушки на свой лад; вместо хрустального башмачка у него фигурирует там пара сандалий. На вилле Мистерий, перед креслом Арианы, изображена развязанная сандалия. В Риме женщин очень редко рисовали полностью обнаженными.
Наиболее частая эротическая сцена на фресках — сцена обнажения.
Центральная часть мистерий — обнажение фаллоса (anasurma фасцинуса). Поднять покрывало — значит отделить то, что разделяет — Это молчаливое вторжение.
Плутарх говорил, что Aletheia — это световой хаос.[6] Что ее собственное сияние стирает ее форму и делает неразличимым лицо.
Однако — и тут Плутарх делает весьма любопытное дополнение — это не значит, что Aletheia укрыта, — напротив, она обнажена. Это мы укрыты от чужих взоров. Одни только мертвые видят то, что не скрыто.
Плутарх рассказывает,[7] что Лаиса, отдавшись Аристиппу, вновь надела свою нагрудную повязку. Затем она объявила Аристиппу, что не любит его. На это Аристипп отвечал, что никогда не думал, что вино и рыба питают к нему любовь и, однако, он с большим удовольствием употребляет и то и другое.
И наконец, постель, полумрак и тишина.
В Риме свеча не может быть зажжена в спальне. Нужно доверить часть желания ночному мраку. Зачарованность, внушаемая другим полом, лежит в основе гипноза, которому препятствует ночь, ибо мрак лишает ее власти. Чуть ли не во всех элегиях влюбленный умоляет дать ему зажженную лампу, перемежая просьбу о свете с мольбой к возлюбленной обнажить грудь: «Венера не любит, когда любят вслепую (in caeco). Глаза — проводники любви (oculi sunt in amore duces). О, радость ночи, озаренной светом! О, мое узкое ложе (lectule), счастливое ложе наслаждения! Сколькими нежными словами обменялись мы при свете лампы! И сколько сладких любовных битв дарит нам ночь, когда свет угасает (sublato lumine)! Всего одна ночь может сделать любого из мужчин богом (Nocte una quivis vel dens esse potest). Иногда ей случалось вступать в любовную борьбу со мною, обнажив грудь. В другой раз она томила меня отказом снять тунику. Ежели ты столь упорно хочешь остаться одетой, я руками разорву то, что скрывает твое тело. Свободно свисающие груди (inclinatae mammae) вовсе не препятствуют любовным играм. Оставь эту стыдливость рожавшим матронам. Пока судьба нам позволяет, пусть глаза наши видят любовь. Она близка тебе всю эту долгую ночь. Никакая заря не победит ее» (Проперций, «Элегии», II, 15). В своих элегиях Проперций описывает мрачныи| характер этих навевающих сон, зачаровывающих женских лиц, подобных свирепым лицам сфинксов, этих взглядов, где под внешней оболочкой таится память о сцене первого соития, сон, ярость, смерть: «О, как сладка была мне твоя жестокость вчера, ввечеру, при свете факелов! Как сладки проклятия, что изрыгали твои oбезумевшие уста! Разъяренная (furibunda), захмелевшая от вина, ты отталкиваешь стол и рукою, уже неподвластной разуму, швыряешь мне в голову полные кубки. Что ж, бросайся на меня, вцепляйся мне в волосы, рви их с корнем! Оставляй на моих щеках шрамы от твоих ногтей! Ткни мне в лицо горящим факелом! Сожги мои глаза! Разорви на мне тунику! Обнажи мою грудь! Все твои безумства — знаки для меня, знаки твоей любви. Любящая женщина не знает удержу. Когда женщина, охваченная яростью, сыплет ругательствами, когда она бросается к ногам великой богини Венеры, когда мчится по улицам с исступленными воплями, подобно менаде (maenas), когда лицо ее бледнеет и искажается от безумных желаний (dementia somnia), когда ее волнует картина (tabula picta) с изображением женщины, я, как истинный гаруспик, распознаю во всем этом самые доподлинные признаки любви» («Элегии", HI, 8).
Постель (cubile, lectus, grabatus, grabatulus) весьма часто изображается на эротических фресках, как на самых изысканных, так и на самых незатейливых. Ювенал пишет, что Мессалина предпочитала простую циновку (teges) императорскому ложу (pulvinar). Если кресло — уставное место для матроны, то постель — уставное место для любви. Она принадлежит миру тишины или, по крайней мере, отсутствия признаний, враждебности общепринятой речи. Овидий описывает постель так («Любовные элегии», III, 14): «Вот место, где сладострастие — твой долг. Сделай же из постели средоточие всевозможных наслаждений (omnibus deliciis)! Там следует забыть о стыдливости. Вспомни о приличиях, лишь покинув ложе, оставив свои преступления под пологом (in lecto). Там нужно без всякого стыда совлечь с себя тунику. Там бедра твои (femori) должны стать опорою бедрам твоего любовника. Там язык мужчины раздвинет твои пурпурные губы (purpureis labellis). Там тела измыслят всевозможные способы любви. И пусть усилия ваши, ведущие к наслаждению (lascivia), заставят трещать дерево кровати. Лишь потом накинь на себя одежды. Лишь потом сделай испуганное (metuentem) лицо. Лишь потом стыдливость твоя будет отрицать твою распущенность (obscenum). Я не требую от женщины, чтобы она была стыдливой (pudicam). Я лишь прошу ее казаться стыдливой. Никогда не нужно признаваться в содеянном. Вина, которую можно отрицать, — не вина (non peccat quaecumquae potest peccasse negare). Что за безумие (furor) — вытаскивать на свет божий то, что было скрыто в ночи?! Что за безумие — рассказывать вслух (palani) то, что делалось тайком (clam)?! Даже продажная девка перед тем, как отдать свое тело первому встречному римлянину, закрывает дверь на задвижку (sera)».
Постель защищают два главных демона-покровителя. На живописньгх фресках Купидон и Сомн различаются, как день и ночь: белые крылья Купидона составляют контраст черным крыльям Сомна. Тибулл писал («Элегии», II, 1): «И вот уже Ночь запрягла своих коней (Nox jungit equos). За материнской колесницею (currum matris) спешит сладострастный хор (choro lascivo) светил (sidera). А за ними летит Сон в плаще своих темных крыл (furvis alis). И вот, наконец, черные (nigra) Сновидения влекутся неверной походкой (incerto pede)». В час сиесты полуденная демоница (la sphinge) является для скачки на спящем. Поза equus eroticus, часто изображаемая на римских фресках, — это сцена сна. Такая поза отнюдь не свидетельствует о мазохизме или пассивности (impudicitia) мужчины, как ее часто расценивают — и предпочитают — женщины в современном обществе; equus — это уставное, чисто мужское наслаждение. Патриции лежали и за трапезой, в отличие от матрон, которые сидели поодаль в своих «уставных» креслах Equus eroticus отсылает нас к греческим полуденным сфинксам — крылатым демоницам, — что садятся в час сиесты на мужской вздыбленный член и похищают его семя. Французское слово «кош мар» хранит в себе воспоминание о мифической кобыле, что усаживалась на грудь мужчины или топтала его (calcare) во время сна. «Mare» переводится как «ламия» — ночной вампир; этот корень остался в английском слове nightmare. Лот спит в пещере; его дочери садятся на возбужденный член отца и зачинают Аммона и Моава. Вооз спит — и собирательница колосьев садится на его воздетый член. Это зачатие мужчиной, застигнутым врасплох. Это та самая «сидящая кобылица» (equus eroticus). Одно из двух: либо dominus распростерт на ложе, объятый сном, и тогда женщина пользуется его сонным вожделением, либо он распростерт на своем lectus geniales как господин, коему не угодно самому совершать усилие. Domina садится на него сверху, как невеста — на каменное подобие фаллоса Мутуна во время свадебного ритуала, как матрона — в подобающее ей кресло. А иногда ее заменяет служанка — разумеется, ни в коем случае не «доминируя» над господином, но рабски угождая ему, доставляя ему voluptas без всякого беспокойства с его стороны.
Они приподнимают покрывало, чтобы видеть. Женское начало для мужчин — это «усеченный» половой орган, определяющий богиню любви. Это рождение Венеры. Это то, чего они не могут видеть. Это то, что они пытаются подглядеть исподтишка, но не видят. Они видят — и не видят. Они видят — но хотят уберечь глаза.
Для всякого мужчины ночь — это его прошлое; для всякого, кто видит сны, дом — оболочка прошлого. Самое древнее прошлое — не матка, а вагина. Там кроется зачарованность фасцину са, зачарованный приют, древнейший domus, древнейшая оболочка.
Странно, что зачатие начинается с вагины, которая предваряет его, которая сначала дает приют пенису (mentula). Отсюда табу на инцест: пенис не должен проникать во время коитуса туда, где он уже находился в зародыше.
Коитус старше зародыша.
A origine старше, чем ab ovo.
Приходится подглядывать, ибо нельзя терять из вида то, что скрыто из вида, что влечет потерю способности видеть.
Взгляд мужчины пронизывает женщин. Этот пронизывающий взгляд, который несет в самом себе способность пронзить, может пронзить и того, кто смотрит. Всякий соглядатай боится за свой мужсской орган, боится, что тот превратится в дыру. У древних кастрация затрагивала не столько возбужденный пенис мужчины, сколько его глаза. Кастрированный, если вдуматься, тот же слепой. Гомер, Тиресий, Эдип… Тот, кто увидел «в лицо», тот, кого коснулись чары, лишался зрения.
Мало сказать, что мы желаем видеть. Желание и видение идентичны. Это сон. Вот биологическое и зоологическое объяснение сна: желание видит. У млекопитающих есть это «желание увидеть», которое невозможно утолить полностью. Отсюда и возникла галлюцинационная функция сна. Это желание неодолимо — и неутолимо. Оно соотносит мощную тягу к обнажению, к выставлению напоказ, которую природа демонстрирует в цветах, горах, красках, бликах, отражениях и снах, порожденных жизнью в спонтанном и почти неизбежном умножении, симметрии, так же, как руки, ноги, глаза, все, что предлагает себя взгляду, возбуждая его, с той мерой, в какой человек боится видеть. «Ты держишь глаза скромно потупленными; научись же поднимать их. Поднимай их ровно настолько, насколько заслуживает твоего внимания то, что предстает твоему взору», — советует женщине Вергилий во второй книге «Буколик».
Обнажение мужского тела и обнажение женского тела не симметричны. С точки зрения мужчины, половой орган женщины виден плохо, виден недостаточно, выглядит, как кастрированный мужской, как непонятный, пугающий вопрос, заданный мужчине. Когда же обнажается мужчина, его половой орган слишком бросается в глаза; эта напористая, излишняя нагота смущает женщину, заставляя отвести взгляд, потупить его, сделать уклончивым.
Апулей, в мифе о Психее, не разъясняет нам, как выглядит бог Эрот, которого нельзя видеть ни при каких обстоятельствах. Что это — чудовище? Или ребенок? Скорее, чудовищный мутант, нечто среднее между чудовищем и рождающимся ребенком. Может быть, это римский бог Мутун, ставший Приапом, дряхлый и лысый. А может быть, напротив, некто ребяческий и amorphos. Идеальный и нечистый.
«Не пытайся узнать, как выглядит твой муж, — говорит Эрот своей юной супруге, — если ты увидишь его, то не увидишь более!" (Non videbis si videris). Психея принимает это условие с покорностью (obsequium). Каждую ночь она ждет своего «безымянного мужа" (maritus ignobilis).
Pavet (она боится). Больше любого несчастья «опасается она того, что неведомо». «Timet quo ignorat» — эта сентенция Апулея из Мадоры могла бы украсить собой фрески комнаты Мистерий.
В ночной тишине Психея, пока ее супруг спит на ложе, подносит к его лицу масляный светильник. И тотчас она поражена горем и немотою. Это чудовище — Amor — красиво. Но едва на него упал свет лампы, как он, обернувшись птицей, исчезает.
Служанка Венеры, по имени Consuetudino, набрасывается на Психею с криком: «Поняла ли ты теперь, что у тебя есть госпожа (dominam)?» Схватив Психею за волосы, она бросает ее к ногам Венеры — это ее сын был обожжен каплей горячего масла, упавшей из светильника, который наклонила над ним любопытная Психея.[8]
На одном из фрагментов стены в комнате виллы Мистерий (эта сцена не имеет ничего общего с великим романом Апулея, написанным четырьмя веками позже) две служанки, Sollisitudo и Tristitia, секут беременную Психею. Венера встает, своими руками срывает с Психеи одежду и оставляет ее нагою перед кучей пшеницы, ячменя, проса, мака, гороха, чечевицы и бобов.
И вот наконец свадьба Эрота и Психеи. Либер наполняет вином кубки. Аполлон берет кифару и заводит песнь. Венера танцует под музыку Сатира, который дует в свою двойную флейту (inflaret tibiae), и Паниск играет на тростниковой сиринге (fistula).
Девочка, родившаяся от ночных объятий Психеи и Купидона, получит имя Voluptas.[9]
Заговоришь о покрывале — и тотчас возникает зачарованность. Современная сказка о голом короле является квинтэссенцией этого правила. Ребенок — infans — тот, кто еще не овладел речью, не знает пока и «правила покрывала»: он еще видит первородную наготу. Взрослые же, то есть рабы языка, всегда видят — отнюдь не лицемеря при этом — фасцинус, уже скрытый за словами, которые делают их мужчинами. Ибо в воображении того, кто начинает говорить и кто становится речью, тотчас возникают два тела: одно — идеальное — «орфографически» наложено на другое — непристойное. Божественная статуя и бесформенный фаллос неразличимо слиты. Мертвый и живой. Отец и любовник. Идеальный фантом и животная плоть. Мертвый и умирающий. Pothos и eros.
Два тела, сплетенные в любовном томлении, невидимы; они корчатся одно на другом, они внедряются одно в другое, они изничтожают друг друга в пароксизме сладострастия, невидимого закрытым глазам тех, что растворяются в нем, как во мраке, еще более густом, чем сама ночь. Острота наслаждения, его мера скрыты от глаз человека. Наглядные изображения ничего не дают нам. Чем они разнообразнее, тем больше отрицают его. Наслаждение избегает взгляда, вот отчего и взгляд избегает его. Правы те, кто ненавидит эротические картинки. Не потому, что они шокируют нас. Но потому, что они фальшивы. Потому, что сцена, не представленная в воображении, сцена, навсегда «непредставимая», никогда не сможет быть «представлена» человеку, ибо он сам — ее порождение.
ГЛАВА VI ПЕТРОНИЙ И АВЗОНИЙ
Человеческие ласки всегда наталкиваются на неожиданное препятствие, чувственный или временной предел, непостижимый для желания, которое возбуждает их или вдруг умирает; предел этот не доходит до сознания и самих любовников. Наша эротическая недостаточность, неполное или неодновременное утоление желания в самом средоточии счастья (eudaimonia) приводят нас в горестное недоумение.
Наслаждение отнимает у нас желание.
Мы обречены миражам, как акулы — морю.
В мужском теле сексуальное начало проявляется как аномалия, абсолютно безысходная, если только речь не идет о необузданности полового акта. Сексуальный эксцесс проявляется всякий раз в виде возврата — неадекватного, анахронического, воспринимаемого как, насильственный, несвоевременный или же постыдный, абсолютно неподвластный воле, но всегда настоятельный и всегда невысказанный, поскольку язык, неспособный выразить libido, расчленяет его. Libido — это латинское слово, подхваченное современными людьми и превращенное ими в нечто сакральное и непереводимое (никакой римлянин не смог бы согласиться с нашим толкованием), с целью подчеркнуть, что в сексуальной энергии кроются загадочные рудименты животной натуры, всегда идентичной самой себе, что фасцинус не извергает ее вместе с семенем и что история не оказывает на нее никакого влияния. За невозможностью одновременного или полного удовлетворения страсти сексуальность непрестанно отравляется сама собой, распространяет вокруг свою безнадежную неудовлетворенность, свою проклятую ущербность, pars obscena, свой неутолимый голод по возбуждению, который не в силах утолить ни одно мужское тело.
«Сатирикон» — произведение Гая Петрония Арбитра. «Сатирикон» — это satura (сборник эротического или непристойного характера), ведущая свое происхождение от фесценнинских стихов и ludibrium, атрибутов саркастических игр, которыми сопровождались процессии в честь Фасцинуса бога Liber Pater. После долгих споров эрудиты доказали, что автор «Сатирикона» и старший консулярий, упомянутый Тацитом в «Анналах» за 67 год, — один и тот же человек. Петроний родился в Марселе; к этому времени Овидий уже состарился в ссылке. Он был проконсулом и консулом. Император защищал его, однако Тигеллин добился его осуждения на смерть. Тацит писал, что Гай Петроний Арбитр диктовал свою satura, написанную с целью отомстить Нерону, умирая, во время путешествия в Кампанию. Вместо посвящения принцепсу Петроний продиктовал рассказ о кутежах (stupri) Нерона и его двора «под именами молодых распутников и непотребных женщин» (sub nominibus exoleterum feminarumque). Затем он переслал ему свое произведение в виде «запечатанного письма». После чего, разбив свое кольцо, он покончил жизнь самоубийством в Кумах, избрав самый медленный вид смерти;[1] это случилось в 67 году. Издатели XVII века ошибочно окрестили эту, самую доподлинную, satura «Сатириконом»; от романа сохранилось лишь несколько длинных отрывков и мелкие фрагменты. Действие происходит в Кампании, в некоем городе близ Неаполя — может быть, в Помпеях, или в Олониуме, или в Геркулануме, — а затем в Кумах (там, где Сивилла на своем треножнике шепчет по-гречески: «Я хочу умереть», и где Тигеллин принуждает Петрония к смерти) и, наконец, в Кротоне.
У рассказчика есть юный любовник, подросток (puer), по имени Гитон. Занятый слушанием «устных романов» (contoversia), рассказчик, автор «письменного романа» (satura), не замечает, что его друг Аскилт задумал отнять у него юного Гитона. Рассказчик проводит время в борделе (lupanar). В каком-то грязном притоне он встречает Аскилта. У них завязывается драка; каждый претендует на единоличное обладание юным любовником. Они застигают некую матрону, Квартиллу, за жертвоприношением Приапу; она велит рабам подвергнуть их бичеванию и заставляет поклясться, что они сохранят в тайне увиденные ими мистерии в святилище Приапа (in sacello Priapi). Матрона Квартилла заставляет Гитона лишить невинности у себя на глазах, на ковре, что по ее приказу расстилает служанка Психея, семилетнюю девочку, сама же в это время мастурбирует рассказчика.
Рассказчик отправляется к Тримальхиону, который дает роскошный пир, переходящий затем в оргию его gens, дикую и отвратительную. Оргия эта, после обильных возлияний, принимает меланхолический характер. Один говорит: «Dies nihil est» (День — ничто). Другой отвечает: «Dum versas te, nox fit» (He успеешь повернуться, как уж ночь на дворе). Третий причитает: «Наша жизнь! короче мушиного (muscae) полета!» Четвертый вздыхает: «Человек не более, чем мыльный пузырь». Женщин они называют хищницами или погаными лоханями, а постоянство в любви уподобляют шанкру (cancer). Тем временем «царское» пиршество идет своим чередом; самые изысканные блюда с самыми удивительными сюрпризами, какие только можно измыслить, следуют одно за другим.
Воспользовавшись тем, что рассказчик заснул, Аскилт овладевает Гитоном и убеждает его покинуть пир вместе с ним.
Рассказчик отправляется на поиски Гитона; в картинной галерее (pinacotheca) он встречает одного старого поэта и делится с ним своим недоумением по поводу некоторых картин, чей смысл ускользает от его понимания (argumenta mihi obscura).
Старик поэт пускается в надоевшие рассуждения, свойственные всем старикам и всем журналистам во все времена: «Нет больше настоящих художников. Деньги погубили искусство (Pecuniae cupiditas haec tropica instituit). Живопись умерла (Pictura defecit). Растерзанный мир попадет в руки манов Стикса» (ad Stigios manes laceratus ducitur orbis).
Рассказчик, Гитон и старый поэт садятся на корабль, где Трифема, жена капитана, завладевает Гитоном и делает его своим любовником (низ его живота — inguinum — так прекрасен, говорит она, что сам мальчик кажется лишь придатком своего фасцинуса). Гитон решает кастрировать себя. Что же до капитана, то он утверждает, что божественному Эпикуру удалось изгнать иллюзии (ludibria) из этого мира. «Сам я, везде и всегда, жил, наслаждаясь нынешним днем, как будто это последний день моей жизни, который никогда уже не вернется».
Корабль терпит крушение. Старый поэт просит не беспокоить его, несмотря на катастрофу: «Оставьте меня, я должен закончить фразу!» (Sinite me sententiam explere!)
В Кротоне рассказчик зарабатывает на жизнь проституцией. Он встречает некую патрицианку. «Есть женщины, которых возбуждает одна лишь грязь (sordibus); их вожделение (libidinem) про-' сыпается только при виде раба с задранной туникой (servos altius cinctos)». В самый решительный момент мужская сила изменяет ему. Эта позорная слабость (languor) повторяется несколько раз. Патрицианка оставляет его в поисках «более вещественного наслаждения» (voluptatem robustam). Рассказчик начинает опасаться, что его околдовали (venefico contactus sum), и отправляется к старой жрице Проселене с просьбой излечить его от импотенции. Он возглашает: «Я чувствую, как довлеет надо мною гнев Приапа, властелина Геллеспонта» (Hellespontiaci sequitur gravis ira Priapi). Жрица Проселена произносит следующее приапическое заклинание: «Все, что видимо на земле, повинуется мне. По моему желанию (cum volo) земля расцветает, блекнет и впадает в сон. По моему желанию сок бежит по жилкам растений. По моему желанию они извергают живительную влагу, и даже мрачные скалы (horrida saxa) брызжут фонтанами, словно воды Нила. Я повелеваю морями. Я правлю реками, тиграми и драконами. Силою моих чар (carminibus meis) с неба спускается лик луны» (Lunae imago).
Жрица Проселена бьет рассказчика своей метлой, но это ему не помогает. Приходится ей вести его к жрице Приапа, Энофее (в переводе с греческого «та, чей бог — вино»). Энофея засовывает ему в анус кожаный фасцинус (scorteum fascinus), умащенный маслом и перцем. Затем она хлещет его по пенису пучком (fascem) зеленой крапивы (viridis urticae). Тогда лишь его пенис восстает и приподнимает тунику.
Конец романа нам неизвестен. Впрочем, возможно, что приведенный отрывок стоит любого конца.
Петроний написал свой роман между 66 и 67 годами. Гибель Геркуланума, Оплонтиса, Помпеи и Стабий произошла в 79 году. Римская литературная история, в узком смысле слова, заканчивается на ludibrium. Консул Децим Магнус Авзоний был учителем Паулина из Нолы[2] и императора Грациана. Авзоний, будучи христианином, обращается к христианину Павлу. Ludibrium Авзония выглядит более чем сомнительно: он намерен сделать из произведений Вергилия, прозванного «Девственницей» из-за его стыдливости (Parthenien dictum causa pudoris) ludibrium (непристойный сарказм), вычленив стихи или фрагменты стихов из каждой поэмы. Уже сам этот выбор, открывающий эпоху средневековья, доказывает, однако, что смесь образов, взятых из «Георгик», и заимствований из «Энеиды» являет собой понятие о любви и пуританстве, которое ни в коем случае не может принадлежать этруску Публию Вергилию Марону. Авзоний представляет свою саркастическую головоломку следующим образом: «Поскольку свадебный обряд (celebritas nuptialis) включает в себя Фесценнины (Fescenninos), поскольку эта древняя игра (vetere institute ludus) требует вольности языка, я собираюсь рассказать без стеснения о тайнах алькова и брачного ложа (cubiculi et lectulia). Так мне придется краснеть дважды — за себя и за Вергилия, из коего сделаю я беззастенчивого развратника» (Vergilium impudentem).
Новобрачный приближается к своей молодой жене. «Она, что доселе стыдливо отворачивалась, смотрит на него. Она хочет оттолкнуть то, что ее пугает. Она дрожит перед неведомой угрозой. Мужской член, скрытый под одеждой, красный, как кровавые ягоды бузины, как киноварь, высовывает свою обнаженную головку. Не успели супруги сплести ноги, как это чудище — жуткое, отвратительное, огромное и слепое (monstrum horrendum informe ingens cui lumen ademptum) встает дыбом и, словно раскаленный меч, пронзает пылающую супругу. В некоем потаенном уголке, куда ведет узенькая тропинка, зияет щель. Оттуда исходит резкий запах. Ни одно чистое существо не может безнаказанно задержаться на этом пороге. За ним таится ужасная пещера. Ее темные недра источают едкие испарения, щекочущие ноздри. Туда вонзает он свое узловатое грубое копье в бешеном порыве, в который вкладывает все силы. Проникнув в самую глубину, чудовище пьет девственную кровь, исторгнутую дрожащими, израненными сводами взломанной пещеры. Обессиленной рукой она пытается вырвать жгучее оружие, но оно внедрилось слишком глубоко в истерзанную, кровоточащую плоть. Трижды приподнимается она, опершись на локоть, и трижды падает без сил на ложе. Он же, забыв о страхе, о времени, об отдыхе, прикованный к своему орудию, не оставляет трудов: устремив взгляд к звездам (oculos sub astra), он мерно движется взад-вперед, снова и снова чуть ли не насквозь пронзая ее чрево. Измученные, приближаются они к концу. И вот судорожная дрожь пронизывает их члены и хриплый стон вырывается из пересохших уст. Пот струится по их усталым телам. Супруг в изнеможении завершает скачку, его член извергает жидкость» (distillat ab inguine virus).
ГЛАВА VII DOMUS И ВИЛЛА
Фрески суть трагическая квинтэссенция книг. И эта же квинтэссенция повествования служила опорой памяти при создании других книг. Забота об укреплении памяти у древних народов привела к появлению определенного набора мнемотехнических приемов, которыми мы пользоваться уже не умеем. Сенека Старший славился среди современников поразительной памятью. Во времена правления Августа он мог рассказать наизусть, от первого до последнего стиха, трагедию, услышанную со сцены при диктатуре Цезаря. Фрески, статуи, сады, дома — все служило учебником для упражнения памяти. Цицерон рассказывает,[1] как Симонид изобрел ars memorativa (искусство искусственной памяти), которое строилось на мысленном представлении сгоревшего дома со многими комнатами (loci) и на восстановлении целых фрагментов речи, исходя из образов (imagines) слов. Словом imagines называли посмертные маски предков, которые изготовлялись в день их кончины из воска или сырой глины, после того как сыновья прикладывали к губам покойного медное зеркальце, и хранились потом в особом шкафчике в атрии. Френсис Йетс изучал мнемоническую технику, свойственную устным античным литературам. Двумя веками позже Фабий Квинтилиан[2] также уподоблял память зданию, где человек обходит все помещения в поисках предметов, которые туда положили «искусственно» (кстати, «художник» по-латыни — artifex — творящий искусственное).
Римские дома были прежде всего книгами, а затем памятью. Не следует забывать, что, входя в римский дом, вступаешь на «страницу книги» или проникаешь в memorandum; в этом случае нужно тотчас восстановить в уме те малопонятные для нас утверждения, что Цицерон высказывал в конце существования республики («К Герению», IV, «Об ораторе», II): «Ибо места очень походят на покрытые воском таблички или на папирусы. Образы (simulacris) походят на буквы (litteris). Расположение и чередование образов походят на писание. А процесс произнесения речи сравним с чтением».
Эти утверждения принадлежат оратору, который заучивал свои речи наизусть, глядя на стены своего дома.
Цицерон добавлял, что лучше всего запоминаются вещи постыдные — вот отчего следует возможно чаще прибегать к сластолюбивым образам, — это весьма помогает улучшению памяти. Образы, хранившиеся в душе, стали напоминать фрески или комнаты. Галереи и портики начали принимать вид снов. Сны наполнились визуальными каламбурами, ибо они походили на те недвижные, застывшие понятия, которым уподоблялась память. А поскольку они были недвижны, они становились патетическими. А поскольку они были патетическими, они трогали сердце. А поскольку они трогали сердце, они вновь возникали на стенах, на портиках, на фресках? Душа сгущалась в книги, а те — во фрески.
Когда первые греческие философы — пифагорийцы, киники, эпикурейцы, стоики, скептики, адепты новых религий — обратили взоры к гражданскому обществу и принялись размышлять о том повседневном унынии, в какое повергает людей вожделение, каждый из них, по очереди, решительно отмежевался как от одного, так и от другого. Они объявили, что им чужды и это внешнее неистовство, и эта внутренняя тоска. По установлении тиранических режимов они решили, что им чужда тирания, что они должны избегать деспотов и покинуть города. С началом империи они объявили внутренним делом каждого само понятие патриотизма. Эти отрешившиеся души постигли быстрее Нарцисса (чей взгляд встретил пугающее застывшее отражение самого себя) идею: космос — это ego.
Эпикур, живший в III в. до н. э., был для тогдашнего общества тем же, что Фрейд для XX века; социальные роли, выработанные их доктринами, удивительно схожи. Оба учения опираются на одну и ту же основополагающую тезу: человек, не испытывающий оргазма, дает поглотить себя болезни. Тоска, которая мучит его, до бавляют они оба, есть не что иное, как сексуальное либидо, которое, не находя выхода, оборачивается против себя самого и заражает ядом все вокруг. На этом сходство кончается. Фрагмент 51 Эпикура гласит: «Все люди передают друг другу свою тоску, как заразу». Он считал себя не философом, но терапевтом. Epikouros в переводе с греческого означает «тот, кто несет помощь». Therapeutikos — «тот, кто заботится». Он ненавидел все философии, подозраевая в них лишь теории бегства от действительности, стремление к иллюзиям. Как утверждает Лукреций, Эпикур первым понял, что каждый человек наедине с собой, у себя (domi), бывает охвачен тоской (anxia corda), которая непрестанно терзает его взбудораженный ум («О природе вещей», VI, 15). Одно лишь физическое несет людям помощь и облегчение. «Церера даровала людям зерно, Либер — вино, Эпикур — лекарства от жизни (solaria vitae)». Лекарств этих четыре: божественного не опасайся; смерть неизбежна; счастье достижимо; все, что пугает, можно пережить.
Демокрит говорил: «Коитус — это апоплексия в миниатюре» (apoplexie smikre).[3] Ибо человек выходит из другого человека или, вернее, внезапно отделяется от него, словно его выдернули рывком (plege)». Эпикур опроверг этот тезис Демокрита. Всякое удовольствие — результат удовольствия от sarx, и всякое удовольствие обладает жизненной цельностью, существенно превосходящей своим значением факт отсутствия боли. Voluptas — единственное человеческое ощущение, обожествляющее человека; не делая его бессмертным, оно тем не менее сотворяет из нас нечто большее, чем комбинацию атомов, которую мы на самом деле представляем собой; оно дарует телу ощущение высшего «я». Оно превращает душу в божественное sum. Существует только один опыт, дающий «ощущение жизни», — это наслаждение, ибо оно объединяет тело и душу. Коитус — источник живого тела — есть и конец живого тела в его наивысшей точке здоровья. Именно в нем жизнь представляет человеческое тело в совокупности, именно в нем Est превращается в Sum. Сладострастие можно определить следующим образом: человек, слившийся с жизнью. В коитусе наслаждение ощущается само по себе. Наслаждение, ощущаемое само по себе, и есть счастье. Ни в горе, ни в мысли нет ничего, что можно было бы сравнить с этим всеобъемлющим опытом.
Солон говорил: «Никто не может назвать себя счастливцем до последнего мига своей жизни».[4] Эпикур же возгласил: «Всякий человек должен благодарить судьбу за счастье в прекрасном настоящем своего бытия (полного и счастливого бытия)».[5] Римляне говорили: «Всякий час — смертный (supremum) час». Но supremum означает также «высшую, кульминационную точку».
Зыбкой и далекой кажется нам призрачная природа богов, чье универсальное обличье дается человеку в виде снов. В силу своей дискретной, абсолютно невесомой атомной структуры тела богов прозрачны, неосязаемы; это почти что призраки. Учение Эпикура стало доктриной пространственного атома и атома временного: существуют лишь видения и мгновения (мгновения жизни и миг смерти). Единственное спасение человека — в интенсивности каждого момента жизни. Побороть страх смерти можно только неистовством жизни, насыщенностью каждой ее минуты.
Ученики Эпикура — атомы времени, атомы социума — предпочли уединение или, по крайней мере, очень небольшие сообщества городам и человеческим толпам. Эпикур называл толпу бурей. Латинское слово «индивидуум» соответствует греческому «атом» Эпикур противопоставлял гордых (sobarous) и независимых (autarkeis) индивидуумов толпе. Бесконечный, неограниченный атомизм, составляющий основу его теории и единственную материю физического мира, приводит каждый человеческий атом к «анахорезу» (терапевтической независимости, социальному индивидуализму). Этот атомизм повседневной жизни нашел свое воплощение в понятии «сад»: человек помещает атом деревни посреди города к живет в нем как жизненный individuum, которому отпущен краткий atomus времени. Эта идея еще Плинию Старшему казалась невероятно новой и свежей. Так секта Эпикура взяла себе имя — Сад.
В 1752 году при раскопках Геркуланума была найдена эпикурейская библиотека, содержавшая 1700 свитков (volumina). Раскаленная лава, накрывшая город, опалила их края. Дом, где были найдены свитки, получил название виллы Папирусов. Невозможно было развернуть эти слипшиеся, высохшие, чрезвычайно хрупкие свитки; их бережно разрезали на поперечные полосы и лишь затем складывали в единое целое. Большинство текстов, если не считать длинного трактата по физике, написанного самим Эпикуром, принадлежали другу одного философа, ученика Эпикура; он жил во времена Республики, а затем при диктатуре Цезаря; его звали Филодем. Труды Филодема представляют собой собрание коротких трактатов на различные темы — о физической боли, смерти, богатствах, здоровье, гневе, откровенности, поэзии, знаках, богах, благочестии, музыке. До сих пор еще не все свитки, обнаруженные в 1752 году на вилле в Геркулануме, разрезаны или развернуты, изучены и опубликованы.
«Даже во сне нельзя завладеть временем, которое лишает владения», — писал Филодем из Геркуланума («О смерти», XIV) — Нельзя желать людям долгой жизни, ибо она вмещает в себя не больше времени, чем короткая. Лишь одно имеет значение — наполненность мгновения в настоящем. Нужно только помнить о том, что мгновения «преходящи». «Ватиканские изречения» Эпикура гласят: «Никогда нельзя откладывать никакую радость». Гораций, живший во времена Августа, говорил: «Сагре diem». (Эта идея — «срывать» каждый день, как редкостный цветок, — в то время была еще внове. Ибо нет двух похожих дней, двух похожих цветков, двух похожих тел, двух похожих лиц.) Каждой минуте жизни нужно говорить: «Остановись!» Жизнь — не что иное, как череда взрывов возрождения; так она воспроизводит себя, так возникает в каждый миг в каждом месте, так исчерпывает до дна счастье в каждую минуту, все больше очищая его от смятений и страхов. Человек может «сконцентрировать» настоящее.
В чем состоит цель жизни? Голод, сон, спазм. Cibus, somnus, libido, per hunc circulum curritur[6] (Голод, сон, желание — вот круг жизни, в котором существует человек). Спазм наслаждения — вот то, от чего мы рождаемся. Нервная депрессия спешит укрыться во тьме предрождения. Эротическая страсть в течение нашей жизни — это единственная и последняя цель, к которой нас влечет наше тело. Голод, жажда, усталость не так мучат человека, как любовное вожделение. В отличие от вожделения, их легко утолить. Никогда пища, налитки, тепло не зачаровывают нас до такой степени, как предмет любовного желания. Я назьшаю «зачаровывающим» то, что сохраняется даже за пределами удовлетворенного желания, даже в самом средоточии радости, которую оно дает. Эпикур говорил, что эротическое наслаждение является для нас критерием всех прочих радостей. Сексуальный акт делает макрокосмический порядок несокрушимым. Аристотель называл фаллос звездной кузницей, где гражданство обретает реальную форму. Эротический момент — это тот миг, когда жизнь проявляется с максимальной силой (преувеличенной, почти мучительной силой фаллоса, сжигаемого желанием), со сладостным неистовством. Наслаждение — это насытившееся настоящее. В наслаждении сама жизнь ярче всего выражает себя, свой организм (и даже смертность своего организма), как жар — в огне, как белизна — в снеге.
Пустота окружает нарисованные фигуры. Следует понимать эту обособленность изображений через атомическую физику Эпикура. Лукреций был убежден, что пустота окружает все вещи в мире, Вселенная бесконечна и, следовательно, лишена центра. Она разбалансированна. Лукреций представляет пространство как беско нечную пустоту, где атомы движутся бесконечным «дождем» сверху вниз, в вечном, неостановимом движении. Лукреций представляет жизнь как такой же «дождь» семени, который смешивается с дождем видений в пространстве.
Eikon, eidola в переводе с греческого означают образы (иконы, идолы). Латинские simulacra, simul суть оболочки миражей (световых образов). Боги были для людей, главным образом, воображаемыми спутниками — simul (двойниками), personae (дионисийскими масками). Вот что говорится об этом в 15-й сатире Луцилия («Ut pueri infantes»): «Как дети, еще не владеющие речью, воображают, что все бронзовые статуи — живые люди, так взрослые полагают истинными сонные измышления (somnia ficta), веря, что в бронзовой статуе бьется живое сердце. Но это всего лишь картинная галерея (pergula pictorum). Ничто не истинно (veri nihil). Все вещи вымышлены» (omnia ficta). Страбон добавлял («География», I, 2 9), что вся древняя живопись состоит из «театральных масок, назначенных пугать слабые души и изготовленных скульпторами и живописцами по велению государственной власти».
Аристотель говорил: «Невозможно мыслить (noein) без мысленного образа (aneu phantasmatos)». Он пояснял («О памяти», 449-Ь), что без фантазмов нет памяти. Латинское simulacra соответствует не только греческому eidola, но также и греческому phantasmata. Нужно осмыслить сразу три понятия, с помощью которых Лукреций определяет образы-видения (simulacra): материальная эманация тел, являющих собой всего лишь тонкую атомную пленку и составляющих основной мир, тени мертвых и образы богов. Есть только атомы, и ничего более. Всякое ощущение — это результат столкновения атомов. Этот внезапный контакт безмолвен, бессмыслен (alogos), абсолютен, непреложен. Всякое видение есть выброс атомов, столкнувшихся с атомным дождем в пустоте. Мир рождается в результате чистой случайности, которая непрерывно повторяется. Люди мыслят в результате чистой случайности, которая непрерывно повторяется. Мы существуем в результате чистой случайности.
Пустота окружает тела людей-атомов. Желание быть независимым (autarkeia) соответствует стремлению быть менее несчастным. Индивид может вести более «атомный» образ жизни вдали от городов. Ненависть к городам и удаление от них — вот первые шаги к мудрости. Плиний писал Миницию Фундану: «Вспомните, один за другим, каждый день, проведенный в городе (in urbe), и вам покажется, что вы провели его с толком. Но вспомните их все вместе, и вы поймете, что жизнь ваша была пуста. Все занятия, казавшиеся вам необходимыми (necessaria), при последующем рассмотрении окажутся бессмысленными в мирном спокойствии деревни, и тогда возникает следующая мысль: дни эти потеряны для меня. Вот что я говорю себе, едва переступив порог моей Лаурентийской виллы. Я читаю (lego). Я пишу (scribo). Я не слышу того, чего мне не хотелось бы слышать (nihil audio quod audisse). Я не говорю того, о чем потом пожалел бы (nihil dico quod dixisse paeniteat). Никто не оскверняет мой слух злобными речами (sinistris sermonibus). И сам я никого не порицаю. Ни одно желание не терзает меня, никакой страх не мучит, никакие слухи не беспокоят. Я говорю лишь с самим собою и с моими рукописями (mecum tantum et cum libellis loquor)- Q; море, о, берега, благодарю вас! Вы — истинная и пустынная сокровищница, вы диктуете мне мои книги!» (О maris, о litus, verum secretumque mouseon, dictatis!).[7]
To, что Эпикур назвал autarkeia (отказ быть рабом, абсолютная свобода от всего на свете как конечная цель мудреца), римляне странным образом перевели как temperantia — максимальное наслаждение,[8] то есть наслаждение, чья боль всякий миг ставит ему предел. Автаркия означает также возможность в любой момент вернуться к первозданному состоянию. После гражданских войн римляне соотносили способы и размеры своих вложений с крушением — политическим, национальным, имперским или космическим. В них было слишком живо воспоминание о гражданских войнах; они не забыли зрелища разрушенных культур, развалин бесчисленных городов, которые они с такими трудами возвели по всей империи. Каждый богач старался собрать свои земли в крупные частные латифундии, боясь возврата катастрофы.
Места уединения изображались не только в городских дворцах, но и в самих местах уединения. Даже на виллах Кампании, окруженных пышными садами, настенные фрески изображали сады. Когда Плиний[9] описывает Роману виллы, которыми он владеет, он полагает себя остроумным, сравнивая их с пьесами Александрийского театра, тогда как в действительности пишет всего лишь о постановках греческих дионисийских трагедий, покоривших римлян четырьмя веками ранее: «На берегах Лаурентийского озера я владею несколькими виллами, но есть среди них две, доставляющие мне столько же удовольствия, сколько и затруднений. Одна из них, воздвигнутая на скалах, как в Байях, смотрит вниз с высоты утеса; вторая, построенная тем же манером, стоит прямо на берегу. Вот почему я назвал первую «Трагедия» (tragoediam), а вторую «Комедия" (comoediam). Первая словно поднята на котурны (quasi cothurnis). Вторая же как будто в сандалиях (quasi socculis). Первая вознеслась на мощном крупе скалы над водою, разделяя собой две бухты. Вторая, с ее садами, тянется вдоль берега, огибающего широкой дугою всего одну бухту. В первой прогулка на носилках идет извилистым маршрутом с террасы на террасу. Во второй носилки следуют по широкой аллее вдоль берега. Первая стоит далеко от волн, вторая же служит волнорезом. Из первой можно увидеть лодки рыбаков в море. Во второй можно ловить рыбу самому (ipse piscari), забрасывая удочку прямо из окна спальни (de cubiculo), не вставая с постели (etiam de lectulo), так, словно находишься в лодке (naucula)».
Человек живет внутри своего дома (domus), но и сам domus также живет в его душе. Запрет на любовь и Венеру-пассионарию, существовавший для римских матрон, парадоксальным образом неотделим от понятия «дом».
Рим был некогда большой патрицианской общиной, сборищем глав дома, называемых Отцами (Patres), каждый из которых представлял свой клан в более широком кругу семьи, называемой Сенат и исповедовал семейную религию, поклоняясь Ларам — образам умерших предков. Эсхил в стихах 606–657 своих «Эвменид» пишет, что матери не рождают детей. Аполлон утверждает, что матери — это всего лишь кормилицы зародышей, которых mentula Отцов (Patres), ставшая фасцинусом, внедрила в их чрево. Следовательно, сексуальность должна быть чужда женщинам, ибо они представляют собой только приют (чрево) для детей. Единственно почитаемым был «таран» — тот, что вырывается вперед, стремится овладеть, изливает семя в женскую матку. Плутарх рассказывает, что Катон, рассуждавший однажды о запрете на влюбленность для матрон, сформулировал это так: влюбленный человек «позволяет своей душе жить в теле другого» (Плутарх, «Катон», XI, 5). Это замечательное определение одновременно проясняет статус гения и демоническую природу болезни, называемой сентиментальной любовью: она не только противоуставна, она еще и грозит целостности личности. Она рискует изменить уклад дома.
В Древней Греции, затем в этрусском обществе, а затем и в самом Риме любовь и смерть идентифицировались. Любовь уносит в другой дом — взять хоть похищение Елены троянцами. Смерть также уносит в другой дом — вспомним похищение Персефоны в подземное царство сожженных или погребенных тел. Эрос и Танатос являют собой двух великих возможных похитителей. Во-первых, эти два великих бога «смещают» человека в социальном плане (первый — в дом живого супруга, второй — в могилу супруга усопшего). Во-вторых, физически оба эти похищения погружают человека в одинаковое состояние: прерывистый или вечный сон. Вот почему Гипнос связан с Гадесом так же, как и с Эросом. В бреду вожделения или в бреду агонии эти raptus похищают человека, окутывая его мраком ночи. Психология долго оставалась на самом примитивном уровне. Похищение, на первоначальной стадии, не разделяло pothos и eros. Желание отсутствующего, во сне или бодрствовании, одинаково терзало того, кто скорбел по усопшему, и того, кто томился любовью к живому. Где ютится отсутствующее? В могиле или в сердце. Сцена, в которой Электра проносит железную урну с фальшивым прахом Ореста перед живым Орестом, вернувшимся домой, так же потрясает душу, как поразительная метафора Тацита, когда он говорит, что сердце человека — это могила тех, кого он любил. Тацит создает сравнение,[10] чья сила, сколь простая, столь и древняя, ныне утеряна. Сердце — это «инфернальное жилище" призрака любимого человека, так же как могила — «живое сердце, где обитают «тени» всех, кто покинул «свет» нашего мира в погребальном костре.
Однако это обитание гения в другом доме, вне собственного тела человека, совершенно невозможно для матроны. Domina (хранительница домашнего очага) не должна быть ничьей рабой вне своей касты. Подобная психическая вездесущность (крылатые сандалии Персея, крылья Купидона) губительна для всего — для чистоты рода граждан, которых ей предстоит родить, для чистоты ее сословия, для ее статуса супруги. Римляне считали, что граждан следует оберегать от любовных страстей, удовлетворяя их вожделение в других местах, вне их собственного дома. Плутарх рассказывает, что однажды Катон Цензор, возвращаясь с Форума, заприметил некоего молодого патриция, выходящего из лупанария. При виде Катона юный аристократ закрыл лицо полою плаща. Цензор же, вместо того чтобы выбранить его, воскликнул: «Смелей, малыш! Ты хорошо делаешь, посещая непотребных баб, а не добродетельных матрон!» На следующий день юноша, гордый одобрением Катона, вернулся в бордель и постарался выйти оттуда ровно в тот самый час, что и накануне, с видом хвастливого молодечества. Однако на сей раз Катон сказал ему: «Я хвалил тебя за то, что ты пошел к девкам избавиться от лишнего семени. Но я не приказывал тебе делать бордель своим домом!»
Эта путаница гениев и душ ясно видна даже в самом обращении, придуманном любовниками для любви; оно сохранилось во Французских словах «Dame» и «Madame». Domina — это имя, с которым рабы обращались к матроне. Domina доминирует в доме, управляет им. Любовник, назвавший Domina (дамой, хозяйкой, госпожой) ту, которую он любит, ломает свой status, становится ее рабом. Свидетельство тому — X элегия первой книги Секста Проперция: «Избегай торжественных слов и долгого молчания. Если хочешь насладиться своей любовью, надобно всегда быть как можно смиреннее (humilis), как можно покорнее (subjectus). Если хочешь быть счастливым (felix) с женщиной, которую любишь, с единственной женщиной, которую любишь, придется перестать быть сво-, бодным (liber) человеком». В отношении женщины подобная, пусть даже надуманная, ситуация выглядит абсурдом: матрона «domin - рабыня» — сочетание невообразимое.
Рим и сам подчинился этому абсурдному порядку: он делал все чтобы не дать иссякнуть источникам жизни, мужскому семени, победам над другими народами, — и делал все, чтобы не допускать своих граждан к «Венериным утехам». Струи, сбегающие с тела Венеры, что возникла из волн, — плод волн, из которых она возникла. Ее наслаждение связано с океаническим чувством, которое породило ее, — мужчины не испытывают его в сладострастии, дарованном им природой. Лемний говорил, что женщина чувствует двойное наслаждение в сравнении с мужчиной: «Она вытягивает семя из мужчины и вместе с тем извергает свое собственное». Impotentia muliebris (неспособность женщин сдерживать себя), неистовство, в которое повергает их страсть, заразительное безумие, связанное с Венерой, — таков образ женщины в глазах Рима. Таков его основополагающий миф, его дионисизм, который в высшей степени серьезно исповедовали даже греки — с одной стороны, из-за педерастического ритуала, с другой — из-за социального института гинекея. Овидий в своей «Науке любви» писал: «Acrior est nostra libidine plusque furoris habet» (Наслаждение женщины острее, чем наше, и сопровождается большим неистовством и разнузданностью).
Современников крайне шокировала идея Овидия, высказанная во всех трех его эротических книгах («Любовные элегии», «Наука любви» и «Героиды»), — идея взаимности, возможности сочетать верность и наслаждение, матронат и эрос, генеалогию и чувственность, уставную dominatio супруги и сентиментальную, нечестивую рабскую покорность мужчины (vir).[11] Гениальный Овидий был сослан Августом на берега Дуная. Его супруга, вполне добродетельная матрона, не соизволила последовать за ним. Он умер в одиночестве, восемнадцать лет спустя; жена ни разу не навестила его в изгнании-
Антония связывал с Клеопатрой смертный обет. Любовная страсть переживается самими любовниками как медленная агония. Так оно было с Тибуллом и Делией. Так же — с Проперцием и Цинтией.[12] Эти смертоносные узы, перенятые у народов Востока, это психическое рабство прямо антагонистичны договору о продолжении рода и незыблемости семьи в римских браках. Они противоречат тому, что называлось pietas — односторонняя зависимость, идущая от сына к отцу.
Помпей был влюблен в свою жену Юлию, дочь Цезаря. Он стал предметом всеобщих насмешек, и эта нескрываемая любовь повлекла за собой потерю власти и поражение в войне. Власть может бьггь связана только с плотским желанием. Разве превосходство может зависеть от зависимости? Супружеская верность Помпея сломала его политическую карьеру (его способность укрепить жизненную силу Римской империи, прославить Рим победами).
На исходе анахореза человеческое «я» стало его личным, интимным убежищем (domus). Идея обособившейся (individuus) души была порождена эпикурейцами. Идея автономии души (в воспоминании о грехе) возникла у Овидия в Томах и окончательно оформилась у Августина в Карфагене. Душа — это потаенная комната внутри человека. Эта скрытая безмолвная ниша стала идеалом эпикурейского эрмитажа Плиния в Коме. Гай Плиний Цецилий Секунд поочередно устраивал на всех своих виллах то, что называлось zotheca. Живопись по-гречески — zographia. Библиотека стала его душой (zotheca). В переводе с греческого это слово означает «место для уединенной жизни» (альков, маленькая спальня). Вот как Плиний описывает свою zotheque, свою «каморку», место, где «приютилась» его жизнь («Письма», XVII, 22): «На краю террасы, за галереей, в глубине сада стоит маленький павильон (diaeta), в который я буквально влюблен, — это и впрямь моя истинная любовь (vera amores). Его построили там по моему приказу (Ipse posui). В нем два окошка — одно с видом на террасу, другое — на море, и оба впускают солнце, которое нагревает помещение щедро, точно баню. Спальня с двойной дверью выходит на колоннаду, еще одно окно находится прямо над морем (proscipit шаге). В одной из стен сделано углубление; там устроен альков (zotheca). С помощью ширм и занавесей (specularibus et velis) можно, по желанию, отделить его от комнаты или, напротив, присоединить к ней. В алькове стоят кровать (lectum) и два стула (duas cathedras). Таким образом, у меня в ногах море (a pedibus mare), позади — виллы (a tergo vil-1ае), а в головах — лес (a capite silvae). Для каждого из этих пейзажей имеется свое окно. Ничто не смущает здешний покой: ни голоса рабов (voces servulorum), ни рокот моря (non maris murmur), ни рев бури (non tempestatum motus), ни зарницы молний (non fulgurum lumen); даже дневной свет проникает сюда лишь тогда, когда окна широко раскрыты. Уединенность и тишина этого приюта (abitique secreti) объясняются наличием прохода (andron) Между стеною комнаты и садовой оградою. Любой шум, любые звуки умирают в пустоте меж этих стен. Напротив моей спальни располагается чуланчик для отопления (cubiculo hypocauston perexiguum) с крошечным узким оконцем (angusta fenestra), посредством коего регулируется жар, идущий снизу вверх. Затем передняя (procoeton) и спальня (cubiculum), до полудня освещаемая солнцем. Когда я удаляюсь в этот павильончик (diaetam), мне кажется, будто я за тысячу верст от моей усадьбы (abesse mihi etiam a villa mеа). Более всего наслаждаюсь я во время праздника Сатурналий, когда все мои домочадцы ликуют и безумствуют, а дом звенит от их радостных голосов. Я не мешаю им предаваться веселью а они ничем не нарушают покой моих занятий».
Римская империя не знала ни упадка, ни заката, ни крушения. Цивилизация поздней Империи была самой просвещенной во всей римской истории. За политической и монархической революцией последовал беспрецедентный расцвет архитектуры и других искусств. Эпикурейство стало анахорезом. Кинизм стал анахорезом (хотя пресловутая бочка и находилась в городе). Стоицизм стал анахорезом. Христианство стало анахорезом. Удалиться от мира (как в наши дни буржуазия удаляется в загородные дома, народные массы — в турпоездки, а маленькие, но богатые кланы — в места безналогового рая) стало лозунгом античного мира.
Города возвышались и приходили в упадок и одичание, мало-помалу обращаясь в руины. Появилось множество усадеб в сельских местностях и в горах (saltus). Исчезло аристократическое равенство; вместо него явилась иерархия, породившая затем иерархическую страсть. И это отнюдь не Константин стал назначать епископов и установил чиновничью иерархию духовенства: он просто придал, задним числом, определенный статус иерархической страсти своих подданных, которые прониклись страстями империи. Новые Отцы (Patres) сменили свои белые тоги на черные рясы.
Имперский патронаж, распространяясь по земле, удалялся от нее. Всё удалялось. Все удалялись: те, кого ссылали, — на острова, зажиточные люди — в усадьбы, анахореты — в пустыни. Муниципальные власти эмансипировались. Боги, утратившие свое могущество, ибо никто больше не приносил им жертв, превратились в демонов. Церемонии, вышедшие из храмов и святилищ, стали мрачнее, но не исчезли. Они сделались ближе и понятнее. Личный daimon, гений, ангел-хранитель, небесный близнец, невидимый патрон — все смешалось. Социальная пирамида, ставшая внутренней, исчезала после смерти и сама удалялась в небеса. Даже слово angelos означало теперь автономию внутренней личности, порвавшей животворные связи с другими представителями своего поколения и прежним, римским Genius. К богам-посредникам добавились новые, специфические боги — мученики арен или распятые на кресте рабы. Люди стали искать прибежища у невидимых сил, руководствуясь единственной иерархией, включавшей в себя более или менее отдаленных покровителей; гения они видели в ангеле-хранителе, патрона — в святом, императора — в патриархе, Отца — в Боге, поскольку империя (imperium) перенеслась в небеса, оставив их на земле. Церковь переняла у светской власти традиционные раздачи хлеба и устройство зрелищ. Кровавые человеческие жертвоприношения покинули арены, преобразившись в кровавое человеческое жертвоприношение богочеловека, распятого на кресте, подобно ничтожнейшему из рабов, в самом центре базилики (прежде basilica означала крытый рынок, восточный базар).
Angelos преобразил прежнюю семейную зависимость в вертикальную преданность души ее вечному источнику; христианин отрешился от родственников — Бог теперь стал ему ближе всех. Таков завет Евангелия (eu-angelon). С гением, который покровительствовал лишь гениталиям людей, было покончено: персональный angelos стал именно тем, кого провозгласило eu-angelon, — Богом во всяком человеке. Личная душа также уподобилась вилле, удаленной от города, эрмитажу, удаленному от раздач хлеба и от налогов. Исчез культ мертвых. Люди перестали кормить тени усопших. Они сделали своим наследником Бога: Церковь наследовала все имущество смерти и анахореза.
Анахорез и призыв к религиозному аскетическому движению объяснялись самыми банальными мотивами: они были неотделимы от дотаций монастырей, то есть от неприятия этими последними возрастающего бремени муниципального налога. «Отказ от обязательства платить налог» — так можно было бы перевести слово anachoresis. Об этом свидетельствует следующий исторический анекдот: в 316 году на ферму Аврелия было совершено нападение. Аврелий заявил: «Хотя земли мои весьма обширны, я ничем не связан с людьми из деревни и потому останусь здесь» (kata emauton anachorountos). Anachoresis — это политическое уединение и разрыв с деревней (иными словами, отказ платить деревенские налоги). Идеал отшельника (анахорета) — это тот же автаркический идеал, которому следовал римлянин, возводя виллу вдали от Рима, по примеру Помпея. Это "монах», monos (один), человек, который больше не считает себя политическим атомом (atomos); он — социальный мертвец, воплощение независимости (autarkeia) по отношению к своему времени, одиночка, исповедующий безнадежно мрачный эпикуризм.
ГЛАВА VIII МЕДЕЯ
Медея — это фигура безумной, неистовой страсти. Кроме того, в греческой, а затем и в римской литературе она являет собой тип ведуньи (а потом и злой волшебницы). Существуют две главные трагедии, посвященные Медее: греческая — Еврипида, римская — Сенеки. «Медея» бьша представлена в Афинах в 431 г. до н. э., как раз перед Пелопоннесской войной. Еврипид не ограничился одним эпизодом легенды; в своей трагедии он собрал все перипетии долгой жизни Медеи, вплоть до заключительного кризиса. Легенда такова: Ясон был сыном царя Иолка; он жил на Фессалийском побережье. Его дядя Пелий отнял трон у его отца Иолка, а Ясона послал искать Золотое руно, охранявшееся драконом, в Колхиду, на дальние берега Черного моря, надеясь, что он не вернется.
Ясон отплыл на корабле аргонавтов, миновал скалы Симплегады и прибыл в Колхиду, во владения царя Ээта.
У Ээта бьша дочь Медея. Ее дедом был сам Гелиос-солнце. Цирцея, сестра царя, тетка Медеи, также бьша волшебницей; у Гомера она превращает мужчин в свиней, львов и волков; ее любил Улисс; он провел с нею сладостный месяц, и она родила от него сына Телегона (который впоследствии основал Тускул, где жил Цицерон и где умерла в родах его дочь Теренция). Увидев Ясона, сходящего с корабля на берег, Медея с первого взгляда полюбила его, безумно и навечно. «Она пристально смотрит на него. Она не отрывает взгляда от его лица. Ей чудится, в объявшем ее безумии, что это черты не смертного, а бога. Она не в силах отвести от него глаза» (Овидий, «Метаморфозы», VII, 86).
Тогда царь дает Ясону поручения, которые невозможно выполнить. И всякий раз Медея спасает его от смерти, помогая расправиться с огнедышащими быками, помогая сеять зубы дракона на поле Ареса, из которых рождаются — «так же, как ребенок принимает человеческие формы в материнском чреве (alvus), где срастаются воедино все части его существа и откуда он, окончательно созрев, выходит на свет Божий, дабы жить среди людей», — воины, которые тотчас берутся за оружие.
Так, благодаря Медее, Ясон получает Золотое руно. В тот момент, когда корабль готовится к отплытию, аргонавтам угрожает брат Медеи, Аскилт, и она убивает его. Она всходит на корабль; она отдалась Ясону в «порыве лихорадочного желания»; Ясон обещал жениться на ней.
Ясон возвратился в Фессалию, но Пелий отказался вернуть ему отцовский трон. Тогда Медея убедила Пелия окунуться в чан с кипящей водой, чтобы вернуть себе молодость, и он сварился заживо.
Убийство Пелия заставило Медею и Ясона бежать из Иолка. Они обосновались в Коринфе, у царя Креонта.
Царь Креонт предложил Ясону жениться на его дочери. Ясон согласился, ибо она бьша гречанкой, и изгнал Медею-чужестранку.
Медея глядит на двух своих детей, рожденных от Ясона, когда они еще любили друг друга. Ради него она предала отца, убила юного брата и погубила Пелия; она подарила ему двоих сыновей, и вот теперь он ее отвергает. Гнев душит Медею. Она входит в комнату сыновей. Одного из них зовут Мермер, другого — Ферет. Она говорит их рабу-педагогу: «Иди, приготовь для них то, что им нужно на каждый день», — зная, что вещи эти отправятся вместе с ними в подземное обиталище — могилу. Она смотрит на детей. Сейчас она их убьет. Вот он — миг живописи.
На фреске в доме Диоскуров мальчики играют в кости под присмотром раба-педагога. Медея стоит справа. Длинная, в складках, туника ниспадает от плеч к ногам. Правая рука нащупывает рукоятку кинжала, зажатого в левой. Взгляд ее прикован к детям, которые поглощены своей игрой (lusus) со всем пылом и беззаботностью их возраста; один стоит, скрестив ноги и слегка опираясь на кубической формы стол, второй сидит на том же столе. Руки обоих протянуты к костям, которыми они сами вскоре станут. Ярость Медеи спокойна. Это та самая неподвижность, то самое пугающее молчание, что служат предвестниками взрыва безумия. По-латы-ни — augmentum.
На фреске в доме Ясона дети, напротив, встречаются взглядами с матерью. Раб смотрит на Мермера и Ферета. Поведению и взгляду Медеи есть два возможных объяснения. Либо, сосредоточившись мыслями на предстоящем деянии, она колеблется между двумя противоречивыми чувствами — жалостью и местью; в ней борются мать и женщина, страх перед задуманным и яростное стремление к этому двойному детоубийству. Либо же в ней, замершей перед свершением этого кровавого акта, бушует неодолимый гнев, неодолимая жажда свирепого возмездия. Первая трактовка — из области психологии. Вторая не имеет отношения к психологии, она физиологична, трагична. Это единственно возможная интерпретация, ибо она объясняет текст, запечатленный на фресках. Ибо это — интерпретация Еврипида.
«Медея» Еврипида (431 г. до н. э.) описывает разрыв цивилизованной связи в силу страсти женщины к мужчине. Любовь превращается в ненависть, неистовое вожделение к любовнику оборачивается смертоносной яростью к семье и обнажает «омофагию», на которой греческий менталитет основывал эрос.
Страсть — это болезнь. Джекки Пижо написала глубокое исследование-диссертацию о древней медицине. В безумии, говорил Хрисипп,[1] душа поддается неистовому порыву. Ныряльщик, прыгнувший в воду, уже не может остановить свое падение. Даже бег — и тот является «безумием» движения: бегущий человек не в силах остановиться и замереть в единый миг. Аристотель говорил: люди, бросающие камни, не могут вернуть их назад. Цицерон в «Тускуланских беседах» (IV, 18) писал: «Человек, бросившийся (praecipitaverit) с вершины Левкадского мыса в море, не сможет остановиться на полпути к воде, даже если захочет». Praecipitatio — это падение головой вниз в бездну. В своем трактате «О гневе» (I, 7) Сенека Младший повторяет этот образ Цицерона — образ человека, падающего в пропасть, — и комментирует этот «смертельный прыжок» следующим образом: бросившийся вниз не только неспособен вернуться назад, но он «неспособен не попасть туда, куда мог бы не бросаться» (et non licet ео non pervenire quo non ire licuisset).
Медея — женщина, которая бросается в пропасть. Другого выхода нет и быть не может. Здесь речь не идет о корнелевском тяжком колебании, о столкновении психологических мотивов. Подобно растению или животному, безумие проходит три стадии — зарождение, цветение и смерть. Безумие — это рост; оно рождается и растет, оно становится неодолимым, оно стремится к своему концу, счастливому или несчастливому. «Безумие (insania) осознает себя (scire) не более, чем слепота (caecitas) себя видит (videre)», — пишет Апулей[2] и добавляет: «Удел всякой вещи (fatum rei) подобен бешеному потоку (violentissimus torrens), чей бег невозможно ни остановить (retinere), ни ускорить» (impelli).
Фреска наглядно выражает самый знаменитый стих античности, вложенный в уста Медеи (Еврипид, «Медея», 1079): «Я понимаю, на какое злодеяние осмелилась. Но мой thymos (жизненная сила, libido) сильнее, чем мои bouleumata (вещи, которых я хочу)».[3] Если euthumia — тайна счастья, то dysthumia — источник несчастья. Медея видит, на что она решилась; она видит, что волна желания захлестнула ее разум и грозит все унести с собой. Момент, запечатленный на фреске, нельзя назвать психологическим: героиня не разрывается между безумием и разумом. Момент этот трагичен: Медея беспомощна перед потоком, который через миг увлечет ее к действию. Момент настолько не психологичен, что Еврипид сопровождает его чисто физиологическим объяснением: все несчастье происходит от того, что внутренности Медеи — ее мозг, сердце и печень — воспалены. У Медеи слишком много того, что называется thymos. Именно так и говорит кормилица: «Что же ей делать, когда все естество ее воспалено (megalosplangchnos), когда несчастье терзает ее, не давая покоя (dyskatapaustos)?»[4] Еврипид описывает все признаки тяжкого расстройства (bareia phren), постигшего Медею: она больше не ест, избегает общества людей, дети внушают ей ужас, она плачет, не переставая, или упорно смотрит вниз, под ноги, или же взгляд ее наливается злобой, как у разъяренного быка; она глуха к человеческой речи и внимает словам близких не более, чем скала — «шуму морских волн». «Медея» Сенеки еще точнее. Его пьеса не только концентрирует все действие, на римский манер, на финальном моменте, но идет дальше: в конце трагедии Медея объявляет, что вспорет себе чрево кинжалом, дабы убедиться, что в нем не растет третье дитя от Ясона; таким трагическим приемом показывается, какова причина ее ярости (воспаленные внутренности), какова причина ее любви (вожделение, неуемная плотская страсть, которую она доказала своими предьгдущими поступками) и, наконец, каковы плоды этой страсти (ребенок во чреве). Великолепны два стиха, передающие это состояние («Медея», 1012 и 1013): «In matre si quod pignus etiamnunc latet, scrutabor ense viscera et ferro extraham» (Если еще один залог любви остался скрытым во чреве матери, я рассеку это чрево кинжалом и выброшу зародыш прочь). Медея вновь и вновь перебирает три причины своего несчастья, которые будут разрастаться в ее смятенной душе до тех пор, пока не приведут к акту убийства; этим актом ее «внутренности» отомстят ее лону (vulva), погубив плоды, извергнутые ею на свет Божий, — маленького Мермера и маленького Ферета.
Медея Сенеки сможет наконец сказать: «Medea nunc sum» (Отныне я — Медея) и объяснит это так: «Saevit infelix amor» (Несчастливая любовь порождает безумие). Индивидуальный конфликт между тем, чего желает человек, и тем, чего он хочет, отсутствует. Но существует естественный океан, прорывающий плотину и возносящий все тела, изображенные на фреске, на гребень растущей волны неистовства (чей пик — augmentum). «Я не знаю, что моя одичалая душа решила в глубине меня» (Nescio quid ferox decrevit animus intus). «Медея» Сенеки Младшего помогает нам понять, что означает для римлянина Венера «пассионария» (страстная). В ней неразличимо смешались ira, dolor, furor и amor. Более того, ее болезни и страсти сливаются воедино и кружатся в бешеной вакханалии Гадеса.
Каков взгляд Медеи furiosa? Застывший, не то зачарованный не то отупевший; эти бессмысленные глаза напоминают глаза быка — разъяренные, скошенные, они говорят о неистовом безумии (furor) так же ясно, как лихорадочный взгляд Венеры — о любви (amor). Второй признак состоит в затрудненности мысли. Латинское mentes соответствует греческому phrenes. Phrenitis — это, в первую очередь, затрудненная мысль. Ее латинский аналог — difficultas — предваряет потерю осознания самого себя (anaisthesia), которую римляне называли furor. Другими словами, неподвижный, застывший взгляд предшествует буре, взрыву, во время которого впавший в неистовство человек словно галлюцинирует, но не видит совершаемого им действия, совершаемого преступления, не видит даже и собственной галлюцинации. Его взгляд оцепенело устремлен в пространство. Он видит нечто иное. У Плиния колдуны зовутся fascinantes. Агава, убивающая собственного сына, видит перед собою не его, а льва.[5] Цицерон использует поразительное выражение, когда говорит, что у помраченного рассудка «все окна завешены» («Тускуланские беседы», I, 146). После этого взрыва (augmentum) взгляд проясняется до такой степени, что, например, герой Эдип вырывает себе глаза: окна его рассудка, широко распахнувшись, явили ему содеянное. Безумие само исцеляется в акте безумия, стоит лишь безумцу признать в совершенном деянии свою руку. У древних всякий эксцесс мысли (всякое неистовство в том, что называется phren) имел границы, на которые этот эксцесс (augmentum) наталкивался и, натолкнувшись, отступал. Акт бешенства — это не что иное, как высшая, кульминационная точка, за которой следуют спад и умиротворение.
Свершив убийство детей, Медея бежит в Афины. Там она вступает в брак с Эгеем и рождает ему сына Меда, которого любит так горячо, что помогает ему убить Перса, чтобы завладеть его царством.[6]
Посидоний[7] говорил, что всякая болезнь, подобно растению, имеет завязь (sperma) и цветок. На фреске представлен как раз «цветок» страсти, которая сгущена здесь до предела, — еще немного, и она выльется в «миг смерти». Гораций пользовался глаголом «срывать», имея в виду, что нужно вырывать у земли «цветок» каждого мгновения. Овидий говорил, что у зрелой женщины сладострастие подобно спелому плоду; так же и в случае с Медеей: момент, запечатленный на фреске, — это furor — пик ее зрелости (maturus).
Вот почему искусство древних всегда считало себя терапевтическим, очищающим средством (несущим катарсис). Оно представляло некий симптом, изолировало его и изгоняло из общества, как pharmakos, как козла отпущения. Поэтому не будем говорить об эстетике древних — это скорее этика. Сравним древнюю Медею с современной. Старинные фрески описывают сконцентрированное созревание, в котором нет ровно ничего драматического: они показывают миг, подводящий итог этой трагедии, и ни в коем случае не раскрывают ее конец. В нашу эпоху Медею написал Делакруа. В 1855 году Теофиль Готье познакомился с картиной, сформулировал ее эстетику и самым решительным образом противопоставил ее (как бы он ни утверждал обратное) духу античной живописи: «Разъяренная Медея Делакруа написана с пылом, энтузиазмом и щедростью красок, которые одобрил бы сам Рубенс. Жест львицы, собирающей возле себя детенышей, которым Медея удерживает напуганных детей, — великолепное изобретение художника. Ее лицо, наполовину скрытое тенью, напоминает о том змеином выражении, которое мадемуазель Рашель столь великолепно демонстрирует в самых «свирепых» местах своих ролей; не походя на головы мраморных или глиняных изваяний, оно вьглядит тем не менее поистине античным. Ее дети, напуганные, плачущие, не понимая, что происходит, но угадывая, что их ждет что-то ужасное, рвутся прочь из-под руки матери, уже сжимающей кинжал. От судорожных стараний высвободиться их коротенькие туники задрались, обнажив детские тела свежих розовых тонов, которые составляют резкий контраст с синеватой, опять-таки змеиной бледностью матери». Итак, в Париже важны жесты, в Риме — взгляды. В Париже дети волнуются, плачут, сопротивляются. В Риме они играют, полностью поглощенные этим занятием. В Париже ситуацию выражает истеричная Медея. В Риме Медея, погруженная в мстительную ярость, больше размышляет о ней, чем действует. В Париже изображен сам акт убийства. В Риме — момент, ему предшествующий. И не только один этот предшествующий миг, но и весь текст Еврипида в целом сконцентрирован в одном мгновении, которое замерло, не говоря о том, чем собирается стать.
В Париже — эффектный оперный вопль. В Риме — пугающее безмолвие (obstupefactus).
Римляне увидели прекрасный сюжет именно в этом жутком размышлении Медеи, оскорбленной Ясоном и напуганной собственным неотвратимым стремлением убить Мермера и Ферета в тот самый миг, когда они играют. Весь античный мир восхищался Медеей, написанной Тимомахом.[8] Цезарь счел картину столь прекрасной, что купил ее, оплатив золотом. Весь античный мир в один голос превозносил глаза Медеи. Этот взгляд и впрямь истинное чудо. Веки воспалены. Гнев подчеркнут нахмуренными бровями. Жалость — в блеснувшей влаге. Авзоний писал: «В картине, написанной Тимомахом, угроза выражается в слезах (ira subest lacrimis); в руке поблескивает кинжал, еще не обагренный кровью ее сыновей» (probis sanguine ne maculet). Авзоний добавляет: «Кисть Тимомаха причиняет боль так же, как кинжал, что сжимает в левой руке Медея, встретившаяся взглядом с Мермером и Феретом».
Апулей также создал свою Медею или, по крайней мере, ludibrium о Медее. Эта удивительная Медея, отделяющая смерть детей от мщения, связывает сцену первого соития с рождением еще более конкретным образом, чем внутренности, вспоротые кинжалом Медеи в пьесе Сенеки.
Близится вечер; герой, утомленный долгим путешествием, входит в банное заведение. Там он встречает своего старого друга Сократа, сидящего на полу, бледного, худого, как скелет, похожего на нищего, что с протянутой рукой выпрашивает stips. Рассказчик подходит к нему и здоровается. Тотчас Сократ прикрывает полою заплатанного плаща багровое от стыда лицо, обнажив тело от пупка до лобка (ab umbilico pube). Рассказчик заставляет Сократа встать, тащит его в баню, скребет, отмывает, одевает в одну из своих двух туник, затем ведет на постоялый двор. Сократ рассказывает ему о волшебнице Мероэ, о ее ненасытном — как у знаменитой Медеи (ut illa Medea) — вожделении, о ее чудесах: она может превратить мужчину в бобра, в лягушку, в барана. Наконец герой и Сократ засыпают; внезапно дверь, сорванная с петель, с грохотом падает внутрь комнаты. Кровать (grabatulus) героя переворачивается и накрывает его.
Лежа на полу под кроватью, рассказчик выглядывает оттуда И видит двух старух; одна держит в руке горящую лампу (lucernam lucidam), другая — губку и обнаженный кинжал. Эта последняя и есть Мероэ; она направляется к Сократу, подруге же своей знаком указывает на человека под кроватью. Вторая колдунья, по имени
Пантия, предлагает разорвать его на части, как делают вакханки (baccchatim), или же связав по рукам и ногам, оскопить (virilia desecamus). Но Мероэ не слушает Пантию; она вонзает кинжал по самую рукоять в левый бок Сократа, собирает его кровь в бурдюк, засовывает правую руку в рану (imnussa dextera per vulnus), копается в его внутренностях (ad viscera) и извлекает сердце. Пантия тотчас затыкает зияющую рану губкой, со словами: «Губка-губка, ты родилась в море, берегись же переходить реку!» Перед тем как покинуть комнату, они поднимают кровать, под которой прячется рассказчик, и, присев на корточки над его головой, справляют малую нужду, залив его вонючей мочой (super faciem meam residentes vesicam exonerant quoad me urinae spurcissimae madore perluerent).
Далее герой пишет: «Я так и остался валяться на полу (humi projectus), полуживой (inanimis), голый (nudus), озябший (frigidus), залитый мочой (lotio perlutus), словно младенец, только-только покинувший материнское чрево» (quasi recens utero matris editus).
Апулей не останавливается на этом, множа и множа сравнения: «Более того, я был полумертв (semimortus). Более того, я пережил самого себя (supervivens), и продолжение моего «я» (postumus) во всех отношениях было «кандидатом» на уже воздвигнутый крест» (destinatae jam cruci).
Ученые и переводчики не могут дать верного толкования этой последней фразе Апулея («Метаморфозы», I, 14, 2). Возможно, они напрасно модифицируют текст. Этот последний предлагает три образа: младенец, залитый мочой, который только что вышел (editus) из чрева матери и голым выброшен на пол; полумертвый мужчина и, наконец, восставший после смерти человек, одетый в белый хитон или, по крайней мере, «кандидат» на воздвигнутый «рабский» крест (это, без сомнения, кара за то, что он зарезал своего друга Сократа, спавшего рядом с ним в комнате на постоялом дворе).
Мы ограничены двумя неизвестными — сценой первого соития и мигом смерти. Эти две невидимые величины терзают нас и внезапно сливаются воедино. Пифагор писал, что все души «безумны отроду по причине рождения».[9] Мне довелось комментировать отрывок 21 из Анаксагора, который гласит: «Opsis adelon ta phainomena» (Феномены суть видимая сторона неизвестных вещей). Гиппократ («О диете», I, 12) объяснял это так: «Через то, что видимо, человек познает невидимое. Через настоящее он узнает будущее. Через мертвое узнает он живое. Мужчина, совокупившись с женщиной, производит на свет ребенка. По тому, что он видит, он узнает, как выглядит невидимое. Человеческий разум (gnome anthropou), будучи сам невидим (aphanes), знает то, что видимо (ta phanera), и переходит от ребенка (ek paidos) к взрослому (es andra). Через настоящее узнает он грядущее». Этот текст труден для понимания. Гиппократ «видит» в сцене зачатия черты ребенка у самца, совокупляющегося с самкой (или в чертах обоих любовников, что сливают воедино свои черты во время любовных объятий?). Вот фраза Сенеки Младшего: «Natus est» (Он родился), которую он тут же продолжает: «Morti natus est» (Человек рождается для смерти).[10] Рождение — это конец коитуса. Рождение — наслаждение, которое умирает.
ГЛАВА IX ПАСИФАЯ И АПУЛЕЙ
В течение многих веков Италия была Амазонией средиземноморского мира. В те времена на италийской земле росли не апельсиновые, лимонные или оливковые деревья, а дубы и буки, гигантскими размерами которых восхищались греки: леса Бриттиума кишели дичью, дремучие чащи Беневенте остановили солдат Пирра, в необъятных дубовых рощах приалъпийской Галлии водились целые стада кабанов и полудиких, пока еще серошерстых свиней, на опушках росли вязы и каштаны. Все эти леса ныне бесследно исчезли. Остались только легенды и имена, рассказывающие о древнем мире первых римлян — волчица-тотем, названия римских холмов — Виминал, Кверкветал, Фагутал;[1] великое множество кабанов, волков, медведей, оленей, косуль, баранов населяло некогда эти края. Римская история кажется проникнутой одной всеобъемлющей страстью — войной; однако война была для древних римлян не чем иным, как особым видом охоты; все малочисленные пастушьи племена, составлявшие древнее население Италии, занимались и охотой — охотой с пращой, метательной дубинкой, палицей, рогатиной, сетью. И лишь много позже род Сципионов, а затем римские императоры переняли у восточных народов и македонцев конную охоту с гончими. Римская аристократия уделяла куда больше времени сельскому хозяйству и охоте в лесах, нежели заседаниям в Сенате. Имитация охот в амфитеатрах во время всенародных игр (lusus) в первую очередь преследовала цель напомнить людям об охоте — на зверей или на людей, — которой положила конец городская жизнь. Эти церемонии пробуждали ностальгию по прежнему существованию.
В нас еще не окончательно умерло животное начало. Мы родились животными, и от этого человечество еще не освободилось, как бы оно этого ни хотело, невзирая на все упования его представителей на законы, издаваемые городами во имя искоренения «звериной» жестокости. Рим снова вверг Грецию в животное состояние в то, что сами греки скорее назвали бы Египтом рода человеческого и что современные люди определяют как «бессознательное». Этот сравнительно новый термин означает животное начало, имеющее продолжение, а также вторичное возвращение в тело посредством снов, наблюдающееся у теплокровных. Римляне представляли животное начало, возрождая мифы, возвращая им «животные» формы, от которых отказались греки. «Метаморфозы» Овидия являются универсальным описанием этого антропоморфоза, столь хрупкого и пугающего, который наделял человечество минимумом человеческих черт. Великие римские романы Петрония и Апулея ясно выражают этот страх. Примером тому — слова умирающей Дидоны: «Стало быть, мне уже не суждено насладиться, вне цепей брака, безгрешной (sine crimine) любовью, какую знают дикие звери (more ferae). О нет, я не смогла бы хранить верность, обещанную праху Сихея!» (Вергилий, «Энеида», IV, 550). Марциал говорил: «Mentiri non didicere ferae» (Дикие звери лгать не умеют).[2] Вот легенда о Пасифае: супруга Миноса, царица Крита, влюбляется в божественного быка, подаренного царю Посейдоном. Пасифая отправляется к «изобретателю» Дедалу. Она просит его сделать искусственную телку, в которой она могла бы поместиться так, чтобы бык обманулся и совокупился с нею. Тогда Пасифая познает сладострастие животных (ferinas voluptates), не дозволенные людям желания (libidines illicitae). Телка Пасифаи — троянский конь вожделения.
Апулей был африканцем, он родился в нумидийском городе Мадоре в 124 году. Позже он стал чтецом в Карфагене. Он женился на богатой вдове Пудентилле, у которой было двое сыновей от первого брака. В 158 году Сициний Эмилиан, брат первого мужа Пудентиллы, воспользовавшись приездом в Африку проконсула Клавдия Максима, обвинил Апулея (от имени своего племянника Сициния Пуденса) в колдовстве, да еще вдобавок и в присвоении наследства. Адвокат Танноний составил обвинительный акт, из коего следовало, что философ-платоник Апулей в действительности — маг (magus), околдовавший тело и душу Пудентиллы. Рабы засвидетельствовали, что видели, как Апулей поклоняется непристойным статуэткам, накрытым платком (sudariolo), что он любит зеркала и гипнотизирует маленьких мальчиков. Апулей написал свою «Апологию» и представил ее проконсулу в Сабрате. Кроме того, он предъявил ему письмо своей супруги и доказал, что не думал гипнотизировать малолетних рабов, а занимался изготовлением пасты для зубов (dentifricium).
Клавдий Максим очистил Апулея от обвинений в колдовстве; тем не менее этот судебный процесс круто изменил жизнь Апулея и наложил отпечаток на его творчество. Он покинул Эю, где жил со своей супругой Пудентиллой на роскошной вилле, рядом с морем, и поселился с нею в Карфагене. Пудентилла родила ему сына, они назвали мальчика Фаустином. Этот затеянный Сицинием Эмилианом первый в римской античной истории судебный процесс с обвинением в колдовстве, вчиненным Таннонием, лежит в основе легенды о Фаусте.
Апулей написал один из величайших романов в мире — «Метаморфозы» в одиннадцати книгах. Позднее, также в Карфагене, другой африканец, Августин, процитировал это произведение под другим названием — «Asinus aureus» («Золотой осел») и окончательно утвердил репутацию его автора как посланника дьявола.
Сюжет «Метаморфоз» Апулея, повторяющий сюжет удивительного, совсем коротенького романа о греке Лукие,[3] таков: человек, которого вожделение превращает в зверя, хочет вновь стать человеком. С точки зрения греческого менталитета это можно выразить иначе: за внезапным териоморфозом следует бесконечный, длиною в жизнь, антропоморфоз. Рассказчик, герой романа, пускается на поиски волшебницы. Он хочет превратиться в птицу, но вместо того становится ослом. Другими словами, он хочет быть Эросом, а становится Приапом. Фирмиан Лактанций («Божественные установления», I, 21) рассказывает о том, как однажды Приап соперничал с ослом. Но mentula осла оказалась длиннее вечного фасцинуса бога. Тогда Приап убил осла, чей воздетый фаллос даже не успел сникнуть, и приказал смертным отныне приносить ему в жертву ослов.
Превращенный в осла рассказчик прячется в стойле. Туда забираются воры. Они уводят осла с собой, погрузив на него свою добычу. Переходя из рук в руки, осел переходит от одной истории к другой. Он попадает к жрецам Кибелы и становится свидетелем их irrumatio (фелляций). Он попадает к Тиазу, патрицию из Коринфа. Одна матрона, весьма знатная и богатая (matrona quaedam pollens et opulens), проникается безумной страстью к его фасцинусу. Она предлагает сторожу осла крупную сумму, чтобы он позволил еи провести ночь с животным. Она приказывает расстелить на полу ковер и разбросать пуховые подушки, зажигает восковые свечи, снимает с себя всю одежду, «включая повязку (taenia), что стягивала ее прекрасные груди». Она приближается к ослу с оловянным флаконом, наполненным ароматным маслом. Она умащает его маслом, нашептывая при этом: «Я люблю тебя» (Amo), «Я желаю тебя» (Cupio), «Я буду ласкать лишь тебя» (Те solum diligo), «Я не могу жить без тебя» (Sine te jam vivere nequeo); затем ложится под осла и введя в себя его огромный напряженный фасцинус, наслаждается им вовсю.
Тиаз узнает об эротических достоинствах своего осла. Он щедро платит сторожу. Он решает показать его как ludibrium на играх которые устраивает для публики, сразу после живых картин, представляющих «Суд Париса». Нашего героя приводят в амфитеатр где ему предстоит коитус с преступницей, осужденной на растерзание дикими зверями, на глазах у зрителей. Он убегает с арены и оказывается на Сенкрейском берегу; там ночная богиня велит ему явиться на завтрашний праздник, ему посвященный. Осел приходил на праздник, жует там лепестки роз (цветы Венеры и цветы бога Liber Pater) и вновь становится человеком. Он оканчивает свои дни в Риме, на Марсовом поле, жрецом богини Исиды.
Волчья маска Ферсу стала атрибутом этрусских игр (lusi). Человек держит на сворке волка, который кидается на другого человека, в наброшенном на голову мешке. Смерть — это некто в волчьей маске, набрасывающий на живых покров вечного мрака. «Игра» — это мизансцена praedatio, так же как поэма об Одиссее — мизансцена похищения. Овидий пишет («Метаморфозы», I, 533): «Так мужчина преследует женщину. Так бог преследует нимфу. Так, увидев зайца (leporem) в открытом поле, галльский пес (canis Gallicus) мчится за своей добычей (praedam). А добыча мчится за своим спасением (salutem). Пес уже почти нагнал зайца, вот-вот схватит его. Он уже касается его вытянутой мордой. Он уже «наступает ему на пятки». Заяц видит, что пойман. Но в тот миг, когда собачьи клыки уже готовы впиться в него, он прыгает в сторону и ускользает от своего преследователя. Так мчится Аполлон, подгоняемый надеждой. Так мчится Дафна, подгоняемая ужасом. Amor придает Аполлону крылья. Он уже почти касается плеча беглянки. Его дыхание овевает ее разметавшиеся волосы. Она бледнеет». На фресках мы часто видим этот миг самой погони за добычей. Это миг метаморфозы (а не превращения в лавр). Это рассказ охотника. Это единственный глаз прицелившегося стрелка, который резко выпускает стрелу, чей смертоносный свист сливается с падением пораженной добычи. Римский глагол «exitare» сначала бьш чисто техническим термином, означавшим крик, которым собак посьшали поднимать дичь и безжалостно гнать и преследовать ее. Но затем люди стали пользоваться этим глаголом для самих себя, став, таким образом, на одну доску с теми самыми волками, которых приручали с целью увеличить количество добычи. Человек чувствует, что желание преследует его подобно свирепому волку.
Глагол «exitare» долго еще бьл охотничьим термином. У Петрония рассказчик ищет старую колдунью, чтобы она излечила его от бессилия (languor). Старуха начинает с того, что вытягивает из-за пазухи длинные спутанные нити, которыми обвязывает ему шею. Затем она скатывает, с помощью слюны, шарик из пыли, кладет его себе на средний палец и помечает лоб своего пациента. И наконец, она заводит волшебную песнь (cairaine), а ему приказывает бросать ей в грудь мелкие заколдованные (praecantatos) камешки, окрашенные пурпуром; одновременно она растирает пальцами мужской орган рассказчика. «Проворней, чем вылетает из уст слово (dicto citius), сей орган (nervus) заполнил обе ладони старухи, мощным рывком взметнувшись кверху (ingenti motu). Взгляни, воскликнула колдунья, какого зайца (leporem) я подняла тебе (exitavi)!»
В древней Италии существовало три чисто национальных вида охоты: ловля зайцев сетью, ловля оленя на чучело (formido) и ловля кабана — с рогатиной. Охота — это непрерывный переход от животного начала к человеческому. Аретуза у Овидия говорит: «Женщина — это заяц, забившийся под куст, видящий злобные морды псов и не смеющий шелохнуться» (lepori qui vepre latens hostilia cernit ora canum nullosque audet dare corpore motus).[4] Именно во время охоты Нарцисс, отвлекшись от преследования зверя, положил копье и, нагнувшись над коварным ручьем, сделал добычей собственное лицо. Когда Лукреций описывает свои сны,[5] он неуклонно прибегает к образу ложного преследования воображаемого оленя: гончие с оглушительным лаем мчатся по следу, сея вокруг Дикий страх смерти. Ему нравятся такие сны. В Риме, наряду с главным охотничьим глаголом «exitare», существовал еще и другой — «debellare». Debellare — значит укротить, подчинить, доминировать, любить, навязать свою волю. Имитированная охота на зверя и охота на человека — в этом весь Рим. Любовь и игры на арене неразделимы, как свидетельствует рассказ матроны из Коринфа. Сулла питал страсть к Актеону. Август приказывал молодым патрициям и простым горожанам выходить на арены, подобно бестиариям. Светоний пишет, что Август был первым, кто устраивал представления из одних «охот».[6] Благодаря уловкам Граттия[7] первый "император» (принцепс) окончательно объединил для римлян охоту и войну, озабоченный, вероятно, тем, что гражданские войны, в течение столетия разорявшие города, окончательно опустошили их и желая, чтобы люди, пришедшие на покинутые земли, утолили свою жестокость в войнах с животными, уничтожая зверей, а не людей, и леса, а не города.
В опасной борьбе против дикого зверя горожанин пытается вновь ощутить в себе свирепость (duritia) варвара, неудержимую жестокость (duri venatores) первобытного племени, дикарский порыв и близкую опасность смерти, делающую его героем. Более того, набор высших добродетелей, свойственных охотнику, предписывает определенную роль и повелителю. Всякий император — это Геракл, убивающий чудовищ. Всякий монарх, даже миролюбивый (eirenikos), должен быть воином-вождем своего народа, бесстрашным, дерзким и стойким. Даже развлечения правителя должны походить на подготовку к войне. Охота предваряет войну и религию, поскольку является источником их обеих (уничтожения «другого» и жертвоприношения всем миром).
Virtus означает «способный к победе». Обладать тем, что зовется virtus, значит обладать разрушительной силой, победоносным духом (Genius). Virtus доказывается непобедимостью (felicitas). Добродетельный (virtus) император — это император — повелитель диких зверей. Вот почему он обязан непрерывно совершенствовать свою virtus, множить победы (victoria) на представлениях в амфитеатрах, соединяя в них свою силу (vis), храбрость (fortitudo) и сексуальную мощь (fascinus).
Именно поэтому в Риме страсть к охоте породила вкус к «животному» (скотоложству). Скотоложством называют коитус человека с животными. Император Тиберий был императором-«козлом», Нерон — императором-«львом». Первый прославился анахорезом и куннилингвусом. Второй — актерством и тем, что называется impudicitia. Напомню римский смысл французского слова «pudique» — тот, кто не подвергся содомии. Светоний сопровождает свой портрет Нерона следующим замечанием: «По свидетельству многих людей, Нерон был абсолютно убежден (persuasissimum) в том, что ни один человек в мире не привержен стыдливости и не сохраняет непорочной хотя бы одну какую-нибудь часть своего тела (neminem hominem pudicum aut ulla corporis parte purum esse), но что большинство из нас скрывают это (dissimulare)».[8]
Тиберий говорил: «Cotidie perire sentio!»(Я чувствую, что погибаю каждый день!).[9] Нерон говорил: «Quam vellem nescire litteras!» (Я хотел бы не уметь писать!).[10] Нерон утверждал, что достиг бессловесности животных. Император стремился сделать из «животности" нечто вроде театра. Так три источника поддерживают друг друга. Светоний пишет («Жизнь двенадцати цезарей», XXIX, 1): "Нерон отвергал стыдливость до такой степени, что осквернил все части своего тела и, наконец, изобрел новый вид игры (lusus): надевши шкуру дикого зверя (ferae pelle contectus), он выскакивал из клетки (cavea), бросался на обнаженных мужчин и женщин, привязанных к столбам (stipidem), и, вволю утолив свое любострастие, шел развлекаться со своим любимцем, вольноотпущенником Дорифором».
А вот как пишет об этом Дион Кассий («Римская история», LXIII, 13): «По его приказу девушек и юношей, совершенно обнаженных (gumnas), привязывали к деревянным крестам (staurois); сам же он, накинув на себя звериную шкуру (doran theriou), кидался на них и бесстыдно ублажал себя, облизываясь при этом, словно ел что-то лакомое» (osper esthion).
Послушаем теперь Аврелия Виктора («De Caesaribus», V,7): «Он велел связывать попарно, точно преступников, мужчин и женщин, затем, обрядившись в звериную шкуру, зарывался лицом в гениталии тех и других (utrique sexui genitalia vultu contrectabat) и своими, в высшей степени бесстыдными действиями побуждал эти пары к самым извращенным (exator) мерзостям».
Эти садистские сцены имитации скотоложства и впрямь свидетельствуют о театральной постановке: столб, клетка, звериная шкура, нападение. Нерон-актер играл рожающую Канаку.[11] Играл Ореста, убивающего мать. Играл ослепляющего себя Эдипа. Играл разъяренного Геракла. При этом он всегда прятал лицо под масками, воспроизводившими его же собственные черты (personis effectis ad similitudinem oris sui). Театр, lusus, фреска, сексуальный анекдот — все это тесно связано с моментами смерти. Нерон носил на правом запястье (dextro branchio) браслет из змеиной кожи и, ложась в постель, клал его себе под подушку (cervicalia), считая, что это помогает заснуть. Возможно, подобная примечательная мизансцена — император Нерон, преображенный в дикого зверя, — частично отражала мифический ритуал, когда-то понравившийся ему. В таком случае эта игра относится к пребыванию в Риме Тиридата в 66 году.[12] Светоний пишет, что Нерон и до того проявлял большой интерес к восточным культам Кибелы и Атаргаты.[13] Вероятно, сексуальный миф пробудил в его памяти — в юлианском (венерианском) понимании — сцену, столь же мистическую, но иного рода: когда Юпитер, обратившись в льва, должен был очищать своих новых адептов огнем.
ГЛАВА X БЫК И НЫРЯЛЬЩИК
Софокл-Трагик прожил до восьмидесяти девяти лет. В конце жизни он утверждал, что «чрезмерно счастлив», утратив плотское вожделение благодаря почтенному возрасту, ибо тем самым «избавился от свирепого и дикого господина» (luttonta kai agrion despoten). В первой книге «Государства» (329-с) Кефал восхваляет эти слова Софокла.
Сексуальное желание — это всплеск животного начала в человеке. Это «собака, бык, проснувшиеся в нас». То, что человек подражает в коитусе совокуплениям быков с телками, волков с волчицами, кобелей с суками, хряков со свиньями, — вполне допустимо. То, что он обращает взгляд на животных, чье сходство с ним идет от общего начала, также неизбежно и, можно сказать, более соответствует пылкости полового акта, нежели самому акту. По сравнению с другими народами римляне оставили много больше следов этого ступора и изображений подобных метаморфоз, которые представляют нам нашу суть еще доподлиннее, чем мы сами видим себя в быке или в волке.
Так называемая гробница Быков в Тарквиниях относится к 540 г. до н. э. Она принадлежала роду Спуринна. На фреске, занимающей среднюю стену в глубине погребальной камеры, изображены вместе: бык, готовый к случке, две эротические группы людей и сцена из троянских преданий. Художник намеренно смешал в одной и той же красной цветовой гамме, в одной и той же грубо-экспрессивной манере человеческую сексуальность, животное возбуждение и ловушку, грозящую смертью воину.
Бык, готовый к случке, соседствует со сценой, предшествующей гибели Троила. Слева, за водоемом, притаился Ахилл. Справа, на коне, приближается Троил. Их разделяет красная пальма в центре. Слова «пальма» и «красный» переводятся на греческий язык
одинаково — phoinix. Кровь и смерть слиты воедино, так же как вскоре, в один и тот же день, соединятся в смерти Троил и Ахилл, как едины эрос быка и эрос человека, как едины губительная неизбежность ловушки и эротическая, божественная монументальность божественного, возбужденного Быка, бросающегося на любовников.
«Илиада» относится к VIII в. до н. э. В «Илиаде» Гомер упоминает Troilon hippocharmen (XXIV, 257). Так говорит о своем сыне царь Приам. Это прилагательное трудно переводимо: оно имеет отношение и к военной колеснице, и к радости конного боя. Оракул предсказал, что враги не возьмут Трою, если Троил доживет до двадцати лет. Однажды вечером, когда мальчик Троил привел коней к водоему у Скейских ворот, Ахилл, сидевший там в засаде, напал на него и убил.
На фреске красное закатное солнце под ногами коня указывает час, когда, согласно Киприям, был убит юный Троил.
По другой версии, Ахилл спрятался за водоемом, где Троил поил коней, потому что был влюблен в него. Ахилл выбегает из своего укрытия. Троил тотчас бросается прочь. Ахилл преследует его. Троил находит убежище в храме Аполлона Тимбреанского. Близится ночь. Ахилл умоляет мальчика выйти. Троил отказывается. И тогда Ахилл пронзает его копьем прямо в святилище.
Нельзя недооценивать доречевого и дочеловеческого факторов, в сравнении с которыми то, что греки называли logos, а римляне — ratio, и то, что и греки и римляне называли ego, — всего лишь жалкие мухи на спине коня. Притом мухи — носительницы весьма странных вирусов. Нельзя также недооценивать пралатинскую и греческую цивилизации, иначе будет трудно выявить в этих источниках функцию, отводимую древними римлянами настенной живописи. Я исследую явление, называемое antiquus rigor. Говоря об antiquus rigor, Тацит напоминает, что для римлянина rigor (жестокость, твердость) предшествовала красоте, и указывает то место, где жестокость и твердость тесно слиты: мужской или бычий член, который возбуждение заставляет напрячься и застыть в такой позиции.[1]
Нам никогда не узнать смысла фаллических символов на древних гробницах, понятного тем, кто их строил и украшал. Может быть, водоем, к которому направляется Троил на коне и за которым прячется Ахилл, имеет самое прямое, непосредственное истолкование. Дать испить глоток жизни сожженным или погребенным мертвецам, чтобы удержать их в этом подземном обиталище; обезопасить себя от злонесущей зависти теней, остановив их мстительный возврат на землю с помощью изображения на стене склепа, — таков, может быть, смысл «ловушки», которую гробницы готовят усопшим. А может быть, гомосексуальные сцены, окружающие возбужденного быка, задуманы с целью обеспечить погребенным если не продолжение жизни или воскресение, то хотя бы общество живых, объятых пароксизмом страсти в мрачном могильном безмолвии.
Идея смерти обостряет лихорадочную жажду жизни. Однако мысль о наслаждении неодолимо влечет рассудок к тайне его происхождения — которое в конечном счете есть бог, еще более непознаваемый, чем смерть.
Древние этруски всегда тесно связывали желание и смерть. Откуда две эти версии мифа о Троиле, одна прямо эротическая (юный воин Ахилл, возжелавший изнасиловать и убивший юного воина Троила, что укрылся в святилище), другая прямо смертельная (воин Ахилл, убивающий из засады воина Троила)? Почему художник поместил гомосексуальную сцену прямо перед возбужденным быком, прямо над этим эпизодом Троянской войны? Что связывает смертельную ловушку с анальным коитусом? Гомер в «Илиаде» (XIII, 291; XVII, 228) пользуется словом oarystus (любовное свидание),[2] чтобы описать смертельную схватку воинов. Когда Гектор, старший брат Троила, слышит мольбы отца и матери, призывающих его вернуться назад, за надежные стены Трои, он спрашивает, как ему поступить, свое сердце. Он борется с искушением снять щит и шлем, отбросить оружие, выйти навстречу Ахиллу и отдать ему Елену и все сокровища Трои, но внезапно его удерживает, согласно Гомеру, мысль о том, что он «будет нагим, подобно женщине», и Ахилл убьет его точно так же, как убил Троила. У Гомера глагол meignumi, означающий коитус, имеет еще и второй смысл — схватка. «Подчинить себе женщину» у него означает то же, что «предать смерти врага». И Эрос и Танатос обладают этой способностью — укрощать, подчинять себе пассивную наготу, переносить человека в другой domus; словом, и тот и другой «ломают ему хребет».
Первый наш domus — чрево женщины. Второй — это domus, в котором мужчина берет женщину, дабы воспроизвести себя и воспроизвести domus. Третий и последний domus — могила.
Человек укоренен в своем желании, как зародыш — во чреве матери, как фасцинус — в женской vagina, как зрелый человек укоренен в своем историческом детстве, как его онтогенез укоренен в филогенезе, как жизнь укоренена в своей принадлежности ко Вселенной, к временам года, к сердечным ритмам, к морским приливам, к звездам, мерцающим в пустоте.
Почему же фреска из Тарквиний являет нам образ коитуса «а tergo"? Побежденный Троил уступает насилию. Это слабость, любящая насилие. По-латыни — obsequium, уступающий dominatio (раб, отдающийся господину). Эта односторонняя связь-подчинение подразумевает не столько покорность раба господину, сколько зависимость сына (infans) от отца, называемую pietas. И это нельзя назвать садизмом богов в небесах, тиранов в империях или отцов в семьях. Это сами творения господни призывают творца. Это сами подданные жаждут эгиды повелителя. Это сами дети жаждут власти отцов, как жены жаждут супругов, верующие — религии, а невротики — продления оргазма. Как новоявленные Отцы жаждут презрения императора Тиберия.
Отчего praedicator смотрит не прямо перед собой, на возбужденного быка, а назад?
Этого мы никогда не узнаем. Это останется для нас тайной.
Отчего поглядел назад Орфей? В сцене зачатия хочется представить самое начало сюжета; так снайпер должен увидеть свою жертву, чтобы выстрелить; так наблюдатель ощупывает то, что видят его глаза. Ибо мы существуем оттого, что они совокуплялись. Множественному числу в прошедшем времени отвечает ego в настоящем. «То, что сзади», запечатлевается в глазах оглянувшегося так же, как прошлое живет в нынешнем.
Сцена зачатия невидима, недоступна. К ней никому нет доступа, ибо десять лунных месяцев навсегда отгораживают нас от нее. Ни один человек не может услышать крик, раздавшийся в то мгновение, когда изверглось семя, породившее его на свет. Пока звучит этот крик, этим семенем еще распоряжается капризный случай. Невидимая сцена всегда выдумана. Она складывается нами из разрозненных, индивидуализированных элементов, которые следуют за ней, а не до нее. Она — то, что придает форму бесформенному, образ — невообразимому, представление — непредставимому, явленному нам или обретшему материальную форму еще до начала, еще до зачатия, еще до рождения (ибо с течением времени для человека понятия коитуса, зачатия, происхождения и рождения разделились).
Размышление человека по поводу своего происхождения смешивается с потрясением, пережитым от коитуса, ставшего причиной его появления на свет. Сексуальное не может быть написано в настоящем времени. Сексуальное не знает ничего настоящего, даже и нас самих. Сексуальное относится к абсолютному прошлому. Сексуальное аористично. Sum — следовательно, Coitabant. Как сексуален сон, так и эта сцена, терзающая воображение человечества, видится ему, как сон; ибо сон — единственное спонтанное «одушевленное представление» о происхождении человека, которым располагает человек. Вот отчего оно в конце концов породило новый вид искусства — кинематографию. Кино, это техническое изобретение, разом утолило ожидание человека — древнее, универсальное, индивидуальное, ночное ожидание. Эпикур говорил, что боги в непре-. рывном дожде небесных атомов — это фигуры, чей атомный состав непрерывно обновляется, что и объясняет их прозрачность и способность к мгновенным трансформациям. Цицерон утверждал, в насмешку над эпикурейцами, что плоть их богов состоит из «каскада капелек». Лукреций писал в своем труде «О природе вещей» (IV 768): «Не следует дивиться тому, что видения (simulacra) движутся (moveri), протягивают руки, проворно шевелят другими своими членами, ибо именно так образ (imago) поступает и во сне (in somnis). Едва один образ растает, как тотчас на смену ему приходит другой, с другими движениями, хотя кажется, будто он подобен предыдущему, с небольшой лишь разницей. Подмена эта происходит почти мгновенно, настолько скоры призраки людей и настолько велико их число в какой-нибудь один, едва заметный, миг». Когда читаешь древнеримские тексты, возникает чувство, что странная оживленность образов все еще ждет своего особого, невозможного искусства.
В восьмидесяти километрах от Тарквиний (если пересечь бухту, выехав из Амальфи) есть могила, называемая могилой Ныряльщика из Пестума. Она появилась здесь по меньшей мере за восемь веков до того, как Везувий обрушил на окрестности град камней и потоки огненной лавы. Плита, на которой изображен Ныряльщик, служит крышкой склепа. Его фигура начертана черным на белом фоне. Это еще одна «отброшенная тень», то, что греки называли Skiagraphia (буквально: написанная тень) и что Плиний переводит как «umbra hominis lineis circumducta».
На плите, прикрывающей гробницу, изображена человеческая фигурка, бросающаяся с крыши здания, сложенного из каменных блоков, вниз, в водоем с зеленой водой, возле которого растет дерево.
Нам неизвестен muthos, заключенный в этой сцене. Аристотель («Проблемы», 932-а) объясняет, что художники-этики обозначали зеленым цветом океан, а желтым — реки. Пиндар дважды предупреждает, что человеку невозможно перейти за геркулесовы столбы при жизни.[3] Симонид посвятил Скопасу поэму, которая начинается словами: «Трудно стать человеком примерным (agathon) и положительным, что в членах тела, что в мыслях, и остаться таковым навечно в памяти других людей».[4] Другими словами, трудно при жизни заслужить себе статую «kouros». В VII веке до Рождества Христова «kouros» называли могильную мраморную фигуру с плотно составленными ногами и вытянутыми вдоль тела руками, которую город воздвигал за свой счет после голосования кому-либо из заслуженных сограждан. Трудно при жизни перейти за геркулесовы столбы. Вот утверждение Феогнида: «Я думаю, что самое лучшее — не рождаться на свет, но уж родившись, самое лучшее — постараться как можно скорее пройти во врата смерти».[5] С этим созвучна и фраза Ахилла в аду,[6] гласившая, что людям предоставляется выбор между двумя судьбами: либо долгая, но безвестная жизнь поселянина, либо короткий путь воина и вечная слава. Человек на крышке гробницы бросается в смерть, за геркулесовы столбы, в потусторонний океан, как статуя «kouros» в память живых. Это героический выбор. Усопший, которого погребли под могильным камнем Пестума, предпочел оставить в нашей памяти миф о смерти, а не о долгом бесславном существовании, подобном уделу волопаса.
Два самых древних страха человека вызваны темнотой и одиночеством. Тьма — это отсутствие видимого. Одиночество — это отсутствие матери или предметов, ее заменяющих. Людям знакомы эти страхи: каждый из нас боится снова низвергнуться в бездонную, бесформенную черную бездну матки, снова стать зародышем, снова впасть в животное состояние; каждый испытывает боязнь утонуть, страх броситься в пустоту, ужас от встречи с нечеловеческим. Сфинкс с чертами льва, птицы и женщины, который загадывал Эдипу загадки в Фивах, когда они были разгаданы, бросился с вершины горы Фикейон в смерть. Падение Икара стало воображаемым продолжением прыжка Ныряльщика пестумской могилы.
Что такое сотворение мира? Это падение и последующее возрождение. Прыжок в пропасть, прыжок в смерть составляют первый этап этой космической симфонии. Афродита выходит из волн морских, и с ее тела струится вода. Птица, ныряющая в воду, приносит в клюве ил со дна моря.
Рогейм умер в 1953 году. За год до смерти он издал свой последний труд «The Gates of the dream», который посвятил Шандору Ференци. Рогейм писал, что всякий сон — это возможность нырнуть в глубину самого себя, чтобы вновь попасть в вагину матери. Почти непрерывный сон только что родившегося младенца «продолжает» его внутриутробную жизнь. Реальность как пробуждение — это всего лишь краткий миг голода, холода или болезненных ощущений. Старость же мало-помалу отучает тело от сна, ввергая его в «вульву» смерти (в сон без снов).
Каждый из нас, что ни ночь, бывает героем, который спускается в царство Гадеса, где становится собственной тенью, где его член воздымается, точно kouros. И каждое утро наш сон вновь поручает нас заре, и глаза наши открываются навстречу дневному свету.
И непрестанно, раз за разом, Помпеи погружаются в небытие. И непрестанно потоки лавы хоронят под собою Геркуланум. И непрестанно что-то нетленное, что-то живое и более древнее, чем мы сами, возвращается в душу, в желание, в рассказы о желании. И ни в одной цивилизации, ни в одном обществе, никогда и ничто современное не принимает его.
И непрестанно лава сжигает все на своем пути, сея ужас и хаос.
Но так же непрестанно застывает она на воздухе. И сама себе загораживает путь, запечатлеваясь в творениях рук человеческих, в человеческой речи, и чернеет, и становится непроницаемой и твердой, как камень.
И непрестанно следует повторять слова Эсхила, обращенные к Пеласгу в «Умоляющих»: «Да, я нуждаюсь в глубокой (batheias) мысли. Да, мне нужно, чтобы устремлялся в бездну (buthon), подобно ныряльщику (diken kolumbeteros), мой пытливый взгляд (dedorkos omma)».[7]
ГЛАВА XI РИМСКАЯ МЕЛАНХОЛИЯ
Что есть мир? Следы, оставленные волной, когда она медленно откатывается назад от берега. Имя этой кипучей волны, говорит Лукреций, — voluptas; она рождается от фасцинуса, который любовное наслаждение сокращает после каждого коитуса. Живопись — это берег сожаления о реальности. Mortibus vivimus (Мы живем мертвыми). Вот что сказал Муса-вольноотпущенник:[1] «Наше чрево — могила лесов и рек». Добавлю к этому слова Теренция Варрона: «Камешки и цветы подобны костям и ногтям Бога». Мир бесконечен. Самки людей непрестанно пополняют его во время совокуплений. И непрестанно Вечноживотворная сила мира борется с Вечно-разрушающей силой времени. Непрестанно Венера и Марс, встречаясь, сливаются воедино и уничтожают друг друга.
После эякуляции мужчины и женщины, как те, так и другие, испытывают усталость и впадают в забытье. Они израсходовали малое количество своего самого главного качества. Они вьщелили жизненную субстанцию, но рассматривают ее как некую грязь, которую нужно смыть, ибо она, как им кажется, таинственным образом оскверняет их. Отвращение (medium), переломный период — не что иное, как тень, которой свершенный коитус омрачает тела, внезапно оставленные желанием, но запачканные его следами. Ибо если сам коитус — животворящая сцена человеческой Жизни, то его «отлив» подобен малой смерти.
Какая-то часть души покидает нас в наслаждении. Зрение притупляется. Мы становимся покорными, обессиленными животными.
Взгляд прострации в римской меланхолии невозможно отделить от уклончивого взгляда стыдливости и испуга. Консул Петроний писал; «Наслаждение (voluptas), достигаемое в коитусе, мерзко и недолговечно; за любовным (Венериным) актом следует отвращение (taedium)».[2] Сладострастие — это не что иное, как нетерпеливое желание, к которому человек стремится, словно околдованный Утоление же погружает его в состояние разочарования, наступающее тотчас за любовным спазмом, и разочарование это касается не только начального порыва желания, но и света, воодушевления, ярости, нетерпения (elatio), что мучили его в дни и часы, предшествующие свершению. Овидий говорил, что это походит на смерть, от которой люди торопливо спасаются во сне, «побежденные, поверженные, обессиленные».
Натуралисты зовут «переломным периодом» те минуты после совокупления, когда самцы на время перестают быть сексуально активными. Самкам неизвестен этот переломный момент post coїtum. Для них депрессивный период начинается post partum. Самцы спасаются от отвращения сном. Они не бегут физически, они просто переходят в иной мир — мир мертвых, мир теней. Taedium самцов напоминает женщинам после любовного акта ту фазу невозмутимого удовлетворения, в которое погружаются младенцы после кормления грудью. Римляне говорили в таких случаях об изнеможении, об ощущении морской болезни вне моря, об отравленной душе. Таков, по крайней мере, общепринятый анализ темы отвращения к жизни (taedium vitae) у древних римлян.
Есть и более важный секрет: любовь — это не только хищная схватка или плотоядные поцелуи. Ночь не стремится к дню.
Ночь — это особый мир.
Недавнее счастье бесследно тает в любовных объятиях. В самой совершенной любви, в самом безграничном счастье таится желание, которое внезапно все низвергает в пучину смерти. Яростное наслаждение оргазма вдруг сменяется печалью, которую даже не назовешь психологической. Это изнеможение внушает страх. Бывают абсолютные слезы, которые сливаются воедино. В сладострастии кроется нечто близкое к смерти.
Это нежность к другому, отравляющая сердце тоской. Это ощущение краткости мига, который невозможно удержать. Это сожаление о чем-то ушедшем в прошлое и сознание невозвратной потери. Детумесценция, исполненная радости, слившись с чувством безвозвратности, граничит со слезами. Можно понять, отчего многие животные умирают в самый миг случки или извержения семени. Что-то кончается в этот миг. Когда любят до самозабвения, что-то всегда кончается.
В самый пик бурного наслаждения вдруг возникает холодящее ощущение вечного покоя. Верно говорится, что мы каждый раз умираем в наслаждении. Ибо это слияние столь интенсивно, что оно не может пройти бесследно. Септимий Флоренс Тертулиан писал в своем трактате «О душе»: «В пылу наивысшего блаженства, после того, как изверглась животворящая влага, не чувствуем ли мы, что утратили частицу нашей души? Не испытываем ли мы изнеможение не становится ли наш взор менее острым? Не оттого ли все это творится, что душа осеменила душу? Можно сказать, что тело ребенка, родившегося от этого семени, есть результат истощения души того, кто произвел его на свет». По Тертулиану, сладострастие (voluptas) — это прострация (prostratio) взгляда, ибо оно вызывает ослабление зрения. Эта вспышка наслаждения сама же и кладет конец наслаждению, ослепляя его. Если не считать изначальной сцены первородного греха, любое наслаждение сгорает в невидимом. Миг наслаждения вырывает сцену соития у видимого. Фасцинус — сильнейший из дурманов. Он ослепляет.
Отсюда — stupor, которым затуманиваются лица томимых желанием.
Прогрессирующее возбуждение во время коитуса часто связывалось с образом хищника, что бросается на свою добычу и пожирает ее. Люди всегда рассматривали возбуждение как огонь, который охватывает и мгновенно пожирает все существо человека. Эта вспышка — оргазм, кульминация жгучего наслаждения — не эпифеномен, не побочное удовольствие, но завершающий миг желания. Люди испытывают желание не для того, чтобы успокоить невыносимое напряжение. Они ищут не его спада. В любви они отнюдь не стремятся к taedium vitae — отвращению к жизни. Этот неврологический фейерверк поглощает любой образ, любую живопись, любое кино, любое видение. Это бездна поглощает то неведомое, что предшествовало наслаждению.
Что означает «разглядывать искоса»? Это значит глядеть исподволь на то, чего не положено видеть. Это Лорелея. Это Нереиды.
Что означает «подсматривать»? Lure переводится как «глядеть исподтишка». Lauern — следить из засады. Это Ахилл у водоема, следящий за Троилом. В кошмаре мы исподволь разглядываем ту же сцену, что и во сне; сцена коитуса, которую невозможно увидеть, приводит в ужас, равно как и возбуждает. Кто этот «страшный волк» смерти, который угрожает растерзать свою жертву? Это агрессивность любовного объятия. Те же губы, что любят, безжалостно хищно впиваются в свою добычу. Описание Лукреция вполне определенно: коитус — это охота, затем схватка и, наконец, яростное овладение. Губы хищника вздергиваются над зубами, образуя кровавый оскал, называемый смехом. Губы напоминают о свирепой охоте и следующем за ней пожирании жертвенной добычи.
Ужас, испытываемый при наслаждении, связан — куда боль ше, чем изнеможение, ему сопутствующее, чем иссякшая мощь Фасцинуса или Мутуна в виде пениса, чем «путешествие желания в иной мир», — со сном, в который оно погружает человека. Сон из которого люди страшатся никогда не выйти, есть преддверие мира мертвых. Тела, слившиеся в соитии, обретают во сне невидимый образ. Бог Гипнос — вот кто таится в средоточии Эроса и Танатоса.
Наслаждение угрожает желанию — оттого и естественна ненависть желания к наслаждению, к истощению сексуальной силы (это можно назвать и пуританством и искусством). Желание противоположно унынию, истощению, пресыщенности, сонливости, отвращению, изнеможению, всему, что называется amorpheia. Любая легенда, любой миф, любой рассказ восхваляют желание и восстают против наслаждения. Эротический роман или порнографическая живопись (порнографических романов и эротической живописи нет, по определению) ни в коем случае не ставят перед собой цели пробудить стремление к оргазму, но только к возникновению желания: они пытаются эротизировать язык или образ. Они ищут средства сократить «переломный период». Они объявляют войну отвра щению post coitus (taedium).
Вот почему taedium vitae как результат оргазма притягивает к себе все виды искусства — так ветви дерева тяготеют к стволу. Искусство неизменно отдает предпочтение желанию. Искусство — это неразрушимое желание. Желание без утоления, аппетит без отвращения, жизнь без смерти.
Гомер воплотил на сцене первого меланхолика в образе Беллерофонта. «Объект ненависти богов, он блуждал в одиночестве по равнине Алейона, избегая общества людей, и сердце его снедала тоска» («Илиада», VI, 200). «Сердце его снедала thymon katedon» — именно так выразился Гомер. Этот его эпитет великолепно передает суть меланхолии — пожирание (омофагию) тела душой. Несчастен Нарцисс, пожираемый собственным отражением.
Паррасий написал Геракла. Паррасий написал Филоктета. Легенда гласит: когда Геракл захотел умереть, Филоктет согласился возжечь огонь его погребального костра. В благодарность Геракл отдал ему свой лук со стрелами. Впоследствии Филоктет влюбился в Елену и отправился под стены Трои. Его ужалила в ногу змея, и от раны его исходило такое зловоние, что даже греческие вожди не могли перенести его. Тогда Улисс убедил их отправить Филоктета на пустынный остров.
Так Филоктет оказался первым Робинзоном Крузо. Или же первым «сосланным на остров», задолго до появления законов императора Августа. Он — первый отшельник. Он — первый Тиберий.
Древние утверждали, что Паррасий, написав Филоктета, создал подлинный шедевр. На картине Паррасия жестокие страдания Филоктета были изображены с таким мастерством, что сразу становилось понятно: герой «навсегда утратил сон». Художник нарисовал «единственную слезу» в его сухих глазах. Филоктет из последних сил карабкается по скалам за добычей, которую убил в приливе ярости, на пути к источнику, чья вода должна облегчить его муки. Он оглашает окрестности жалобными стонами, сетуя больше на людей, предавших его, чем на пожирающую его язву. Его горькие слезы смешиваются с черной кровью, сочащейся из зловонной раны. «Волосы его всклокочены и спутаны. На иссохшем веке застыла единственная слеза» («Антология Плануда», IV, 113).
Сенека писал: «Нет в мире более мрачного (morosius) животного, нежели человек».[3] Сенека Младший, первый министр императора Нерона, питал ненависть ко всему живому. Он ненавидел наслаждение. Ненавидел пищу. Ненавидел напитки. Он обожал деньги и страх страдания. Он во всем был полной противоположностью своему отцу. Он умер миллионером. Сенека — это исступленная, тоскливая худоба, это жажда красноречия и власти. Он первым окрестил себя «педагогом рода человеческого».[4] Это истинный пуританин. «Смерть вырывает тебя из родимого чрева, отвратительного и зловонного».[5] Эта фраза написана не святым Павлом. Она написана Сенекой Младшим, в то же самое время — когда он поучал все римское общество.
Сенека Младший пишет Луцилию (LIX, 15): «Один ищет радость (gaudium) в пиршествах и разврате (luxuria). Другой — в тщеславии и поклонении бесчисленных клиентов. Третий — у любовницы. А этот — в показных занятиях и науках либо же в литературных трудах, которые ни от чего не исцеляют. Все это обманчивые и преходящие услады (oblectamenta fallacia et brevia), коих все мы становимся жертвами. Таково же и опьянение, когда за короткий час веселых безумств (unius horae hilarem insaniam) приводится платить тяжким отвращением (taedio). Таковы же и рукоплескания толпы, которые покупаются ценою больших беспокойств и ими же кончаются».
Эта страница Сенеки включает в себя все. Пища, эротическое наслаждение, честолюбие, власть, наука, искусство не стоят ровно ничего. Кажется, будто это написано в нашем XX веке.
Целий говорил, что taedium vitae — это изнеможение, упадок сил (maestitudo). Сенека же утверждает, что taedium, болезнь людей, происходит от сознания человека, что его тело заключено в двух мерзких пределах — между коитусом, произведшим его на свет, и могилой, где он сгниет. С меланхолией (tristitia вполне передает смысл слова melagcholia) тесно связаны все виды отвращения и ненависти. Phobos — свидетельство cholia (испуг обличает отвращение к жизни). Латинская tristitia объединяет в одном понятии недомогание (disthumie), nausea (тягу к ночному мраку), ненависть к окружающим (anachorisis), ужас перед самыми незначительными явлениями и, наконец, отвращение к коитусу. Вторым симптомом является «холодок, ползущий по спине». Лукреций разделяет эти симптомы на пять категорий: озабоченность, печаль, страх, забвение и угрызения совести. Он характеризует их как предвосхищение смерти, летаргии, неизлечимой болезни. Он ни разу не поминает «затруднение мысли» (difficultas), на котором настаивает один Целий. Вот как Лукреций представляет себе меланхолию: «Perturbata animi mens in maerore me tuque triste supercilium, furiosus voltus et acer» (Потерянный разум, объятый болью и страхом, нахмуренные брови, мрачный и разъяренный взгляд) («О природе вещей», VI, 1183). И наконец, Сенека Младший решительно связывает воедино отвращение, меланхолию и гения («De tranquillitate animi», XVII, 10): «Это когда разум презрел суждение всех окружающих (vulgaria) и мнит, что песнь его может быть слишком возвышенна для смертных уст» (grandius ore mortali).
Вся римская живопись состоит из тривиальных этических или торжественных моментов. Плиний описал картину Антифила, восторгаясь изображенным на ней мальчиком, дующим на огонь, который озаряет его лицо. Это иллюзионизм одного мгновения. Это «моментальный» снимок.
Огонек жизни трепещет на фоне смерти.
Филострат написал череп. Это, в отличие от Тщеты живого мира, этакий погребальный Сагре diem: нужно срывать цветок того, что через миг погибнет разом и в individuum, о котором пишет Гораций, и в атомах света, о которых пишет Лукреций. С того времени фрески стали «свидетельствами преходящего мира» (praedatio): фрукты в момент их сбора, рыбы в миг, когда их вытаскивают из воды, дичь, только что пойманная охотником.
Ветка со спелыми, покрытыми пушком персиками положен» рядом с вазой, наполненной водой. Ваза поблескивает.
Петух хочет вытащить из корзинки спелый финик. Курица-султанка подбирается к опрокинутому кувшину.
Птица клюет яблоко. В красноватом свете, льющемся из окна, на котором лежит красное блестящее яблоко, толстый кролик подбирает с пола виноградные зернышки.
Фиги, персики, сливы, вишни, орехи, виноград и финики, каракатицы, лангусты и устрицы, зайцы, куропатки и дрозды остались теми же, что и прежде. И посуда, в которую их клали, сохранила почти тот же вид. Есть нечто монотонное, неизменное в голодном взгляде человека (как неизменен и сам голод), мечтающего о сезоне фруктов, которые он мысленно собирает, пока на дворе зима. Фрески доисторических времен на стенах пещер рисовались с целью обеспечить «возврат» дичи, которую охота вырвала из жизни. Один из стихов Афрания[6] гласит: «Pomum, holus, ficum, uva» (Яблоки, овощи, фиги, виноград).
Сенека отвечает ему в 77-м «Письме к Луцилию»: «Cibus, somnus, libido, per hunc circulum curritur» (Трапеза, сон, желание — вот круг, в котором вращается человек). Мужество или несчастье — не единственные вещи на свете, внушающие волю к смерти: «отвращение или монотонное (fastidiosus) существование также способны подвигнуть на это». Обязательные жертвоприношения в виде пищи или возлияний, предлагаемые душами, менее мертвыми, чем мертвые, усопшим (богам), стали мало-помалу изображениями, предлагаемыми изображениям. Как ни странно, мы ни на шаг не ушли от безжалостного видения Паррасия, пишущего раба из Олинфа. Ни от видения Аристида с его изображением смерти, питающей грудью младенца. Все, что нам показано на этих картинах природы — не мертвой, но умирающей, — это все то же патетическое, пассивное страдание вещей перед их уничтожением.
Сливы, готовые упасть с ветки, подобны рыбе, бьющейся в предсмертных судорогах на столе перед гостями, за миг до того, как повар схватит ее и унесет варить. Рыба подобна рабу-олинфийцу, а тот, в свою очередь, подобен финику, который готов склевать петух, виноградному зернышку, которое сейчас проглотит кролик, Все эти «культурные» ex-voto вызывают в памяти понятие obsequium (беспредельная покорность раба господину). На этих изображениях ясно видны лица (то есть уже vultus, а не prosopa) с выражением ужаса перед своей судьбой пищи, назначенной к съедению. Это немой ужас, но здесь дело не только в молчании: даже в вишне, которую готов склевать дрозд, таится сексуальная покорность. В этом ужасе больше покорности, чем молчания.
Афины в III веке до Рождества Христова, Рим в I веке после него, Голландия в XVII веке пережили один и тот же кризис города, одно и то же отторжение города людьми и возврат их к деревенскому укладу жизни, одно и то же восхищение природой и расцвет станковой иллюзорной живописи, где постоянно присутствуют знакомые домашние животные, где лето кажется нескончаемым, где плоды земли обильны и кажутся вечными, где общественное мерк, нет перед частным, где мегалография уступает место ропографии (изображению мелких предметов), а затем рипарографии (изображению отбросов и прочих «гадостей», чем особенно прославился Сос Пергамский[7]). Гегель называл голландскую живопись «воскресеньем мира». В таком случае римская живопись была xenion мира — подарком гостя за гостеприимство, врученным хозяину — Природе, Венере. Художник Галатон изобразил на одной из своих картин Гомера, извергающего рвоту[8] (emounta), тогда как другие поэты черпали свое вдохновение в том, что извергли его уста (ta ememesmena).
Марциал — это поэт, который искал concretio. Он выбирал все самое грубое, самое плотское, самое конкретное, самое точное, что могло быть записано или зафиксировано взглядом. Конкретное барокко. Он описывал губчатые грибы, соски свиноматки, рожки для игральных костей, пенис, полный спермы, и патрона, который засовывал его в рот мальчику, крольчат, первые codices. Он описывал цветы бирючины. «Калкан всегда превосходит размерами блюдо, на котором его несут», — писал он. Он описывал куски пиленого льда, который кладут в кубки с вином. Описывал коллекционеров древностей, старинных тарелок, выдержанных вин, ковров времен Пенелопы. В книге X он сравнивает свое творчество с патиной, изъедающей бронзу. Он мечтает об анахорезе, о прудах, о голубятнях в Испании, о розариях. Он мечтает покинуть Рим, покинуть даже свой загородный дом в Номенте и вернуться в Билбил, в усадьбу, где прошло его детство.
По воцарении Нервы и усыновлении им Траяна Марциал покидает наконец дом на Квиринале, где он жил на четвертом этаже, и уезжает в родную Испанию. Это путешествие оплачивает ему Плиний Младший. Марциал вновь видит Билбил. Вначале ему безумно нравится вставать после девяти часов утра, не обряжаться в парадное платье, топить очаг дубовыми поленьями. Но деревенская скука, монотонное существование между розарием и заросшим прудом не могут победить ненависть к старости и призраку смерти, настигающему его даже в любимой «белой голубятне».
Марциал — это литература, бегущая прочь из города.
Веком раньше все было иначе. Гораций был сыном вольноотпущенника, а Вергилий — сыном гончара. Их понимание искусства было рабским — иными словами, оно состояло в том, чтобы нравься публике. Это придворная литература. Эти писатели обращались не к своему городу, но к дворцу.
Марциал же обращается не к городу и не к дворцу принцепса, но к своему уединенному сельскому домику в родной провинции.
Римляне неотступно думали о дне, предшествующем смерти. Проперций связывал любовь и смерть («Элегии», II, 27): «Неведомый час смерти (incertam funeris horam) — вот, смертные, то, что ваш взгляд тоскливо ищет повсюду. Наш дом объят пожаром (domibus flammam), наш дом рушится (domibus ruinas). Вино в кубке, который мы подносим к губам, может убить нас. Час и лик смерти ведомы одним только любовникам (solus amans novit)». Уже в первой его книге говорилось: «Даже самой долгой любви (longus amor) мне все-таки недостаточно. Вот чего боюсь я более всего: что твоей любви не будет у меня в миг смерти. Но и тогда прах мой (meus pulvis) сохранит воспоминание о тебе. Мы с тобою насладились коротким светом нашей любви. Впереди поджидает нас ночь, тяжелый сон без снов. Но знай: и в обители мрака, куда я спущусь в свой черед, ставши бледной тенью (imago) самого себя, я навсегда останусь твоим верным возлюбленным. Великая любовь (magnus amor) преодолевает даже берег смерти».[9]
Сенека Старший пересказывает великолепный грамматический диспут, посвященный моменту, который предшествует смерти. Корнелий Север описывал солдат за ужином накануне битвы (in posterum diem pugna). Солдаты едят, развалившись на траве (strati per herbam). Они говорят: «Hie meus est dies!» (Это мой последний день!) Отсюда рождаются две дискуссии. Первая — этическая: солдаты наверняка обречены на смерть, ибо они не надеются завтра остаться в живых (crastinum desperent). Их унылые речи — речи пораженцев. «Они оскорбили величие римского духа» (romani animi magnitudo). Любой солдат-лакедемонянин лучше их, потому что не думает о поражении. Солдат-лакедемонянин сказал бы: «Завтрашний день за мной».[10]
Вторая дискуссия носит грамматический характер. Порцелл упрекал Корнелия Севера в том, что он позволил себе солецизм, заставив произнести многих людей: «Hie meus est dies», а не «Hie noster est»(Вот «наш» последний день). В эту дискуссию вмешивается и Сенека Старший — у него есть свои претензии к Порцеллу. Красота выражения именно в том, говорит он, что солдаты, лежащие на траве, накануне гибели, говорят не как хор (in choro) в греческой трагедии, но каждый принимает на свой счет гибель, грозящую всем вместе, и потому произносит: «Hie meus est dies» (Это мой последний день). Отсюда он делает вывод, что страх смерти должен быть непременно персональным для того, чтобы считаться героическим.
Но в пучину смерти солдаты будут низвергнуты поодиночке. Вот как сказал об этом Гораций: «Nescit vox missa reverti» (Каждый из их голосов — погибший голос).[11]
Taedium римлян относится к I веку. Acedia христиан появилась в III веке. Снова возникла, под именем меланхолии, в XV веке. Вернулась еще раз в XIX веке — в виде сплина. И наконец, пришла в XX век с современным определением — депрессия. Но это всего лишь слова. В самом же явлении кроется некая, еще более тягостная, тайна, невыразимая словами. Невыразимое — это «реальное». Реальное — это всего лишь тайное имя самого упадочного в самой глубине упадка. По правде говоря, ничто не может быть речью, кроме самой речи. И все, что не является речью, — реально.
Явление Taedium vitae связано не только с возвратом реального. Оно разбивает время.
Испытать желание и увидеть вялый, поникший мужской член — и то и другое всегда несет с собой странный восторг: это «разница во времени с палеолитом». Желание и страх ведут свое происхождение от одного источника.
Он боится. Он исполнен тоскливого страха. Он замер, как статуя.
Он желает. Он замер, как статуя.
Наслаждение и смерть «зачаровывают» свою жертву одним и тем же приемом — повергая в оцепенение. Воробушек, которому угрожает сокол, сам бросается к нему в клюв, то есть в смерть. Такова она — зачарованность, толкающая живое существо на смерть, лишь бы избавиться от ужаса, ею внушаемого.
Желание — это и есть страх.
Почему я посвятил долгие годы этой книге? Для того чтобы разгадать эту тайну: почему именно наслаждение сродни пуританству.
Наслаждение делает невидимым то, что хочет увидеть.
Оргазм же силой вырывает у невидимого образ того, что желание всего лишь робко приоткрыло.
Acedia описывается христианами как vitium (смертный грех). Это неспособность сосредоточиться. Это отсутствие интереса ко всему и всем, даже к добру, даже к ближнему, даже к Богу. Это летаргия от лукавого. Это соблазн самоубийства. Это депрессия, расширяющая в глазах римлян, ставших христианами, понятие taedium до безграничного непротивления внутренней, душевной язве, до полного упадка сил и воли, до утраты интереса ко всему на свете, до сладострастного ощущения беспросветной тоски и ненависти к жизни, выливающейся в отпор своему создателю (уже не биологическому — фасцинусу, но теологическому — Богу).
Петрарка в своем «Secretum» пишет: «Taedium vitae (отвращение к жизни) — единственная горькая, болезненная и ужасная страсть в чистом виде». И Петрарка развивает необыкновенную тему — тему беспричинных слез. Они выражают крайнее истощение жизни в acedia, в чистой печали, в ненависти к инкарнации. Это не что иное, как сама смерть, заставляющая окаменеть руку, готовую оттолкнуть фасцинус. Оба Возрождения, пытавшиеся вновь перевести это чувство на греческий, отказались от слова «меланхолия» и на долгие века предали забвению эти два грандиозных, обособленных периода, которые мы называем ныне taedium римлян и acedia греков.
Англичане использовали старое латинское слово addictio для описания психологической зависимости наркомана от наркотика, который он для себя выбрал, даже без учета его токсичности. Obsequium можно перевести как непротивление самой зависимости. Именно от явления obsequium произошло это, немыслимое для древнего Рима, ощущение греховности. Это чувство я определил бы так: связь, губительная для зависимости. Ощущение внутренней виновности, питающее его, усиливается и перерастает в панический страх пустоты, стоит лишь человеку лишиться прежней рабской зависимости.
ГЛАВА XII LIBER
Она размышляет, прижав стиль к губам. Она легонько касается острием стиля своих пухлых губ. Мы видим эту девушку в момент сосредоточенных раздумий; взгляд ее устремлен в пространство. Она не стремится понравиться, она погружена в свои мысли. В левой руке она держит четыре скрепленных таблички.
Перед тем как начать писать, молодая патрицианка на миг задумалась, касаясь губ острием стиля. Ее глаза словно ищут в пространстве слово, которое предстоит написать. Это лицо полно мыслей о другом. Ее взгляд устремлен к тому невидимому, куда влечет ее душа. Ее глаза не видят окружающего, они созерцают иной мир, где она видит его, она хочет увидеть его. Я вспоминаю о письме, в котором Постумиам описывает святого Иеронима, работающего в своей уединенной келье: «Totus semper in lectione. Tot us in libris est. Non die non nocte requiescit…» (Вечно погружен в книгу, поглощен чтением, не знает отдыха…). Как voluptas влечет за собой taedium и заманивает в сон, так и чтение заманивает в иной мир. Письмо — это попытка проникновения одного человека в душу другого, которую он хочет завоевать. Это та самая духовная обособленность, которую Катон запрещал женщинам, уход из привычного мира, время, проведенное «вне» реальности, род анахореза.
Имя Liber было одним из имен зачаровывающего бога. В глазах древних вино (Liber) связывалось, в первую очередь, не с опьянением, переходящим затем в меланхолическое отвращение (nausea). Вино главным образом помогало напрячь мужской член (Силен, Бахус). Далее, черное густое вино (смешанное с теплой водой) чревато появлением черной искусственной желчи (melagcholia, тяжкое похмелье, вино, увеличивающее ethos каждого человека, выявляющее его нрав). Non facit ebrietas vitia sed protrahit[1] — опьянение не рождает порок, оно лишь выставляет его на свет Божий. С помощью вина Дионис демонстрирует фасцинус и возглавляет процессию, где фасцинус несут мужчины, чьи туники вздымаются искусственным пенисом (olisbos), привязанным к животу в день торжественного праздника бога по имени Liber Pater. Он демонстрирует furor (безумие как плод души, достигший зрелости). Бог Л ибер «освобождает»: он «взбадривает» мужской член, он «взбадривает» характер. Апулей в своем Панегирике Карфагену («Флориды», XX) четко различает четыре функции Либера: «Первая чаша — для жажды (ad sitim), вторая — для радости (ad hilaritatem), третья — для сладострастия (ad voluptatem), четвертая — для безумия (ad insaniam).
Однако Liber — это не только имя бога зачарования и вина. Этим словом также называются книги.
Они читают в тишине. То, что читали эти читатели, было латинскими словами. Mortibus vivimus (Мы живем мертвыми). Еще прекраснее это выражено в словах Мусы-вольноотпущенника, столь резко критикуемых его современниками: «Все птицы, что летают в поднебесье, все рыбы, что плавают в воде, все дикие звери, что рыщут по лесам, обретают могилу (sepelitur) в нашем желудке. Вот и спроси себя, отчего мы умираем столь быстро (moriamur subito)! Мы живем мертвыми». Греки проявляли крайнюю стыдливость (euphemie) в назывании фаллоса: они обозначали его словами Physis (природа), Charis (радость), Pragma (вещь) или Deina (прекрасный мучитель). Артемидор свидетельствует, что женщины часто называли мужской член to anagkaion (истязатель).[2] Но мы сами, наши мертвые звери, наши желания, наши мертвые натуры (натюрморты), в глубине души предпочитаем латинские слова. Огонь тлеет под языком, готовый вырваться наружу. Gaude mihi (ублажи меня) превратилось в «годемише». Cunnus (половой орган), quoniam, casus (случай), causa (вещь) стали мертвыми словами уже в XVIII веке, однако термины, их заменившие, удивительным образом сохранили латинскую форму: пенис, фаллос и т. п. И неизменно язык-источник, язык-праматерь Демонстрирует тягу к преувеличению; это язык, где непристойность расцветает пышным цветом. Муса-вольноотпущенник не умер — он по-прежнему живет в латинском языке. То, что было до языка, отсылает нас к тому, что было до нашего рождения. Самый древний из слоев (латынь) поведает нам о самой древней сцене соития.
Все то, что мы в детстве читали в дощатом туалете на школьном дворе, дрожа от холода и отвращения, все то, что сами царапали на стенках кабинок в раздевалке бассейна, все то, что боязливо шептали в темных углах, багровея от стыда, неуклюже нащупывая дрожащими руками запретное, возрождает материю праязыка, где отражены все проблемы, все дотошное любопытство, свойственные этому возрасту жестокости и тоскливых страхов. Почему в совре. менном обществе в научных трудах или даже в эротических книгах фиксируются именно в латинской форме те недвусмысленные, откровенно непристойные слова, которые мы узнаем в период созревания, жадно слушая их с колотящимся сердцем, с глупым хихиканьем, при потушенном свете? Потому что было бы неприлично делать приличными слова, рожденные быть непристойными, слова, сама непристойность которых относится к иному миру, где языку не было места. Никто не может освободить их от грубой, грязной, неприемлемой формы, не лишив при этом смысла и значения. Непристойная лексика — это лексика любви, ибо она враждебна усредненности языка. Грязь, мерзость — вот ее нимб. Грубое, весомое, стыдное (так же как мужской член способен к любви лишь наполненным, весомым, налитым жизнью и стыдом) — таким должно быть слово, единственно способное достичь средоточия страсти. Все, что может быть сказано вслух, все, касающееся уставных норм жизни, несовместимо со словами, жгущими язык, несовместимо с желанием, оскорбительно для щедрости, с которой другой человек раскрывается для вас. Именно характер, называемый horridus, определил фесценнинские стихи. В 475 году, когда империя уже стала христианской, Сидоний Аполлинарий, зять императора Авиция, епископ Клермонтский, все еще противопоставляет текучему, вялому, прозрачному стилю новой литературы напряженную и оттого почти мужскую (torosa et quasi mascula) прозу красоты. Безжалостная непререкаемость слов Фульвии, обращенных к Августу: «Aut nitue aut pugnemus» (Или ты спишь со мною, или война!),[3] не изжила себя до наших времен. И поныне перед нами все тот же, на удивление простой, выбор: Венера или Марс. Лакло переиначил эту коллизию, вложив фразу Фульвии в уста Вальмона, а ответ Августа — в уста маркизы де Мертей. На предложение Вальмона госпожа де Мертей отвечает: «Значит, война!»
У Септумия есть одно высказывание, сколь загадочное, столь же и шокирующее: «Amat qui scribet, paedicatur qui leget» (Тот, кто пишет, содомизирует; тот, кто читает, содомизирован). Слово auctor — синоним слова paedicator. Это древний статус свободного римлянина. Зато lector — это servus. Чтение сродни пассивности. Читающий становится рабом другого дома (domus). Писать — значит желать. Читать — значит наслаждаться.
Любой мужчина, любая женщина становятся пассивными с приходом наслаждения. Женщина воздымает руки в изначальной пассивности. В изначальной пассивности таится испуг. Женский оргазм — это испуг, который наслаждается тем, что делает «вторгшийся». Наслаждение — синоним вторжения. Сладострастие всегда застает врасплох тело, объятое желанием. Его удивление — вечная неожиданность. Оргазм никогда не различает до конца ужас и забытье наслаждения.
Платон называл испуг первым даром красоты. Это близость чего-то неведомого. Этот опыт сравним с опытом мужчины, открывающим для себя тело женщины. С той лишь разницей, что желать — не значит выставить неведомое на свет Божий, не значит сковать испуг в момент обнажения.
Актеон превратился в зверя именно потому, что не испытал страха перед обнаженной богиней. Превращение в зверя означает следующее: низ его тела возжелал богини. Но именно потому, что красота была охотницей, сбросившей свое покрывало, он и превратился в зверя. Ибо охотница — это та, что жаждет добычи. В Брауроне, в Аттике, афинские девочки от пяти до десяти лет, желавшие выйти замуж, должны были покинуть семью и «сделаться медведицами» в святилище Артемиды. Там маленькие затворницы изображали медведицу (богиню) и «приручали себя» в ее святилище.[4]
От женщины к мужчине, как и от матроны к отцу, идет обмен лишь одним — испугом.
Lectio — это obsequium. Во время сексуального бездействия, то есть в переломный период, когда утоление желания препятствует активности, жизнь удваивает наслаждение, перенося его в рассказы, изображая на картинах. Рассказ еще сильнее, чем вожделение, без конца требует: «Еще!» Ибо свойственное ему наслаждение есть именно наслаждение, а не любострастие (voluptas). Его наслаждение — это начало. Его наслаждение — это древняя сцена соития, необходимого для оплодотворения, которая сама изобретает повествовательную интригу задолго до появления речи и вводит «последовательность кадров». Интрига — это то, что предлагает время, то, что позволяет утвердить момент между «до» и «после», повторяя в виде сцен, увиденных во сне (или в грезах), невидимую, но неотступно преследующую нас сцену. Повторительный момент интриги — вот что представляет собой, без всяких преувеличений, сюжет Римской живописи. Фреска — spatium этого сконденсированного Мгновения.
В IV веке после Рождества Христова Блаженный Августин описал в «Исповеди» свои экстазы, и это те же римские фрески, те же «повторительные» сцены с небольшим количеством атрибутивных элементов — деревом, скамьей, книгой. Августин спустился в сад с Алипием. Он покидает Алипия. Он кладет свою книгу (codex)на скамью. Он ложится отдыхать под фиговым деревом (fici). Он слышит детский голосок, напевающий за садовой оградой: «Tolle, lege! Tolle,lege!» (Возьми, читай! Возьми, читай!) И тогда он плачет, бросая искоса взгляды на свою книгу, лежащую на скамье.
Плиний Старший (или иначе Плиний Веронский) и сам был страстным читателем. Вставая до рассвета, он читал за едой, читал даже на прогулке, даже в бане, даже в квадриреме, когда приближался к извергавшемуся Везувию.
Плиний Младший (или Плиний из Комы) заразился этой страстью от своего дяди. Плиний защищал Светония. Он помог Марциалу. Он был другом Тацита. Гастон Буассье писал о конце империи: «Не думаю, что в истории Империи была другая эпоха, где так любили бы литературу». Кай Соллий Аполлинарий Сидоний написал во время нашествия вандалов, после разграбления Рима войсками Гензериха: «Ego turbam quamlibet magnam litterariae artis expertem maximam solitudinem appello» (Я называю абсолютным одиночеством толпу людей, чуждых чтению и письму, сколько бы их ни было).
Я уже описывал Плиния в его теплом, защищенном от шума алькове, который он устроил себе на Тосканской вилле (вот так же Марсель Пруст укрывался в Париже за густым плющом). Теперь расскажу, как он работал. День его был так насыщен чтением, что у него болели глаза (хотя, возможно, эта болезнь была вызвана сернистыми испарениями и мелким пеплом извергавшегося Везувия). Он делится с Корнутом способами предохранить зрение: «Я прибыл сюда в закрытой со всех сторон повозке, можно сказать, в камере (quasi cubiculo). Я отказался и от стиля и от чтения. Теперь я работаю исключительно ушами (Solis auribus studio). В своих покоях я велел повесить плотные занавеси, скупо пропускающие свет. Либо мне читают рабы, либо я им диктую».[5]
А вот что он сообщает Фуску: «Я держу ставни закрытыми (Clausae fenestrae manent). Избавленный (трудно даже представить, насколько!) от всего отвлекающего темнотою и безмолвием, свободный (liber) и предоставленный самому себе (mini relictus), я не душу заставляю служить глазам, но глаза ставлю на службу душе и разуму (sed animum ocubs sequor). Я сочиняю мысленно. Я сочиняю так, как если бы писал. Я выбираю слова, исправляю их, сокращаю или удлиняю фразы, насколько позволяет мне память. И лишь потом я зову секретаря (notarium), велю открыть окно и диктую то, что сочинил; секретарь то уходит, то возвращается, согласно необходимости. Проработав так четыре или пять часов, я отправляюсь — смотря по погоде — либо на террасу, либо под крытый портик, где продолжаю размышлять и диктовать. Затем сажусь в экипаж. И там работаю тем же манером, что на прогулке или в постели. Сплю я мало. После сна прогуливаюсь, а вслед за тем читаю вслух, погромче, какую-нибудь греческую или латинскую речь для упражнения горла и легких. Снова гуляю, затем проделываю свои упражнения, принимаю массаж и ванну. Если за трапезой присутствуют лишь жена да несколько гостей, велю рабу читать нам какую-нибудь книгу, пока мы едим. После ужина смотрим комедию или слушаем игру на лире. Затем я прогуливаюсь в обществе моих образованных рабов. Благодаря ученым и разнообразным, долгим, как дни, беседам вечер наступает незаметно. Если мне случается ехать на охоту, я и туда непременно захватываю мои буксовые таблички».[6]
Письмо Плиния Тациту отражает это типично римское времяпрепровождение между охотой за книгами и охотой на диких зверей: «Ты будешь смеяться, Тацит. Я поймал трех великолепных кабанов (tres apros pulcherrimos). Случилось это в лесу древней Этрурии. Я сидел, притаившись, за сетями. Подле меня лежали мой дротик (venabulum) и мой кинжал (lancea), а именно: мой стиль (stilus) и мои таблички (pugillares). Я неторопливо размышлял (meditabar) и делал записи, говоря себе: «Возможно, я вернусь с пустыми руками, зато с полными табличками». Не смейся над моей манерой работать: мелькание посторонних тел держит ум в напряжении и не дает ему дремать. Леса (silvae), их уединенность (solitudo) и мертвая тишь (illud silentium), коих требует охота, будят воображение сильнее, чем что-либо иное».[7]
В своем стремлении писать даже вне дома, на лошади или на охоте, Плиний изобрел таблички, прикреплявшиеся к муфте — на зимнее время.
Во времена Плиния сословные грани начали разрушаться. Аристократы, превратившись в сторожевых псов императорской администрации, приняли нравы сословий вольноотпущенников и рабов, а заодно и их новых богов, смешав «свежеиспеченных» angelos с древнегреческими демонами и старинными гениями Отцов. В 470 году только что назначенный префект Рима, Соллий Сидоний Аполлинарий, писал Иоанну: «Ибо ныне, когда уже не существует степеней достоинства, позволявших различать среди сословий самые подлые и самые благородные, единственным признаком знатности будет образованность» («Epistulae», VIII, 2).
В 65 году, при императоре Нероне, врач Лука из города Антиохии записал рассказ, услышанный от Клеопы, о том, что произошло в Иерусалиме: «В первый же день недели, очень рано, Магдалина Мария, Иоанна и Мария, мать Иакова, пошли ко гробу Иисуса, неся ароматы, но, придя, увидели камень отваленным от гроба», а пелены в глубине пещеры, тела же усопшего не нашли.
Тут женщины заметили у входа в пещеру двух незнакомцев «в одеждах блистающих».
И два ангела (angelos) сказали этим трем женщинам: — Quid quaeritis viventem cum mortuis? (Что вы ищете живого между мертвыми?)
В тот же день двое из учеников (один из них и был тот самый Клеопа, что рассказал все это Луке) покинули Иерусалим и отправились в селение Эммаус, что в шестидесяти стадиях от города; и вот, беседуя на ходу, увидели они человека, который, ускорив шаг, догнал их и вступил с ними в разговор.
Клеопа говорил о пророке-Назареянине, распятом за три дня до этого римскими легионерами. Хотя тот был похоронен, но Мария из Магдалы этим утром обнаружила, что могила пуста.
Итак, они продолжили путь втроем. Когда они прибыли в Эммаус, уже близилась ночь, однако незнакомец «показывал им вид, что хочет идти далее» (et ipse se finxit longius ire).
Но два ученика уговорили его остаться с ними и пригласили поужинать на постоялом дворе. Клеопа сказал:
— Mane nobiscum quoniam advesperescit et inclinata est jam dies (Останься с нами, ибо ночь уже близка, и день склонился к вечеру).
И незнакомец согласился.
И вот они входят на постоялый двор. Все трое ложатся на кровати, опираясь на локти. Все трое моют руки.
Незнакомец берет хлеб, лежащий на столе, и, преломив, дает каждому.
Et aperti sunt oculi eorum, et cognoverunt eum: et ipse evanuit ex oculis eorum (Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его, но Он исчез из глаз их). Греческая версия Луки звучит более определенно: «…но Он стал невидим (aphantos) для них».
Любить, спать, читать — все эти действия также означают «видеть невидимое» (aphantos). Тот, о ком вы рассказываете, словно стоит рядом. Он гораздо ближе к вам, чем даже полагают ваши слушатели. Он стоит именно так — «невидим для них». Женщина, которую нельзя обнять (то есть та, от объятий которой вы произошли на свет), сопровождает вас преданнее тени; говорят, ее призрак неотступно занимает мысли живых и долго блуждает в подлунном мире страстей перед тем, как указать сыну его избранницу. Тот, чью историю мы читаем, гораздо ближе к нам, чем к себе самому. Он куда ближе к тому, кто читает, чем рука, держащая книгу; ближе, чем сама книга, о которой забывают глаза читающего. Они видят лишь его одного — зеницу ока. По-латыни это pupilla, маленькая куколка. Ибо в глубине зрачка запечатлена крошечная фигурка матери — куколка, с которой играют все маленькие девочки во все времена. Тот, кто страстно влюблен, наклоняется, стараясь заглянуть в глаза любимой. Тот, кто всматривается в глаза любимой, находит в них лицо — иногда определенное, иногда незнакомое, но всегда внушающее страх.
Платон писал («Алкивиад», 133-а): «Когда мы смотрим в глаза того, кто находится перед нами, наше лицо (prosopon) отражается в том, что зовется куколкой (когё), как в зеркале. Тот, кто смотрит в них, видит свой образ (eidolon). Таким образом, когда глаз останавливается на лучшей части чужого глаза, он видит сам себя».
Современные люди называют «нарциссическим хранителем» двойника, который успокаивает ребенка, впервые глядящего на себя в зеркало. Это римский genius, это греческий angelos; он позволяет одобрить и принять собственное отражение. Это «ангел-хранитель» зеркала, это «добрый дух» тела. Современные люди также позаимствовали у древних греков слово phantasma для обозначения Гения или Юноны, что приходят на помощь мужчинам и женщинам, когда те касаются своих половых органов, оставшись в одиночестве во время сиесты или на рассвете. Они видят во сне призрачный образ своего двойника, который несет им помощь в сладострастной забаве, желанной и не желаемой voluptas, настигающей их по окончании сновидения.
Ангел, охраняющий и мужчин и женщин в их одинокой утехе и делающий ее столь сладостной, не имеет имени. Одно из произведений Кребийона, написанное им в 1780 году, полностью посвящено призраку мастурбации. Подобно тому, как Сократ в 399 г. до н. э. решил дать внутреннему голосу имя daimon, Кребийон в 1730 году решил назвать «сильфом» этого демона мастурбирующей руки. «Сильф» считается одной из самых откровенных и непристойных книг о мужчинах.
ГЛАВА XIII НАРЦИСС
Не понимаю, отчего современные люди решили, что Нарцисс влюбился в самого себя и был за это наказан. Они не могли взять эту легенду у греков. Так же как не могли найти ее и у римлян. Такая интерпретация мифа подразумевает осознание самого себя, враждебность к личному domus тела, а также углубленный внутренний анализ, который развился только с приходом христианства. А миф прост: охотник зачарован взглядом, не зная, что это его собственный взгляд, что он попросту видит свое отражение в лесном ручье. И он падает в это отражение, заставившее его оцепенеть, убитый собственным прямым взглядом.
Отчего на римских фресках Нарцисс никогда не изображается склоненным над своим отражением?
Это augmentum. Это миг, предшествующий смерти. Если он наклонится, то в миг, когда его зачарует собственный взгляд, он будет поглощен смертью.
Куда же он падает, когда погружается во взгляд, обращенный на него? Он падает в саму сцену: он рожден от насилия реки над ручьем. Древние выражались точно: Нарцисса убивает не любовь к своему двойнику. Его убивает взгляд.
Существует три варианта мифа о Нарциссе. В Беотии он звучал так: некто Нарцисс жил в Феспии. Нарцисс был юношей, любившим охотиться на Геликоне. Другой молодой охотник, Амений, питал к нему безумную любовь. Но Нарцисс относился к нему с отвращением и отталкивал его от себя; Амений был ему настолько противен, что однажды он послал ему в подарок меч. Получив оружие, Амений схватил его, выбежал из дома, ринулся к дверям Нарцисса и там убил себя, взывая, во имя своей крови, брызнувшией на каменный порог, к мщению богов. Через несколько дней после самоубийства Амения Нарцисс отправился охотиться на Геликон — там он почувствовал жажду и решил напиться из источника. Его взгляд остановился на отражении взгляда, и, увидев его, он покончил с собой.
Павсаний рассказывает легенду по-иному:[1] Нарцисс любил свою сестру-близнеца, которая умерла подростком. Он так сильно скорбел по ней, что горе мешало ему любить других женщин. Однажды, увидев себя в ручье, он решил, что видит сестру, и черты ее лица утишили его скорбь. И с той поры не было такого ручья или реки, над которой он не склонялся бы в поисках образа, утешавшего его в горе.
Эта, более рациональная, версия Павсания имеет преимущество ясности: герой ни минуты не думает, что любуется самим собою в зеркале воды, отражающей его лицо.
Овидий же создает следующую легенду:[2] Нарцисс был сыном бога реки Кефиса и нимфы Лириопы. Бог Кефис силой овладел нимфой. Когда у Лириопы родился сын, она отправилась в Аонию вопросить божественного Тиресия о судьбе, назначенной ее ребенку. Тиресий был слеп; оба его глаза были приговорены к «вечной ночи» (aeterna nocte), ибо он познал наслаждение разом и под видом женщины, и под видом мужчины. Слепец Тиресий ответил Лириопе: «Si se non noverit» (Если не узнает самого себя).
К шестнадцати годам Нарцисс стал так красив, что не только молодые девушки, не только юноши, но и нимфы вожделели к нему, особенно та, что звалась Эхо. Но он отвергал их всех. И девушкам, и юношам, и нимфам он предпочитал лесную охоту на оленей.
Нимфа Эхо страдала от безответной любви. Любовь эта была столь сильна, что Эхо стала повторять все слова, что говорил ее возлюбленный. Пораженный (stupet) Нарцисс оглядывался, не понимая, откуда исходит этот голос.
— Coeamus! (Соединимся!) — крикнул он однажды таинственному бестелесному голосу, который преследовал его. И таинственный голос ответил:
— Coeamus! (Сольемся в объятии!)
Очарованная произнесенным словом, нимфа Эхо внезапно выбежала из чащи. Она бросается к Нарциссу. Она обнимает его. Но он тотчас бежит прочь. Отвергнутая Эхо возвращается в чащу. Мучимая стыдом (pudibunda), она худеет и тает. Вскоре от влюбленной нимфы остаются лишь кости да голос. Кости превращаются в скалы. И тогда от нее остается лишь жалобный голос. Sonus est, qui vivit in ilia (Один лишь звук, вот все, что осталось от нее).
Отвергнутые девы, отвергнутые юноши, отвергнутые нимфы — все они взывают к богам о мести.
Однажды, в знойный день, Нарцисс пошел на охоту. Устав от преследования зверя, мучимый жаждой, он прилег на траву с копьем в руке, возле прохладного источника. Он хочет утолить жажду, он наклоняется. И пока он пьет, глядя на свое отражение он влюбляется в этот бестелесный призрак (spem sine соrроrе amat). Он принимает за тело то, что всего лишь вода (corpus putat esse quod unda est). Он замирает в изумлении, с застывшим лицом (immotus), подобно статуе, изваянной из паросского мрамора (ut e Pario formatum marmore signum). Он любуется своими глазами, которые кажутся ему прекрасными, как звезды, кудрями, прекрасными, как у Бахуса (dignos Baccho).
Quid videat, nescit; sed quod videt uritur illo (To, что он видит, ему незнакомо; но то, что он видит, пожирает его). Atque oculos idem qui decipit incitat error (To же заблуждение, что обманывает его взор, возбуждает его).
Per oculos perit ipse suos (Его собственные глаза несут ему гибель).
Овидий пишет и продолжение легенды: попав в Ад, на берега Стикса, Нарцисс вновь склоняется и созерцает черную воду реки, пересекающей царство мертвых (in Stygia spectabat aqua).
Овидий настолько убежден в том, что прямому взгляду свойственна смертоносная зачарованность, что сам, от лица рассказчика, обращается к своему герою с наставлением: «Доверчивый юноша, зачем так упорно стремишься ты заключить в объятия призрачный образ (simulacra fugacia)? To, что ты ищешь, не существует. То, что ты любишь, исчезнет, стоит тебе отвернуться. Мираж, который ты увидел, не более чем отражение (repercussio) твоего собственного образа» (imago). Но Нарцисс не желает слушать увещания автора и продолжает зачарованно смотреть в глаза, которые предстали его взору.
Овидий отмечает, что Нарцисс видит в своем отражении статую Бахуса. Отражение — не значит «сходство». Об этом свидетельствует ода Горация к своему юному любовнику, которую Ронсар позже переиначил в сонете к Кассандре: «Этот румянец, коему позавидовала бы пурпурная роза, исчезнет под густой бородой, о, Лигурии! Эти густые кудри, разметавшиеся по твоим плечам, выпадут. И ты скажешь, увидя в зеркале кого-то другого (in speculo videris alterum): "Зачем нет у меня нынче моего прежнего лица! Зачем прежде не думал я так, как нынче!"» («Оды», IV, 10). Внешность человека изменчива, словно вода в реке; тождество личности можно уподобить бурному течению. Древние полагали, что Нарцисса убила не любовь к своему образу в воде — его убил зачаровывающий взгляд (fascinatio).
Тот самый взгляд, которого избегала римская живопись.
Как же римские живописцы изображают Нарцисса? В тот самый миг, что предшествует смерти, — совсем как Медею, следящую за своими детьми, поглощенными игрою в кости. На фресках Нарцисс еще не зачарован отражением в воде. Мы видим лесную лужайку. Жаркий полдень. Юный охотник еще держит в руке дротик. Он еще не видит ручья, текущего у его ног. Он еще не наклонился. Он еще не увидал своего отражения (repercussio), которое едва видно зрителю и которое сделано намеренно нечетко.
Нужно избежать прямого взгляда. Но Нарциссу неведома хитрость Персея, уклонившегося от взгляда Медузы. Он не знает, что встреча с другим взглядом несет смерть. Он не знает, что спастись от чужого завистливого взгляда можно лишь с помощью apotropaion — фасцинуса. Вода лесного ручья — то же зеркало храма Ликосуры, где молящийся видел в мутном бронзовом зеркале не свое лицо, но созерцал бога или мертвеца — обитателя царства теней.
Вспомним, о чем Эрот предупреждал Психею, желавшую увидеть его тело воочию: «Non videbis si videris» (Если ты его увидишь, то не увидишь более).
Нельзя смотреть прямо перед собой (Персей, Актеон, Психея). Нельзя глядеть назад. Именно это Овидий-рассказчик говорит Нарциссу, прервав свое повествование; самое любопытное, что с этими словами следовало бы обратиться скорее к Орфею, нежели к Нарциссу: «Quod amas, avertere, perdes» (Если ты обернешься, то потеряешь предмет своей любви).[3] Но мог ли Нарцисс отвернуться? Уклончивый взгляд римских женщин либо избегает прямой встречи с чужими глазами, либо обозначает намек на поворот тела, не доведенный до конца.
Психея не обнажает тело Эрота: в темной комнате она всего лишь подносит лампу к его лицу, но горячее масло обжигает ему плечо. И он тотчас исчезает, обернувшись птицей. Граф де Лузиньян вздумал подглядеть одним глазком через дыру в свинцовой перегородке за Мелюзиной; он видит ее обнаженной в ванне. Тотчас же она исчезает, обернувшись рыбкой.
Эдип вырывает себе глаза. Тиресия ослепляют за то, что он познал любовные услады обоих полов. Горгона стала жертвой собственного отражения в зеркале, протянутом ей Персеем, — зеркале, сравнимом с материнским зеркалом воды, которое Лириопа протянула Нарциссу. Эрот-Фанес[4] из Орфических гимнов имел кроме двух половых органов, мужского и женского, две пары глаз Маленький Дионис, играя со своей юлой, ромбом и костями, упад в зеркало (мир) и был изрезан на куски Титанами.[5] Зеркало Ди. ониса — это зеркало Нарцисса, и оно же — зеркало Августа. Римляне заимствовали у греков почти все, что имело отношение к театру; так, Август, в последний день жизни, «потребовал зеркало» (petito speculo). Вот как Светоний рассказывает о смертном часе императора («Жизнь двенадцати Цезарей», XCIX): «Он велел причесать себя и разгладить одутловатые щеки. Затем приказал впустить друзей и спросил, хорошо ли он, на их взгляд, сыграл и завершил комедию своей жизни. И даже добавил по-гречески традиционную формулу: «Если пьеса вам понравилась, наградите ее аплодисментами и выразите дружно свою радость! (charas)». После этого он отослал их. И в ту же минуту внезапно почувствовал сильный испуг (subito pavefactus). Он успел простонать, что его увлекают прочь сорок юношей (quadraginta juvenibus), и скончался».
Актеон не знал, что застанет Диану нагою. Собаки пожрали этот устремленный на богиню взгляд. Взгляд становится жертвой страсти того, что ему неведомо. Желание увидеть — вот что такое неизвестность. Август призвал к себе Овидия и покарал его ссылкой, согласно закону, выраженному «в нескольких строгих и мрачных словах», ибо тот увидел нечто, чего ему видеть не полагалось, — мы никогда не узнаем, чего именно. Строфа 103 книги II «Скорбных элегий» гласит: «Зачем увидел я нечто (Cur aliquid vidi)? Зачем сделал мои глаза преступными? Зачем лишь после этой опрометчивой неосторожности понял я свою вину (culpa mihi)»? Овидий сам сравнивает себя с Актеоном (inscius Actaeon). «Божество не прощает даже неумышленного оскорбления. День, когда свершилась роковая моя оплошность (mala error), стал днем крушения моего дома (domus)».
Август сослал Овидия на край света — в ледяной край дикой Паррасии. «Никто доселе не видывал столь дальних краев. За моей спиной — пустота. Морская вода скована льдами». Это первое письменное свидетельство осознания самого себя. «Я тот, кто тщетно пытается обратиться в камень. В записках моих я повествую о себе. Я силюсь не умереть в молчании. Стремление писать книги — это болезнь, близкая к безумию». Существует цепкая, неразрывная взаимосвязь между утраченной вещью, вещью, не имеющей цены, тем, что называется monstrum, химерой, чудом, искусством. «Две вещи сгубили меня — мои стихи и моя оплошность (Perdiderint cum me duo crimina: carmen et error). О второй я должен умолчать (silenda culpa)[6]».
Юлий Басс говорил: «Мы действуем с большей решимостью, когда не видим, что делаем. Пагубность нашего поступка (atrocitas facinoris) от этого меньше не становится, но испуг (formido) слабее» (Сенека Старший, «Контроверсии», VII, 5).
Тела не могут дистанцироваться от того, что они собой представляют. Тела не повелевают в полной мере своими органами. Мы наслаждаемся другим телом, но никогда не владеем им до конца. То же самое происходит, когда мы захвачены чтением: мы уже не ощущаем книги в руках, мы перестаем жить, быть самими собой. Наше тело существует в сознании (conscientia) лишь как объект страдания или видимость в глазах других. Трагедия любовников состоит в том, что им никогда не удается достичь полного взаиморастворения в любви. Любовь пуритански скупа. Любовники умалчивают о своих объятиях, ибо им не дано прожить этот миг в полной мере. Достичь идеального слияния тел, отдаться друг другу до конца — вот самое трудное в любви. Мы лишены способности безраздельно властвовать над своим телом. Мы никогда не бываем достаточно immeditatus. Наслаждение ускользает от нас, оборачиваясь забытьём, торопливым утолением страсти.
Легенда о Нарциссе доказывает невозможность увидеть самого себя, невозможность gnothi seauton, невозможность взгляда назад, в прошлое. Орфей, перебирая струны своей лиры, пытался утолить скорбь по жене, которую он любил и потерял. «Одиноко бродил он на диком берегу и неумолчно пел. День занимался, день угасал, а он все пел. Он спустился в недра Тенаре. Он пересек священный лес, окутанный черным туманом страха. Он попал в царство теней, к их грозному повелителю. Он запел, и из бездны Эреба, разбуженные звуками этой песни, возникли бледные подобия существ, лишенных света (simulacra luce carentum), неосязаемые тени (umbrae tenues). Их было бесчисленное множество. Они теснились, точно птицы, что укрываются в листве деревьев или в кустах, когда приходит ночь или когда рев урагана прогоняет их с гор. Средь них были тени матерей и супруг, героев и детей. Они поднимались из зловонной бездны ужасного черного болота, и мерзкие тростники Коцита стояли вкруг них грозной стражей. Стикс, с его девятью кругами, держал их в плену. Ветер утих. Трехглавый Цербер застыл в недоумении. Остановилось колесо Иксиона. Он уже возвращался назад с Эвридикой. Прозерпина велела ему идти впереди, перед женой, не оглядываясь. Он выходит из тьмы, видит дневной свет как вдруг внезапное безумие овладевает им. Он остановился (Restitit)… Уже совсем близок лучезарный берег, уже Эвридика возвращена ему, но тут, забыв обо всем (immemor), ослабев душою, он обернулся назад (respexit). Он стоит лицом к лицу с нею. Он бросает на нее взгляд. И тогда из Авернской пучины поднимается ужасный троекратный вопль (fragor). И Эвридика заговорила: «Орфей какое безумие погубило меня? Какое безумие погубило тебя самого? Второй раз возвращаюсь я туда. Второй раз сон затуманивает мне глаза и уносит в бесконечную тьму». И как тает в воздухе призрачный дымок, так и она внезапно скрывается из вида (ex oculis subito). Тщетно Оробей пытается задержать тени. Орфею никогда больше не перейти вспять ужасное болото. Лодочник Орка не позволил ему вернуться. Уже Эвридика отплывала, ледяная и безгласная, в адской барке. Семь полных месяцев свершили свой бег, а он все оплакивал ее над волнами пустынного Стримона, у подножия горы. Тигры в своих логовах лили слезы, слыша его безутешные рыдания. Дубы трепетали от звуков его песен. Никакая любовь, никакой новый союз не могли смутить его душу: он оплакивал отнятую у него (raptam) Эвридику и бесполезные дары Дита. Его верность разгневала других женщин (matres) страны киконов. Во время мистерий, в разгар ночных оргий в честь Бахуса они схватили юношу, растерзали на части и разбросали его члены по полям. А голову его, оторванную от тела, Эагр Гебр забросил в волны, взбурлившие вокруг нее. И тогда все услышали голос Орфея: его язык призывал Эвридику. Губы его, вместе с последним вздохом, исторгли ее имя, повторяя: «Эвридика!» И берега вдоль реки подхватили: «Эвридика!» (Вергилий, «Георгики», IV, 465).
От самосозерцания до омофагии всего лишь один шаг. Ненависть к себе выросла до устрашающих размеров. Во время гражданских войн один легионер отрубил голову своему соотечественнику. Голова, скатившаяся на камни мостовой, успела сказать убийце: «Ergo quisquam me magis odit quam ego?»[7] (Значит, кто-то ненавидит меня более, чем я сам?). Вот первый христианин в истории человечества, появившийся за шестьдесят лет до пришествия Христа.
Ответ Тиресия Лириопе звучит вполне ясно: «Человек живет, если не знает самого себя». Нарциссы же погибают. «Ego» обречено смерти. Как фасцинус (facinus на латыни — это сам акт, само преступление) притягивает взгляд человека, повергая его в эротическое оцепенение, так взгляд Нарцисса, обращенный на самого себя (sui), побуждает его к «самоубийству» (вот здесь-то fascinus и превращается в facinus). В римских изображениях Нарцисса отраженный образ — это деталь в самом низу фрески, иногда вовсе уходящая за ее край. У Нарциссов эпохи Возрождения отражение — это уже часть картины, весьма существенная для художника, — она занимает центр полотна. Отражение в произведении искусства всегда зачаровывает сильнее, чем сама модель, вдохновившая художника, ибо художественные произведения меньше соотносятся с жизнью и метаморфозой. Им ближе жесткая застылость красоты, их пронизывает застылость смерти. Существует какая-то часть, более возвышенная, нежели химеры рассудка, служащие источником искусства (менее возвышенным, на их взгляд), которая интегрирует животное начало, неотделимое от человека, и которая меньше подчинена взгляду, что отрывает его от него самого и отделяет от тела. Те, кто любит живопись, подозрительны. Жизнь себя не созерцает. То, что оживляет животность животного, то, что оживляет животность души, не дистанцируется от самого себя. Ego (я) жаждет отражения, раздела между внутренним и внешним, смерти того, что постоянно соотносит первое со вторым. Потому неведение, от которого мы не можем избавиться, нужно любить, как саму жизнь, которая возможна лишь в нем. Всякий человек, уверенный, что он «знает», отделен от своей головы, от изначальной случайности своего рождения. Всякий человек, уверенный, что он «знает», лишается головы; ее отрубают от тела. Его отрубленная голова остается в воде зеркала. То, что обрекает человека на зачарованность (на эротическое смятение), оберегает его в то же время от безумия.
Римские патрицианки расстались с зачарованностью. Римские патрицианки начали отделять себя от вечного течения бытия, различать желание и испуг, eros и pothos, соитие и любовь (деспотическое и пуританское опьянение, свойственное чувствам, принадлежит политике, но ни в коем случае не эросу). Любое чувство, в отличие от желания, утверждает власть одного человека над другим, подавляет другого, иными словами, порождает феодальное отношение (feodalis) и жажду успеха в социальной экономике, объединяющей родовую собственность и генеалогический наследственный капитал. Подобно тому как ставят экран перед очагом, мужчины в конце концов поставили заслон отвращения к жизни перед сладострастием, а затем и перед телесной наготой. Женщины же взяли на себя заботу о благочестии, о почитании мертвого бога со стыдливо прикрытыми чреслами, бога, чью жизнь его Отец принес в Жертву; по смерти они оставляли этот капитал храмам и уединенным виллам, передаваемым по наследству. И вот уже не Эней уносит на спине своего умирающего отца из горящей Трои, а Бог-Отец оборачивает благочестие против своего Сына, которого приносит в жертву, как последнего раба (servus). Христианство являет собой феномен колоссальной недвижимости — наследие, оставленное римскими патрицианками, разведенными, овдовевшими или лишившими наследства своих сыновей. Христианство — тот самый мертвый сын, которого матери несут на спине. Главная ненависть к желанию связана с этим детоубийственным или, по крайней мере пуританским стремлением, которое обеспечивало будущую жизнь и позволяло бесконечно приумножать это недвижимое достояние. Ни Ветхий, ни Новый Заветы никогда не проповедовали отказ от воспроизведения, завещание храму родовых поместий, социальный или антифискальный анахорез и taedium vitae.
Римская сексуальность была подавлена не волею императоров, не религией, не законами. Римская сексуальность самоуничтожилась. Ее место заняла сентиментальная любовь — странная связь, когда сама жертва становится палачом. Те, кто попал в это рабство, свыклись со своим бессилием и начали почитать свои цепи, как бога. Более того, они постарались стянуть их потуже. Они поспешили освятить и превознести зависимость женщины и облагородить эту рабскую зависимость с помощью торжественных церемоний, с целью умерить испуг, превратившийся в страх.
Новая, чиновничья знать расширила понятие зависимости, подчиненности. Как чиновник зависел от императора (princeps), так же и сознание зависимости между мужем и женой родило понятие взаимовыбора, которое реорганизовало, сделав внешне добровольной (то есть окрашенной любовным чувством) связь, прежде строившуюся на неравенстве и зависимости женщины от мужа. Отец знатного семейства, глава независимого рода, отказался от клановой борьбы и стал главой семьи императорского чиновника, слугой повелителя. От этого рабского подчинения другому недалеко и до самоподчинения. Так самосозерцание Нарцисса превратилось в самосъедение Беллерофонта.
Прежде нагота испытывала страх перед чужим взглядом. Затем она испытала страх под взглядом Бога. И наконец, она стала испытывать страх под собственным взглядом. Эти новые зависимости сломали прежние отношения между супругом, супругой и детьми. Тогда же инцест между матерью и сыном начал рассматриваться как преступление: он противоречил новым устоям супружеской жизни, он стал horror. Обычай, возбранявший римским матронам кормить грудью младенцев, вновь подвергся сомнению, — правда, женщины от него все-таки не отказались. Фаворин из Арля тщетно призывал матерей-христианок выкармливать своих детей. Желание перестало сопрягаться с рабством: рабы, проникшись новыми веяниями и недовольные насильственным обращением сверху, сами начали создавать секты и вступать в браки подобно свободным людям, В результате гомосексуализм, за отсутствием предложения, а потом и спроса, постепенно становится маргинальным, как любое явление, переставшее быть статусным. Забота о приличиях, подавление сексуальности, автаркия, самоограничение — вот понятия, которые, не будучи связаны между собой изначально, в конце концов объединились в нечто целостное. Стоицизм оказался настолько близок самодостаточности, что сексуальность стала выглядеть грубой, непристойной. Любовь к жене, детям, друзьям допускалась лишь в разумных пределах, если человек не мог совсем отказаться от них. Одна фраза из послания Павла к римлянам в 57 году вполне могла бы принадлежать стоику: «Melius est enim nubere quam uri» (Лучше жениться, нежели сгорать от желания).
Появились первые брачные договоры. Скоро в них начали включать статьи, согласно которым супруг обязывался не брать себе ни наложниц, ни pais. И хотя подобные документы не оформлялись официально, их можно назвать первыми брачными контрактами Запада. Так, император Марк Аврелий, последователь секты Эпикура, похвалялся в своих дневниках тем, что не притронулся к служанке по имени Бенедикта и даже к рабу (которого звали Теодотом), несмотря на снедавшее его желание. Этот внутренний (уже почти психологический) самоконтроль выводит нас к теме subjectus и obsequens maritus. Сдержанность, послушание означают почти пассивность. Римляне времен Республики назвали бы такого супруга impudicus; по их мнению, это человек, попавший под иго Юноны Юги. Любовь genialis превращается в любовь conjugalis. Супружеская любовь — это миф, согласно которому покорность как следствие силы (obsequium как следствие virtus) становится психологической и религиозной (pietas и fides).
Таким образом, между эпохой Цицерона и веком Антонинов сексуальные и супружеские отношения претерпели изменения, совершенно независимо от какого бы то ни было христианского влияния. И метаморфоза эта произошла за сто или более лет до распространения новой религии. Христиане приписали себе заслугу новой строгой морали, которая на самом деле оформилась во времена Римской империи, при императоре Августе и его зяте Тиберии.
Христиане причастны к изобретению христианской морали не более, чем к изобретению латинского языка: они просто приняли и то и другое, как будто это заповедал им Бог.
Сексуальная мораль полностью перестала быть вопросом статуса. Эта трансформация не повлекла за собой ни малейшего изменения в законах Империи по той простой причине, что они-то ее и породили. Эта эволюция не сопровождалась никакими переменами в идеологии и новой теологии империи, установленными Августом Агриппой, Меценатом, Горацием, Вергилием, — обе они были не только сохранены, но и укреплены ими. То был медленный, глубинный, естественный процесс под охраной страха. Однако человеческий страх не может ничего охранять, поскольку страх — это то что охраняет человека от желания. Поскольку страх ограждает себя от желания, он охраняет лишь бессилие или в крайнем случае ущербность, усугубляя боязнь. Иными словами, он охраняет «ничто», он охраняет «не-жизнь» — стыдливо прикрытые чресла тело, до такой степени отверженное, что оно стало мертвым и его навечно прибили гвоздями к кресту.
ГЛАВА XIV СУЛЬПИЦИЙ И РАЗВАЛИНЫ ПОМПЕИ
В двадцати двух километрах от греческого Неаполиса (ныне Неаполь) находился залив, которым владели оски. Города Помпеи и Геркуланум также были построены греками, первый на берегах Сарно, второй на севере. Этруски вытеснили и осков и греков. В 420 г. до н. э. самниты отбили у них Кумы и Помпеи. Римляне захватили Помпеи в конце III века. В I веке Помпеи взбунтовались против Рима, и Сулла осадил их. Римляне владели городом с его двадцатитысячным населением вплоть до того дня, когда Везувий заявил свои неоспоримые права на эту землю, которую некогда вознес над морем.
В ту эпоху Везувий представлял собою самую обычную гору. Его склоны были покрыты лесами, виноградниками, кустарником, огородами. Казалось, будто вулкан спал непробудным сном с незапамятных времен. В царствование Нерона, одним солнечным зимним днем 5 февраля 62 года, дома вздрогнули от подземного толчка. Жители в страхе бежали. Толчки прекратились, люди вернулись на свои места.
Семнадцать лет спустя, в правление императора Тита, 24 августа 79 года началось извержение вулкана. Оба Плиния оказались поблизости от него, старший из них — дядя — нашел там свою смерть. Письмо Плиния Младшего Тациту рассказывает об этом внезапном «переходе» к смерти.
Плиний Старший отличался необыкновенно дородным сложением. Он находился в Мизене, где командовал флотом. «В девятый День перед сентябрьскими календами, около семи часов, моя мать сообщила ему, что в небе появилась зловещая, невиданная по размерам туча. Дядя мой только что окончил трапезу и отдыхал на ложе, читая и диктуя. Он попросил подать ему сандалии (soleas). Тем временем туча приняла форму дерева (arbor), напоминавшего пинию (pinus) с раскинутыми ветвями.
Плиний Старший тотчас приказал готовить либурнское судно с двумя рядами гребцов. Он спросил племянника, не хочет ли тот интереса ради, сопровождать его. Но Плиний Младший отвечал что предпочел бы остаться дома, читать Тита Ливия и делать выписки. Дядя обнял на прощанье сестру (мать Плиния Младшего). На пороге дома ему вручают записку от Ректины, супруги Каски, испуганной надвигающейся опасностью (ее вилла находилась внизу, на берегу моря). «Тогда дядя мой меняет планы. Он приказывает снаряжать квадриремы, спешно плывет к тому месту, откуда бежит все живое, берет курс на самый опасный затемненный участок берега и, совершенно не ведая страха, зорко наблюдает за всеми перипетиями катастрофы, внятно и четко диктуя свои впечатления писцу, невзирая на густой горячий пепел, сыплющийся на палубу корабля».
Судно приближается к берегу. На людей обрушивается град пепла и камней, черных, раскаленных, оплавленных огнем. В воде громоздятся обломки скал, препятствующие подходу судна. Плиний обращается к рулевому со словами: «Правь к дому Помпониана!» Помпониан жил по другую сторону залива, в Стабиях. «Когда дядя смог наконец обнять Помпониана, тот дрожал от ужаса». Помпониан сообщил, что приказал погрузить все свои вещи на корабль, в ожидании, когда ветер изменит направление. Плиний просит его приготовить баню. Затем они ужинают, притворяясь веселыми и беззаботными.
В ночной тьме Везувий светился сразу в нескольких местах. Его багровое зарево выглядело во мраке особенно ярким. На склонах пылали виллы, покинутые обитателями.
«Тут дядя пожелал отдохнуть и погрузился в сон, в естественности которого невозможно было усомниться. Дядя был необыкновенно тучен, и дыхание его, как у всех толстых людей, было тяжелым и звучным (gravior et sonantior). Напуганные обитатели дома, ходившие мимо его двери, могли, даже не напрягая слуха, убедиться в том, что он мирно спит».
Двор, прилегающий к дому, быстро заполняется смесью пепла и пемзы: если Плиний еще ненадолго замешкается в своей комнате, он рискует вообще оттуда не выбраться. Его будят, и он идет к Помпониану. Никто не спит, собравшиеся держат совет. Можно ли оставаться под крышей дома? Мощные частые толчки расшатывают стены, и те рушатся. Быть может, на открытом месте не так опасно? Но пемза и обломки скал, падающие с горы, также угрожают жизни людей. Они решают защитить головы, накрыв их подушками (cervicalia), привязанными полотенцами. Так они спасутся от летящих сверху камней.
Настало утро. Однако сгустившийся вокруг них мрак по-прежнему был чернее ночной тьмы. Люди решили выйти на берег и взглянуть, нельзя ли сесть на корабль, но море оказалось слишком бурным. «Дядя был настолько грузен, что ему было трудно дышать: он имел тонкое и слабое от природы горло, и насыщенный пеплом воздух душил его. На берегу расстелили простыню (linteus), и дядя улегся на нее. Он несколько раз просил принести ему холодной воды и пил ее. Пламя и сернистые испарения обратили в бегство его сопровождавших. Запах серы (odor sulpuris) разбудил его. Опираясь на руки двух рабов, он было встал, но тут же рухнул наземь».
Когда, спустя три дня, тьма рассеялась, его тело было найдено нетронутым, «в тех же одеждах, что моя мать и я видели на нем при расставании. Он выглядел скорее спящим (quiescenti), нежели мертвым (defuncto)».
Плиний Младший завершает свое послание к Тациту словами: «Предоставляю вам самому выбрать нужные отрывки. Письмо — это ведь не история».[1] Быть может, это и впрямь не история. Но зато это — живописание. Застывший миг перехода к смерти. И как живопись изображает augmentum, приступ болезни, момент кончины, трагический миг превращения, так же и письмо Плиния о гибели Помпеи являет собою фреску. Это не отчет о происходящем, это мгновение, вырванное из жизни. И истинный трепет жизни придает ему тот самый миг, что предшествует смерти.
«Живой мертвец» — это в высшей степени римское понятие. Можно даже сказать, что это ритуал, свойственный римской кухне. У римлян повар выставлял напоказ живую рыбу перед собравшимися на пир людьми. Гости присутствовали при моменте агонии. Они любовались тем, как трепещущее тело барабульки краснеет, а затем бледнеет, как она после нескольких судорожных подскоков недвижно замирает на мраморном столе; лишь после этого повару Дозволялось унести ее в кухню. Одна женщина у Плавта («Ослы», 178) точно так же описывает мужчин: «Любовник подобен рыбе. Он ничего не стоит, если не выловлен совсем недавно. Он должен быть свежим, он должен пускать сок». Гости созерцают бьющуюся рыбу, предназначенную для еды, подстерегая миг ее перехода к смерти. Это зрелище «страстей» умирающего бога. Это прыжок Ныряльщика из Пестума. Это арена. Это погребенные под пеплом Помпеи или Стабия. Это Паррасий, рисующий старика раба из Олинфа.
Существует и второе письмо Плиния к Тациту. Это ответ на вопрос Тацита, что он, племянник, испытывал 2 августа 79 года, в десять часов пятнадцать минут утра, когда читал дома, на ложе, книгу Тита Ливия (librum Titi Livi) и делал из нее выписки.
По словам Плиния, в комнату вбежал некий испанец, который увидев Плиния за чтением, осыпал его ругательствами и закричал что весь мир объят пламенем и гибнет. Плиний Младший на миг поднял глаза и вновь обратился к книге (volumen), придерживая пальцем краешек страницы.
Свет, вспоминает он, как-то неестественно померк (quasi languidus). По стенам зданий змеились трещины. Рабы в ужасе метались по дому. Испанец давно исчез. Наконец Плиний Младший и его мать решают покинуть виллу. Они присоединяются к объятой паникой толпе (vulgus attonitum), которая ускоряет шаг, почти бежит. Выбравшись за городские стены, они видят, что море отхлынуло, обнажив песчаное дно, усеянное погибшими обитателями глубин. Небо затянуто чудовищной черной тучей (atra et horrenda). Плиний поддерживает мать, которой мешают идти почтенный возраст, полнота и страх. «Сверху сыпался густой горячий пепел. Я обернулся (Respicio): сзади на толпу надвигалась черная мрачная пелена, подобная волне прилива, грозившей затопить людей».
Они сели на обочине, в полной темноте. Плиний уточняет: «В темноте, какая бывает в запертой комнате, где погашены все огни» (nox qualis in locis clausis lumine exstincto). Вокруг раздавались стоны женщин, плач младенцев, крики мужчин. Тьма мешала разглядеть лица. Одни люди искали близких, пытаясь распознать их по голосам. Другие вздымали руки, взывая к богам. Третьи — их было значительно больше — кричали, что богов больше нет, что эта ночь станет вечной и последней на земле. Дождь из пепла становился все гуще и тяжелее. «Время от времени мы вставали, чтобы стряхнуть его. Я не стонал, не жаловался; я думал о том, что гибну вместе с окружающим миром и что этот огромный мир гибнет одновременно со мной».[2]
Однако время не ждет. Куда ни глянь, всюду затаилась смерть. Меланхолическое, почти психологическое (и, уж по крайней мере, в высшей степени индивидуальное) впечатление от созерцания руин впервые было выражено римским патрицием Сервием Сульпицием в письме к Цицерону, датированном мартом месяцем 45 г. до н. э. и написанном по случаю кончины дочери этого последнего, Туллии, умершей при родах в возрасте 31 года на Тускуланской вилле. Скорбь Цицерона была безмерна, ему писал весь Рим. Цезарь прислал ему письмо из Галлии. Брут, Луций, Долабелла также поспешили выразить несчастному отцу свое сочувствие. Сульпиций, в ту пору губернатор Греции, направил Цицерону письмо непривычного для того времени содержания. Это одна из первых проникнутых меланхолией заметок, связанных с «туризмом» в нашем понимании («Ad familiares», IV, 5): «На обратном пути из Азии, следуя на корабле из Эгины в Мегару, я разглядывал окружающий пейзаж. Эгина уже осталась за кормою, Мегара была впереди, Пирей — справа, слева же — Коринф. Некогда все эти города процветали и славились на весь мир. Ныне же, мало-помалу погребаемые в пыли собственных развалин, они являют собою зрелище плачевное. Увы, говорил я себе, как же мы, самой природою обреченные на столь краткое земное существование, осмеливаемся стенать над близкими нам умершими, когда вокруг простираются мертвые города?! Поверь мне, Цицерон, мысль эта придала мне сил. Попытайся же и ты утешиться ею!»
Поистине, это апофеоз того самого Vixi, что римляне унаследовали от этрусков, выбивавших на могильных камнях слово Lupu. Гораций также писал на тему «Я жил» — утверждение, которому не страшна никакая смерть, ибо оно превращает сознание мимолетности существования в опору для каждого мига нашей жизни и способно вырвать то, что мы переживаем, у обманчивого, воображаемого, неверного будущего, и вырвать скорее, чем у тени того, что поглотила смерть. «Immortalia ne speres (He жди ничего от бессмертных вещей)[3] — вот совет, который дают человеку и год, и время года, и единый краткий час. Мы без конца встречаемся с древними царями Рима, и ставни наших домов распахиваются навстречу заре. И без конца краткий миг сливается с вечным берегом. Pulvis et umbra sumus[4] (Мы созданы из песка и тени). Затихший на миг ураган преображает нас, даря лицо, обращенное к свету. И пусть душа, довольная настоящим, возненавидит беспокойство, с которым мы ждем будущего».
В книге пятой «Тускуланских бесед» Цицерон рассказывает о том дне, когда он прогуливался в окрестностях города Сиракузы в сопровождении нескольких друзей и группы рабов; вдруг он увидел в колючих зарослях ежевики, неподалеку от портика Агридженте, Низенькую колонну, украшенную изображением цилиндра и круга. Кому удалось вписать сферу в цилиндр? Архимеду. Чья это могила? Какого-то мертвеца. Следовательно, это могила Архимеда. Тотчас Цицерон приказал рабам взять мотыги и расчистить надгробие ученого. Затем он продиктовал эпитафию: «Случай повелел бедному гражданину Арпина отыскать для жителей Сиракуз могилу величай шего из гениев, коих приютил их город».
Поссидий сообщает («Жизнь Блаженного Августина», XXVIII), что Августин к старости любил повторять слова Плотина (которые этот последний взял у Эпиктета): «Для того, чтобы считаться великим, недостаточно принимать всерьез падение деревянных и каменных обломков (ligna et lapides) и смерть смертных». И однако, во время осады Рима королем ломбардов Агилульфом Блаженный Августин плакал над сожженными деревянными строениями и разбитыми каменными стенами города, над разрушением всего, что могло быть разрушено.
Любовь к руинам породила страсть к реликвиям и стала источником тех долгих меланхоличных излияний, что открыли эпоху средневековья. Фульгенций начинает так: «Да не поглотит земля воспоминание о том, что мы есть…» Иероним продолжает: «Я всего лишь прах, горсть праха, пыль земная». Оренций завершает: «В тот миг, когда мы начинаем говорить, мы начинаем и умирать. Поток жизни безмолвно несет нас к смерти. Мы непрерывно стремимся к последнему дню нашей жизни» (urget supremos ultima vita dies).
Наматиан рассказывает о путешествии, совершенном на корабле в 417 году вдоль тирренского побережья: он увидел там одни лишь руины. Приход христианства ввел в обиход этот вид сентиментального «некрофильского» туризма, родоначальником которого стал губернатор Сервий Сульпиций. В 546 году, во время осады Рима Тотилой,[5] голодные жители пекли лепешки из крапивы, растущей среди развалин. В январе 547 года Тотила изгнал всех жителей из города, и в течение сорока дней Рим был безлюден. За пятьсот лет до этого Марциал написал («Эпиграммы», IV, 123): «Нигде нет бога, и небеса пусты» (Nullos esse deos. Inane caelum).
Слово «villa» некогда означало «усадьба». Частное владение стало называться «mouseion». Сжигание превратилось в погребение. На саркофагах во множестве появились портреты умерших. За ними последовали частные цензурированные письма не политического характера. Эти последние породили жанр автобиографических повествований. Римский индивидуализм, от Овидия до Плиния Младшего, — это обожествление виллы, погружение в книги, превращение души в крепостную башню, укрытую за стенами и валами, обособившуюся не только по отношению к городу, но главным образом по отношению к обществу, жесткая, бескомпромиссная оппозиция «виллы» к греческому «polis», к римскому «urbs». Сама судьба французкого слова «ville» (напомню: villa означала усадьбу) свидетельствует об отношении к древним городам их обитателей.
Классический — иначе говоря, просвещенный — мир никогда не претерпевал крушения. Просвещенные люди (eruditi) при Хлодвиге жили лучше, чем при императоре Юлиане, и гораздо лучше, чем при Августе. Стойкий пессимизм был изначально присущ римскому менталитету. Настоящему римлянину надлежало быть серьезным до суровости, торжественным и саркастичным во всем, даже в сладострастии, спокойным до медлительности, степенным и меланхоличным. Страх показаться глупцом, всеобъемлющая подозрительность к разуму, интеллекту (греческому «logos») — вот также характерные черты римлян, составляющие основу жесткости и трезвого реализма их натуры. Они верили в «отрицательный прогресс». Верили, что время, чем дальше, тем больше, усугубляет мерзость бытия и ужас в глубинах человеческих душ. Это убеждение в катастрофическом ухудшении всего и вся, это стремление спастись от него в уединении садов, в автаркии виллы, или острова, или пустыни (eremus) составляло сущность их консерватизма. По их мнению, любая перемена вела к худшему. Действительность же всегда опровергала самые мрачные ожидания.
Плиний Младший бежал из города на свои «виллы», как потом бежал из своей виллы в ночь извержения Везувия. На юге, у дороги, ведущей к морю, стояла маленькая «вилла», принадлежавшая виноградарям. Ее обнаружили в XVIII веке. Рокко Джоаккино де Алькубьерре произвел там раскопки, так же, как в Геркулануме в 1754 году, так же, как в Стабиях в 1754 году. В 1763 году древняя civita на холме обрела свое имя — Помпеи. Обнаружить ее помог колодец, который князь д'Эльбеф приказал вырыть рядом со своим домом; об этом написал Винкельман в 1768 году, незадолго до смерти от руки убийцы. Князь построил дом, намереваясь поселиться в здешних местах. Дом был расположен на задах францисканского монастыря. Колодец, о котором идет речь, вырыли рядом с садом босоногих августинцев. Рабочим пришлось прорубаться сквозь застывшую лаву, под ней оказались туф и слой пепла. Власти воспользовались открытием руин, чтобы запретить князю д'Эльбефу продолжать начатые раскопки, и дело остановилось на целых тридцать лет. Затем некий полковник неаполитанских инженерных войск возобновил их по приказу своего начальства. Этот человек был так же далек от археологии, как Луна от Земли. Он обнаружил на стене одного из публичных зданий длинную надпись из каменных букв и приказал срубить ее, не озаботившись предварительно скопировать текст; буквы вперемешку побросали в корзину и в этом состоянии представили неаполитанскому королю. На вопрос, что же они означают, никто не смог ответить. Буквы были выставлены в Кабинете находок, и посетители могли упражнять фантазию, располагая их по своему разумению.
В 1819 году хранитель Ардити перебрал и расположил по новому 102 весьма шокирующие находки, обнаруженные во время раскопок Помпеи, начатых в 1763 году, и создал так называемый «Кабинет непристойных изображений». В 1823 году эта закрытая коллекция сменила название, превратившись в «Кабинет запретных экспонатов». В 1860 году Александр Дюма, назначенный хранителем музея по приказу Джузеппе Гарибальди, окрестил кабинет «Порнографической коллекцией». Итак, именно Дюма открыл для нас это слово, автором которого 2300 лет назад стал живописец Паррасий.
ГЛАВА XV ВИЛЛА МИСТЕРИЙ
Нужно сохранить смирение перед ее тайной вплоть до того мгновения, когда взгляду уже ничто не мешает. Один лишь сон властен раскрыть эту тайну — только погруженному в сон, и только ему, в виде образов. Сон никогда и ни с кем не разделяют. Его невозможно разделить даже с речью. Стыдливость укрывает половой орган под покровом умолчания. Эта тайна недоступна языку не только оттого, что она древнее его на много тысячелетий, но прежде всего оттого, что во всех случаях стоит у его истоков. Речь навеки лишена тайны. Так человек, заговоривший вслух, лишен ее, поскольку навсегда покинул материнское чрево (vulva). Ибо он уже не infans, но maturus, adultus. Ибо он уже стал речью. Вот отчего эта тайна, «которая не говорит» (infans), столь редко смущает его речь. Вот отчего, во-вторых, «образ» этой тайны смущает человека — до такой степени, что он видит сны. Вот отчего, наконец, видение этой сцены сковывает его молчанием и погружает во мрак.
Филострат описывает беседу Аполлония[1] с Феспесионом, которому он объясняет, что если копированием можно изобразить видимое глазу, то воображение способно запечатлеть невидимое. И тут Аполлоний резко заключает: «Если копирование (mimesis) часто отступает в испуге, то фантазия (phantasia) — никогда!» (Флавий Филострат, VI, 19).
Цицерон писал, что больше всего на свете он боится тишины, которая воцаряется в Сенате в тот миг, когда все ждут первого звука голоса.
При входе на виллу Виноградарей, к югу от Помпеи, сразу ощущаешь тишину, что предшествует испугу. Платон говорил, что испуг есть первый дар красоты. Я добавил бы, что вторым ее даром является, быть может, неприязнь к слову (нежелание говорить). На немой фреске изображен читающий мальчик. Мы никогда не услышим шороха разворачиваемого свитка, который он держит обеими руками.
Мне кажется, никто еще до сих пор не отметил удивительной стыдливости этой фрески. Она вполне могла бы носить такое название — «Стыдливость». Слева, у самого края, сидит в кресле матрона. Затем ребенок, читающий в тишине маленькой залы. В центре находится некий предмет, прикрытый тканью. Три стены залы предлагают взгляду зрителя тайну целомудренной стыдливости, окутавшей женщин, детей, мужчин, демонов и богов.
В дионисийских оргиях, которые римляне называли вакханалиями, целомудрие, стыдливость, по их понятиям, были сродни нечестивости. Bacchatio заключалась в том, что мужчину кастрировали, раздирали на части и тут же съедали. Лишь такое неудержимое, фаллическое вожделение могло достойно «освятить» тело Венеры.
И однако, эти три небольшие стены в полумраке предлагают взору сцену стыдливости. Тела людей, даже при том, что они обнажены, застыли в торжественной недвижности. Мальчик читает. Это символ памяти. Памяти о «беспамятном воспоминании», живущем в каждом из нас.
Мальчик читает, и то, что он читает, и есть изображенное на фреске. Он читает, отягощенный страхом. Все существа, участвующие в этой сцене, отягощены страхом. Эта настенная chora дышит испуганным, немым величием.
Любая древняя фреска посвящена некоему сюжету в целом и одновременно привязана к его ключевому моменту, ведущему к смерти, скрытой от глаз зрителя. Картина повествует обо всем ритуале «в единый миг», тот самый миг, что подготавливает augmentum, взрыв, кризис, кульминацию, обнажение (anasurma) фасцинуса, вакханалию, предание смерти и пожирание (omophagia). Таким образом, когда текст в целом отсутствует, любая римская фреска кажется загадочной.
Испуг есть признак видения, миража. Испуг, страх, боязнь — не синонимы. Боязнь — это чувство ожидания близящейся опасности. Страх предполагает наличие хорошо известного источника опасности. Испуг же означает состояние человека, внезапно попавшего в опасную ситуацию, к которой ничто его не подготовило. Испуг близок к изумлению. В этом смысле комната мистерий на вилле Виноградарей — это комната испуга перед видением.
Тайна возникает в тот миг, когда к испугу примешивается зачарованность. А для возникновения зачарованности нужен фасцинус. Фасцинус находится в центре фрески, прикрытый темной тканью в священной ивовой корзине. Чувство испуга, религиозного или чисто человеческого, порождает двойственное ощущение изумления и подавленности. Это сочетание сковывает зрителя, сообщая ему то, что римляне определяли и как tremendum и как majestas. Чувство подавленности, в соединении с зачарованностью, и есть именно то ощущение, которое испытывает создание перед своим создателем, ребенок — перед родителями (парой dominus et domina), взгляд — перед сценой первого соития.
Невидимая церемония, скрытая за видимой фреской, подразумевает обнажение мужского тела и последующее человеческое жертвоприношение во время вакханалии.
Когда входишь на террасу виллы (tablinum), взгляду твоему, слева направо, предстают двадцать девять персонажей фрески. С левого края, не сразу заметная вошедшему посетителю, в монументальном кресле восседает женщина — domina, видимо, управляющая церемонией. Юная женщина в свадебном покрывале и греческом пеплуме прислушивается к читающему голосу. Обнаженный мальчик в высоких сапожках читает ритуальный текст, разворачивая свиток (volumen). Молодая женщина, сидящая рядом, положила руку на плечо читающего ребенка. Ее левая рука с обручальным кольцом (anulus) сжимает свиток. Менада в лавровом венке держит в руках круглое блюдо, полное пирожных. Жрица, стоящая возле стола, спиною к зрителям, приподнимает ткань, накрывающую корзинку, чье содержание скрыто от взгляда. Помощница совершает возлияние над веткой оливы, которую протягивает ей жрица. Силен перебирает медиатором струны своей лиры. Сатир с остроконечными, козьими ушами играет на свирели. Фавнесса кормит грудью крошечного козленка. Стоящая женщина с откинутой назад головой испуганно отступает, отмахиваясь левой рукой от того, что она увидела. Покрывало, которое придерживает ее правая рука, высоко вздувается над ее головою от этого резкого движения. Старый силен, увенчанный плющом, протягивает сатиру полный кубок вина, предлагая выпить его. За ними стоит молодой сатир, поднимающий кверху persona (театральную маску). Бог опирается на плечо богини. Здесь фреска безвозвратно испорчена: может быть, Бахус опирается на Ариадну, а может быть на Семелу. Босоногая женщина в тунике (ее пеплум спустился на бедра) стоит на коленях перед ивовой корзиной (liknon), собираясь поднять покрывало над лежащим там фасцинусом. Демоница с широко распростертыми черными крыльями взмахивает хлыстом. Молодая женщина, стоящая на коленях и опустившая голову на колени сидящей служанки в головном уборе кормилицы, подвергается бичеванию. Женщина в темных одеждах, в туго обрамляющей лицо повязке, держит священный жертвенный тирс. Обнаженная танцовщица (она видна со спины) кружится в пляске, ударяя в кимвалы, которые держит в поднятых, чуть согнутых руках. Сидящая женщина причесывается. Рядом стоит служанка, она помогает ей совершать туалет. Маленький Купидон с белыми крылышками протягивает наряжающейся женщине зеркало, в котором отражается ее лицо. Маленький Купидон с белыми крылышками держит лук.
Мистерии надежно хранят свою тайну. Мы никогда не узнаем Элевсинских оргий. Согласно Аристотелю, мистерии эти состояли из трех, частей — ta dromena, talegomena, ta deiknumena (мимика и жест, заклинания, снятие покрова). Трагедия, слово, обнажение. Театр, литература, живопись. Эти «мистериозные» (то есть предназначенные для посвящаемых — мистов) явления соприкасались с сексуальностью и миром мертвых. Мы никогда не узнаем, что это такое, — и, однако, мы их знаем в силу самого нашего существования, как через желание, так и через смерть.
Принято относить виллу Мистерий к 30 г. до н. э. Эрудиты предлагают, по причине ее сходства с одной македонской гробницей, другую дату — 220 г. до н. э. Жрецом (или жрицей) называли того (или ту), кому была доверена священная церемония обнажения фаллоса (phallos). Священную корзину, где покоился фаллос, называли liknon. Из уст обнаженного сосредоточенного мальчика, читающего fatum, выходят legomena. Вся фреска, шаг за шагом, раскрывает то, что называлось dromena.
«Ветры (rhombi) улеглись. Стихла магическая песнь (magico carmine) их буйного полета. Лавр (laurus) застыл в огне, уже погасшем. И лишь одна луна отказывается покинуть небосвод» (Секст Проперций, «Элегии», II, 28).
Церемония лишена смысла, и бесполезно искать его — это просто исполнение священной необъяснимой игры — вакханалии. Здесь нельзя говорить ни о скрытом замысле, ни об искренности; перед нами просто актеры, поглощенные игрой. Добавьте сюда страх, витающий, как воздух, между фигурами (individuus), словно пустота между атомами (atomos). Это священная игра. Это lusus, illusio, in-lusio, погружение в игру. Это те же Мермер и Ферет, играющие в кости под материнским взглядом. Всякая игра поглощает «внешнее», «другое». У церемонии лишь одна цель: отделить того, кому предстоит посвящение (мистов), от остальных (непосвященных). Ритуал мистерии никоим образом не связан с верой. Он просто включает в себя участников игры и отстраняет всех остальных, в том числе и нас, молча созерцающих эти фрески.
Эта megalographia, эта живопись — монументальная, изображающая людей во весь рост, настраивающая на торжественный лад, расположенная над «орфографической» линией, которая служит ей основанием, вобравшая в себя черты и скульптуры и театральной трагедии, — преувеличивает плотскую внушительность тел (римляне называли ее pondus), размывая контуры одежд, равномерно освещая лица и руки, затемняя окружающие предметы, упрощая каждый персонаж «на границе» его тела, «на самом краю» его extremitas, создавая иллюзию законченного присутствия, подчеркивая застывший величественный жест и внутреннее сосредоточенное одиночество.
В римской живописи энергия, сосредоточенная в телах, не распространяется вокруг них в виде действия, объединяющего застывшие тела. Движение остановлено. Может быть, именно это и называется termata technes (определение искусства), выявленные Паррасием, — застывший пароксизм человеческого тела. Квинтилиан писал, что художник должен оставлять свободное пространство между фигурами, чтобы тень от одной из них не падала на другую, — иначе начертанный силуэт не сможет обрести объем в пространстве («Воспитание оратора», VIII, 5). Ксенофонт объяснял, что живописное пространство — это глубина, а не пустота, более того — chфra, то есть сцена, пересеченная линией и предполагающая почти незанятый объем («Домострой», VIII, 18).
Удивительное правдоподобие фрески притягивает зрителя даже при том, что сам ритуал ему неведом. Оно объясняется одновременно и испуганными взглядами персонажей, и «фатальным» словом (мальчик разворачивает volumen и читает fatum), превративпшмся в молчание. Движение всего ансамбля фрески нельзя назвать замедленным — это вечное настоящее. Вечное настоящее означает каменную застылость. Ритуал повторяет путь, где метаморфоза извечно однообразна. Это театр без публики. Единственный зритель — бог, он будет смотреть это представление. Имя ему — Бахус. Фреска запечатлела миг, предшествующий bacchatio в честь Бахуса.
Если фреску датировать III веком, то Фасцинус в священной корзине, прикрытый тканью (sudariolus), — не Приап. Тогда этот бог — сам Либер Патер (Liber Pater). Аврелий Августин, сын декуриона по имени Патриций, пишет в VII книге своего «Града Божьего» (VII, 21): «В те дни, когда чествовали бога, называемого Liber, сей чудовищный орган торжественно водружали на колесницу и провозили сперва по окрестностям, а затем и по городу, от улицы к улице, к самому центру. В городе (oppido) Лавинии Либеру посвящался целый месяц празднеств, в течение которого все жители каждодневно изъяснялись самым непристойным языком (verbis flagitiosissimis) до тех пор, пока торжественная процессия не проносила membrum через форум и не водружала на алтарь в святилище. Там самая уважаемая мать семейства в городе (honestissima) публично украшала венком сей постыдный (inhonesto) член. Таковым священнодействием люди заклинали бога Либера даровать им успешный сев (pro eventibus seminum) и отвести дурной глаз (fascinatio repellenda)».
Liber Pater был богом всех поколений. В день его праздника подростки надевали мужские тоги и становились полноправными членами сословия отцов (Patres). Девушки и юноши собирались вместе, чтобы пить вино, петь песни и перебрасываться непристойными двустишиями, которые назывались фесценнинами. Культ Диониса распространился в Италии с конца III века до рождения Христова; он сопровождался фаллофориями, процессиями вакханок и переодеваниями в нимф и сатиров; мужчины набрасывали на плечи шкуру козла и опоясывались кожаным ремнем или деревянным обручем (olisbos) с имитацией торчащего фаллоса, который назывался fascinum. Дионисийские мистерии вытеснили прежние оргии, a Liber Pater очень скоро растворился в греческом Дионисе, чьи празднества строились на том же культе фаллоса. Такой же бог в древней Этрурии звался сначала Фуфлуном, а затем Пахой. Паха с его мистериями (Pachathuras) был весьма почитаем в Больцене, но мало-помалу эти мистерии захватили и Рим, где Бахус стал римским синонимом Диониса, а мистерии превратились в вакханалии. Результатом вакханалий 186 г. до н. э. стало судебное разбирательство в Сенате и последовавшие за ним жесточайшие репрессии. В 186 г. до н. э. римляне справляли вакханалии у подножия Авентинского холма, в священном лесу богини Стимулы.[2] Ночью вакханки с распущенными, развевающимися волосами, с факелами в руках, ринулись к Тибру. Куртизанка, носившая весьма «фесценнинское» имя — Гиспала Фесцения, — сообщила консулу, что ее юный любовник Эбуций чудом избежал смерти: его мать решила посвятить сына Бахусу, отдав в руки членов секты, в конце священной оргии (bacchatio). Сенат начал следствие и призвал граждан доносить на всех подозревавшихся в подобных преступлениях. Жрецы Диониса были схвачены, оргии осуждены, а убийства людей во время священного ритуала запрещены как в самом Риме, так и в других местах.
Однако решение сенаторов и консула в 186 г. до н. э. не имело успеха. Культ Диониса проник во все слои общества, вплоть до класса патрициев. При Империи он стал самой распространенной мистической религией. В садах и виноградниках Приап заменил античный фасцинус бога по имени Liber Pater.
Трагедии (это греческое слово переводится как «песни козла») были сказками-представлениями, которые устраивались для всего города во время пышных греческих празднеств в честь Диониса. Трагедии давались с 472 по 406 г. до н. э. К концу V века в Греции наступил закат этого жанра, и тогда Горгий дерзнул прибегнуть к другому — письменному. Трудно переоценить заслуги Горгия. Он первым начал размышлять о возможностях языка при создании реальности, отделенной от реального бытия. Он первый «настоящий» писатель. «Мир лишен реальности, — писал Горгий и добавлял: — Даже если бы эта реальность и существовала, мы бы ее не знали. И даже если бы мы могли ее узнать, — заключал он, — то не смогли бы выразить». Еврипид-Трагик восхищался Горгием-Софистом. Еврипид подхватил и продолжил изыскания Горгия. Он описал «свою» Елену — такую, какой он ее увидел в грезах. Троянская война, как и все войны на свете, была всего лишь кровавым побоищем, где люди истребляли друг друга во имя неведомой иллюзии. Он написал «Вакханок». Там говорится: под покровом социального порядка таится необъяснимый беспорядок. Город держится лишь на предании жестокой смерти Жертвы, которая поневоле служит ему козлом отпущения.
Сюжет «Вакханок» Еврипида основан на следующем мифе: Бахус (Дионис) в сопровождении своих менад отправляется в Фивы, дабы воздать почести могиле своей матери Семелы, испепеленной огнем Зевса. На могиле Семелы Дионис посадил вечнозеленый виноградник. Женщины Фив, а с ними Тиресий и Кадм,
присоединяются к погребальной церемонии Диониса. Но фиванский царь Пенфей запрещает ритуальные оргии и сажает женщин под замок. Он приказывает схватить Диониса. Однако богу удается облечь царя в платье участника вакханалии, коснувшись его лба, живота и ног. Объятый безумием Пенфей мчится к Киферону; там его мать и другие менады обнажают царя, раздирают руками его тело и пожирают.
Вот она — bacchatio, свершаемая над жертвой мужского пола, omophagia мистерии.
Между мужчинами и женщинами существует лишь это действо — разрывание на части, разрыв, раздор. Гражданское общество — всего лишь легкий флер, прикрывающий свирепость и людоедство. Нравы и искусства цивилизации — всего лишь дички, привитые к древу жизни, которые непрерывно отрастают. Omophagia: мать пожирает собственного сына, который таким образом возвращается через кровь в тело той, что произвела его на свет. Таков он, этот кровавый экстаз, на коем строится человеческое общество. Каждая мать, исторгающая дитя из чрева, обрекает его смерти. Mainades — греческое слово, означающее «безумные женщины». Они трясли головами и кружились до тех пор, пока не падали в изнеможении наземь.
Именно таков сюжет фрески на вилле Виноградарей. Менада кружится в танце. Посвящаемую (myste) секут розгой. Это миг, предшествующий вакханалии (bacchatio).
В пьесе Еврипида царь Пенфей тщетно пытается положить конец вакханалии и запереть Бахуса в темнице дворца. Еврипид говорит устами Пенфея: «Я приказываю закрыть все двери!» Трагический поэт отвечает устами Диониса: «К чему? Могут ли стены остановить богов?!»
Дионис, бог трагических жертвоприношений козла, бог, восхищавший зрителей своими звериными масками, бог, который заставлял людей кружиться в бешеной пляске и одурманивал их вином, это бог — разрушитель речи, разрушитель всякой сублимации. Он не приемлет компромиссов. Он раздирает любую одежду на первозданной наготе.
Так и на фреске в комнате мистерий: еще миг, и нагота, лишенная покровов, предстанет нашему взору. Бахус уже пьян. Дрожащей рукой он опирается на колонну.
Мессалина считалась самой распущенной женщиной древнего Рима… оттого, что была влюблена. Ювенал описывает совсем юную императрицу,[3] склонившуюся над Клавдием в ожидании, когда он заснет. Тотчас императрица набрасывает на плечи ночной плащ (cucullos), скрывает свои черные волосы под рыжим париком (nigrum flavo crinem abcondente galero) и торопливо бежит по улицам к борделю; откинув ветхий занавес, она входит в нагретый зал (calidum lupanar), выбирает свободную каморку (cellam vacuam) и ложится; здесь ее знают под греческим именем Ликиска.
Не забывайте, что мы находимся в Риме: licisca, в переводе с греческого, означает «маленькая волчица».
Мессалина возвращается во дворец «печальная, еще не остывшая после любострастной судороги, что обострила все ее чувства (ardens rigidae tentigine voluae), изнуренная мужскими объятиями, но не насытившаяся (lassata viris necdum satiata); лицо ее мертвенно-бледно и запачкано копотью лампы (fumocpje lucernae). Она тихонько ложится рядом с императором на ложе (pulvinar), даже не омыв тела, насквозь пропахшего вонью борделя (lupanaris odorem).
Но аморальность юной императрицы заключалась вовсе не в этих ночных эскападах, а в другом: она полюбила мужчину. А любовь, делавшая императрицу рабой мужчины, была для римских матрон куда более запретной, нежели распутство.
Мессалина влюбилась в Силия. Тацит свидетельствует, что это был красивейший из римлян (juventulis romanae pulcherrimum).[4] Он был сенатором. Для того чтобы жить с Мессалиной, он согласился расторгнуть брак с женщиной из самого древнего, аристократического рода — Юнией Силаной. Мессалина шокировала общество тем, что не пожелала делить мужчину с его женой. Она отдалась своей любви с безоглядным пылом, вызвавшим всеобщее осуждение. Поначалу Клавдий закрывал глаза на эту связь. Но Мессалина не слушалась голоса разума; она приходила к Силию открыто, не прячась, на глазах всего города, с многочисленной свитой рабов. Она приказывала нести к нему в дом посуду и мебель из императорского дворца, чтобы задавать пиры. Женщина из рода Антония вела неподражаемую жизнь Клеопатры, влюбленной в Антония (правда, нам неизвестно, дала ли и она своему возлюбленному «смертный» обет, подобный тому, что касался «неподражаемой жизни» ее знаменитого предка).
Силий вообразил, что любовь императрицы принесет ему власть. Он предложил Мессалине усыновить ее детей. Она заподозрила, что он любит ее не ради нее самой и что им движет не столько любовь, сколько честолюбивое намерение стать с ее помощью императором. И она решает идти напрямик. Не находя более поддержки ни в чем, кроме своей дерзости (audacia), как пишет Тацит («Анналы», XI, 12), она решает отказаться от Империи и выйти замуж за Силия. И поскольку римская женщина имела полное право отвергнуть мужа, жертвоприношения были совершены брачный контракт составлен, свидетели явились, и свадьба состоялась.
Рим застыл в изумлении. Приданым Мессалины была Империя. Так кто же получит ее — Силий или Клавдий?
23 августа 48 года, с началом праздников урожая, Мессалина устроила Bacchanalia. Женщины, одетые вакханками, со шкурами диких зверей на плечах, славили виноград, давильни, сусло, богов Либера и Бахуса, кружась в бешеной пляске. Силий переоделся Бахусом. Мессалина, в костюме Ариадны, с распущенными волосами (crine fluxo), стояла рядом с Силием, увенчанным плющом (hedera vinctus) и на котурнах, потрясая тирсом (thyrsum quatiens) вакханки. В это время Клавдий находился в Остии, где он писал «Историю этрусков» (император Клавдий знал этрусский язык). Он отдал приказ казнить свою супругу. Когда центурионы, во главе с Нарциссом, прибыли в Рим, императрица уже покинула празднество.[5] Она сидела у себя в саду, который любила меньше Силия, но больше всего остального на свете (сады эти некогда принадлежали Лукуллу). Рядом с нею находилась ее мать Лепида. Мессалина все еще была в костюме Ариадны. Она велела привести к себе старую весталку по имени Вибидия. Отбросив тирс, она взяла стиль. Прижав его к губам, она размышляла над письмом к Клавдию. Ей бьшо двадцать лет. Заметив между деревьями солдат Нарцисса, она попыталась было заколоть себя стилем, но они опередили ее, и старший из них молча пронзил ее мечом среди садов Лициния Лукулла.
Эти глаза боятся; они отдаляют от себя того, кто их видит.
Зритель становится свидетелем торжественной, размеренной, загадочной, мрачной, пугающей церемонии. Следовало бы воздать почести жестокому богу, возглавляющему церемонию, за то, что он скрыл от глаз людских этот дом виноградарей на дороге, ведущей из Помпеи в Геркуланум. Мне вспоминается монолог, вложенный Сенекой Младшим в уста Федры: «Я бросаю ткацкий станок, изобретение Паллады. Стоит мне взять пряжу, как она выпадает у меня из рук. Все опротивело мне. Я уже не хочу молиться в храме и приносить жертвы богам, вздымать священный факел (sacris faces) вместе с другими посвященными, повинуясь тайным ритуалам, о коих следует молчать; ничто не радует меня. Ночь не приносит мне благодетельный сон. Несчастье мое растет, зреет и жжет меня изнутри (ardet intus) — так бушует пламя в кратере Этны (vapor exundat antro Aetnaeo)».[6] Описанная сцена повторилась несколько веков спустя во всем ее трагическом величии, завершившись не менее роковым исходом. Везувий, придя на смену Этне, нежданно явил миру страшный лик Медузы, и жизнь, кипевшая у его подножия, мгновенно и навеки застыла под слоем лавы и пепла.
Так застыла и эта фреска в ожидании страшного мгновения, которое еще предстоит.
Все, что не красиво, все, что уродливо, все, что превосходит красивое красотой, все, что возбуждает любопытство, заставляющее искать глаза, все это и есть fascinant — зачаровывающее. Вы видите обнаженный член — и не видите его. Он отделен от своей видимости самим соблазном желания, которое наполняет и воздымает его. Он отделен от видения самим соблазном наслаждения, которое умаляет его в оргазме.
Есть бог, который похищает женщин в наслаждении. Есть бог, который возвеличивает мужчин в наслаждении. Древнее искусство — это искусство укрепления, возвышения, могущества, величия. Оно бьшо властью над властью. Оно утверждало могущество бога в его колоссальных статуях, увековечивало власть людей в камне, или в портрете, или на фресках, как некогда песни аэдов увековечивали в памяти городов имена их героев.
Искусство древних неизменно преследовало амбивалентную цель: сочетать красоту (по-гречески kallos, по-латыни pulchritudino) с превосходством или величием (по-гречески megethos, по-латыни majestas). Древние упрекали Поликлета в недостатке внушительности (pondus): слишком много красоты и слишком мало внушительности. Латинское pondus соответствует греческому semnon. Величие, достоинство, медлительность, мощь — таковы атрибуты богов или людей, облеченных властью. Такова этическая весомость, которую следовало сочетать с эстетической привлекательностью. Короткое замыкание pulchritudino и majestas.
Расин, повторяя Тацита, говорил, что ищет «величественную печаль». Авл Геллий уточнял: «Величественная печаль, исполненная не подобострастия или жестокости, но испуга, почтительной боязни» (neque humilis neque atrocis sed reverendae cujisdam tristitiae dignitate). Это voltum antiquo rigore Плиния — античная сексуальная жесткая застыл ость тел и лиц. Американские актеры в Голливуде, страстные эрудиты, тщательно изучили труды Варрона, Квинтилиана и Витрувия. Джон Уэйн ставит ноги на «орфографическую» линию приподнятого экрана еще до того, как показаться зрителю; он никогда не спешит, напротив, — являет себя с тем едва заметным опозданием, которое непреложно свидетельствует: перед вами сам Господь Бог; он не разговаривает, а изрекает, он всегда невозмутим и бесстрастен. О нем не скажешь: «Джон Уэйн играет», но-«Джон Уэйн исправляет Поликлета».[7]
Слово «fescennin» — производное от «fascinus». Стихи-фесценнины с их ярким, агрессивным, непристойным языком считались маргинальным жанром (horridus). Когда Сенека Старший нещадно критикует стиль Ареллия Фуска, он формулирует идеал красоты принятый в древнем Риме: «Nihil acre, nihil solidum, nihil horridu»8 (Никакой едкости, никакой откровенности, никакой грубости). Мужественность, сдержанность, величие. Император Калигула высказался о стиле Сенеки Младшего так: «Песок без извести». Во вкусах Тиберия, страстного коллекционера живописных произведений, исполненных пятью веками ранее в Греции, можно убедиться, посетив остров Капри, который император любил так беззаветно, что прожил там целых одиннадцать лет. Подплывая к острову со стороны Амальфи, сразу видишь гигантскую красно-черную скалу, нависшую над морем. Вот наилучшая иллюстрация понятия «horridus». Ее называли Утесом сирен. Капри представляет собою искрошенную временем каменную громаду, круто уходящую в море. В Тассилии, к востоку от Хоггара, высятся скалы, у подножия которых двадцать тысяч лет назад древние кочевники изобразили сражения, быков, ведомых на убой, мужчин, которые овладевают женщинами стоя, в позе совокупляющихся животных. Скалу на Капри отличает тот же дикий, непокорный характер: это бог horridus, вознесшийся над волнами. Фрески, обнаруженные под слоем лавы в Помпеях, напоминают сцены Тассилии, сохранившие все свои краски благодаря безветренному просоленному воздуху и полумраку расселин, где они пребывали в течение тысячелетий, вдали от всего живого, в величественном безразличии ко взглядам людей, которых пережили и переживут.
Есть место, известное — и неведомое — любому человеку, — материнское чрево. Для каждого из нас существуют запретные место и время утоления абсолютного желания. Что такое абсолютное желание? Это желание, которое было не нашим, но породило наше собственное. Для каждого человека существуют безместье и безвременье, для каждого наступает время тайны. Младенец, жадно сосущий материнскую грудь, «продолжает» спазм зачатия. Прилив молока у матери «продолжает» прилив спермы девятью месяцами раньше. Существует Великий Фасцинус, чья эрекция длится вечно, чья мощь управляет лунными и годовыми циклами, рождениями, совокуплениями и смертями.
Он извечно таит в себе нечто атопическое, анахроничное, зачаровывающее его «детей» и скрытое под флером человеческой речи. Это нечто обращает фасцинус в тайну. Сексуальный объект неизменно является хозяином эротической игры. Сексуальный же субъект, особенно мужского пола, теряет все (эрекцию — в voluptas, порыв — в taedium, желание — в сне).
Эта тайна являет собою святая святых, самое скрытое из всего непознанного.
Апеллес прятался за своими картинами (ipse post tabulas latens),[9] чтобы подслушать, как отзываются о них зрители. За дверью потаенной комнаты — не просто комнаты, а «спальни», самой загадочной из всех комнат, — всегда прячется ребенок, подслушивая то, чего он не может видеть. И как за картиной всегда скрыт художник, так за речью всегда таится некая сцена. Ренан говорил, что в прошлом людей очень мало такого, что можно было бы поведать откровенно. Точно так же нельзя узреть Бога и остаться в живых. Точно так же нельзя увидеть детородный орган человека, не понеся наказания. Вид пениса пугает даже в тех обществах, где его показ — явление вполне банальное и несущественное.
Изобретения дионисийской трагедии и порнографии (tabellae, называемые libidines) принадлежат грекам. Римляне и иудеи оспаривали друг у друга изобретение subligaculum — того, что нынче называют подштанниками или кальсонами. В один прекрасный день Ной, насадив свой виноградник и захмелев от вина, уснул в своем шатре обнаженным (nudatus in tabernaculo suo). Его сын Хам вошел в шатер, когда отец спал. Он видит внизу живота своего отца virilia patris, сотворившие его; он видит поникший пенис (mentula) отца — и вот он проклят (maledictus), вот он уже раб рабов (servus servorum) своих братьев («Бытие», IX, 21). На Западе появление «кальсон» отмечено двойным значением — иудейским (зловещим, смертельным) и римским (испуганным, меланхоличным). С самого начала существования Республики консул Цицерон восхваляет ношение subligaculum под тогой.
Люди смотрят только на то, чего не могут видеть.
Взгляд, который римляне считали уклончивым, близок к фатальному. Фатальный взгляд — взгляд судьбы (fatum), того, что произносит мальчик, разворачивая свиток папируса, погружаясь в чтение, вызывая смерть и возрождение natura rerum. Фатальный взгляд не затрагивает сознание. Он влечет за собой непрестанное повторение того случая, который вызвал роковой обвал судьбы (первоначальное соитие). Он вобрал в себя жестокость мгновений, следующих чередой, одно за другим, мгновений, слившихся до такой степени, что они обращаются в веру (fides) в ожидании смысла, недоступного, неподвластного уму. Это подобно тому неожиданному мигу, когда оргазм — даже ожидаемый — все-таки вырывает нас из нас самих и повергает в ликование или печаль. Все, что происходит, наступает так нежданно, говорил Рильке, что мы не успеваем взглянуть неожиданности в лицо. Объяснение события отстает от самого события. Реальность налицо, она сбылась — но разум способен только на слова утешения да, может быть, на заклинания, оберегающие человека от грядущих импровизаций судьбы, которые не под силу речи.
«Никто не может владеть собственной тайной». Именно в этом, согласно Овидию, и заключается суть проступка Нарцисса. Нельзя узнать себя. Все, что лишает нас самих себя, есть тайна. Невозможно делать различие между тайной и экстазом.
Это даже не храм — просто маленькая комната на вилле, в тени, с окном, выходящим в сад. В отворенную дверь виден fascinus в корзине под покрывалом, в полумраке.
Пройти сквозь узкую дверь в просторную комнату — вот потаенная мечта, вот regressio ad uterum. Всякая мечта есть Nekuia.[10] Мир свободных вожделений — вот определение этой мечты. Такова же и эта комната. Это — комната.
ГЛАВА XVI ОТ TAEDIUM К ACEDIA
Легенда гласит, что Тиберий, собиравший порнографические картины Паррасия, беседовал со святой Вероникой. Эта сцена — не мой вымысел. Это Яков Ворагинский добавил камень к той груде руин, которые я решил восстановить; это лишнее обоснование моих фантазий. Ибо всякое толкование есть фантазия.
Яков Ворагинский, живший в Генуе («Золотая легенда», «О страсти Господней», LIII), пишет, что Тиберий, будучи в Риме, тяжко занемог (Tyberius morbo gravi teneretur). Обратясь к одному из своих приближенных, Волузиану, император сказал, что слышал о некоем врачевателе, исцеляющем все болезни на свете. Он приказал Волузиану:
— Citius vade trans partes marinas dicesque Pylato ut hunc medicum mihi mittat (Отправляйся за море и вели Пилату прислать мне этого лекаря).
Речь шла об Иисусе, который исцелял все болезни единственно словом. Когда Волузиан явился к Пилату и передал ему приказ императора, префекта охватил ужас (territus), и он попросил двухнедельной отсрочки. Тогда Волузиан встретился с матроной (matronam), знавшей Иисуса. Ее звали Вероника; он уединился с нею.
— Я была его подругой, — сказала женщина. — Иисуса предали из зависти, и Пилат убил его, приказав распять.
Эта весть о гибели лекаря повергла Волузиана в великую печаль.
— Vehementor doleo! (Какое горе!) — ответил он. — Теперь я не смогу выполнить приказ моего повелителя.
На это матрона Вероника сказала:
— Когда мой друг ходил по стране и проповедовал, я не могла видеть его и тосковала, и тогда мне захотелось иметь его изображение (volui mihi ipsius depingi imaginem). Художник велел мне купить холст и краски и объяснил, какие именно. Но случилось так, что
когда я несла все купленное художнику, то встретила Иисуса, которого вели на Голгофу. И мой друг спросил, куда я иду с этим холстом и этими красками. Я отвечала ему, плача при этом, ибо он шел умирать и нес свой крест. «Не плачь», — сказал он, взял у меня холст и отер им лицо. «Вот так делают портрет», — добавил он и пошел на смерть. Знай: если римский император взглянет с благоговением на черты, запечатленные на холсте, он тотчас исцелится. Волузиан с волнением спросил:
— Могу ли я купить это изображение за серебро или золото?
— Нет, — отвечала женщина. — Нужно только одно — благоговейная вера. Я отправлюсь с тобою в Рим. Я покажу это изображение цезарю, чтобы он увидел его, а потом вернусь домой.
Волузиан вернулся на корабле в Рим вместе с Вероникой и сказал императору Тиберию:
— Пилат отдал Иисуса евреям, которые из зависти и злобы распяли его. Но я привез женщину, которая владеет изображением Иисуса, сделанным в миг его смерти. Если вы взглянете на него с благоговением и верою, то мгновенно исцелитесь и будете здоровы, как прежде.
Тиберий приказал расстелить шелковый ковер (pannis sericis), принял святую Веронику, и они долго беседовали о живописи. Потом он попросил ее показать ему изображение Иисуса и, едва взглянув на него, вновь обрел здоровье. Тиберий подарил Веронике-блуднице старинную картину (уж не портрет ли блудницы кисти Паррасия?). Пилата же велел предать смерти за казнь Иисуса. Однако Пилат воспротивился и, схвативши меч, сам убил себя. В миг смерти Пилат взглянул на свою руку, сжимавшую меч. И сказал, испуская дух:
— Рука, которую я омыл, убила меня.
В Тарсе, на Сицилии, по-прежнему течет река Кидн. Именно здесь, в Тарсе, Сарданапал повелел воздвигнуть себе статую, на цоколе которой высекли фразу Эпикура: «Наслаждайся жизнью, пока ты жив. Все остальное — ничто». В Тарсе же родился римский гражданин Павел, еврей из колена Вениаминова. В синагоге его обучали самые ученые раввины I века. Он приехал в Иерусалим и продолжил учение «у ног» Гамалиила. Он стал раввином. И вдруг, нежданно, Павел Тарсийский обратился в христианство; это случилось в 32 году, после того, как он, по дороге в Дамаск, упал с лошади. В 32 году виллы вокруг Помпеи, Геркуланума и Стабий все еще были невредимы. В 57 году Павел написал римлянам: «Ибо живущие по плоти (secundum carnem) о плотском размышляют, а живущие по духу (secundum spiritum) — о духовном. Помышления плотские суть смерть (mors est), а помышления духовные — жизнь и мир (vita et pax). Потому что плотские помышления суть вражда (inimica) против Бога» («Послание к Римлянам», VIII, 5,6,7). Это высказывание Павла поразительно: римский испуг, обернувшийся «враждой», — вот суть христианства. Это почитание мертвого тела Бога, после того как его постигла злая смерть на кресте. Это уже не обнаженный бог (fascinus). Это божество с прикрытыми чреслами и оттого сделавшее воспроизведение человечества невидимым. Павел говорил, что существует два покрова и что «для человека есть второе одеяние» — щит и шлем. Мы не должны разоблачаться (Nolumus expoliari), утверждает он, мы должны надевать другое одеяние (supervestiri) поверх этого «второго», дабы то, что смертно, было поглощено жизнью (ut absorbeatur quod mortale est a vita). Induite armaturam Dei ut possitis stare adversus insidias diaboli (Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней диавольских). «Мы знаем, какие грехи порождает плоть: вожделение (fornicatio), нечестивость (immunditia), содомия (impudicitia), разврат (luxuria), идолопоклонство (idolorum servitus), колдовство (veneficia), ненависть и вражду (inimicitae), раздоры (contentiones), ревность (aemulationes), разногласия (dissentiones), зависть (invidiae), убийства (homicidia), оргии (ebrietates), чревоугодие (comessationes) и тому подобное».
Qui fornicatur in corpus suum peccat (Совокупляющийся грешит против собственного тела). Bonum est homini mulierem non tangere (Хорошо человеку не касаться женщины).
И женщина уступила страху. По крайней мере, именно боязнь лишила ее соблазнительности легкой добычи. Она превратилась в достояние, которое можно было обменять по закону, в частную собственность, в источник беглого удовлетворения мужского желания. Ушли в прошлое общие римские термы; ушли в прошлое латрины — роскошные зеленые беседки (forica), где римляне усаживались бок о бок, дабы справить нужду и поболтать; ушли в прошлое тайные церемонии, где всякий свободно вожделел к любому и, обнажая священный фасцинус с целью задобрить бога, возвеличить и восславить его, тем самым оберегал самого себя.
Virgo Maxima et Pater: статусные функции не исчезли, они просто кардинально переменились: pietas — для женщин, castitas — для мужчин. Пол Вейн проанализировал эволюцию супружеских сексуальных отношений, которые постепенно ложились в основу христианской морали брака. Христианская мораль прониклась имперской
языческой моралью чиновников со всеми свойственными ей чертами — статусной покорностью, зарегламентированностью, паритетом а затем равноправием полов, самоограничением, закрытостью, преданностью, благочестием, отказом от свободной любви (иначе говоря приверженностью к любви супружеской), профеминистским характером, неприятием гомосексуализма и сентиментальностью.
В 1888 году в Лондоне Элизабет Блекуэлл заявила: «Регулирование сексуальных отношений в пользу женщин — такова истина, отвергаемая христианством». Христианство вынудило мужчину подчиниться четырем запретам: «ни страсть, ни время, ни положение, ни отцовство ему уже неподвластны».
Тело, бывшее прежде domus человеческого «я», интимнейшим достоянием, которое, по мнению Катона Цензора, было недоступно даже натиску любовного безумия, стало чем-то заклятым, чужим, враждебным. Тело, бывшее прежде связующей нитью между природой и историей, между животным и речью, между сексуальным желанием и страстью к наукам и книгам, стало неодолимой пропастью.
Когда около 200 года, христианство сделалось главенствующей религией Римской Империи, появился брачный контракт; он мгновенно поглотил сонмища рабов (чья вера была бессильна сократить их число). Церковная иерархия христиан слилась с вертикальной иерархией имперских чиновников и укрепила эту последнюю. Мораль, ставшая законом всех сословий (status), проникла в глубь общества и стала нормативной, то есть начала руководить абсолютно всеми, вплоть до императора; греческое слово katholike означает буквально «всеобщее с точки зрения всего». Христиане, члены секты Рыбы, купили Империю и упрочили ее. Эдикт 321 года разрешил завещать имущество, запретил распятия, предписал еженедельный отдых в день Солнца, дал епископам статус имперских чиновников. С IV века было объявлено, что Pontifex Maximus — прямой потомок Петра. Древнейший, тысячелетний запрет резать рыбу ножом дошел до наших дней, воплотившись в весьма замечательных серебряных приборах для поедания рыбы; само их существование ныне уже не считается загадкой.
Эти приборы вынимают по пятницам: французское слово vendredi (пятница) происходит от Veneris dies — день Венеры. Жертвоприношение рыбы в этот день напоминает о торжественном явлении Афродиты из волн морских после того, как в воду был брошен отсеченный фасцинус Урана.
Святой Григорий возбранял девственницам купаться в море нагими. Афанасий запрещал девственницам мыть какие-либо иные части тела, кроме лица и рук. В толстых романах Эдуардовой эпохи, пользовавшихся большим успехом в начале XX века, герои рассыпали по поверхности воды отруби, чтобы не унижать себя видом собственной наготы. Юные девушки, переодеваясь, сперва набрасывали на себя чистую рубашку поверх грязной, с целью избежать созерцания тех ужасных частей тела, которые напоминали о совокуплении, беременности и родах.
У Иисуса, распятого на кресте, бедра прикрыты тканью — linteum. С течением веков Бог одевается все основательнее. Velamen capitis Марии скрывает наготу ее сына. Subligaculum заменяет linteum; затем kolobion (сирийская туника с рукавами) заменяет subligaculum. Сознание греховности плоти, страх перед вожделением вылились в презрение к внешнему, мирскому и в ужас перед картинами ада. Ад остался прежним — этрусским, греческим или месопотамским: это зверь всепожирающий. Это Горгона с ужасными клыками или Баубо — чудовище с пастью-утробой. На фресках базилик, превращенных в христианские часовни, против фигур епископов и святых, избранных, облеченных в их «второе одеяние», ненасытная пасть смерти заглатывает нагих грешников, отправляя их в вечное чрево ада. Человеческая жизнь превратилась в сон, где секс стал пугалом, кошмаром, а пробуждение — тем вожделенным мигом, который избавлял людей от презренной плоти. После умерщвления биографического, а затем и биологического человек обретал наконец истинное свое тело — чистое, возвышенное, недоступное низменным желаниям — и вступал в райские кущи, где его ждало вечное (и одетое покровами) блаженство. Средневековье, в свой черед, сослало эротику в ад. Подобно фигурам на детских рисунках, подобно самим детям, вытолкнутым наружу из раскрывшегося женского чрева, обнаженные тела на средневековых картинах с воплем низвергаются в адскую бездну.
Одни лишь «мистики» сохранили древний след «мистериозной» сцены первого соития. В 1323 году в Страсбурге брат Экхарт написал: «Gratia est ebullitio quaedam parturitionis Filii, radicem habens in ipso Patris pectore intimo (Благодать есть некая высшая степень восторга в рождении Сына, что ведет свое происхождение из сердца Отца). Quid est hodie? Aetemitas. Ego genui me te et te me aetemaliter (Что есть день сегодняшний? Вечность. Я внедрился в тебя, а ты в меня навечно)». Изначальная сцена соития непредставима. Deus — это форма отцовства, куда устремляется все сущее. Все тянется к чистоте, стремясь скрыть изначальное соитие. И это стремление зовется историей. Это соитие «невидимо» не только потому, что мы еще не родились на свет когда оно создало нас. Оно еще и «неведомо». Наши истоки еще более неизвестны нам, чем смерть, в том смысле, что незнания смерти не было и быть не могло. Происхождение человека — вот самая непроницаемая из всех тайн на свете, ибо источник его появился одновременно с нами, до нашего рождения, до наших рук, языка, зрения. Никакой, даже самый острый взгляд не прояснит нам эту тайну. Даже пытаясь выразить ее, мы только еще больше сгущаем мрак неизвестности, ибо дар речи не связан ни с нашим происхождением ни с рождением.
Даже наслаждение разочаровывает нас — прежде всего своей эфемерностью.
Одни лишь сновидения во мраке каждой ночи, что окутывает людей после каждого дня, раскрывают им частицу того мира, который наша речь бессильна выразить. Одни лишь творения искусства, в дневном свете, приближают нас к краю этой загадочной бездны. Одни лишь любовники, когда они сбрасывают одежды, прикрывающие их наготу, вступают на обетованную землю желания. И наконец, одни лишь жанры, способные изобразить человеческое тело (живопись, скульптура, фотография, кино), могут уловить в свои сети призрачные видения того, что послано нам из другого, неведомого мира нашего мира.
Нам трудно увидеть руины — мы всегда видим призрак здания, что высится над ними, пытаясь их объяснить. И мы представляем себе это здание.
Мы всегда видим нечто утраченное, но придающее смысл сохранившемуся. И мы видим его в галлюцинациях.
Как бы мы ни осмысливали остатки фресок и обрывки пергаментов, мы неизбежно впадаем в роковую ошибку, думая, что эти сохранившиеся крохи и есть типичный образец исчезнувшего целого. Но что можно извлечь из руин, которые каприз природы — извержение вулкана — сохранил, погребя под лавой?
Я хотел осмыслить восемь особенностей сексуальной стороны римского менталитета: fascinatio Фасцинуса; ludibrium, свойственный римским зрелищам и книгам-satura; «животные» метаморфозы и их противоположность (антропоморфные романы); возросшее число демонов и богов-посредников в тройном анахорезе (эпикурианском, затем стоическом, затем христианском); уклончивый, а потом застывший взгляд; запрет на фелляцию и пассивность; taedium vitae, переходящее в acedia; и, наконец, превращение того, что называлось castitas, типичного явления для матрон времен Республики, в самоограничение мужчин — анахоретов христианства. Все эти темные понятия мало-помалу проясняются, если их проверить словом «страх».
Зрелище неприкрытого совокупления людей всякий раз вызывает у нас крайнее возбуждение, от которого мы защищаемся либо похотливым смешком, либо пуританским возмущением.
Древние римляне, начиная с правления Августа, избрали для себя средством зашиты страх.
Это было настоящее потрясение, и его последствия оказались куда более важными, нежели христианизация Империи и вторжения V и VI веков, не особенно изменившие действительность, открытие Нового Света в XV веке: американцы, ныне населяющие эту страну после того, как они истребили там все, сопротивлявшееся их господству, по-прежнему руководствуются этой системой страха и производят на свет детей, уже в материнском чреве зараженных ужасом, источник которого следует искать скорее возле белых тог римского Сената, нежели возле черных сутан отцов-священников, сменивших их в курии. Отцы-пуритане, что высадились в долине Огайо или воздвигли свои деревянные часовни в бухте Массачусетса, привезли с собою не столько Библию, сколько medium (отвращение к жизни, описанное Лукрецием), сколько ненависть или беззастенчивую жестокость, которыми дышат книги Сенеки и Светония и которая угадывается у Тацита, словом, то, что заставляло их бежать из Старого Света.
В ноябре 401 года, когда войска готов перешли границы империи Юлиана, на императора напали в Милане два волка. Их убили, расчленили и нашли у каждого в брюхе человеческую руку. Из этого было сделано заключение, что стая предвещает нашествие вражеских орд. Что это — предзнаменование распада Империи или же конца ее расцвета. Что волчица, вскормившая Ромула, ополчилась на народ, некогда сделавший ее своим национальным идолом. Что это справедливое возмездие, ибо римляне отринули свои исконные традиции, свою воинственность, свою историю, своих богов и стали печальными, антропоморфными почитателями единого Бога. Что, поскольку они променяли свой фетиш — волчицу — на распятого раба, они заслужили рабство. Что безжалостное время, разделившее тело и наготу, anima и животное начало, жалкое вечное блаженство на небесах и личную сексуальную свободу на земле, навеки отделило страх от наслаждения, а жизнь от смерти, как отделяют зерна от плевел.
КОММЕНТАРИИ
Этот свод примечаний заслуживает нескольких вступительных слов хотя бы по одной причине. Я подозреваю, что сам автор книги, Паскаль Киньяр, отнесся бы к их наличию или отсутствию равнодушно, а может быть, и приветствовал бы появление своего текста по-русски в «девственном», неоткомментированном виде. Жанр эссе предполагает свободу изложения, а жанр эссе деконструктивистской эпохи — свободу игры с читателем. Блестящая образованность автора позволяет ему легко обрушивать на читателей массу фактов, цитат, иногда меняя контекст или исподволь смещая акценты. В этом одна из целей книги. Но чтобы оценить и понять игру, надо контекст знать. Читатель русский знает его не хуже и не лучше французского, но у последнего одно преимущество — для него латинские корни слов выглядят естественнее и роднее — не скажу понятнее. И в этом одна из причин появления комментария. Другая — собственно в том, что он дает возможность сравнить идеи Киньяра с реальным античным фоном, на котором они возникли. Эта возможность не противоречит, но продолжает идею книги — примечательна не только сама мысль, но и ее контекст. В комментарии этот контекст намечен, дело читателя — его углубить и оценить.
Н.Гринцер
КОММЕНТАРИИ
1
…зовутся фесценнинами. — Фесценнинские стихи (фесценнины) — стихи и песни обсценного содержания. По свидетельству Сервия (Комментарий к «Энеиде», VII, 695), их название связано с городом Фесценний, располагавшимся в Южной Этрурии. Как сообщают Сенека Старший (Контроверсии, VII, 6) и Плиний (Естественная история, XV, 86), фесценнины изначально являлись элементом свадебного обряда, для которого непристойные песни были одним из атрибутов в различных культурах. Поскольку в широком фольклорно-мифологичес-ком контексте свадьба связывалась с культом плодородия, то фесценнины присутствовали и в традиционных сельских ритуалах (в частности, в форме ритуальной перебранки). Обязательный для таких ритуалов культ фаллоса дал повод сблизить название песни и соответствующего фольклорного жанра со словом fascinus (так, например, объяснял этимологию фесценнин римский ученый II–III вв. Юлий Павел), и именно это сближение постоянно подчеркивает П.Киньяр.
(обратно)2
…римского романа — «satura». — «Сатура» в римской литературе название особого жанра, причем жанра типично римского, недаром Квинтилиан гордо писал, что «сатура целиком наша» (Воспитание оратора, X, 1,93). Первоначально этим словом (производным от лат. satur — «полный») назывались представления, состоявшие из отдельных, не соединенных друг с другом песен и сценок, в известной мере продолжавших традицию фесценнинских стихов. Впоследствии под влиянием различных заимствованных жанров (прежде всего новоаттической комедии и философского диалога-мениппеи) сатура все больше «литературизировалась»; основным показателем жанра являлось смешение различных стихотворных размеров, а также прозы и стиха на уровне формы, и подобная же тематическая «пестрота» содержания. В жанре сатуры писали Энний, Луцилий, Варрон, Гораций, этим же словом обозначились «сатиры» Персия и Ювенала. Традиционно называемое «романом» произведение Петрония «Сатирикон» самим своим заглавием обнаруживает принадлежность к той же жанровой традиции.
(обратно)3
…что звалось ludibrium. — П.Киньяр объединяет первичное и производное значения латинского слова. Ludibrium (производное от ludus — «игра»), означая насмешку, употреблялось и в значении оскорбления, насилия, в том числе и сексуального.
(обратно)4
Паррасий Эфесский — знаменитый греческий художник, жизнь которого датируется V–IV вв. до н. э. Был известен своим резким нравом и вызывющими манерами (так, он носил пурпурные одежды и золотой венок). Среди его картин наиболее замечательными считались изображения Тезея, Филоктета, сцен исцеления Телефа и мнимого безумия Одиссея, а его стиль был отмечен любовью к изображению сильных переживаний и богатством красок. По свидетельству древних, он был автором и нескольких сочинений по теории живописи.
(обратно)5
…«изображение проститутки». — Следует заметить, что слово pornographos в античных памятниках вовсе не зафиксировано, а единственное его употребление у Афинея (Пир софистов, 13, 567b) подразумевает не художника, но «пишущего о проститутках».
(обратно)6
Светоний рассказывает… — Светоний. Тиберий, 43–44; см. издание: Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати Цезарей. М., 1990, с. 95.
(обратно)7
Spintrias (сфинктеры) — проституирующие мужчины.
(обратно)8
… книги Элефантиды… — Под названием, производным или от названия древнеегипетского города Элефантины, или от имени малоизвестного божества, античные авторы упоминали либо трактаты, посвященные различным косметическим средствам, либо (как в данном случае) собрание «фигур Венеры» (см.: Марциал, XII, 43,4) — некий античный аналог «Камасутры».
(обратно)9
Греческий глагол, означающий процесс содомии — eispein… — Греческий глагол исходно имел вполне нейтральное значение «вдыхать» и применительно к любовной связи употреблялся метафорически. По свидетельству Элиана (Пестрые истории, 3, 12), в таком значении его использовали спартанцы, и это позволило Киньяру «сделать» его обозначением гомосексуальной любви.
(обратно)10
Квинт Атерий (Quintus Haterius, умер в 24 г.н. э.) — знаменитый чтец и оратор, известный своей способностью к импровизации. Упоминается также у Сенеки Младшего (Письма к Луцилию, 40, 10) и у Тацита (Анналы, IV, 61).
(обратно)11
Officium — ключевое понятие римской этики, подразумевавшее гражданский, социальный и моральный долг. Цицерон посвятил ему специальный трактат «Об обязанностях».
(обратно)12
Я ненавижу объятия, в коих один или другой не отдается полностью. — Овидий. Наука любви, 2, 683
(обратно)13
Я не желаю услуги от женщины. — Там же, 2, 688.
(обратно)14
Эту норму ясно определяет одна из эпиграмм Марциала. — Марциал. Эпиграммы, 9, 32.
(обратно)15
… .убил педагога, который поцеловал его двенадцатилетнюю дочь. — Валерий Максим. Достопримечательные деяния и высказывания, 6, 1,4. Под педагогом подразумевается раб-воспитатель; при этом Валерий Максим именует Мения «суровым хранителем стыдливости».
(обратно)16
Артемидор из Эфеса (втор. пол. II в.) — автор знаменитого сонника.
(обратно)17
… ее самоубийство с помощью бронзового кинжала явилось основой создания «римской» республики. — Имеется в виду знаменитая история о матроне Лукреции, обесчещенной сыном последнего римского царя Тарквиния (род Тарквиниев происходил из Этрурии). Ее самоубийство послужило поводом к уничтожению царской власти и установлению республики. С нескрываемым восхищением о деянии Лукреции рассказывает Тит Ливии в своей «Истории» (1, 58); эту же историю подробно описывает Овидий в «Фастах» (2, 721–852).
(обратно)18
…республика Отцов. — Словом patres, «отцы», в Риме обозначалось, в частности, патрицианское и сенаторское сословие. Для Киньяра важно соотношение «родового» и «социального» значений слова, поэтому в переводе практически всюду выбран наиболее общий вариант.
(обратно)19
… Отцы убили Ромула… — Имеется в виду версия мифа, согласно которой Ромул был убит в результате заговора сенаторов («отцов», patres). В первой книге своей «Истории» Тит Ливии рассказывает, как во время бури облако накрыло Ромула и с тех пор его никто не видел. Его провозгласили божеством, унесенным на небо (историю божественного апофеоза Ромула, ставшего богом Квирином — покровителем римского народа, излагают и Цицерон, и Овидий). Однако сразу же, как сообщает Ливии (I, 16), пошли разговоры о том, что на самом деле Ромула убили стоявшие подле него сенаторы. Дабы успокоить народ, один из них, Прокул Юлий, поведал, что ему-де явился спустившийся с небес Ромул. «Удивительно, — заключает Ливии, — насколько люди уверовали в этот рассказ и как горе армии и народа умерилось уверенностью в божественности Ромула».
(обратно)20
Stuprum — срам, позор, в особенности, прелюбодеяние (все равно, вольное или невольное).
(обратно)21
… поразительному сходству трех сыновей Юлии Старшей с их отцом Агриппой. — Юлия Старшая — дочь императора Августа, известная своим распутством. Марк Випсаний Агриппа (род. ок. 63 г. до н. э., умер в 12 г. до н. э.), ее второй муж, один из ближайших соратников Августа. От их брака родилось три сына и две дочери.
(обратно)22
Myтун — одно из латинских слов, служивших для обозначения мужского полового органа; происходит от имени божества италийского происхождения Mutunus Tutunus, отождествлявшегося с Приапом (а иногда с Меркурием-Гермесом) и игравшего роль защитника-охранителя (genius). Его святилище в Риме считалось одним из древнейших (по свидетельству ученого IV в. Руфия Феста, оно стояло там «от основания города»); в отправлении культа участвовали в основном женщины, которые во время ритуала, как сообщает нам юрист и историк II–III вв. Юлий Павел, должны были быть «в тогах с пурпурной каймой и с покрытыми головами».
(обратно)23
Либер Патер — Liber Pater, букв. «Отец Освобождающий», или просто Liber — одно из древнейших италийских божеств, почитавшееся вместе с парным женским божеством по имени Либера. Впоследствии Либер был отождествлен с греческим Дионисом. По всей видимости, культ Либера был изначально сельским, и поэтому бог не имел собственного храма в Риме. Тем не менее пара архаических божеств плодородия почиталась на Авентине вместе с Церерой, детьми которой считались Либер и Либера; Либер был центральным божеством празднеств Liberalia (17 марта), во время которых, по свидетельству Овидия (Фасты, 3, 771), было принято, чтобы достиппие совершеннолетия мальчики надевали «взрослую тогу», toga virilis, становясь тем самым мужчинами.
(обратно)24
… Ромул и Рем произошли от насилия Марса над Реей Сильвией. — Рея Сильвия, девственная весталка, дочь царя Нумитора, которой, согласно мифу, овладел Марс, в результате чего родились близнецы Ромул и Рем.
(обратно)25
«Патронаж» римской матроны осуществлялся богиней Юноной Югой. — Iuga — культовый эпитет Юноны «Соединяющая» (от лат. iungere) — осмыслялся как знак Юноны — покровительницы брака (Юлий Павел: «Юнона, как полагают, именуется Югой, ибо соединяет в браке»); наряду с этим эпитет сближался и с другим словом: iugum — «ярмо, плуг, бремя».
(обратно)26
Там, где ты будешь Гаем, я буду Гайей. — Эту формулу, древность которой подчеркнута архаической формой имени Gaiai, упоминают, например, Квинтилиан (Воспитание оратора, 1, 7, 28) и Авл Геллий (Аттические ночи, 7, 7, 1).
(обратно)27
…закона Оппия. — Гай Оппий, трибун 215 г. до н. э., провел закон, запрещавший женщинам носить пестрые платья, ездить в повозках и владеть мало-мальски значительными средствами. Закон был отменен в 195 г. до н. э.
(обратно)28
Жена есть маленький Эней, чью руку держит Pater. Каждый супруг — это старый Анхиз, которого его будущие сыновья понесут на своих плечах и чье изображение они будут хранить в доме. — П.Киньяр одновременно подразумевает две вещи: историю «благочестивого» Энея, вынесшего на своих плечах из горящей Трои отца Анхиза вместе с изображением домашних богов, и тот факт, что в римских домах маски умерших предков хранились в специальном помещении (атриуме) в качестве символов домашних божеств.
(обратно)29
В пьесе Теренция… — Имеется в виду комедия Теренция «Свекровь».
(обратно)30
Lex Julia de adulteriis coercendis. — Изданный Августом Юлиев закон о запрете прелюбодейства (связи замужней женщины с посторонним мужчиной, не мужем).
(обратно)31
История изложена по Светонию (Тиберий, 45).
(обратно)32
Веллий Патеркул. Римская история, II 124.
(обратно)33
Дион Кассий. Римская история, 57, 2.
(обратно)34
…подобно новому Ромулу. — См. примеч. 19.
(обратно)35
Тем же словом — Lupa — называли и блудниц. — Здесь намек на объяснение мифа о волчице, вскормившей Ромула и Рема, которое приводит Тит Ливии (История, 1, 4, 7), полагавший, что жену нашедшего близнецов пастуха прозвали «волчицей» (т. е. шлюхой) за ее «доступность».
(обратно)36
Латинское Vixit на могилах — это перевод этрусского Lupu. — Имеется в виду формула, сохранившаяся на этрусских могилах, которая считается формой причастия прошедшего времени, означающей «умерший». По смыслу она аналогична латинскому «прожил». Для Киньяра важно подобие этой формы латинскому слову lupus — «волк».
(обратно)37
Светоний пишет… — Светоний. Тиберий, 68, 2.
(обратно)38
Плиний Старший… написал… — Плиний. Естественная история, 11, 143.
(обратно)39
Светоний рассказывает… — Светоний. Тиберий, 72–73.
(обратно)40
Там же. 73, 2.
(обратно)41
По свидетельству Тацита… — Корнелий Тацит. Анналы, 6, 50.
(обратно)42
Невий Серторий Макрон — с 31 г. начальник преторианской гвардии Тиберия, его ближайший советник. Активно способствовал приходу к власти Гая Калигулы, но новый император сначала велел ему удалиться из Рима, а затем, в 38 г., вынудил покончить жизнь самоубийством.
(обратно)43
Светоний. Тиберий, 73, 2.
(обратно)44
Древние римляне переняли у этрусков игру Phersu. — Phersu — это надпись на т. н. «гробнице авгуров» (датируемой приблизительно 550 г. до н. э.) в Тарквиниях, в Этрурии, рядом с изображением фигур в масках, участвующих в схватке волка с человеком, похожим на гладиатора. Происхождение самого слова остается весьма загадочным. Его сопоставляли с латинским persona — «лицо, маска», полагая, что речь идет о ритуальной маске участника некоего культового действа. Существует также версия, что Phersu — имя некоего божества-тотема (отсюда изображение волка). Иногда это слово соотносят с именем греческой богини подземного царства Персефоны.
(обратно)1
Аристотель в своей «Поэтике» пишет… — Далее следует весьма «вольный пересказ» Аристотеля. В «Поэтике» «характер», ethos, определяется как важнейшая составляющая трагедии, объединяющая ее с живописью (гл. 6, 1450а); но проявляется характер прежде всего в «выборе» героя (последствия поступка здесь вторичны). «Души в Аиде» упоминаются как предмет т. н. «трагедий зрелища» (греческое opsis действительно может означать «зрение, взгляд», но в этом месте «Поэтики» (гл. 18, 1456а1) оно представляет собой конъектуру, т. е. исправление рукописного текста). «Трагедии зрелища» упоминаются сразу после трагедий «характеров». Интересно, что в этом же месте упоминается и сюжет о Прометее, который, похоже, дает Киньяру возможность здесь же упомянуть и о страданиях Христа.
(обратно)2
Эвфранор — знаменитый скульптор и живописец V в. до н. э. Среди его скульптур наиболее известны изображения Париса, Александра и Филиппа Македонского, среди картин — изображение битвы при Мантинее, двенадцати олимпийских богов, Тезея (картина, написанная «в ответ» на знаменитую картину Паррасия). Он был также автором трактатов о пропорциях и колорите.
(обратно)3
Собрание амфиктионий… — Амфиктионии — союзы греческих племен, объединенных вокруг какого-либо крупного святилища, обладавшие достаточным политическим авторитетом, издававшие свои законы и даже чеканившие собственную монету. Крупнейшей амфиктионией в Греции был Дельфийский союз.
(обратно)4
Полигнот — афинский художник V в. до н. э., знаменитый, в частности, своими картинами «Падение Трои», «Ахилл на Скиросе», «Навсикая» и др. Он прославился как мастер изображения «характеров», в этом качестве его упоминает, например, Аристотель в «Поэтике».
(обратно)5
Апеллес из Колофона — знаменитый художник IV в. до н. э. Самой прославленной его работой бьшо изображение выходящей из моря Афродиты; кроме того, считался мастером портрета (написал Филиппа и Александра Македонских, а также свой автопортрет).
(обратно)6
Зевксид из Гераклеи — художник V–IV вв. до н. э. Изображенный им Эрот упоминается Аристофаном, Лукиан превозносит нарисованную им женскую фигуру кентавра. Ему также принадлежали изображения Пенелопы и Елены, но Аристотель считал, что ему не хватало мастерства в обрисовке характеров, чем был так славен Полигнот.
(обратно)7
Паррасий.… простер вперед правую руку и возгласил: ‹‹Вот эта рука нашла суть искусства» (technes termata). — Эта история описана Афинееем. Пир софистов, 12, 62.
(обратно)8
Клеарх рассказывал.… — Имеется в виду Клеарх из Сол, философ-перипатетик, ученик Аристотеля. Среди его многочисленных сочинений были «Жизни», сочетавшие, по всей видимости, описание жизненного уклада различных народов с элементами биографий разных исторических лиц (философов, политических деятелей и т. д.). Один из сохранившихся фрагментов и содержит упоминаемый анекдот о Паррасий.
(обратно)9
…старался облегчить свой тяжкий труд. — Феофраст, фр. 79.
(обратно)10
Плиний. Естественная история, XXXV, 68.
(обратно)11
Афиней. Пир софистов, 12, 62.
(обратно)12
Аристид Фиванский — художник IV в. до н. э., известный в основном со слов Плиния, по мнению которого Аристид «прежде всего изображал душу и человеческие чувства, которые греки именовали это-сами» (Естественная история, XXXV, 98).
(обратно)13
Аристотель в «Поэтике» объясняет, что трагедия состоит из трех различных элементов: рассказ, характер, развязка (muihos, ethos, telos). — П.Киньяр контаминирует различные утверждения Аристотеля, у которого «миф» (рассказ, сюжет) и «характер» действительно две из шести составляющих трагедии (наряду с музыкальным сопровождением, мыслью, словесным выражением и зрелищем), а развязка (обозначаемая не как telos, но как lusis) противостоит «завязке» внутри структуры трагического действия. Telos — это, в свою очередь, «цель», «сердцевина» трагедии, которую составляют события и миф (Поэтика, 1450а, 22).
(обратно)14
…Кинегир с отсеченными руками… — Брат Эсхила, прославившейся своей геройской гибелью в Марафонской битве, когда враги смогли справиться с ним, только после того как отсекли ему руки. Картина, запечатлевшая его подвиг, была выставлена в Пестром портике в Афинах (ок. 460 г. до н. э.), а для позднейших историков Кинегир служил примером самоотверженности и героизма (Диоген Лаэртский, 1, 56; Плутарх. О славе афинян, 347-d).
(обратно)15
См. Плиний. Естественная история, XXV, 142.
(обратно)16
«и pictura poesis» Горация… — «Поэзия как живопись» — фраза Горация из «Послания к Писонам», (361); сравнение литературы с искусством живописи было весьма распространено в античности — к нему прибегали Платон, Аристотель, Дионисий Галикарнасский и др.
(обратно)17
…говорит, сохраняя люлчание… — Знаменитое изречение Симонида, которое повторяли и автор трактата «К Гереннию» (IV, 39), и Плутарх (например, «О слушании поэтов», 17f), и многие другие античные авторы, выглядело следующим образом: «Поэзия — звучащая живопись, живопись — молчащая поэзия». П.Киньяр слегка меняет контекст и смысл сравнения.
(обратно)18
Лукреций. О природе вещей, V, 9-12.
(обратно)19
Вергилий. Энеида, IV, 653–654.
(обратно)20
Ср.: Аристотель. Риторика, 1414а; О небе, 396Ь.
(обратно)21
…азианисты — александрийские живописцы. — Эпитет «азианский» применялся в античности прежде всего к риторике, где «азианским» стилем именовалось стремление к вычурности и необычности выражения (ему противостоял «аттицизм», возрождавший в римской стилистике I в. образцы классических греческих авторов). П.Киньяр распространяет это определение и на изобразительное искусство.
(обратно)22
Лукреций. О природе вещей, 4, 426–431.
(обратно)23
Там же, 4, 353–391.
(обратно)24
Это высказывание Анаксагора приводит, в частности, Секст Эмпирик (Против ученых, VII, 140).
(обратно)25
…первое значение слова orthograpliia. — «Орфография» в качестве архитектурного термина, обозначающего подъем здания, действительно зафиксирована (например, у Витрувия 1, 2, 2), но все же в античности наиболее распространенным бьшо употребление этого понятия в значении «правописание» или «правильное произношение» (например, у Секста Эмпирика, грамматиков Аполлония Дискола и Геродиана).
(обратно)26
Цицерон. Письма к Аттику, II, 3.
(обратно)27
Греческое слово paradeisos означает «парк». — Слово рагаdeisos — «парадиз», заимствованное с Востока и впервые употребленное Ксенофонтом (Анабасис, 1, 2, 7), изначально обозначало ухоженные сады персидских царей и вельмож.
(обратно)28
Одна из философских школ называла себя Академией, другая — Ликеем, третья — Портиком. — Академия — школа Платона, Ликей — Аристотеля, Портик (греч. Stoa) — название школы стоиков, собиравшихся в Пестром Портике Афин.
(обратно)29
… звалась Садом. — Имеется в виду школа Эпикура, ученики которого встречались с учителем в саду перед его домом в Афинах.
(обратно)30
См.: Платон. Государство, 401а, 598Ь; Политик, 288с и др.
(обратно)31
Лудий — римский живописец, мастер фресок (его имя также иногда читается как Студий), живший во времена Августа; известен только по Плинию.
(обратно)32
Посидоний (135-50 гг. до н. э.) — знаменитый философ, представитель т. н. Средней Стой, чье учение оказало большое влияние на римскую философию. О красоте и «выстроенности» космоса см., например, фр. 364 из корпуса его фрагментов.
(обратно)1
…который греки называли Приапом. — Приап — божество плодородия, первоначально почитавшееся в Лампсаке (греческая колония в Малой Азии). В греческой мифологии считался сыном Диониса и Афродиты (Страбон. География, 13, 1, 12; Павсаний. Описание Эллады, 9, 31,2). В жертву ему приносили осла (животное, символизировавшее безудержную похоть. — См.: Овидий. Фасты, 1, 391). Постепенно культ его распространился на всю Грецию, а затем перешел в Италию, где он почитался еще и как покровитель садов (изображался в виде небольшой фигурки с огромным членом и заодно служил еще и пугалом). Существовал специальный жанр приапеи, обсценных стихов в честь божества, среди авторов которых значились Катулл, Тибулл, Овидий и Вергилий.
(обратно)2
Верцингеторикс — галльский вождь, предводитель восстания против Рима и Цезаря в 52 г. до н. э.
(обратно)3
Арсиноя — царица Египта, противница Цезаря.
(обратно)4
Юба — нумидийский царь, союзник Помпея в войне против Цезаря. После поражения покончил с собой. Его сын, тоже Юба, был воспитан в Риме, получил римское гражданство; Октавиан Август возвратил ему престол.
(обратно)5
Во время Луперкалий… — Луперкалии — римское празднество, происходившее 15 февраля, когда римские юноши приносили жертвы (козла или козла и собаку) в честь бога Фавна в пещере Луперкал на склоне Палатинского холма, а затем бегали в округе Палатина и хлестали прохожих (прежде всего женщин) ремнями из шкур жертвы. В празднике очевидны черты древней магии плодородия и очистительного ритуала; само его название и имя юношей-луперков связано с «волком» (lupus). Праздник подробно описан у Овидия (Фасты, 2, 19–36, 267–452) и Дионисия Галикарнасского (Римские древности, 1, 80,1). По свидетельству Светония, Август специально упорядочил проведение этого праздника (Август, 31).
(обратно)6
Во время Квинкватрий… — Квинкватрии — праздник в честь богини Минервы, справлявшийся 19–23 марта и 13 июня.
(обратно)7
На Матроналии… — Матроналии — праздник, отмечавшийся 1 марта в честь богини Юноны.
(обратно)8
На Сатурналии… — Сатурналии — праздник в честь бога Сатурна, отмечавшийся 17 декабря; по словам Катулла (14, 15), «самый веселый день в году», когда рабам давалась временная свобода, избирался потешный царь, люди обменивались подарками.
(обратно)9
…почести Венере Дикой… — Имеется в виду культ Венеры Эрицины, храм которой был воздвигнут у Коллинских ворот в 181 г. до н. э. Эпитет богини происходит от названия горы Эрике на Сицилии, где был знаменитый храм Афродиты, оттуда культ и был перенесен в Рим. Упомянутый ритуал происходил в «Винный праздник» (Vinalia), начинавшийся 23 апреля, третий день которого в римских календарях именовался «днем проституток».
(обратно)10
…празднества, называемые Floralia. — Праздник в честь богини произрастания Флоры, происходивший 28 апреля и сопровождавшийся, в частности, разыгрыванием сценок-фарсов весьма непристойного содержания (Овидий. Фасты, 5, 331).
(обратно)11
…logos spermaticos является для тестикулов тем же, что слух для ушей и взгляд для глаз. — Гален. О мнениях Гиппократа и Платона, III, 1, 11. Logos spermaticos — это одновременно и обозначение способности к деторождению, и, метафорически, «порождающий принцип», например в терминологии Стой.
(обратно)12
Фемий — певец, изображенный Гомером в «Одиссее».
(обратно)13
Фамир — мифический певец, которого Музы лишили зрения за то, что он отважился состязаться в пении с богами (Илиада, 2, 599–600).
(обратно)14
Овидий. Любовные элегии, III, 7.
(обратно)15
Лукреций. О природе вещей, 4, 1084–1120.
(обратно)16
Вергилий. Энеида, 4, 1–2.
(обратно)17
Fascinum (искусственный фасцинус) есть baskanion (оберег против дурного глаза). Плутарх говорит, что подобный талисман… — Плутарх говорит об амулетах вообще, не обязательно в форме фаллоса (Застольные беседы, 682а).
(обратно)18
Тацит… описывает Эпихарис, вовлеченную в заговор Писона… — Имеется в виду история о заговоре 65 г. против Нерона, во главе которого стоял Гай Кальпурний Писон. После доноса Писон по приказанию Нерона покончил с собой.
(обратно)19
Петроний. Сатирикон, 17.
(обратно)20
"Бей в живот!" — чисто римское требование. — Речь идет об убийстве в 59 г. по приказанию Нерона его матери Агриппины Младшей, описанном Тацитом в «Анналах», 14, 8.
(обратно)21
Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел, 2, 17.
(обратно)22
История Мария изложена по Плутарху. Марий, 36 и далее.
(обратно)23
Плутарх. Сулла, 36.
(обратно)24
…покорно отдал себя железу и смерти. — Сцена убийства Цезаря описана по Плутарху. Цезарь, 66.
(обратно)25
Jacere amorem, jacere umorem. — Букв, «извергать любовь, извергать [семенную] жидкость». Намек на описание любовного соития Лукрецием (О природе вещей, 4, 1054–1065).
(обратно)26
Лукреций. О природе вещей, 4, 1038–1120.
(обратно)27
См.: Павсаний. Описание Эллады, 3, 15, 10–11.
(обратно)28
…Октавиан становится Августом… — Термин augustus в латинском языке применялся исключительно к божествам (см.: Овидий. Фасты, 1, 609) и был специально предложен Октавиану сенатом в качестве почетного титула, перешедшего впоследствии ко всем римским императорам.
(обратно)29
Плутарх передает нам следующее высказывание Ламприя… — Ламприй — брат Плутарха, персонаж несольких его диалогов. В данном случае имеется в виду пассаж из диалога «О лике, видимом на Луне» (928Ь), где Луна уподобляется печени, поскольку расположена между Солнцем — «сердцем» и Землей — «чревом» мира. О «меланхолии» речи нет, впрочем, печень, по представлению греков, являлась причиной этой болезни, вызываемой разлитием желчи.
(обратно)30
Лукреций. О природе вещей, 1, 1-27.
(обратно)31
…Капитолийскую Венеру… — На Капитолии стоял храм Венеры Эрицины (см. примеч. 9).
(обратно)32
…Венеру-Покорную (Obsequens) Большого Цирка… — Имеется в виду храм, воздвигнутый на площади Большого Цирка в начале III в. до н. э.
(обратно)33
…Венера Дикая… стала богиней для Суллы… — Подле храма Венеры Эрицины проводились «Игры победы Суллы» в память о выигранном им сражении у Коллинских ворот; сам Сулла называл себя Эпафродитом, т. е. «любимцем Венеры».
(обратно)34
…Венера Дикая… стала… Венерой Победоносной (Victrix) для Помпея… — Имеется в виду воздвигнутьш Гнеем Помпеем в 55 г. до н. э. мраморный театр со святилищем Венеры-Победительницы.
(обратно)35
Венера Дикая… стала… Венерой-Прародительницей, Genetrix (матерью Энея и всех Юлиев) для Цезаря… — Подразумевается рассказанная Аппианом (II, 102–104) история о том, что Юлий Цезарь пообещал перед Фарсальской битвой воздвигнуть храм Аресу и Афродите, что он и сделал, построив храм Венере-Прародительнице на forum Caesaris; эпитет божества напоминал о божественном происхождении рода Юлиев и одновременно утверждал величие богини как бы «в противовес» Венере-Победительнице побежденного Цезарем Помпея.
(обратно)36
…Веспасиан уподобил ее самому Риму, называя Roma. — Скорее всего, намек на знаменитый храм Венеры и Рима (Roma) в Велиях у начала Священной дороги, построенный в 135 г., но не Веспасианом, а Антонином Пием.
(обратно)37
Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел, XI, 3–5.
(обратно)38
Эпикур использовал это слово, чтобы назвать тело человека и единственное место возможного счастья. — См.: Эпикур. Главные мысли, 4,5; 18,1.
(обратно)1
Существует также высказывание Платона об отказе различать красоту и испуг. — Вероятно, П.Киньяр имеет в виду рассуждения о красоте и опасности, свойственной Эросу. — См., например, «Пир», 197Ь.
(обратно)2
…звание «повелителя страха» (mestor phoboio). — Выражение взято П.Киньяром из «Илиады», 5, 272.
(обратно)3
У западной окраины мира он повстречался с Граями.… — В греческой мифологии Граи — две или три старухи, сестры Горгон, живущие на западном крае земли.
(обратно)4
Желание (pothos), которое обессиливает все члены (lusimeles), делает взгляд женщины еще более изнуряющим (takeros), нежели Гипнос и Танатос. — Алкман, фр. 3, 61–62. Следует заметить, что в сохранившемся тексте нет «взгляда женщины»; букв, перевод: «Пристально глядит, расслабляющим желанием изнуряя больше, чем сон или смерть».
(обратно)5
Апулей. Метаморфозы, III, 9.
(обратно)6
Тиресий — человек, увидевший сцену первого соития, ставший одновременно и мужчиной и женщиной… — Фиванский прорицатель Тиресий убил двух змей в момент совокупления и был превращен в женщину. Потом он убил двух змей еще раз, и он вновь стал мужчиной. Этот сюжет был весьма популярен в античности (см.: Овидий. Метаморфозы, III,323 и далее).
(обратно)7
Баубо — женское божество, почитавшееся на острове Парос и в Малой Азии. В орфических гимнах является персонажем мифа о странствиях Деметры, замещающим служанку Ямбу, которая в принятых версиях мифа смешит Деметру непристойными шутками.
(обратно)8
Метанира — в мифе жена царя Элевсина Келея (в его доме Деметра нашла приют во время своих странствий) и мать Триптолема, которому Деметра дала зерно, чтобы тот засеял пересохшие поля.
(обратно)9
Лисса — в греческой мифологии божество безумия, рожденное Ночью из крови Урана. В трагедии Еврипида она выступает как посланница Геры, лишающая Геракла рассудка.
(обратно)10
Ср.: Илиада, 5, 741; 11, 36–37.
(обратно)11
…Ликург приказывал юношам… — Ксенофонт. Лакедемонское государство, 11, 3.
(обратно)12
Светоний. Тиберий, 73, 2.
(обратно)13
Речь идет о храме Зевса Ликейского, основанном, по мифу, Ликаоном, сыном Пеласга (Павсаний. Описание Эллады, 8, 2), который принес богу в жертву ребенка и за это был обращен в волка.
(обратно)14
Lycosoura переводится с греческого как «святилище волков». — Точнее — «хранилище волков».
(обратно)15
Марциал. Эпиграммы, 9, 37, 9-10.
(обратно)1
Апулей. Метаморфозы, 10, 32
(обратно)2
Овидий. Наука любви, II, 676–691 (с некоторыми перестановками).
(обратно)3
Апулей. Метаморфозы, 2, 10; 3, 2.
(обратно)4
Тацит. Германия, 8, 1.
(обратно)5
…задрав свои пеплосы (peplos). — Плутарх именует одеяние женщин не пеплосом, а хитоном (О доблестях женских, 248Ь).
(обратно)6
Плутарх говорил, что Metheia — это световой хаос. — Ср.: Плутарх. Пир семи мудрецов, 153Ь; О вреде оракулов 433 de. Тема «истины-света» воспринята Плутархом у Платона (см.: Государство, 508 а-е).
(обратно)7
Плутарх. Amatorius, 750d.
(обратно)8
Апулей. Метаморфозы, 6, 8.
(обратно)9
Девочка… получит имя Voluptas. — Т. е. Вожделение; см.: Апулей. Метаморфозы, 6, 24.
(обратно)1
Ср. с описанием смерти Петрония у Тацита. Анналы, 16, 19.
(обратно)2
Паулин из Нолы (род. ок 353 г.) — ученик Авзония, римский консул, впоследствии принявший христианство и ставший монахом. Сохранились его стихи и переписка с Авзонием.
(обратно)1
Цицерон. Об ораторе, 2, 351 и далее.
(обратно)2
Квинтилиан. Воспитание оратора, 11, 2,11 и далее.
(обратно)3
Демокрит. Фр. 32, 3 по собранию Дильса-Кранца.
(обратно)4
Имеется в виду знаменитая история о Солоне и Крезе. — Плутарх. Солон, 27.
(обратно)5
См., напр., Письмо к Пифоклу, 116, 3; Письмо к Менекею, 122, 10.
(обратно)6
Сенека. Письма к Луцилию, 77, 6.
(обратно)7
Плиний Младший. Письма, 1,9.
(обратно)8
…римляне… перевели как temperantia — максимальное наслаждение… — Temperantia — букв, означает «умеренность, сдержанность».
(обратно)9
Плиний Младший. Письма, 9, 7.
(обратно)10
Ср. Анналы, 4, 38.
(обратно)11
«Наука любви», 1, 342.
(обратно)12
Так оно было с Тибуллом и Делией. Так же — с Проперцием и Цинтией. — Делил — адресат любовных элегий Тибулла; Цинтия (Кинфия) — имя возлюбленной Проперция. Согласно античным свидетельствам, под этими «псевдонимами» скрывались имена реальных женщин (Апулей в своей «Апологии» говорит, что Делию звали Планией, а Цинтию — Гостией), хотя, естественно, жанр любовной элегии предполагал и некую условную «маску» возлюбленной поэта.
(обратно)1
Хрисипп (280–207 гг. до н. э.) — один из наиболее известных философов Стой. Теория «душевных порывов» (hormai) составляла фундамент стоической этики.
(обратно)2
Апулей. Апология, 80–84.
(обратно)3
Но мой thymos (жизненная сила, libido) сильнее, чем мои bouleumata (вещи, которых я хочу). — П.Киньяр чуть меняет смысл фразы: у Еврипида Медея говорит не о том, чего «хочет», но что «знает»: «Я знаю, что намереваюсь сделать дурное, но мой дух сильнее моих мыслей».
(обратно)4
Еврипид. Медея, 108–110.
(обратно)5
Агава, убивающая собственного сына, видит перед собою не его, а льва. — Подразумевается миф о гибели фиванского царя Пенфея, прогневавшего Диониса, от рук собственной обезумевшей матери. Этот миф послужил сюжетом для трагедии Еврипида «Вакханки».
(обратно)6
Там она… рождает… сына Меда, которого любит так горячо, что помогает ему убить Перса, чтобы завладеть его царством. — П.Киньяр не совсем точен: говоря о возвращении Медеи в Колхиду и убийстве ее дяди Перса, он контаминирует две версии. По первой Перса убил сын Медеи Мед (Страбон. География, 11, 13), по второй его убила сама Медея, чтобы вернуть трон своему отцу Ээту (Аполлодор. Мифологическая библиотека, I, 9,28).
(обратно)7
Посидоний. — Ср. фр.423, 59; 254, 14.
(обратно)8
Тимомах — художник времен Цезаря. По свидетельству Плиния (Естественная история, 35, 136), Цезарь поместил две его картины, изображавшие Медею и Аякса, в храме Венеры-Прародительницы.
(обратно)9
П.Киньяр соединяет пифагорейскую идею «неразумия» человека с темой рождения; пифагорейцы осуждали беспорядочное и «неподготовленное» соитие, говоря, что следует заботиться о том, чтобы появление новорожденных было «обдуманным» и потому счастливым (см.: Ямвлих. О пифагорейской жизни, 209–213).
(обратно)10
Ср.: Сенека. Письма к Луцилию, 22, 15; Об утешении, 10, 5.
(обратно)1
…легенды и имена, рассказывающие о древнем мире первых римлян — волчица-тотем, названия римских холмов — Виминал, Кверкветал, Фагутал… — Виминал — букв, «ивовый», Кверкветал (иначе Целиев холм) — «дубовый», Фагутал — «буковый».
(обратно)2
…«Mentiri поп didicere ferae* (Дикие звери лгать не умеют). — Марциал. Эпиграммы, 1, 22; правда, в каноническом тексте о диких зверях говорится, что они не научены «смиряться» (frangere).
(обратно)3
…совсем коротенького романа о греке Лукие… — Имеется в виду сочинение «Лукий, или Осел», приписываемое Лукиану.
(обратно)4
Овидий. Метаморфозы, 5, 629–630.
(обратно)5
Лукреций. О природе вещей, 4, 988 и далее.
(обратно)5
Светоний. Август, 43.
(обратно)7
Граттий «Фалиск» — римский поэт, современник Овидия, который упоминает о нем в «Письмах с Понта» (4, 16, 34); автор поэмы об охоте.
(обратно)8
Светоний. Нерон, 29, 1
(обратно)9
Светоний. Тиберий, 67, 1.
(обратно)10
Светоний. Нерон, 10, 2.
(обратно)11
Нерон-актер играл рожающую Канаку. — Согласно мифу, Канака, дочь Эола, внука Девкалиона, влюбилась в собственного брата и родила от него сьша, которого убил ее отец; сама Канака покончила с собой (Овидий. Героиды, 11, 1-128).
(обратно)12
…к пребыванию в Риме Тиридата… — Тиридат — царь Армении, торжественно коронованный в 66 г. Нероном в Риме.
(обратно)13
Атаргата — сирийское божество плодородия («сирийская богиня»), чей культ описьшается Лукианом и Апулеем. Он был более распространен в Греции, чем в Италии. См.: Светоний. Нерон, 56.
(обратно)1
Тацит. История, 1, 18, 17.
(обратно)2
Гомер… пользуется словом oarystus (любовное свидание). — Греческое слово oarystus может означать «встреча, беседа», но Киньяр подчеркивает его связь с oar «супруга».
(обратно)3
Пиндар. Олимп, 3, 44; Нем, 3, 21.
(обратно)4
Симонид. — Фр. 37.
(обратно)5
Феогнид. Элегии, 425–428.
(обратно)6
…фраза Ахилла в аду… — См.: Илиада, 9, 411–415; правда, Ахилл произносит эту фразу еще живым.
(обратно)7
Эсхил. Умоляющие (Просительницы), 407–409.
(обратно)1
Муса-вольноотпущенник — римский ритор, вольноотпущенник Сенеки Старшего (Контроверсии, 10, 9-10).
(обратно)2
…Петроний писал: — «Наслаждение (vohiptas), достигаемое в коитусе, мерзко и недолговечно; за любовным (Венериным) актом следует отвращение (taedium)››. — Интересно, что в «Сатириконе» герой постоянно испытывает «желание», которое он не в силах удовлетворить, ибо страдает импотенцией; а «отвращение» (taedium) охватывает его лишь однажды от сетований старухи на то, что он убил гуся — птицу Приапа (Сатирикон, 137, 6).
(обратно)3
Сенека. О кротости, 1, 17,1.
(обратно)4
Сенека. Письма к Луцилию, 89, 13.
(обратно)5
Смерть вырывает тебя из родимого чрева, отвратительного и зловонного. — Точный источник установить не удалось. Для Сенеки, с его идеей избавления от страха смерти, гораздо более характерно следующее описание соотношения смерти и рождения: «Смерть есть избавление от всех горестей и тот конечный предел, за который не проникают беды наши. Она возвращает нас в тот покой, в котором пребывали мы прежде рождения. Если кто горюет об умерших, то должен он горевать и о не родившихся» (Диалоги, 6, 19, 5). «Отвратительным» материнское чрево именуется в трагедии «Эдип» (напр., 637, 1039), где главный герой ассоциируется со смертью (652). Может быть, здесь мы имеем дело со своеобразным смешением философских идей и трагического образа.
(обратно)6
Луций Афраний — римский поэт и комедиограф (род. ок 150 г. до н. э.). Приведенная строчка — фрагмент 300 из его собрания.
(обратно)7
…изображению отбросов и прочих «гадостей», чем особенно прославился Сос Пергамский. — Сос Пергамский — эллинистический художник, упоминаемый Плинием (Естественная история, 36, 184). Нам известны описания двух его картин: изображение зала после попойки и фреска с птичками, пьющими вино из чаши.
(обратно)8
…Галатон изобразил на одной из своих картин Гомера, извергающего рвоту… — Эта картина описана Элианом (Пестрые истории, 13, 22).
(обратно)9
Проперций. Элегии, 1, 19
(обратно)10
Сенека Старший. Рассуждения (Suasoria), 2, 12-13
(обратно)11
Гораций. Искусство поэзии, 390; впрочем, в послании Горация речь идет всего лишь об опубликованных стихах — «вылетят, не поймаешь».
(обратно)1
Сенека. Письма к Луцилию, 83, 20.
(обратно)2
Артемидор свидетельствует, что женщины часто называли мужской член to anagkaion (истязатель). — Артемидор. О сновидениях, 1, 45; эвфемизм можно перевести и как «принуждающий», и как «необходимый».
(обратно)3
…непререкаемость слов Фульвии, обращенных к Августу: «Autfutue out pugnemus» (Или ты спишь со мною, или война!)… — Имеется в виду жена Марка Антония, активная противница Октавиана. Фраза Фульвии (весьма грубая, П.Киньяр ее смягчает — «Или засунь мне, или будем биться») приведена в эпиграмме Марциала (И,20), причем он ссылается на эпиграмму, написанную самим Октавианом Августом (фр. 4).
(обратно)4
…маленькие затворницы изображали медведицу (богиню) и «приручали себя» в ее святилище. — Об этом обряде упоминает Аристофан в «Лисистрате» (645). См. также схолии к этому месту.
(обратно)5
Плиний Младший. Письма, 7, 21.
(обратно)6
Там же, 9, 36.
(обратно)7
Там же, 1,6.
(обратно)1
Павсаний. Описание Эллады, 9, 31 и далее.
(обратно)2
Овидий. Метаморфозы, 3, 346 и далее.
(обратно)3
Овидий. Метаморфозы, 3, 433.
(обратно)4
Эрот-Фанес — божество орфического культа, «перворожденный», чье имя буквально означает «явившийся, блистающий»; отождествлялся с Эротом.
(обратно)5
…был изрезан на куски Титанами. — Имеется в виду орфический миф о Дионисе-Загрее, которого Титаны ребенком приманили блестящим зеркальцем, убили и растерзали.
(обратно)6
Овидий. Скорбные элегии, 1, 207–208.
(обратно)7
Ср. Сенека Старший. Контроверсии, 7, 3, 1.
(обратно)1
Плиний. Письма, 6, 16.
(обратно)2
Там же, 6, 20.
(обратно)3
«ImmortaUa ne speres» (He жди ничего от бессмертных вещей)… — П.Киньяр несколько усложняет фразу Горация. У Горация: «Не надейся на бессмертие». Гораций. Оды, 4, 7.
(обратно)4
Там же, 4, 7, 16.
(обратно)5
во время осады Рима Тотилой… — Тотила — король остготов, бравший Рим в 546 и 550 гг.
(обратно)1
Имеется в виду Аполлоний Тианский, странствующий философ, герой книги Флавия Филострата «Жизнь Аполлония Тианского».
(обратно)2
Стимула — римская богиня, иногда отождествлявшаяся с матерью Диониса Семелой (см.: Овидий. Фасты, 6, 503; Тит Ливии, XXXIX, 12, 4). Ее имя понималось как «побуждающая».
(обратно)3
Ювенал. Сатиры, 6, 118–132.
(обратно)4
Тацит. Анналы, 11, 12.
(обратно)5
Когда центурионы, во главе с Нарциссом, прибыли в Рим, императрица уже покинула празднество. — См.: Тацит. Анналы, 11, 36–37. Нарцисс — доверенный секретарь императора Клавдия, награжденный за раскрытие заговора жены императора Мессалины. Сразу после смерти Клавдия в 54 г. был схвачен и покончил жизнь самоубийством.
(обратно)6
Сенека. Федра, 99-111.
(обратно)7
Авл Геллий. Аттические ночи, 14, 4, 2.
(обратно)8
Сенека Старший. Контроверсии, 2, 1.
(обратно)9
Плиний. Естественная история, 35, 84.
(обратно)10
Традиционное обозначение для сцены, происходящей в подземном мире; исходно употреблялось применительно к двум песням «Одиссеи» (11 и 24), имеющим соответствующий сюжет.
(обратно)
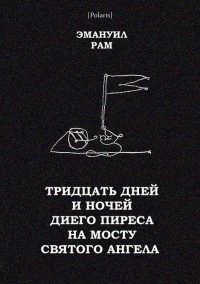







Комментарии к книге «Секс и страх», Паскаль Киньяр
Всего 0 комментариев