АРСЕНИЙ РУТЬКО, НАТАЛЬЯ ТУМАНОВА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ Повесть об Эжене Варлене
НАД ПЫЛАЮЩИМ ПАРИЖЕМ
…Кончался последний день сопротивления Коммуны.
Совершенно обессилевший, Эжен Варлен сидел на обрыве, на крутом склоне Монмартра, недалеко от площадкп, откуда немногим более двух месяцев назад красноштанные солдаты Версаля, по приказу Тьера и коменданта Парижа генерала Винуа, пытались увезти стоявшие здесь пушки. А пушки были отлиты на пожертвованные голодающим народом деньги и установлены на холмах Монмартра, Бельвиля и Бютт-Шомона для защиты города от осадивших его прусских армий. Да, именно отсюда, с Монмартра, началась героическая, самоотверженная, но теперь уже безнадежная борьба трудового Парижа с коронованными и некоронованными властителями Тюильри и Версаля.
Хотя, нет, Эжен, ты не прав! Никакая борьба с насилием, даже если она кончается поражением, не может остаться бесплодной: будущие поколения извлекут из нее наглядный и полезный урок. Ваши трагические ошибки и сама ваша гибель многому научат тех, кому суждено сменить вас на земле. Ведь растерзанная, распятая Коммуна — не последний взлет человеческого духа, когда-нибудь настанет век победоносных революций, не всегда же будут править миром титулованные и богатые мерзавцы! Несмотря на нынешний кровавый разгром, необходимо сохранять веру в будущую победу. И если суждено сегодня или завтра умереть, надо принять смерть достойно и мужественно. «Коммуна побеждена — да здравствует Коммуна!»
Сквозь дым пожаров Варлен смотрел на раскинувшийся внизу, объятый огнем Париж, который коммунары пытались, но не сумели навсегда освободить от самовластия сильных и алчных мира сего.
Кончался день, но сумерки не опускались на город, потому что гигантским костром пылало внизу бывшее гнездо императоров — Тюильри, да и вся улица Риволи, самая длинная улица Парижа, охваченная пламенем, огненной полосой рассекала город. За ней, в просвете меж домами, в редких разрывах клубов дыма, багровыми отсветами поблескивала Сена. Чуть левее Тюильри таким же костром полыхала Ратуша. Пронизанный языками пламени дым вздымался над зданием Министерства финансов, над Дворцом Почетного легиона, в Ситэ горели Префектура и Дворец юстиции. Во многих местах Бельвиля и Мепильмоптана бушевали пожары. Они возникали не только от зажигательных, керосиновых и нефтяных снарядов осаждавших, коммунары сами пытались стеной огня остановить или хотя бы задержать наступление врага… И где-то там, в районе Бельвиля и кладбища Пер-Лашез, еще гремели выстрелы — кто-то из последних героических безумцев продолжал сражаться на уцелевших баррикадах…
Варлен сидел лицом к пылающему городу, который так любил и одновременно ненавидел, спиной к ветряным мельницам Монмартра — одна из них, налево от него, рассыпая фонтаны искр, размахивала горящими решетчатыми крыльями. Чуть повернув голову и скосив взгляд, Варлен сквозь ветви жасмина видел эту мельницу, видел, как по улице Розье, гогоча и перекликаясь, проходили взводы вражеских солдат и с победным видом гарцевали на откормленных конях офицеры генералов Галифе и Сиссе. Мелькали сверкающие сабли, синие кепи с белыми околышами, серебряными и золотыми галунами. На рукавах у большинства прохожих пестрели трехцветные повязки — снова воскрес старый символ на месте праведного знамени Коммуны, окрашенного кровью четырех революций и множества восстаний.
Иногда, подталкивая штыками и прикладами, грозно покрикивая, солдаты гнали по направлению к 37-му бастиону арестованных и пленных. Среди них были не только национальные гвардейцы, но и женщины, старики, даже дети. На миг Варлену показалось, что в толпе обреченных он узнал чуть сутуловатую фигуру Марианны Мишель, матери Луизы. Парижане прозвали Луизу за ее мужество и доблесть Красной девой Монмартра.
Возможно, и меньшего из братьев Эжена, хромоногого Луи, сейчас вот так же ведут на расправу, подталкивая в спину штыками… Бедный, дорогой Малыш! Так горько сознавать, что именно деятельность Эжена в Интернационале и Коммуне поставила Луи под вражьи пули.
Скорее бы наступила ночь, тогда попытаюсь добраться до рю Лакруа. Может, еще не поздно, и квартира не разгромлена солдатами и полицией и удастся спасти Малыша хотя бы ценой собственной жизни. Все равно, если не сегодня, то завтра враги опознают меня. В их глазах я — один из главных «преступников», не зря же в трех из двадцати округов Парижа избиратели опоясали меня красным шарфом с золотыми кистями, почетной регалией члена Коммуны… Если Луи арестован, его уже не спасти, но в душе теплится надежда, что он догадался укрыться, спрятаться, у нас с ним в Париже много друзей…
И еще одна пугающая мысль. А что, если при обыске на рю Лакруа ищейкам Версаля удалось обнаружить нехитрый тайничок, где Эжен хранил документы Парижского бюро Интернационала, письма Маркса, адресованные ему и Лео Франкелю, списки тех, кто по его рекомендации вступил в Интернационал? Прп обнаружении списков всем поименованным там, а возможно, и их семьям грозит гибель. Коммунары за эту неделю убедились, что Версаль Тьера и его генералов не знает милосердия, никому не дает пощады.
Как, оказывается, правы те, кто советовал хранить подобные документы вне дома, в недоступных для врага местах. Но мы все, в том числе и я, безоговорочно верили в окончательную победу Коммуны, верили хотя бы потому, что считали ее единственно справедливым правительством парода…
А внизу, на крутых склонах Монмартра, во всю вешнюю майскую силу цветут вишневые и яблоневые сады, на ветвях с нежным шелестом покачиваются под слабым ветерком розовые и белоснежные свечи каштанов. Это угнетает и наполняет странной печалью: ликующая, празднующая весну природа равнодушна к человеческим страданиям, не замечает ни трупов, ни размозженных черепов, словно так и полагается, так и должно быть.
Бог мой, ну почему такие бесполезные мысли лезут в голову?! Сейчас нужно думать лишь о том, как добраться до рю Лакруа, как спасти Луи!
Кусты жасмина и сирени укрывали Варлена со стороны улицы, защищали его. Хотя, по правде говоря, ему, одному из вожаков Коммуны, хотелось прямо и открыто выйти врагам навстречу, принять смерть так же мужественно и бесстрашно, как приняли ее Гюстав Флуранс, Шарль Делеклюз и Рауль Риго, как десятки, сотни других. И он бы, конечно, сделал это, если бы не тайник с документами, если бы не младший брат, Луи. Средний, Ипполит, тот сумеет сам постоять за себя, он всю кровавую майскую неделю сражался на баррикадах. А вот Малыш…
Судьи Версаля не простят ему, что он — брат Эжена Варлена. Этот «мерзавец» — так окрестили Эжена версальские газеты — один из главарей Коммуны, один из заправил Интернационала. А после гибели Делеклюза — гражданский делегат по военным делам Коммуны. Он руководил защитой Парижа, отдавал приказы о поджогах.
А Луи не вынесет, не в состоянии вынести тяжелых испытаний. Немощный, колченогий из-за давнего увечья, он очень ослабел за месяцы двух осад Парижа — сначала прусской, а после заключения мира с немцами версальской, когда город буквально вымирал от голода. Получив в Ратуше доступ к оставшимся после Трошю и Фавра документам, Луи как-то назвал Эжену потрясающие данные статистики о смертности в конце прошлого года. Тогда за ноябрь в Париже погибло от голода более восьми тысяч человек, в следующем месяце земля парижских кладбищ приняла двенадцать тысяч гробов, а дальше стало еще голоднее, еще хуже. Началась круговая версальская осада. У многих — и взрослых, и детей — по неделям не было во рту и крошки хлеба. Ели полупротухшую конину, привозимую с поля боя, ели кошек и крыс, по дикой цене продавали мясо зверей из Зоологического сада, убитых потому, что их тоже нечем было кормить. Даже привезенного из Африки слона, гордость сада, убили и съели…
Варлен сидел, беспомощно раскинув ноги, опершись о землю вытянутыми за спину руками. Все сильнее и сильнее кружилась голова, гасло сознание. Нестерпимо хотелось повалиться в траву и забыться сном. Ведь за неделю, с тех пор как версальцы благодаря измене Дюкателя проникли в Париж через ворота Сен-Клу, и до сего дня никто из коммунаров не спал полностью ни одной ночи, только дремали в часы затишья, опершись спиной или плечом о камни и поваленные фонарные столбы, о бочки и тюфяки баррикад. А Варлену и такого краткого отдыха не выпадало: чуть стихали бои, тут же собирались оставшиеся в живых члены Коммуны, в последние дни — в мэрии VI, потом XI округа, думали и решали, как защищаться дальше.
С каждым днем, с каждым часом вражеские дивизии и корпуса захватывали все новые кварталы. А когда прусские части, стоявшие на северо-востоке от Парижа и якобы соблюдавшие нейтралитет, по приказу Мольтке пропустили через ворота Сент-Уэн версальские войска генерала Монтодана, всем стало ясно, что всякое сопротивление бессмысленно…
Варлен лег, уткнулся лицом в траву. Очень болела голова, ее сильно поранило осколком штукатурки или кирпича, когда снарядом разбило стену над баррикадой на улице Рампошю. Хотелось есть. Когда же он последний раз ел? Кажется, вчера или позавчера возле баррикады на Рампонно один из друзей, Теофиль Ферре, затащил Эжена в чей-то чужой дом, где ему дали чашку суррогатного ячменного кофе и кусочек черного хлеба пополам с мякиной и глиной. И сейчас почти совсем не осталось сил; наверно, самому и не подняться, не встать с земли.
Помнится, что-то важное рассказывал тогда Теофиль? Ах, да, о Луизе Мишель. Теофиль встретил ее на баррикаде площади Бланш, которую защищал женский батальон под командованием Луизы Мишель и Лизы Дмитриевой, русской революционерки. И Луиза, по словам Ферре, высказала ему горькие, но справедливые упреки. «Наша беда, Тео, в том, — говорила она, — что врагов своих мы мерим по себе, наделяем их благородством и великодушием, честью и совестью, теми качествами, которых требуем от бойцов Коммуны, которым следуем сами. Мы всегда были великодушны, наивны и доверчивы, как дети, в то время как наши враги иезуитски изворотливы, подлы и беспощадны. Поэтому мы и погибнем!» Ферре пересказывал эти слова как бы с тайным удовлетворением: убежденный бланкист, он на всех заседаниях Коммуны выступал с требованием более суровых мер по отношению к заложникам в ответ на жестокость Версаля, на ежедневные массовые казни пленных федератов в Сатори…
— Да, может быть, и так, — едва слышно прошептал Варлен, лежа на боку и касаясь пересохшими губами травы, — это не утоляло жажду, но чуть-чуть приглушало ее. — Мы нe убивали пленных, не расстреливали заложников до начала кровавой майской недели… А как она выразилась еще, Луиза? «Необходимо отвечать жестокостью на жестокость, только тогда можно рассчитывать на победу!» И это тоже, конечно, в духе самых яростных бланкистов, тех же Ферре и Рауля Риго, прокурора Коммуны… Что ж, Эжен, может быть, они и правы? Как рассказывали очевидцы, в последние дни победители из Версаля без суда и следствия расстреливали целые толпы, и не из ружей, а прямо из митральез, картечью, — дешевле и проще! И кто-то вчера па баррикаде Фонтэн-о-Руа заметил, что Сена сейчас приобрела в пределах Парижа новый приток: ручей крови, вытекающий из ворот казармы Лобо. Туда, в казарму, сгоняют всех, захваченных поблизости и подозреваемых в участии или даже просто в сочувствии Коммуне. И там их встречает смерть…
Только теперь Варлен со всей отчетливостью понял, почему так врезались в память гневные слова Красной Девы. Принадлежа к «меньшинству» в Коммуне, он был одним из тех, кто до самой последней минуты возражал против расстрела заложников. Он доказывал: хотя заложники и враждебны народной власти Коммуны, хотя большинство из них — буржуа, бывшие чиновники Империи, священники, жандармы, но ведь они взяты из числа мирных жителей… Если солдаты Винуа, Галифе и Сиссе в эти месяцы сотнями убивают пленных федератов, истязают захваченных в плен наших сестер милосердия и маркитанток, то ведь заложники не принимали участия в этих расправах, — пытался он убедить Ферре и Рауля Риго.
Он, Варлен, признавал справедливым расстрел Вейссе, пытавшегося от имени Версаля, по личному предложению Тьора, подкупить генерала Домбровского, обещая полтора миллиона франков за открытые для вторжения ворота Парижа. Преступник, безусловно, заслуживает смерти. Но заложники?..
И когда по улице Аксо два дня назад вели на расстрел пятьдесят одного человека, Варлец пытался помешать исполнению приговора Комиссии общественной безопасности. Но ничего сделать не удалось: конвоиров, ведших осужденных к месту казни, сопровождала тысячная толпа разъяренных и обезумевших в своем горе людей, тех, у кого версальцы уничтожили родных. Этих людей невозможно было образумить, остановить, гнев жег их сердца и души. Полные ненависти и жажды отмщения, они не хотели никого и ничего слушать.
Да, тогда Варлен еще не понимал, как и многие коммунары, что на изуверства и жестокости Версаля необходимо отвечать силой. Не понимал, что среди заложников, за которых он заступался, были и настоящие враги, вроде монсеньера Дарбуа, — и эти враги были уничтожены Коммуной. Это было актом справедливым и необходимым. Но остальные, а их были сотни, по приказу Ферре освобождены вчера из тюрьмы Ла Рокетт.
Именно в последние дни Варлен с особенной остротой понял, когда зародилось в нем наивное стремление к невозможному «миру» с извечными врагами бесправных и нищих. Это шло от человека, кого Варлен с юности почитал своим учителем. Отголоски учения Прудона до сих пор продолжают звучать в его сердце. Ведь никто другой, а именно Прудон когда-то писал о «добрых намерениях, рыцарском сердце и уме» Луи Бонапарта, тупого, самодовольного, ненавистного народу узурпатора, свергнувшего Республику и вскарабкавшегося в пятьдесят втором году на трон великого дядюшки, тоже, к слову говоря, залившего Европу реками крови! И разве одну Европу? Разве не гибли французские парни у подножия тысячелетних пирамид, в раскаленных песках Египта?
Наполеону Малому (так окрестил Наполеона Третьего Великий изгнанник Виктор Гюго, гордость нации, покинувший родину около двадцати лет назад, после государственного переворота пятьдесят первого года, и вернувшийся в Париж только после седанской катастрофы), бывшему императору, когда-то бежавшему из крепости Гам в украденной куртке работавшего там каменщика Баденгс, вероятно, и сейчас не так уже плохо живется в прусском плену! После того как он 2 сентября прошлого года, в завершение бездарной франко-прусской войны, почти без боя сдал Вильгельму и Мольтке восьмидесятитысячную армию под Седаном… За два тысячелетия не было и истории Франции более подлой и позорной страницы!
А на смену Наполеону Малому на вершину власти выползли людишки, мало чем уступающие ему в властолюбии, жестокости, подлости и своекорыстии: Троиц, Тьеры и Фавры, Базены, Сиссе и Галифе… Право, жаль, что Прудон не дожил до нынешнего дня, не видит, как гибнет в огне и крови прекрасный Париж, не видит нагромождений трупов коммунаров. Что бы он при виде этого зрелища сказал о «мире и сотрудничестве» с буржуазией?
Почти засыпая, Варлен расслышал неподалеку сдавленный стон. С усилием приподнял голову, но все плыло и мутилось перед глазами. То ли туман, то ли дым объятого огнем города разъедал глаза, мешал видеть.
Стон повторился. Напрягшись, Варлен вытащил пз кармана носовой платок, опершись на локоть, протер глаза. Нет, поблизости никого не видно, но что-то шелестело и двигалось внизу, под обрывом. За все время, пока Варлен сидел здесь, оп ни разу внимательно не глянул туда. Заставив себя всмотреться в сбегающий по крутому склону сад, он лишь сейчас увидел, что там, между цветущими вишневыми деревьями, в траву свалена делая куча трупов. Вероятно, пленных расстреливали, выстроив на бровке обрыва.
Да, несомненно, кто-то остался там жив — доносились сдавленные, сквозь зубы, бормотание, тихая брань:
— О, черт тебя подери!
Хриплый и злой голос показался Варлену знакомым. Он еще раз протер глаза, заставил себя подвинуться ближе к обрыву. Кто это, кого не добили красноштанные? После расстрела им, вероятно, лень было спуститься под откос и промерить, все ли мертвы? Это и спасло раненого.
Постой, постой, Эжен, да ведь это, похоже, твой старый друг Альфонс Делакур, боец 193-го батальона, которым ты командовал в октябре прошлого года? А ни сколько лет перед тем вы вместе работали в мастерской мадам Деиьер.
Ну конечно же Делакур! Его, рыжебородого, трудно не узнать… Сидя между мертвыми телами, то наклоняясь, то опять выпрямляясь, он с видимым усилием сдирал со своих штанов красные лампасы, уличавшие его в принадлежности к Национальной гвардии. Варлен понимал предосторожность раненого. Оставшиеся в городе гвардейцы, с точки зрения Версаля, все до одного — разбойники и бандиты. После бегства правительства Тьера из Парижа в Версаль, следом за ним кинулись и национальные гвардейцы из буржуазных и аристократических кварталов; сбежало их, по слухам, не так уж мало! А те, кто остались здесь, для Версаля — враги!..
Нет, Варлен не собирался обвинять Делакура в трусости, не осуждал. Может быть, Альфонсу удастся спастись, хотя, вполне вероятно, красные прострочки на местах отодранных лампасов рано или поздно выдадут его версальцам, и тогда ему не ждать пощады. А у Делакура семья: милая работящая жена и две дочки.
С первого дня вступления в город солдаты Винуа, Галифе и Сиссе разыскивают в захваченных кварталах родственников федератов и без всякого следствия и суда беспощадно расправляются с ними. «Вырывают зло с корнем», чтобы не осталось даже крохотных его побегов… Что ж, так поступали все завоеватели. Чингисхан сровнял с землей цветущий Самарканд, римские легионеры запахали плугами развалины разрушенного ими Карфагена…
Два раза Варлен шепотом окликнул Делакура, но тот, занятый своими лампасами, не слышал. А позвать громко Варлеи боялся: можно привлечь внимание с улицы и погубить не только себя, но и этого несчастного, уже пережившего только что страх смерти.
Тут чуть было притихшая боль в голове снова опалила мозг, накатилась опрокидывающей волной. Почти теряя сознание, Варлеи лег, уткнулся лицом в траву. И вдруг наступила спасительная, благословенная тишина. Запах травы напомнил милые, родные запахи далекого детства. Так пахло во время сенокосов в лугах на берегах канала Урк и Сены, куда Эжен ходил с отцом и братьями косить траву. Так же звенели, притаясь в ромашках и люпине, кузнечики, и так же вторил их звону задорный смех сестренки Клеми и ее подружки, озорницы Катрин…
И странно: воспоминания давних дней как бы наслаивались на только что пережитое — в дымке прошлого проплывали очертания полуразрушенных баррикад и огненные сполохи взрывов. И сквозь розовые краски детства проступали лица друзей последних лет: Жюля Андрие, Жюля Валлеса, Артюра Арну, Шарля Делеклюза, многих, многих других… Лица то расплывались в тумане, то возникали снова, приглушенно звучали голоса… И почему-то настойчиво, неотступно звенело в памяти: «Если к правде святой мир дороги найти не умеет…»
И опять сознание гасила, заливала тьма…
«МЕЧТЫ И БУДНИ КОММУНАРА ЭЖЕНА ВАРЛЕНА» (Тетради Луи Варлена. 1871 год)
«Семь лет назад, когда я с ученической робостью начинал вписывать первые строчки в эти дневниковые тетради, Эжен всячески ободрял и поощрял меня, стараясь внушить мне уверенность, что, при надлежащем усердии, со временем я смогу написать что-нибудь путное, полезное людям. И, подогревая свое мальчишеское честолюбие картинками грядущей славы, я иногда урывал у сна часок-другой, чтобы записать чьи-то поразившие меня мысли, вычитанную у кого-то из „великих“ незабываемую фразу, рассказать об интересном событии.
Но, пожалуй, не это главное, что побуждает меня писать. Мне хочется как можно больше и подробнее рассказать об Эжене, о моем брате. Мои мысли и ощущения, записанные в этой тетради, — это лишь отражение, отсвет того, что говорит и делает Эжен. Я не сочиняю его жизнь, а пытаюсь описать, воссоздать ее.
Теперь, перелистывая дневники, я с радостью убеждаюсь, что за годы, проведенные в Париже, благодаря деликатной, едва ощутимой, но постоянной настойчивости брата и его влиянию я чрезвычайно преуспел. Я уже не тот простодушный, лопоухий, хотя и по-крестьянекп „себе на уме“, паренек, которого когда-то Эжен чуть ли не силой привез сюда из провинциального Вуазена. Там, на родине, в столице департамента, городишке Клэ, я окончил четыре класса начальной школы, и мне казалось, что я все знаю. Но только здесь, в Париже, я стал постигать людей и скрытые пружины личных, общественных и социальных отношений. Правда, надо сознаться, что, к сожалению, я частенько бывал недостаточно прилежен, и потому многое не попало на страницы дневника.
Сейчас, в эти поразительные дни Коммуны, я чувствую себя обязанным как можно подробнее записывать в дневники все происходящее, тем более что большинство ученых-историков после революции 18 марта сбежапо вместе с Тьером и его сворой в Версаль. Нет, конечно, я не смею возомнить себя настоящим историком, не так уж я самоуверен. Начиная свои дневники, я вовсе не собирался писать историю событий в Париже, — мне просто хотелось рассказать людям о моем брате — добром, одаренном, умном человеке. Но с особенной силой меня потянуло к дневникам вчера, когда поздно ночью, уже лежа в постели, брат сказал мне с обычной для него сдержанной страстностью:
— Да, Малыш, такого еще никогда не знала история! Мы присутствуем…
Внезапно он замолчал и, приподнявшись на локте, повернулся ко мне. Сквозь узенькие щелки жалюзи в мансарду проникал неяркий лунный свет, и даже в полутьме я видел, каким радостным огнем пылают глаза брата.
— Нет, Малыш! Я не так выразился, ее точно, — поправился он. — Мы не присутствуем, а сами, вот этими руками, укладываем первые камни фундамента небывалою на земле государства. — Он досадливо кашлянул. — И снова не то слово!.. Не государства! Это слово не выражает главного смысла того, что мы хотим возвести. Что же это будет? Свободная, равноправная федерация городских и сельских коммун? Не знаю… Вероятнее всего, так… Твердо знаю лишь одно: построенное нами будет самым честным и справедливым обществом… У нас, Малыш, нет единого плана, нет проекта в целом, среди нас, к великому сожалению, нет людей, искушенных в строительстве подобного рода. Мы даже не можем представить себе, как оно должно выглядеть — то, что мы строим. Но одно мы знаем непреклонно: там не должно быть бездомных и нищих, каждый работник должен подучать за свой труд все необходимое для жизни! Там на перекрестках улиц по вечерам не будет испуганных и голодных или навязчиво-нахальных девчонок-проституток, не будет там стариков, сходящих с ума от голода и нищеты, копающихся в отбросах, не будет самоубийц!
Эжен секунду, как бы взвешивая, выверяя сказанное, молчал, а я боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть ненароком его неожиданного вдохновения.
— Там, Малыш, в нашей будущей Коммуне, — почему-то шепотом, но с прежней страстью продолжал Эжен, — там не останется места жирным паукам, вроде Рулана и Шнейдера, сосущим кровь из простого люда и превращающим ее в золото луидоров и долларов!.. Конец старому правительственному и клерикальному режиму, конец милитаризму, бюрократизму, эксплуатации… Пусть мы начинаем наугад, каждый камень укладываем ощупью, пусть мы, вероятно, во многом и не раз ошибемся! Но ведь мы, Малыш, первые, а первым суждено трудное! Помнишь восточную поговорку: след рождает дорогу? Так вот — это мы сегодня прокладываем дорогу будущему обществу свободных людей… Да, да, Малыш! Не зря же мы пишем на знамени и в декретах Коммуны прекраснейшие из слов: Свобода, Равенство, Братство! Но не для всех, Малыш. Свобода и Равенство — для тружеников!
Эжен замолчал; в полутьме влажно поблескивали белки его глаз.
— Не думаю, Малыш, что здание, которое мы начали строить, окажется схожим с „фалангами“ Фурье, что в нем полностью воплотятся прожекты Сен-Снмона и Кампапеллы. Ничего пока нельзя предсказать точно. Но надеюсь: наша Коммуна — начало будущей светлой и справедливой эры!
Глубоко вздохнув, Эжен лег, откинул голову на подушку. Счастливо и, словно сожалея о невольном порыве, чуть виновато, негромко засмеялся.
— Что-то необычно разболтался я нынче, Малыш, а? Чуть не стихами заговорил, будто мой тезка „седой юноша“ Потье! Словно невидимая волна подхватила и понесла. Хоть бы ты одернул меня!.. Давай-ка спать, милый!
Он лег на бок, лицом к стене, натянул одеяло. И вдруг снова с живостью повернулся ко мне:
— Но я же забыл главное! Завтра, Малыш, ты отправишься со мной в Ратушу. Дело, видишь ли, какое… Наши ежедневные заседания протоколируются наспех, небрежно и не всегда точно. А точность необходима, ведь мы много спорим, прежде чем принимаем тот или иной декрет… Секретарь Коммуны Антуан Арно жалуется, что ему не под силу без стенографов справиться с протоколами. Ему еще после заседания необходимо вместе с Лонге подготовить отчет для печати, дли „Журналь офись-ель“ и афиш Коммуны… А это не гак-го просто, Малыш, как может показаться на первый взгляд! Ведь мы говорим, например, о военных приготовлениях в борьбе с Версалем, и этого нельзя печатать, мы ие имеем права, как последние глупцы, открывать врагу все свои карты, оповещать ею о наших замыслах… Борьба-то, вооруженное столкновение со сбежавшими в Версаль мерзавцами, видимо, неизбежна, они сами хотят этого. Как ты полагаешь?
— Наверио, так, брат, — кивнул я.
— И в то же время нужно, чтобы протоколы заседаний Коммуны были полными и абсолютно точными. Ведь, повторяю, мы немало спорим, иначе не найти правильных путей, Истина-то рождается в спорах, утверждали древние!.. Так вот, с завтрашнего дня в помощь Арно и Шарлю Лонге, помогающему готовить материалы для прессы, начнет работать маленькое бюро стенографов под руководством Тюилье. Оказывается, Малыш, заседания так называемого „правительства национальной измены“ в Версале стенографируют двадцать четыре опытных секретаря, а мы сегодня подобрали для Тюилье всего двух. Для этой работы требуются предельно преданные, проверенные люди. Важно, чтобы сведения о секретных решениях не смогли попасть во вражеский лагерь… Ты понимаешь, да?! И я предложил: будешь стенографировать и ты. Коммуна оказывает тебе доверие, Луи, потому что ты — мой брат.
Я вскочил с постели, обхватил руками шею Эжена.
— Спасибо тебе!
В ответ он засмеялся с оттенком иронии:
— Э, погоди благодарить, Малыш! Работа предстоит весьма и весьма нелегкая! Мы заседаем ежедневно по шесть-семь часов, а иногда и два раза в день. Необходимо выработать и утвердить взамен отвергнутых новые законы, установить новые нормы поведения, создать новые учреждения!.. Так что собирай все силенки! Надеюсь, не подведешь меня! Я тебе верю, как самому себе, Луи!.. А теперь знаешь что? Спать! Дел завтра — гора, невпроворот…
Взволнованный до слез, счастливый, я покорно улегся, но уснуть долго не мог… Вот благодаря Эжену и я оказался, верное, завтра окажусь в зале Ратуши, где бьется горячее сердце Коммуны!.. И вот тут-то вспомнил я о полузабытых дневниках…
Да, как бы ни уставал, с завтрашнего дня я обязан записывать все значительное, происходящее в Париже, ведь мы стоим на пороге нового, небывалого века, и каждое свидетельство этих дней может оказаться драгоценным. Рядом со мной живут и борются такие замечательные люди, как Эжен, Шарль Делеклюз, Теофиль Ферре, Рауль Риго, Гюстав Флуранс, Лео Франкель, Жюль Валлес, Луиза Мишель…
Я проклинал свою леность! Устав за день у переплетного станка, вечером я уже не в силах был заставить себя сесть за тетради дневника. Тянуло пойти в ближайший клуб — большинство церквей и школ по вечерам превращаются в рабочие клубы, — хотелось послушать страстные речи, о которых недавно невозможно было и мечтать… Я виноват в том, что более подробно не описал в дневниках осады Парижа пруссаками, которая началась 19 сентября; не написал о том, как Жюль Фавр, член Временного правительства, возникшего после крушения Империи, ездил с унизительнейшим поклоном в ставку бундесканцлера Бисмарка, умолять о перемирии, как прусские вояки 1 марта заняли район Елисейских полей на западе Парижа и как правительство Тьера согласилось уплатить контрибуцию в пять миллиардов франков, чем и закончило позорнейшую войну…
Не описал я должным образом и стихийных народных восстаний против этих подлецов правителей. Решительное наступление парижского народа все приближалось, о чем ярко свидетельствовали восстания в октябре семидесятого и в январе нынешнего, когда народ захватил Ратушу. Правительство перенесло свои заседания в Лувр, где по соседству с Тюильри оно чувствовало себя в большей безопасности. Не упомянул я и об угрожающем предсказании Бисмарка Жюлю Фавру: „Если Париж не будет взят в течение нескольких дней, правительство ваше будет свергнуто чернью!“ А они, наши правители, этого страшились больше всего. Мой Эжен принимал участие в обоих восстаниях, его имя стало известно всему Парижу. Да, тогда мы нерушимо верили в близкое провозглашение свободы, а во главе народа стоял „вечный инсургент“ неистовый Огюст Бланки. Именно он писал в октябре в одной из афиш:
„Временное правительство низложено, перемирие с пруссаками отвергнуто, поголовное вооружение декретировано. Выборы в Коммуну состоятся в течение 48 часов“. Увы, тогда они не состоялись!
Да, о многом я не успел, не смог записать! Всеобщее вооружение трудового Парижа было необходимо для победы над прусскими армиями, по наше гнусное правительство боялось этого как огня и шло па поводу требований Бисмарка, соглашавшегося оставить оружие шестидесяти старым, то есть буржуазным, батальонам и настаивавшего на более жестокой блокаде города, чтобы вынудить национальных гвардейцев из народа сдать свое оружие в обмен на хлеб для их семей. Какое изуверство!
Остались за гранью моей своеобразной летописи будни Центрального комитета Национальной гвардии, который до провозглашения Коммуны, то есть до 28 марта, стал полновластным и единственным хозяином Парижа; незабываемый праздник 18 марта, день победы трудового люда. Национальные гвардейцы из буржуазных кварталов почти все бежали в Версаль. Необходимо заметить, что, формируя батальоны, правительство Трошю ограничивалось буржуазными округами Парижа, не решаясь выдавать оружие рабочим и студентам. Поэтому-то за ружье, за мундир и за штаны с красными лампасами и за кепи обязывали платить наличными, а у большинства рабочих, конечно, не было этих наличных. И вооружались только богатые. Вот тогда-то народ и прозвал правительство национальной обороны, как они сами пышно величали себя, „правительством национальной измены“. Да, они боялись вооружить народ, предпочитая отдать Париж прусским завоевателям, народа они боялись больше, чем иноземного вторжения. А Центральный комитет гвардии вооружал рабочих бесплатно. Армия, как таковая, и полиция перестали существовать. Их сменил вооруженный народ. Мой Эжен стал членом ЦК Национальной гвардии, и его единогласно избрали командиром 193-го батальона. В отличие от прежней регулярной армии, где офицеры избивали рядовых солдат, как последних собак, в Национальной гвардии властвует закон о смещении в любое время провинившегося, не оправдавшего доверия командира… Батальоны сведены в каждом из двадцати округов Парижа в легионы, но командир легиона тоже может быть в любое время смещен гвардейцами! Народовластие! Вот это мне и нужно как можно подробнее описать в дневнике. И о дне выборов в Коммуну, ярчайшем на моей памяти празднике, где Эжена на площади Ратуши опоясали красным шарфом с золотыми кистями…
Это я пишу рано утром на следующий день, пока Эжен тоже склонился над какими-то бумагами.
…Вот и снова вечер, вернее, ночь. Прошел первый день моей работы в стенографическом бюро Тюилье… Да, Эжен прав, работа очень напряженная, сетдня было два заседания Совета Коммуны. Эжена все еще нет, у него пропасть дел. А я зажег свечу и разворачиваю страницы своего дневника.
Но расскажу о нынешнем дне по порядку…
Утром, после ночного разговора с братом, я вдруг увидел на своем станке три переплетенные томика: два — Бальзака и один — Жорж Санд. И вспомнил, что именно сегодня обещал обязательно вернуть эти книги мадам Деньер, это она передала мне свой заказ… Я сказал об этом Эжену с некоторым замешательством, но, па мое счастье, он не рассердился.
— Ну, конечно, Малыш, следует отнести, нельзя ее подводить. Тем более что первое заседание у нас сегодня в два часа пополудни… Кстати, я пойду вместе с тобой, мне тоже нужно в Латинский квартал… Вчера приходили из тамошних школ, жаловались: попы не желают оставлять детей без своего попечения… Я догадываюсь, кто заваривает кашу. Есть там такой яростный апостол, кюре Бушье, с которым в дни Империи мы не раз изрядно спорили. Идем, может, и тебе будет полезно посмотреть, как святые отцы стараются удержать ускользающую от них власть…
И мы вместе с Эженом отправились на левый берег. Несмотря на продолжающуюся прусско-версальскую осаду, Париж жил деловой, напряженной жизнью. Предприятия, брошенные бежавшими в Версаль фабрикантами и хозяевами мастерских, начали работать под кооперативным руководством самих рабочих. У хлебных и продуктовых лавок толпились женщины.
Я гордо шагал рядом с Эженом: на нем красовался шарф Коммуны! Школа, куда мы направлялись, была неподалеку от дома мадам Деньер. Надо сказать, что при „правительстве национальной измены“ школы прекратили работу, но декретом Коммуны объявлено всеобщее обязательное и бесплатное обучение в низших школах. Когда мы подошли к одной из них, из глубины здания доносился шум спорящих голосов.
— Ну вот, Малыш, — покосился на меня Эжен. — На ловца как будто и зверь бежит…
Да, это действительно оказался кюре Бушье, пастырь одного из приходов Латинского квартала. В дорогой, хотя и не особенно новой, сиреневой сутане, с неизменной тростью, точно с апостольским посохом в руке, он стоял посреди школьного зала и проповедническим басом отчитывал перепуганную насмерть старушку, начальницу школы…
Они не сразу заметили нас, и Эжен придержал меня па пороге, чтобы послушать спор.
— Вы смеете подчиняться безбожным велениям Коммуны и запрещаете священникам общение с порученными вашему попечению детьми! — громогласно возглашал Бушье, красный от гнева, стуча тростью об пол. — Да вы понимаете, неразумная женщина, что сие кощунственно, безнравственно и, наконец, подло! Оставить несчастных малышек без слова божия! Да что же вы, скудоумная грешница, станете отвечать перед престолом всевышнего, когда он призовет вас на праведный и неизбежный для всякого смертного суд?!
— Но, ваше преподобие, — заикаясь от страха, пыталась ответить старушка с седыми буклями, в черном наглухо застегнутом платье. — Комиссар Коммуны…
— И вы считаете законом распоряжения этой безбожной шайки?! — вскричал Бушье и грохнул тростью об пол так, что задребезжали стекла.
Из дверец классов выглядывали испуганные лица девочек.
Тут Эжен и посчитал нужным вмешаться. Он решительно прошел в глубину зала и тронул Бушье за плечо. Тот стремительно обернулся, и его и без того красное лицо стало багровым.
— А-а-а! Это вы, безбожный коммунар Варлен! Я специально ходил в округ голосовать против вас, но вы все же пролезли…
— Сейчас это не имеет значения, — спокойно возразил Эжен. — И в данный момент здесь не обо мне идет речь! Гражданин Бушье! Именем Коммуны прошу вас покинуть стены школы. Декретом от второго апреля церковь отделена от государства и школьники освобождены от опеки церкви. Вам здесь делать нечего! Мы ввели обязательное и бесплатное обучение отнюдь не ради того, чтобы вы засоряли юные головы вековым дурманом! Хватит! Повторяю: именем Коммуны приказываю вам удалиться и больше не переступать порога ни одной школы.
Мне казалось, что яростно выпученные глаза Бушье зот-вот вылезут из орбит, даже шея у иею стала пунцовой.
— Я не уйду! — прогремел он, снова грохая тростью. — Мой сан, мой долг повелевают мне не допускать растления душ малолетних и обращения их в стадо безумных, безнравственных татей!
Эжен иронически усмехнулся:
— Гражданин Бушье! Вам ли говорить о нравственности?! Вы же именем божьим просто обманываете невежественных людей, бессовестно обирая их.
— Да как вы смеете! Я предам вас анафеме с пасторской кафедры, я призову на вашу нечестивую грешную голову гром и молнии всевышнего!
— Пожалуйста, призывайте, — чуть поклонился Эжен. — Но я настойчиво прошу вас удалиться отсюда, или вас уведут силой.
— Вы не посмеете!
— Пятого апреля мы приняли закон о заложниках, гражданин Бушье. Вы слышали о нем?..
— Я вам не гражданин! — перебил Бушье. — Я — ваш духовный пастырь, я отвечаю за вашу искалеченную душу перед господом богом.
— Нет, вы такой же гражданин, как и прочие граждане Парижа, — спокойно возразил Эжен. — Только вы — трутень, вы пожираете то, что, обливаясь потом, а иногда и кровью, производят другие!
Я видел, что Эжен начинает теряхь терпение, его лицо побледнело, глаза сверкали.
— Третий раз приказываю именем Коммуны: оставьте школу!
— Я не уйду! Здесь тоже место моего служения всевышнему! Я дал обет пожизненного бескорыстного подвижничества во имя матери церкви…
— „Бескорыстного“?! — язвительно усмехнулся Эжен. — Оставим это утверждение на вашей совести, гражданш; кюре. Сколько, скажите, стоит эта шелковая сутана и каким образом вы заработали сотни франков на ее приобретение?.. Молчите?
Торжественно опираясь на трость, Бушье отошел и сел на один из стоявших вдоль стены стульев.
— Здесь я приму свою лютую смерть, самозваный и самочинный коммунар Варлен!
— Это ежедневно благословляемый вами император был самозваным и самочинным, а под моим мандатом подписи двадцати тысяч тружеников-парижан!
Бушье молчал. Эжен обратился к окончательно оробевшей начальнице школы:
— Извините, пожалуйста! Такой разговор не для ушей ваших милых девочек. — Он выразительно посмотрел на чуть прикрытые двери классов. — Прошу вас, уведите пока воспитанниц куда-нибудь в сад, погуляйте с ними. Сейчас сюда придут гвардейцы, и вряд ли нужно, чтобы дети наблюдали сцену ареста.
Старушка робко, но чопорно поклонилась. Эжен снова повернулся к Бушье:
— Так вы не подчиняетесь моему приказу?
— Нет! Я подчиняюсь лишь велениям собственной совести и гласу всевышнего! — И, глядя в лепной потолок, Бушье величественно указал на него тростью.
— Бросили бы вы ломать комедию, — добродушно усмехнулся Эжен с оттенком какой-то странной горечи. — Вы же лучше других знаете, что творится именем вашего бога! У каждой виселицы, у каждой плахи и гильотины стоит священник! Сейчас ваше законное правительство карлика Тьера с именем божьим на устах ежедневно расстреливает из митральез сотни и сотни коммунаров, которые требуют лишь одного — человеческих условий существования и честной оплаты их труда. В ответ на жестокость Версаля Коммуна пятого апреля приняла декрет о заложниках. Мы арестовали и заключили в тюрьмы наиболее яростных врагов Коммуны, вот вроде вас! И объявили, что за каждого расстрелянного или замученного федерата казним трех заложников. Думаете, эта угроза остановила вашего недоноска Тьера? Массовые расстрелы в Версале и Сатори продолжаются! А мы… мы не пролили ни одной капли крови… Но кто знает, что будет завтра и послезавтра, гражданин Бушье… Короче: хотите вы оказаться в числе заложников?
Бушье чуть вздрогнул, но патетически провозгласил:
— Я с гордостью и честью понесу на свою Голгофу мой скорбный крест! Я надену мученический венец…
— Ну, ну, валяйте! — перебил Эжен. — Пошли, Малыш. Мы и так провозились с этим божьим комедиантом…
Мы спустились по ступенькам невысокой лестницы, и уже на улице Эжен сказал мне:
— Видал, Малыш?.. Ну, ладно, ты беги к Деньер, а я — прямиком в Ратушу. Расскажу Ферре об этой церковной крысе, и он, надеюсь, отдаст приказ об аресте Бушье в качестве заложника… Ох, дорогой Малыш, сколько же у нашей Коммуны врагов!..
Мы расстались. У мадам Деньер я задержался всего на несколько минут, передал ей переплетенные книги, а она сунула мне в карман куртки десятифранковуго монету.
— Ну, как живете? — как бы мимоходом поинтересовалась она. — Как Эжен?
— Он — член Коммуны! — ответил я с гордостью. — Он избранник трех округов Парижа!
Тут я чуть-чуть не проговорился, что сам я буду одним из стенографов заседаний Коммуны, но вовремя спохватился: нельзя!
В Ратуше я застал Эжена разговаривающим с Форре, председателем Комиссии общественной безопасности, он уже, оказывается, отправил гвардейцев в Латинский квартал дчя ареста Бушье.
— Конечно, подобного воинствующего святошу никоим образом нельзя оставлять на свободе! — говорил Ферре, когда я вошел. — Именно такие всегда готовы всадить нож нам в спину. — Он с силой швырнул в пепельницу сигару, которую курил. — О, черт! И чего мы церемонимся с заложниками?! Версальцы продолжают истязать и убивать наших, а мы беспокоимся лишь о том, отправлена ли вовремя заложникам пища в Мазас и Ла Рокетт!
Эжен в ответ пожал плечами.
— Все вопросы на заседаниях решаются большинством голосов! Вы же знаете это, Теофиль!
Эжен выглядел чуть сконфуженным, — по его рассказам я знал, что, принадлежа к „меньшинству“ Коммуны, он всячески возражал против расстрела заложников.
А потом я присутствовал при разговоре Эжена с Натали Лемель и Андре Лео.
— Тысячи обездоленных, голодных и не имеющих крова ребят, — с болью и горечью говорил Эжен, — нищенствуют по Парижу, роются в мусорных ящиках, спят под мостами, где попало. Большинство — дети либо погибших на войне, либо попавших в плен, либо тех, кто и сейчас защищает форты от пруссаков… Они же — дети, просто дети, они не могут отвечать за поступки и за судьбу отцов!.. Ну, мы усыновили детей погибших федералов, по остальные…
— Комитет женщин делает все возможное, Эжен, — осторожно заметила Андре Лео.
— Нет! — резко перебил Эжен. — Далеко не все! Необходимо обратиться к свободным от работы женщинам и собирать ребятишек! Будущее не простит нам ни одной детской смерти! Запомните это, гражданка Лео! Ах, как жалко, что нет в городе Луизы Мишель!
— Опа защищает форт Исси! — с обидой воскликнула Лндре Лео.
— Знаю, — отмахнулся Эжен. — Но именно энергии таких, как Луиза, нам сейчас и недостает! Три дома сбежавших буржуа на Больших бульварах реквизированы, сегодня туда завезут кровати и белье, гражданка Лео. Ищите и отправляйте бездомных сирот! А вот Натали Лемель, рачительная хозяйка „Мармит“, позаботится о посуде и доставке горячей нищи. Так, Натали?
— Да, Эжен. Но нам нужны хлеб и мясо…
— Знаю, знаю! — схватился за голову Эжен.
А потом была незабываемая сцена с Гюставом Клтозере, одним из генералов Коммуны. В финансовой комиссии Коммуны активнее всех работали Журд и Эжен. Клюзере явился в зал, где работала комиссия, в новеньком роскошном генеральском мундире, звеня серебряными шпорами. В нем было что-то петушиное, в этом генерале, в этом заслуженном вояке, участнике Крымской войны и походов Гарибальди. Выглядел он в своем сверкающем наряде удивительно импозантно.
Чеканным тагом прошел он через зал к заваленному бумагами столу, за которым сидел Эжен, и молча положил перед ним какой-то листок.
Эжен взял его и принялся читать. А Клюзере, красуясь, словно на параде, прогуливался взад и вперед, изредка бросая гордые взгляды в висевшие между окнами зеркала.
Но вот Эжен прочитал листок и брезгливо отложил его на угол стола.
— Гражданин Клюзере!
Тот подошел к столу Эжена с высоко поднятой головой, выпятнв грудь.
— Возьмите ваш счет и оплатите его сами! — громко, чтобы слышали все, ответил Эжен. — Никто не давал вам права, коммунар Клюзере, заказывать роскошные костюмы у самых знаменитых портных Парижа. Коммуна не имеет средств оплачивать такие счета!
— То есть как это? — начал было возмущенный и побагровевший Клюзере…
— А вот так, коммунар Клюзере! — резко отчеканил Эжен, вставая. — Мы не для того свергали одних генералов, чтобы на шею народу садились другие! Я ценю ваши заслуги, но… Как вы сами знаете, ни один из нас не получает и не будет получать таких сумм! Вы голосовали за этот пункт программы? Насколько я помню, он был принят единогласно!.. Так как же вы смеете?..
Эжен не договорил, лицо его пятнами покраснело…
— Возьмите этот ваш, пахнущий имперскими повадками счет и расплачивайтесь по нему сами!.. Повторяю, Коммуна не станет оплачивать подобных… — Эжен снова не договорил и, не спуская глаз, прямо смотрел в гневное лицо Клюзере. — Как вам не стыдно, Гюстав? Вы же были гарибальдийцем! Вы же знаете, что Коммуна создана для того, чтобы накормить нищих и обездоленных. А вы… И вообще, необходимо отменить в Национальной гвардии генеральские чины.
Эжен махнул рукой и сел.
В этот же день, на заседании, которое я впервые стенографировал, Эжену кроме работы в финансовой комиссии было поручено руководство Комиссией продовольствия — это в нынешней обстановке самый трудный и самый ответственный пост…»
ПЕРЕДЫШКА
— Эжен?! Эжен Варлен? Это вы? Очнитесь, ради всего святого! Вам нельзя оставаться здесь!.. Давайте, я помогу вам встать!
С трудом оторвав от земли голову, с усилием приоткрыв глаза, Варлен всматривался в склонившееся над ним, едва различимое в отсветах пожаров, истощенное, рыжебородое лицо.
— Альфонс? — спросил хрипло и чуть слышно. — Дружище… Выбрались из братской могилы… Идите! А меня оставьте в покое. Мне нужно полежать… — И голова опять опустилась на прохладную после недавнего дождя, прикрытую весенней травой землю.
Но Делакур еще в мастерской Депьер славился своей грубоватой настойчивостью.
— Не болтайте глупостей, Эжен! Неужели вы думаете, что я оставлю вас им на растерзание? А ну, кому сказано: вставание, обопритесь на меня! С рассветом патрули Сиссе и Галифе снова станут рыскать повсюду и вас схватят!
— Меня все равно поймают, друг, — устало возразил Варлен, с трудом садясь. Сколько карикатур на него поместили пасквильные версальские газеты — не счесть! И хотя он всегда изображался в них исчадием ада, его нельзя не узнать! — Вам, дружище, опасно находиться рядом со мной.
— Не болтайте глупостей, Эжен! — снова сердито повторил Делакур. — Я просто не узнаю неутомимого Варлена, которого знал многие годы! Вы, видимо, безмерно устали, черт вас подери! Давайте-ка руку. Пока темно и пока красные штаны заняты грабежом и разбоем, мы укроемся у меня дома. За мной до сих пор не было слежки. Вставайте! Это совсем рядом!
Присмотревшись, Варлен заметил, что на Делакуре вместо гвардейского мундира — обтрепанная белая блуза каменщика. Он усмехнулся, и Делакур, заметив взгляд, понял, чем вызвана усмешка.
— Да, Эжен, я снял ее с мертвого. При жизни он был моим другом, и я не испытываю угрызений совести. Считайте, что мертвый, он сам отдал мне свою блузу. Я на его месте поступил бы точно так же… И знаете, дружище? В ее карманах я обнаружил почти нетронутую фляжку. Видимо, в последние часы ему было не до нее. А нам она сослужит добрую службу. Там, — Делакур кивнул в сторону обрыва, — я чуть приложился к ней, и у меня сразу прибавилось сил. А ну-ка, глотните и вы. Это поистине воскресит вас, клянусь Республикой!
Он насильно прижал к губам Варлена горлышко солдатской фляжки и влил ему в рот с полстакана вина. Словно огненные струи потекли по телу.
— Ну как, полегчало? — шепотом спросил Делакур, с тревогой вглядываясь в узенькие улочки Монмартра, откуда доносились крики, бряцание оружия. — И потом, Эжен, не забудьте, вы у меня в долгу! — сварливо продолжал он. — Кто обещал на днях выдать мне новую карточку секции Интернационала? Вы, Эжен! Именно вы! Имейте мужество выполнять обязательства перед старыми друзьями! Вот так, черт побери!
Два-три глотка вина действительно вернули Эжену силы. Освещенное близким заревом горящей мельницы, озабоченное лицо Делакура ниже склонилось над ним. И вдруг, словно вырываясь из плена темного сна, Варлен вспомнил: ах да, Луи! Тайник на рю Лакруа!
— Х-хорошо. П-помогите мне встать, друг! Но вы сами ранены, у вас шея в крови.
— Пустое! Пуля только царапнула. Я ведь, Эжен, хитрый! Я постарался упасть секундой раньше. И потом: на мне все заживает, как на бездомной собаке. И все же кровь придется стереть, Эжен. Не нужно, чтобы мои синички и Большая Мари видели эту царапипу. Это не больно, я только здорово ушибся о дерево, когда упал… А у вас, дружище Эжен, тоже рана?
— Ударило чем-то по голове. Снаряд разбил стену над баррикадой, как раз надо мной.
— Ну, Большая Мари перевяжет! Бог мой, Эжен, вы поистине сумасшедший! На мундире галуны командира легиона! А это еще что?! Красный шарф члена Коммуны, золотые кисти? Просто чудо, что вас до сих пор не ухлопали! И как вы, Эжен, добрались сюда при ваших галунах и шарфе? Да и как вы оказались на Монмартре, ведь вы сражались где-то в Бельвиле?
— Галуны? — переспросил Варлен, не поняв сути вопроса и морщась от вновь вспыхнувшей боли в голове. — Галупы?.. Так ведь я… Сначала я командовал Шестым, а позже Одиннадцатым легионом. Помнится, стрелял по красным штанам из-за баррикады. Сначала на Фонтэн-о-Руа, потом на Рампонно. Там-то меня и ударило по голове. А патроны кончились. Я бросил бесполезный карабин и отполз в переулок. Смутно помню, ехала какая-то фура, крытая брезентом. Возчик соскочил и погрузил меня, словно мешок с зерном. А ехал сюда, на Монмартр. Мне все равно куда. Домой, на Лакруа, я не мог бы добраться…
— Н-нда, Эжен! — ухмыльнулся Делакур. — Вы и правда родились с серебряным франком во рту! А кто он был, ваш фургонщик?
— Право, не знаю. Мы не разговаривали. Он торопился: с бульвара Клиньянкур наступали версальцы.
— Умный парень. А ну-ка, Эжен, лягте, уткнитесь лицом в траву. Притворитесь мертвым. Это обманет кого угодно, убитые валяются повсюду… А я вернусь через пять — десять минут. Не сразу-то найдешь нужное. Там, внизу, я видел на одном субъекте приличный, хотя и поношенный сюртук. Надеюсь, это вас не особенно покоробит?
Он, Альфонс Делакур, находил в себе силы шутить в подобные минуты! Нет, Эжен, такой народ трудно запугать или окончательно поработить!
Ободряюще похлопав Варлена по плечу, Делакур на четвереньках, а кое-где и ползком опять спустился под обрыв, откуда десять минут назад выкарабкался с таким трудом.
Через четверть часа он вернулся, растолкал снова впавшего в забытье Варлена. Насильно содрал с него гвардейский мундир с позолоченными галунами и напялил длиннополый черный сюртук, на голову нахлобучил круглую шляпу — такие обычно носят мелкие коммерсанты и провинциальные кюре.
— Вот так, Эжен, вот так! Пришлось «одолжить» одежду… И вы думаете, было легко? Какой-то весьма торопливый попался гражданин, уже начал коченеть. Я у него, кстати, позаимствовал без отдачи и шляпу, и шарф, чтобы закутать вашу знаменитую, известную всем шпикам бороду. Поверните-ка голову! И не шевелитесь, пожалуйста! Ну вот, в сем облачении, Эжен, вас и родная мать ие узнает! Этакий благонамеренный мелкий торговец, рантье или, скажем, бывший чиновник Империи, до крайности изобиженный Коммуной. Да не падайте вы! Повторяю в сотый раз: вам немыслимо оставаться здесь! И потом, вас наверняка ждет Луи! Вы же единственная его опора!
…Ага, вот что мучило в полузабытьи, в полубреду: Луи! Они были неразделимы последние годы, думали и чувствовали одинаково; и часто, глядя на брата, Эжен как бы видел самого себя в чуть искажающем зеркале. Луи по-настоящему талантлив, мечтает стать когда-нибудь историком или писателем и, конечно, стал бы, если бы удержалась народная власть. А что с ним будет теперь?
— Прекрасно, Эжен, прекрасно! — приговаривал Делакур, застегивая на Эжене чужой, чуточку мешковатый на нем сюртук. — Да вы совсем молодцом! Обопритесь на меня покрепче. До моего жилья десять минут ходу, как-нибудь доплетемся. Я на Монмартре знаю всо канавы и дыры в заборах, родился и вырос тут. Ну, готово. Можете идти?
— М-могу…
— Ни в коем случае не спускайте шарф и не трогайте шляпу! Ваши глазищи и борода сразу привлекают внимание… Подождите-ка, я постараюсь найти или выломать для вас палку! Вот будто бы нечто подходящее! Хотя и не полагалось бы ломать муниципальное имущество, но… Держите!
Варлен взял планку, отодранную Альфонсом от спинки садовой скамейки, нащупал конец, который показался удобнее.
— Ну как, дружище? Поможет?
— Да! П-поможет!
— Тогда тронулись! Наше счастье, что доблестные победители заняты тем, что вдребезги разносят сейчас кабачки и кафе, привечавшие и кормившие нашего брата в дни осады. Откуда знают, вы спросите? Ха! Да версальских осведомителей — и наемных, и добровольных — повсюду полно! К тому же в разгромленных-то кабачках за выпитое можно ни одного сантима не платить. Хозяина к стенке, выколачивай днище винной бочки и пей-гуляй, душа нараспашку… Ну, полагаю, так будет только нынешний вечер. В старину, пишут, благородные рыцари давали ландскнехтам на разграбление завоеванного города три дня. Но у нас так не пройдет, время не то! Поверьте, завтра же генералы зажмут солдатню в железные рукавицы!.. Ох и какие же сукины сыны эти наши знаменитые вояки, увешанные звездами и крестами до самого пупа! Все же поразительно, Эжен: как истинные французы могли вместе с пруссаками пировать в Золотой галерее Версаля, празднуя провозглашение яростного врага Франции, Вильгельма, императором объединенной Германии?! Невероятно! И это произошло на нашей земле, в сердце Франции! Ну и позорище!.. Однако я разболтался, ждал, пока утихнет шум на рю Розье. Пошли, дружище!
Со времен первой, прусской, осады газовые фонари на улицах Парижа не горели, и сейчас спасительная тьма укрывала беглецов. Но догоравшая на холме ветряная мельница нет-нет, вспышками, да освещала улицы, разгромленные баррикады, распластанные на них тела, разбитые снарядами дома.
— В тени держитесь, Эжен, в тени! — вполголоса командовал Делакур. — И сильнее опирайтесь на палку, черт побери, и горбитесь побольше, будто вы — старец восьмидесяти лет! Вот так, вот так!.. Только самообладание и хитрость могут спасти нам жизнь. Лишь бы не напороться на жандармский или красноштанный патруль!.. Однако погодите-ка, постойте минутку, миленький мой! Что завалялось у вас в карманах штанов, старина Эжен? Любая мелочь может оказаться уликой!
Они остановились на углу улицы Розье, и Эжен ощупал карманы брюк.
— Вот кошелек, там ключи от мастерской и деньги. А это, должно быть, пропуск на Вандомскую площадь в день свержения наполеоновской колонны. И еще какой-то пропуск, кажется зеленый, да? Я плохо вижу. Значит, это для членов Коммуны: право прохода в любое время суток при запрете уличного движения.
— Ничего себе! Да как вы до сих пор живы, Эжен?! Давайте сюда! — Делакур выхватил из рук Варлена пропуска, изорвал в клочки и швырнул в сторону. — А записная книжка? А мандат члена Коммуны? А карточка Интернационала? Где?
И, словно очнувшись, Варлен рванулся было назад, но Делакур цепко ухватил его за рукав.
— Стойте вы, сумасшедший! Куда? Документы остались там… в кармане мундира.
И вы намерены вернуться? Воистину сумасшедший! Они же в вашем кармане равносильны смертному приговору! Забудьте о них, дружище! Будущая, грядущая Коммуна выдаст нам новые мандаты и пропуска… А часы? Те, именные, которые мы поднесли вам за первую победную забастовку? Они где? На их крышке Бурдой выгравировал ваше имя!
Варлен с усилием выпрямился, нащупал в кармане часы — они были на месте, при нем. Он так берег эту не слишком-то дорогую серебряную луковичку, память о первой победе. Наедине любил иногда перечитать: «Варлену — в знак признательности от рабочих-переплетчиков. Сентябрь 1864 г.».
И сейчас в ответ Делакуру буркнул глухо и твердо:
— Нет, Альфонс! Этого я никогда не выкину!
И что-то и голосе товарища тронуло Делакура до глубины души, он молча и с силой обнял Варлена за плечи.
— Ну, ладно! Только отдайте пока мне. Я верну их нам позже.
Они медленно брели, иногда спираясь друг на друга, оба почти без сил. Натыкались в темноте на трупы. Отдыхали, прислонившись к стенам домов и заборам.
Из окон попадавшихся на пути лавок и магазинов с уцелевшими витринами, со свеженапечатанных портретов на них грозно пялились глаза Галифе и Сиссе. Заняв квартал, «красные штаны» немедленно повсюду расклеивали изображения генералов, словно ставили печати победы. Правда, узнать знаменитых полководцев можно было только там, куда падал дрожащий свет догоравшего на холме ветряка.
Кое-где над улицей покачивались свешенные с балконов или прибитые над воротами трехцветные флаги. Даже здесь, в пролетарском Монмартре, оказывается, притаясь, кто-то ждал и жаждал поражения Коммуны. Хотя что ж удивительного: лавочников и буржуа, считавших себя обиженными Коммуной, везде немало. Свернув за угол, беглецы увидели невдалеке освещенные окна кафе. Оттуда доносились громкие голоса, лихая солдатская песня:
Гей, бретонские ребята, приналягте на вино! Убивать — работа наша, Кто нам платит — все равно!Варлен когда-то слышал эту песню, ее сочинил для бретонских мобилей, наемных убийц Империи, какой-то парижский забулдыга-поэт, изредка печатавший свои вирши в дешевых бульварных газетках.
— Стой! — скомандовал Делакур. — Шмыгнем-ка в переулочек, Эжен, нам встреча с пьяными вояками совершенно ни к чему! Тут рядом в заборе проломана великолепная дыра. В нee, пожалуй, пролезет даже банкир Рулан с его знаменитым пузом!.. — Он присмотрелся к видневшимся неподалеку теням. — Гляньте-ка, старина, возле кабачка «У старых друзей», похоже, маячат синие мундиры и жандармские треуголки? Ну, конечно, они! Тоже не дураки выпить на дармовщинку! Идемте, Эжен, иначе влипнем, попадем как кролики в кошачье рагу! Только блюстителей порядка нам и не хватает!.. Сюда, сюда!
…Через полчаса беглецы сидели в убогой мансарде Делакура. К счастью, никто не видел, как они нырнули под арку ворот и пробрались к входу. Во дворе — густая темь, жалюзи на всех окнах опущены, только в двух или трех местах сквозь их щелки мерцал слабый свет. И в небе над глубоким колодцем двора изредка покачивались сполохи зарев.
Опасный путь, крутая лестница на четвертый этаж привели Варлена в себя, согнали сонную одурь. В крохотной передней он пробормотал:
— Спасибо, друг!
Но тот обиделся, заворчал сердито:
— Постыдитесь, Эжен! Неужели вы так худо думали о старине Делакуре?! Бросить товарища в беде, на съедение версальским скотам? Это надо же! Эй, Большая Мари, встречай гостей! Проходите, Эжен, садитесь на почетное место, в это великолепное кресло!
Варлену пришлось сделать всего два шага, чтобы добраться до креслица с продавленным соломенным сиденьем. Он сел, снял шляпу, откинул душивший его шарф. Что ж, знакомое жилище не слишком-то преуспевающего переплетчика, он бывал в десятках таких. Самодельный станок для домашней работы у одного из окон, пустые банки из-под клея, мотки шпагата, обрезки коленкора и кожи…
Вот так же выглядела и его мансарда на улице Фонтэн-о-Руа, когда он, около семнадцати лет назад, изгнанный из мастерской дядюшки Дюрю, впервые обзавелся собственным жильем… Как давно, сколько веков минуло с тех пор?!
— Ну вот, дружище Эжен, мы и дома! — словно откуда-то издалека донесся до него голос Делакура. — Большая Мари! Да что ты уставилась на меня, словно на привидение? Неужели не понимаешь, что нас после трудов праведных полагается хоть чем-нибудь накормить? И даже, может, выпросить у консьержки, мадам Клюжи, бутылочку дешевого вина! Она же промышляет перепродажей. Да очнись ты, Мари!
Вглядевшись в едва разреженный пламенем свечи полумрак, Варлен разглядел худое и измученное, еще недавно очень привлекательное знакомое лицо. Нет, если бы встретил на улице, он не узнал бы Мари, так исхудала и постарела. А когда-то такая была красоточка, сколько поклонников увивалось возле!.. Последние два года Мари работала поварихой в организованных Варленом кооперативных столовых, где рабочий, член «Мармит», мог за несколько сантимов пообедать…
Мари стояла у синей вылинявшей занавески, прикрывавшей вход в соседнюю каморку, бессильно опустив руки, и действительно смотрела на мужа и Варлена словно на привидения, явившиеся с того света. Из-за ее спины с обеих сторон высовывались и тут же скрывались две худенькие, испуганные мордашки… Ага, дочки Делакура! Ты, Эжен, изредка видел их, а у старшей даже был крестным отцом.
Мари пришла в себя, бросилась к мужу, усевшемуся напротив Варлена, и, упав на колени, обнимала его. Плечи судорожно дергались, и с трудом можно было разобрать, что она лепечет сквозь слезы.
— Альфонс! Альфонс! Дорогой мой! Ты живой?! Мадам Клюжи видела, как тебя расстреливали на обрыве, как ты упал вниз! Я пыталась побежать туда, но девочки уцепились, не могла оторвать. А брать туда… О, Альфонс! Неужели вернулся? — Она подняла от колен мужа блестевшее слезами лицо и оглянулась на занавеску. — Маленькая Мари, Анни! Смотрите, наш папа вернулся!
Но Делакур требовательно положил на плечо жены жилистую руку.
— Не шуми, Большая Мари! Значит, старая ведьма Клюжи все видела?
— Да, да! И даже, мне показалось, радовалась твоей гибели. Ты ведь, Альфонс, часто был груб с ней. Ну, разве нет?
— А тебе хотелось бы, чтоб я пресмыкался перед сплетницей и бывшей шлюхой? Не дождется, Большая Мари, не на того напала!.. Значит, говоришь, видела? Ну и хорошо, Мари! Пусть я останусь для нее расстрелянным коммунаром. Не говори ни ей, никому другому, что вернулся, вылез из могилы. Поняла? Пусть я, Альфонс Делакур, останусь для всех мертвым!
Мари снизу вверх смотрела в лицо мужа с суеверным страхом.
— Но, Альфонс, ты же…
— Молчи! — перебил Делакур. — Если стерва Клюжи узнает, что я остался жив и был здесь, обязательно донесет! Ведь за донос на нашего брата неплохо платят! И уж тогда меня наверняка убьют. Уразумела?
Мари ответила вздрагивающими губами:
— Да, Альфонс, да! Все поняла!
— Значит, ясно: никто обо мне и Эжене не должен услышать от тебя ни одного слова. Договорились? И синичкам строго-настрого накажи, — он кивнул на шевелящуюся занавеску, — пусть помалкивают во дворе. А теперь согрей нам кусок собачатины или конины, что там осталось. И достань бутылку вина, — мне и Эжену к утру необходимо подкрепить гаснущие силы! О, нас добить не очень-то легко!
— Но, Альфонс… — Мари виновато и беспомощно развела руками.
Нахмурившись, Делакур принялся обшаривать карманы, отыскивая в них последние сантнмы и су. Варлен усмехнулся:
— Собираешь остатки своего последнего гвардейского жалованья? Да что у тебя могло остаться от тех жалких тридцати су, которые вам ежедневно выплачивал Журд? На весь месячный оклад рядового национального гвардейца сейчас, наверное, не купишь и дохлой крысы. Мари, вот кошелек. Возьмите, сколько нужно.
Мари с робким вопросом глянула на мужа. Тот, досадливо пожав плечами, швырнул на стол горсть тоскливо зазвеневших монеток.
— Считай, залезаем к тебе в долги, старина Эжен!
Варлен ответил с обидой:
— А ведь ты совсем недавно называл меня другом, Альфонс!
Пока мужчины обменивались замечаниями, Мари взяла из кошелька Варлена три десятифранковые бумажки и вернула ему кошелек. Но он достал еще несколько кредиток и протянул ей:
— Возьмите, Мари: все сейчас непомерно дорого. Однажды слышал жалобу какой-то старушки: крохотный кочанчик цветной капусты — полтора франка. Возьмите!
— Благодарю вас, мосье Эжен!
Она сказала «мосье», и это резануло слух Варлена, — да, дорогое слово «гражданин», видно, опять надолго окажется под запретом.
— Мари, разве я для вас «мосье»? — спросил он с грустной улыбкой.
— Простите, гражданин Варлен, — виновато и через силу улыбнулась Мари. — Я вовсе не хотела вас обидеть!
— Ну и ступай! — С грубоватой лаской Делакур похлопал жену по спине. — Но пойди не к Клюжи, она — хитрая бестия, может догадаться! Ведь ни тебе самой, ни нашим синичкам вина не нужно, а? Значит, топай, моя драгоценная женушка, к «Старым друзьям», там открыто. Купи пожрать и выпить. Но будь осторожна, Большая Мари, как старая кошка! В кабачке вроде полно и синюшных мундиров, и красных штанов. Если хозяин спросит, придумай что-то похожее на правду, хотя врать ты и не мастерица!
Мари поспешно накинула старенькую жакетку, надела шляпку и скрылась за дверью. Торопливо проскрипели под ее ногами деревянные ступени. С минуту Варлен и Делакур сидели молча, потом Эжен с чувством произнес:
— Еще раз спасибо, друг! Я совсем потерял от слабости голову.
— Немудрено, — грубовато отозвался Делакур. — От такой пушечной да ружейной музыки у самого господа бога башка пойдет кругом! — И повернулся в сторону выцветшей занавески; — Эй, синички-сестрички! Что вы притаились там, словно мышки, перепуганные котом? Маленькая Мари! Аппет! А ну, марш сюда! Это же дядя Эжен, твой крестный отец, крошка Мари!
С робостью поглядывая на Варлена, девочки вышли из-за шторки. Старшая, веснушчатая и большеглазая, как мать, тянула за руку младшую, обе до жалости худенькие, ручонки, как тоненькие щепки.
Эжен всматривался в девчушек с никогда ранее не испытанной нежностью, — вот они, крохотные росточки завтрашнего дня, за будущее которых пролилось в эту майскую неделю столько крови! А ведь и ему хотелось бы быть отцом, чтобы вот такие беззащитные маленькие ручонки обнимали твою шею и доверчивые, незамутненные ложью глазки смотрели на тебя с такой же безграничной радостью и преданностью…
На мгновение с поразительной отчетливостью, словно изображенное яркими красками на стене мансарды, встало перед ним улыбающееся лицо мадам Деньер, ее сочные, яркие, не знающие помады губы, пышные белокурые волосы, ниспадавшие на плечи, голубые глаза, так часто смотревшие на Эжена с откровенной, призывной лаской. Он два года работал старшим мастером в ее известной всему Парижу переплетной, и все кругом тогда были убеждены, что Варлен обязательно женится на рано и внезапно овдовевшей хозяйке процветающей мастерской. Кто же отказывается от счастья, когда оно само падает ему в ладони? Да и что скрывать — Клэр Деньер очень нравилась Эжону, в ней были и красота, и не выразимое словами женское очарование, хотя она умела быть и настойчивой, и непреклонной. К Эжену она явно благоволила.
Но, женившись на ней, Варлен, естественно, стал бы хозяином мастерской, где теперь вместе с ним работало двадцать таких же переплетчиков, как он сам и тот же Пелакур — они, не разгибая спипы, сидели у станков по двенадцать часов в день. И что же он, Варлен, стал бы полновластно распоряжаться бывшими товарищами и друзьями, покрикивать на них? Представить себе такое он не мог и неожиданно для всех попросил у мадам Деньер расчет. Может, он убегал от самого себя, от чувства, которое против воли зрело и нарастало в нем? Он не позволял себе глубоко задумываться над этим.
«Разве я обидела вас чем-нибудь, Эжен? — с укором спросила Деньер в ответ на его просьбу. — Или вы находите, что я недостаточно плачу за вашу работу? Вы — мастер первого класса, я готова платить вам, сколько скажете!» Смущенный, он не мог смотреть хозяйке в глаза, но и объяснить откровенно, почему уходит из ее мастерской, тоже не мог. Да, по правде говоря, и не хотел. Она вряд ли поняла бы сумятицу чувств, обуревавших его в те дни. «О, дело не в оплате, мадам Деньер, — ответил он, теребя свое кепи и глядя в окно. — Но, видите ли… я решил перетащить в Париж моих стариков, снял для них домик в Пюто и хочу найти работу поближе. Они уже не молоды, им необходима постоянная помощь». Это была ложь, он почувствовал, как наливаются жаром щеки, — раньше никому и никогда не лгал. Но он не мог сказать Клэр правду.
А мадам Деньер восприняла его просьбу по-своему, по-женски, — гордая и самолюбивая, она, видимо, подумала, что у Эжена есть на примете другая… «Я никого не держу у себя силой! — с плохо скрываемым гневом ответила она, кусая губы, — Можете оставить работу в мастерской хоть сегодня!»
Воспоминание мелькнуло в памяти и погасло, и вместо красивого и яркого лица Клэр Денвер Варлен снова увидел закопченные стены дешевой мансарды, вылинявшую шторку и две детские головенки.
Ах вы, синички-сестрички, — приговаривал между тем Делакур, обнимая льнувших к нему дочерей. — А негодный папка никаких гостинцев сегодня вам не принес. Обижаетесь, синички, да?
— Да что ты, пап, совсем нет! — скороговоркой лепетала Маленькая Мари. — Мы так плакали, когда пришла мадам Клюжи и сказала, что тебя убили.
— И вы поверили такой глупости, синички? — добродушно расхохотался Делакур. — Ну, посмотрите: разве такого большого и сильного вашего папу кто-то может убить? Э, нет! Ваш папа кому угодно даст сдачи! А пока, Маленькая Мари, принеси-ка нам попить водички. У нас изрядно пересохло в глотках. Не так ли, Эжен?
Крошка Ашш осталась сидеть на коленях отца, крепко прижимаясь к его груди, а Маленькая Мари, топоча деревянными сабо, побежала в каморку-кухню и через минуту принесла полную воды синюю эмалированную кружку.
И наверное, никогда в жизни Эжен ничего не пил с таким наслаждением, как тепловатую, отдающую жестью воду. С нежностью глядя через край кружки в бледное, осыпанное майскими веснушками детское лицо, он чувствовал, как с каждой каплей возвращается к нему и ясность мысли, и сила воли, покинувшие его после того, как истощился в карманах запас патронов к карабину.
Он выпил до дна. Мари побежала на кухню и снова наполнила кружку.
— Теперь тебе, папочка!
— Благодарю, дочка! Ты у нас славная маленькая маркитанточка. Да?
— Да, папа! Я вырасту и стану настоящей маркитанточкой у тебя и у мосье Эжена!
— Прекрасно, а, Эжен? Значит, мы с тобой никогда не умрем с голоду!
Эжен не успел ответить — заскрипели ступеньки лестницы, распахнулась дверь, вернулась Большая Мари. Прошла к столу, достала из кошелки две бутылки, высыпала на потертую скатерку четыре горсти жареных кукурузных зерен.
— Вино только такое, Альфонс! И поесть, кроме кукурузы, ничего нет. Все съели солдаты. Я кое-что оставила от вчерашнего обеда…
— Подождите, Мари, — остановил ее Эжен. — Нам, пожалуй, достаточно и этого. Расскажите-ка, что слышно там, «У старых друзей»?
Но Делакур требовательно похлопал ладонью но столу.
— Не спеши, дружище! — С грубоватой и в то же время нежной ласковостью он обнял жену за талию. — Сначала подай-ка нам кружки, большеглазая. И сама садись к столу. Ишь совсем прозрачная стала, в чем только душа держится? А вы, синички-сестрички, перепархивайте к столу!
Мари ушла на кухоньку, а девочки торопливо уселись по обе стороны отца, с голодной зверушечьей жадностью поглядывая на рассыпанные по столу кукурузные зерна.
— Клюйте, синички! — скомандовал отец.
И тоненькие, исхудавшие ручонки протянулись над столом. Глядя на них, Эжен вспоминал рассказ вернувшегося с фронта Теофиля Ферре, ездившего туда в качестве газетного корреспондента. Наполеона Малого повсюду сопровождал по полям сражений обоз из пятидесяти или шестидесяти фургонов и карет, возивший серебряную императорскую посуду, любимое Баденге шампанское, клетки с фазанами, предназначенными к царственному столу, многоведерные бочки, где плескалась живая рыба, ящики с апельсинами и персиками…
Делакур между тем деловито расставлял глиняные кружки, разливал вино.
— А ну, дружище Эжен и Большая Мари, давайте-ка выпьем за то, чтобы когда-то все же воцарилась на земле всемирная и справедливая Коммуна простых людей.
Словно по команде, они трое встали, стоя чокнулись и молча выпили. Эжен заметил, что Большая Мари украдкой глянула в угол, где едва различимая при свете свечи белела статуэтка мадонны.
Вино горячо и быстро разливалось по телу. Обняв девочек и прижав их к себе, Делакур задумчиво грыз кукурузные зерна. Всматриваясь в его лицо с провалившимися глазами и выдающимися скулами, Эжен с тоскливой горечью спрашивал себя: о чем в эти секунды думает этот внешне грубоватый, но добрый и отзывчивый человек? О завтрашнем дне своих «синичек», о большеглазой Мари, о том, что ждет его самого? Но вот Делакур тряхнул головой и снова, взяв бутыль, разлил по кружкам терпкое красное вино.
Эжен попытался было отстранить свою кружку, но Делакур настойчиво подвинул ее к нему.
— Э нет, дружище Эжен, убери лапы! Я знаю, ты не охотник до вина, но сегодня оно нам просто необходимо. Отнесись, как к лекарству! Сейчас поспим часа три, и надо что-то придумывать. Кто знает, что ждет нас завтра! Большая Мари, что слышно там, «У старых друзей»? Кто там?
— Полным-полно красных штанов. И бретонцы, эти жестокие свиньи. Потом бакалейщик, каретник, бывшие чиновники из мэрии, которые прятались все время…
— А болтают что?
Измученное лицо Мари сразу еще больше осунулось и побледнело.
— Пьяный капрал из линейных кричал, как во дворе тридцать седьмого бастиона расстреливали. Из митральез. Капитан скомандовал: «А ну, кто тут в годильотах, отходи к стене! И не вздумайте сбрасывать обувь, сволочи, босые — тоже марш к стене!» Вы извините, Эжен, за грубость, я просто передаю слова капрала… И их убивали картечью…
Варлен не носил годильот, но, конечно, знал, что это специальная обувь бойцов Национальной гвардии — она называлась так по имени обувного фабриканта, мосье Годильо.
— А другой офицер грозил, что утром везде проведут обыски…
Варлен и Делакур переглянулись: значит, они не ошибаются, завтра, а может быть, и не только завтра, а еще много дней продлится бойня. Передохнув, нужно уходить, иначе поставишь под пулю всех, кого застанут рядом с тобой…
— Да, они немало пролили крови и в сорок восьмом, и в пятьдесят втором, в декабре, когда наш Наполеончик провозгласил себя императором! — задумчиво пробормотал Делакур. — Кстати, ты знаешь, Эжен, что подлюга в генеральском мундире, Винуа, был когда-то начальником каторжной тюрьмы в Ламбессе, в Алжире? О, он закопал там в горячий песочек не одну тысячу таких, как мы с тобой. Не зря говорят, что кровь, пролитая Баденге, доходит до брюха его лошади!
— Ну, теперь-то она поднялась и повыше! — хмуро отозвался Варлен.
На кухоньке что-то шипело и фыркало, и вскоре Большая Мари принесла сковородку с десятком кусочков поджаренного мяса. Но Эжен, невольно гяявув в исхудавшие лица девочек, не решался прикоснуться к жалким крохам еды. Делакур тоже не стал есть.
— Ну, ладно, — сказал он. — Во здравие будущей Коммуны!
Они чокнулись кружками и выпили.
— А теперь, Большая Мари, уложи его в постель, пусть похрапит часок-другой. Да вытри ты слезы, большеглазая, ты же у меня двух гренадеров стоишь! Вспомни, как плечо о плечо сражались на баррикадах и как прекрасно мы были тогда молоды! Ты — вовсе девчонка, и сражалась гвардейски! Ну-ну! — построже прикрикнул он. — Возьми себя в руки, Мари! Покажи Эжену, где лечь.
Мари покорно вытерла слезы и увела Эжена за синюю занавеску. Там стояла деревянная кровать, а в изножье — широкая самодельная детская. Они были едва различимы в падавшем из столовой свете.
— Нет, Мари! — Варлен решительно покачал головой. — Я не лягу здесь. Постелите мне где-нибудь на полу. Вам же самим негде лечь.
— Но…
Не слушая, Варлен, наклонившись, выбрался из-под занавески. Делакур, слышавший их коротенький разговор, кипнул жене.
— Постели на кухне мое пальто и дай подушку, — сердито глянув на Варлена, буркнул он. — Все равно не переспоришь! Порой упрям, как бык на испанской корриде!
Через минуту Варлеи улегся на пальто, постеленное Мари, в кухне, с наслаждением вытянул ноги. И лишь сейчас почувствовал всю тяжесть усталости, накопившейся за последние дни.
За занавеской Делакур грубовато и ласково шутил с девочками, успокаивал и утешал Большую Мари. И Эжен с тайной гордостью, относя это каким-то образом и к самому себе, думал о том, какое благородное сердце таится под простой, обтрепанной одежкой рабочего человека. В разговоре с женой Делакур даже не заикнулся о своей ране, не плакался на то, что довелось пережить, стоя на обрыве перед наведенными в упор дулами шаспо.
Ты всегда думал о себе, Эжен, что у тебя избыток сил, необходимых для борьбы с высокопоставленной сволочью, а посмотри-ка на Делакура, — тебе, пожалуй, далековато до него… Хотя, нет, мне тоже не в чем упрекнуть себя: и в знаменитой тюрьме Сент-Пелажи, и в одиночной камере Санте, и стоя перед неправедным судом Империй, и в изгнании, я, кажется, ни разу не сподличал, не потерял мужества и совести…
И тут сон словно темной волной затопил сознание; голоса Альфонса, Большой Мари и «синичек» стали глохнуть, отодвигаться, затихать. Разлившееся по всему телу тепло покачивало и убаюкивало, и в памяти неожиданно зажурчали струи полузабытого ручейка детства, и засмеялась чему-то сестренка Клеми, и задиристо залаял вислоухий Муше. Из давно забытого прошлого вдруг возник образ деда Дюрю, отца матери, с его неразлучной глиняной трубочкой и восторженными рассказами о Великой: революции, когда народ сверг Бурбонов и вдребезги разнес ненавистную Бастилию, сглодавшую каменными челюстями неведомо сколько прекрасных жизней…
ВОСПОМИНАНИЯ. СНЫ…
Детство! Помнишь, как журчал ручеек, как прыгала по коричневой гальке прозрачная вода, покачивая нежные зеленые водоросли, какие рождала она чистые звуки, унося своим течением все горести и тревоги? Ручей огибал отцовский дом и виноградник в уютном и милом Вуазене, и вы, мальчишки, считали ручей собственностью семьи. Твои братишки, Ипполит и Луи, да и ты сам, самый старший, любили пускать по ручейку кораблики из сосновой коры или из бумаги и всегда спорили: чей быстрго доплывет до канала Урк. И победитель восторженно ликовал, прыгал по берегу, крича от радости и размахивая руками… И старый платан, посаженный кем-то из ваших предков, привычно и успокаивающе шелестел над головой. А по вечерам флейта слепого соседа Огюста выпевала невдалеке свою печальную песенку. Но странно — была в ее печали какая-то мудрая и мирная, успокаивающая радость.
Набегавшись до потери сил, ты и братья, отдыхая, валялись в траве на берегу ручья. И твой вислоухий любимец, одноглазый песик Муше обязательно пристраивался рядом и горячо дышал в щеку, высунув язык. Хороший, верный был пес и больше других — или это только мерещилось? — любил тебя. Нет, наверно, все-таки правда — ведь именно ты подобрал его с переломанное лапой в придорожной канаве, сбитого промчавшимся мимо роскошным экипажем.
Голоса за занавеской звучат тише, словно отодвигаются все дальше. И ты снова беспечным мальчишкой носишься по берегу, но стараешься следить за тем, чтобы младшие братья не вытаптывали люцерну, которую отец скоро, сняв промокшую от пота рубаху, будет косить, запасая на зиму корм для коз, — ни коровы, ни лошади старик Эме так и не нажил…
И хотя день тихий и безветренный, откуда-то, должно быть с юга, надвигается гроза, — слышишь приглушепные расстоянием редкие удары грома? Да, дождь сейчас был бы на пользу виноградникам, их припыленная зелень истосковалась по влаге. Лишь бы, как опасается сосед, Огюст, обошлось без града, как случилось в прошлом году. Тогда сплошь побило неокрепшую завязь на кустах и деревьях, и виноградари всю зиму кляли непогоду и жаловались на неурожай. Еще бы: и себе продуктов и вина в обрез, и на рынки в город везти нечею…
А вон, смотри, за живой изгородью жимолости мелькает темноволосая головка сестренки Клеми, из-за ее плеча смеются синевато-светлые глаза Катрин, внучки Огюста.
Ну и озорная девчонка, эта Катрин! Переплыть канал перед самым посом какой-нибудь заржавелой баржи или буксира для нее — плевое дело, пустяк! И в ответ па притворно-яростную брань шкипера и матросов только хохочет да трясет русалочьими волосами. Право, вовсе не удивительно, что она запала в сердце братишке Луи, такая приглянется любому! А Клеми старается во всем подражать подружке, хотя ей нередко попадает за их лихие проделки и от матери, и от отца…
Почему вдруг так ясно вспоминается Катрин? Должно быть, из-за Луи, — ведь именно она виновата в том, что у братишки покалечена нога! Однажды летом, в пору сенокоса, Катрин вызывающе крикнула ему: «А ну, попробуй догони!» Раззадоренный мальчишка во всю прыть кинулся за ней и напоролся на вилы, прикрытые свежескошенной травой, брошенные каким-то растяпой остриями вверх…
Подожди, Эжен, но ведь несчастье с Луи произошло уже позже того, как ты перебрался в Париж, каким же образом ты попал на сенокос? А! Наверно, приехал в Вуазен передать папаше Эме скопленные за весну двадцать или тридцать франков? Видимо, так. Старик всегда радовался твоим франкам и даже су — они были неплохим подспорьем в не слишком-то зажиточном хозяйстве.
Французскому крестьянину всегда жилось не особенно легко. В неурожайные годы Эме нанимался к соседям побогаче, помочь в поле и на виноградниках. А в самые трудные годы ему и брату Полю приходилось идти в подсобные рабочие на алебастровый завод или фабрику гобеленов в «столице» департамента Сены и Марны, городке Клэ, за каналом. Там работали в те годы за шесть или восемь су по четырнадцать часов в день. Позже, когда Ипполит подрос, он предпочитал приезжать на заработки в Париж, пристраивался подмастерьем в штукатурную или малярную артель, — хорошо, что ему можно было жить у Эжена, всегда крыша над головой!
Тогда строительные рабочие требовались повсюду: барон Осман, префект департамента Сены и мэр Парижа, реконструировал центр города, прокладывал новые, прямые и широкие авеню, улицы, бульвары. Правда, потихоньку поговаривали, что делается это отнюдь не для красоты, а просто для удобства жандармов и войск в борьбе с восставшими. О, Империя не забыла и не могла забыть ни разрушения Бастилии, ни тридцатого, ни сорок восьмого, ни пятьдесят первого и второго годов…
Да, я думал о Катрин, о Луи. Несмотря на ее озорство и всяческие проделки, Катрин всегда была добра и отзывчива, как и ее мать, мадам Жозефина, содержавшая единственную в Вуазеие лавочку. Сколько раз Катрин приносила Луи, а заодно и мне пусть и дешевенькие, но такие приятные, холодящие нёбо конфетки — словно сладкие кусочки льда таяли во рту. Когда Луи лежал с искалеченной ногой, Катрин приходила каждый день, и они вместе с Клеми часами просиживали возле кровати больного…
А позже, лот пять спустя, обе девчонки взахлеб плакали, когда, обжившись в Париже, я приехал в Вуазен, чтобы увезти Луи к себе. Я понимал, что брату трудно и тяжело будет жить в деревне. Он не мог по-настоящему работать ни в поле, ни на винограднике, — крестьянская работа и вполне здоровому человеку тяжела, попробуй-ка все лето под палящим солнцем гнуть спину целый день, от темна до темна! Правда, не было случая, чтобы кто-то из родных упрекнул Луи, да и бессовестно упрекать — беда стряслась не по его вине, просто несчастный случай, такое могло приключиться с любым из нас. И все же я понимал, как ему тяжко…
И еще: я догадывался, да и сейчас думаю так же, — он любил, а может быть, и теперь любит Катрин той первой, чистой, мальчишеской любовью, которая на всю жизнь оставляет в сердце неизгладимый след. И уж, конечно, Луи все те годы мучила мысль: а как же дальше, в будущем, как ему, калеке, содержать семью, если он женится? Или ему, полному замыслов и самых обыкновенных желаний, на всю жизнь суждено одиночество? Не в монастырь же идти, к доминиканцам или францисканцам! Представляю, как подобные мысли изводили, в какую тоску вгоняли самолюбивою мальчишку! Поэтому-то я после недолгих раздумий и увез его в Париж, собираясь обучить переплетному мастерству, которое к тому времени полностью освоил.
Да, да, я тогда уже обзавелся жильем, снимал мансарду на рю Дофин, купил за девяносто франков кровать, матрас, стол и прочее имущество, сам смастерил второй переплетный станок, для Луи. А спать мы с ним сначала могли на одной постели, как спали с Ипполитом, когда он временами приезжал на заработки в Париж. При сидячей работе за переплетным станком изуродованная нога не мешала Луи, и, в конце концов, он и без моей помощи мог зарабатывать достаточно на себя и на семью. Правда, я ничего заранее не обещал Луи, не рисовал ему радужных картин будущего, но сам с удовольствием думал о том дне, когда мы с ним привезем в Париж Катрин, они повенчаются, и мой бедный Малыш будет счастлив…
С какой неописуемой радостью Луи каждую осень, к сбору винограда, собирался в Вуазен, каким нетерпеливым ожиданием загорались глаза, как звенел голос! Я возил его на родину каждую осень, хотя для поездок мне и приходилось порой отрываться от важных и неотложных дел. Но меня за все вознаграждала их встреча: с такой непосредственной и нескрываемой нежностью бросалась к нему Катрин! А иногда, если я заранее извещал о приезде, девчонки встречали нас на станции Митри-Морц. По правде говоря, такая встреча и не составляла для них особенного труда: переходили по крутому пешеходному мостику канал, садились в Клэ на омнибус и спокойно доезжали до вокзала, где и дожидались поезда.
А нам с Луи путешествие и подавно не было обременительно — уселись в вагон на Нордкар и покатили по железной дороге по линии Париж — Гарсон. Конечно, я прекрасно понимал, что этот путь от Парижа до Клэ представлялся Луи непомерно длинным, ему но терпелось поскорее увидеть Катрин! Как они нерасторжимы: любовь и юность!
А я всю дорогу с щемящей грустью и чувством странной вины смотрел в окно на знакомые холмики и поля, на зеленые куртины лесов, на крошечные земельные участки, где повсюду горбились согнутые в работе спины, белели выцветшие чепчики женщин. Кое-где, в тени кустов, на разостланных там одеялах, копошились грудные ребятишки, — значит, не с кем оставить дома…
Естественно, годы жизни в Париже отдалили меня от вековечных забот, какими жила, живет и всегда будет жить деревня, мне стал ближе обездоленный, обделенный судьбой рабочий люд городских трущоб и окраип: каменщики и литейщики, переплетчики и бронзовщики, грузчики и строители. Вероятно, это потому, что в городе я впервые особенно отчетливо увидел вопиющее различие, пропасть между раззолоченной роскошью и предельной нищетой, бесправием и произволом. Способствовали тому и мои встречи с республиканскими журналистами и писателями, кое-кто из них нередко навещал мою мастерскую, — кстати, за эти встречи я прежде всего благодарен своей профессии переплетчика. Сейчас мне приятно сознавать, что не только необходимость отдать в переплет книги, а и нечто иное — человеческие симпатии и интерес приводили многих в убогое мое жилье.
И все же часть моего сердца, может быть даже лучшая его часть, осталась навсегда привязанной, прикованной к деревне, — ведь невозможно забыть, вычеркнуть из памяти тот уголок земли, где ты впервые увидел небо и распростертый под ним прекрасный зеленый мир, где ты сделал первые, робкие и неуверенные шаги навстречу протянутым тебе материнским рукам.
И как ни странно, именно в Париже, в огромном, почти двухмиллионном, городе, живущем совсем иными заботами и словно бы по другим законам, нежели деревня я лучше стал понимать старика отца, мучившпе его тревоги, вечную угнетенность перед возможностью неожиданной беды, перед нуждой и голодом, грозившими навалиться на семью.
И еще одна, собственно, общая для всех французских крестьян беда: рождается в семье два сына, и клочок земли, сада и виноградника, эту несчастную парцеллу, приходится делить надвое. Но неизбежно наступает время, когда делить виноградник и огород дальше просто невозможно: урожай с мизерного земельного участка не сможет прокормить две, даже самые маленькие, семьи. А у старика Эме нас, сыновей, родилось трое, — значит, кто-то должен уступить свою дольку земли другим, уйти в Клэ на алебастровый завод, на фабрику гобеленов или перебраться в Париж, обучиться какому-то ремеслу. В нашем роду такая судьба выпала мне, старшему. Ипполит оставался помогать дряхлеющим родителям, а с Луи, с калеки, какой спрос?
…Вот такие мысли неизбежно приходили мне в голову, когда осенью мы с Луи отправлялись в Вуазен помогать старикам убирать урожай. И еще я думал о привязанности, о какой-то буквально исступленной любви отца к земле, которую он всю жизнь обрабатывал и холил, — он знал нашу парцеллу, наверно, как свою, иссеченную глубокими черными морщинами ладонь. Земля дарила ему не только коросту пожизненных каменных мозолей, но и подлинную радость творчества. У него, должно быть, по отношению к земле было чувство, родственное тому, какое он испытывал к нам, его детям: Клеманс, Луи, Полю, ко мне…
Когда Империя начала франко-прусскую войну и прусские войска стремительно приближались к Вуазену, мои старики были вынуждены покинуть родную деревню, бросить все, нажитое за долгую и трудную жизнь: трехкомнатный домишко, виноградник, огород, небольшой сад. Отец, вообще-то человек мужественный и достаточно жесткий, не мог сдержать слез, рассказывая о небывалом урожае винограда, который пришлось оставить под копыта и орудийные колеса бошей, — хватило бы на двадцать бочек вина! Я первый раз в жизни видел, как плачет такой закаленный мужчина, каким был отец.
Оставаться же в Вуазене им было просто невозможно, это значило обречь себя на унижения, на издевательства, а вернее всего — на смерть! Идя почти церемониальным маршем по незащищенной после седанской катастрофы стране, захватчики полностью уничтожали все живое в селениях, сжигали дотла не только крестьянские дома, но и все пристройки, амбары, сараи, даже собачьи конуры, если им мерещилось, что кто-то пытается оказать или оказывал хоть малейшее сопротивление. Правда, в самом начале войны таким паническим, как считалось, россказням не придавали особенной веры, но вернувшийся из-под Седана и чудом избежавший смерти и плена капрал принес в Вуазен прусскую листовку со словами из приказа Вильгельма и Мольтке по армиям: «Щадить франтиреров[1] —достойная порицания леность. Это изменники. Все деревни, где появляется измена, следует сжигать, а все мужское население — повесить!» Можно ли было ждать пощады от армии, у каждого солдата которой лежал в кармане такой приказ?!
…Что оставалось делать? Погрузив на ручную тележку кое-какой домашний скарб, старики с неимоверными трудностями по забитым беженцами дорогам дотащились до Парижа. Но у Эжена жили Луи и Поль, также ставший к тому времени бойцом Национальной гвардии; Эме с женой пришлось просить приюта у ее брата, владельца переплетной мастерской, Ипполита Дюрю. Там же тогда жила и Клемане, не так давно вышедшая замуж за парижанина, мосье Пруста.
Да, на Эме в те дни невозможно было смотреть, — так мучительно он тосковал по брошенному дому, по хозяйству, по тому, что, собственно, и составляло смысл всей его жизни, во что он вложил все старания и надежды, все силы и душу. И вполне понятно, почему обессилевший от царившего в Париже голода старик все же не вытерпел и однажды на заре, тайком от родных, отправился пешком — поезда не ходили из-за взорванных тоннелей — в Вуазен.
Пруссаки еще не добрались до домика Варленов, но там на постое по-хозяйски бесцеремонно расположились солдаты французского линейного полка, якобы для защиты канала Урк от победно шествовавших завоевателей. Очень скоро стало понятно, что это было только игрой в сопротивление — крикливые вояки вовсе не собирались отдавать свои драгоценные жизни в защиту отечества. Взломав двери и винный погреб Варленов, они пировали и кутили вовсю, а владельца дома встретили грубостями и насмешками: «Мы жертвуем собой, чтобы защитить твое добро, старый хрыч, а тебе жалко для нас бочонка вина?» Когда же Эме осмелился упрекать солдат в недостойном воинов поведении, они по приказу капитана просто вышвырнули старика за ворота. Верного Муше, оставленного возле дома на попечение Катрин, остервенело бросавшегося на чужаков, они пристрелили еще до появления старика Варлена, — мертвый пес валялся, вытяну в лапы, у своей конуры…
В доме дядюшки Дюрю Эжен не бывал с давних пор, с пятнадцатилетнего возраста, когда дядя, вначале взявший было Эжена к себе в переплетную мастерскую, однажды застал нерадивого подмастерья не за работой, а за чтением оттисков «Истории Французской революции» Жюли Мишле. Обозвав племянника лодырем и дармоедом, надавав подзатыльников, дядя выставил его на улицу без единого су в кармане, видимо уверенный в том, что несостоявшийся мастер не останется бедствовать в Париже, а смиренно вернется в Вуазен, под отчий кров.
Произошло то в декабре. Промерзшая земля звенела под ногами, крупными хлопьями валил с низкого серого неба снег. Мальчишеская гордость не позволила Эжену в трудный час послушаться советов и окриков дядюшки, он остался в Париже…
Несмотря на мягкость характера, Эжен не мог ни забыть, ни простить дяде той подлой, бесчеловечной расправы за его, такую естественную в мальчишеском возрасте, любознательность, и, даже когда у Дюрю поселилась бежавшие из Вуазена старики, Эжен ни разу не побывал там. Изгнанный солдатами из собственною дома, убитый горем Эме сам пришел на улицу Лакруа к Эжену и рыдал, обнимая сына, как маленький, незаслуженно обиженный ребенок.
Он так и не перенес потрясения, растоптавшего всю его жизнь, не мог забыть наглых ругательств, с которыми его выпихнули солдаты из родного дома, где каждая доска была выстругана его руками, каждый гвоздь был забит им самим. Он рыдал, обнимая Эжена, и кричал, что в таком подлом мире не стоит жить, что настал конец света. Через неделю Эжен отвез беднягу в больницу Сент-Антуан, а вскоре семья Варленов проводила Эме в последний путь и прослушала над его гробом печальное «Да почиет в мире». Кладбищенская земля Парижа в те дни гораздо чаще, чем в обычные годы, раскрывала навстречу безвременным жертвам свои сырые объятия.
…Несмотря на усталость Эжен никак не мог уснуть. Воспоминания, воспоминания…
…Полузабытая школа в Клэ, куда Эжен ходил всего три зимы. Все же она осталась памятной ступенькой жизни, та убогая провинциальная школа, может потому, что она впервые оторвала крестьянского подростка от зеленого мира лесов и лугов и ввела его в мир книг, приблизила к жизни чужой и поначалу так мало попятной, раздвинула мизерные пространства Вуазена далеко за пределы видимого из их дома горизонта. И повела в таинственное, туманное прошлое человечества, где шумели знаменами французские революции и восстания, — о них любил, попыхивая глиняной трубочкой, рассказывать отец матери, дед Дюрго.
Школа в Клэ не была богата книгами, большая часть из них посвящалась жизням и царствованиям бесчисленных Людовиков и Карлов, великим пастырям католической церкви, восхвалению Империи и династии Бонапартов. Но пытливый, любознательный мальчишеский ум и в этом скучном и однообразном напластовании печатных страниц все же отыскивал редкие жемчужные зерна. Перед ним словно бы оживали не раз описанные дедом Дюрю образы Робеспьера и Марата, Дантона и Сен-Жюста, которые до тех пор существовали в полудетском сознании Эжена лишь как некие условные, абстрактные символы…
Да, школа. И не только книгами запомнилась она! Школа Клэ помещалась в двухэтажном здании, в подвале которого была тюрьма. Как ни странно, но это так! Именно в школе центра департамента Сены и Марны имелся солидный и надежный подвал, где содержали до отправки в префектуру Парижа тех, кто преступил имперские законы, тех, кого ждал суд, наказание плетьми, каторга, а может быть, виселица или гильотина.
С каким трепетом и ужасом посматривали на тюремные окна ученики Клэ и Вуазена в те дии, когда за ржавыми решетками кто-то из преступников ждал прибытия из Парижа тюремной кареты.
Последние годы Варлен ни разу не вспоминал о тюремном подвале своей первой и последней школы, не думал о ней даже тогда, когда сам сидел в камерах Сент-Пелажи и Санае, — мысли всегда занимало другое, всегда хлатало забот!
А вот сейчас чудится… Будто он, Эжен Варлен, ученик той школы, заперт в ее подвале вместе с другими. Здесь и сдержанный седой Делеклюз, «перо и шпага Республики», как звали его друзья; и усмешливый остроумный Гюстав Флуранс, сын секретаря Академии наук, да и сам крупный ученый-естественник; тут и яростно сверкающий темными глазами Теофнль Ферре; и беспечный, когда-то изгнанный за вольнодумство из Сорбонны прокурор Коммуны Рауль Риго. И Жюль Валлес, и Мильер, и Жюль Андрие, и Максим Вийом, и Артюр Арку, и многие, многие из тех, кто уже пал на баррикадах или кому суждено погибнуть сегодня или завтра.
…Снится, будто они тесной кучкой стоят под сводами мрачной тюрьмы, где с потолка на их головы и на каменные плиты пола падают темные, пахнущие гнилью капля, а в углах шмыгают нахальные, отвратительные крысы с облезлыми хвостами. Узники стоят молча, прижавшись друг к другу, неподвижно смотрят в окно под потолком, забранное решеткой из толстых железных прутьев. Они напряженно ждут: что-то должно произойти там, на воле, за тюремными запорами. И Эжен вместе со всеми всматривается в запыленные стекла, заляпанные грязью с колес проезжающих мимо телег и карет. Там должно что-то произойти, но что именно — никто не знает. Это усиливает напряжение…
Но странно — заплесневевшие стены вдруг раздвигаются, исчезает нависший над головами сводчатый потолок, все заливает свет, и Эжен вместе с друзьями оказывается на Вандомской площади как раз в тот момент, когда на специально насыпанную песчаную подстилку рушится знаменитая Вандомская колонна, и бронзовая голова громоздившегся на ее вершине Наполеона Великого откалывается от туловища и катится по мостовой, звеня, словно треснувший колокол. Потом неожиданно голова эта превращается в мяч, и к ней со всех сторон площади, крича и визжа, бегут босоногие мальчишки. Но добежать не успевают: мяч начинает увеличиваться, пухнуть и становиться воздушным шаром «Арман Барбес», на котором Леон Гамбетта вылетел из осажденного Парижа. Наивные, они надеялись, что Гамбетте удастся создать на неоккупированпой пруссаками части Франции новую армию, которая освободит Париж… Шар поднимается, поднимается, достигает облаков и вдруг с шумом лопается, и оттуда на толпу парижан, словно крупные хлопья снега, со зловещим шелестом падают страницы каких-то непереплетенных книг. Их множество, просто белая туча, но за ними Эжен угадывает хитро ухмыляющееся лицо дядюшки Дюрю, который потрясает переплетенным в сафьян и тисненным золотом томом. Эжен узнает в нем книгу Наполеона Малого, где тот пытался сопоставить свое правление и свой образ с образом знаменитого римского императора Юлия Цезаря. Дядюшка Дюрю из кожи лез, чтобы заполучить для своей мастерской этот почетнейший заказ…
Вдруг оказывается, что это вовсе не дядюшка Дюрю, а Шарль Делеклюз в накрахмаленной белой манишке и строгом черном сюртуке. Он окидывает товарищей исполненным скорби прощальным взглядом, передает кому-то два письма и направляется к баррикаде на площади Вольтера, по которой прямой наводкой бьют версальские пушки и митральезы.
«Куда вы, Шарль? Остановитесь!» — в отчаянии кричит ему кто-то. Но Делеклюз оглядывается с горькой и чуточку надменной улыбкой: «Я не хочу больше жить!» — и идет дальше, навстречу свисту картечи и пуль. И тут стоящий рядом с Эженом Максим Вийом сдавленным голосом кричит:
— Все пропало! Все полетело к черту!
И Эжен просыпается в холодном поту…
ДЖОРДАНО БРУНО, ГАЛИЛЕЙ?
…Открыв глаза, он долго и неподвижно смотрел в низкий, скошенный потолок мансарды, не понимая, где он и как сюда попал, но с ощущением нарастающей тревоги. В соседней комнате, за косо повешенной занавеской, звучали возбужденные голоса. Варлен приподнялся иа локте, прислушался.
— На баррикаде Сен-Жак…
И сразу, лавиной, обрушились на него картины вчерашнего, позавчерашнего и всех прочих дней последней недели мая. Обломки зданий, костры бесчисленных пожаров, поваленные одна на другую кареты и телеги, бревна и столбы, образующие баррикады, сизый и кислый пороховой дым, кровь иа мостовых. Истошный женский крик, призывающий на помощь. И седой гвардеец, ползущий на четвереньках вдоль полуразрушенной снарядами стены…
Мгновенно припомнилось все: как они с Делакуром брели по почным улочкам Монмартра, протискивались в дыру забора, перешагивали через тела убитых и выброшенные из домов вещи: кепи и мундиры Национальной гвардии, шаспо и годильоты, клочки газет и разорванные книги, — многие в ожидании обыска старались избавиться от опасных улик.
Варлен огляделся еще раз, потянулся к занавеске.
Вероятно, после того как он уснул, Большая Мэри прикрыла чем-то вход на кухню, чтобы свет не мешал ему.
Протянув руку, отстранил занавеску и прежде всего увидел бледное лицо Мари и рядом с ее головой второй свечной огарок, прикреплениый перед статуэткой мадонны. Несчастная жена Делакура, вероятно, еще надеялась на чудо, на помощь неба. Как простодушна, наивна такая вера, когда кругом царят произвол и жестокость!
Большая Мари стояла рядом с мужем, нежно положив ему на плечо худую руку. Сам Делакур словно застыл, откипувшись к стене, а спиной к Варлену сидел кто-то еще. Первое, что бросилось Эжену в глаза, — белая нарукавная повязка с красным крестом. Сначала он подумал, что Мари, обеспокоенная раной мужа, привела врача, но сейчас же отогнал эту мысль: нелепо приводить кого-либо домой к раненому федерату в ночь массовых арестов и убийств.
И тут Эжен услышал глуховатый, напряженный голос, тот самый, который минуту назад кричал в его сне: «Все полетело к черту!» Максим Вийом! В дни Коммуны они не раз встречались в Ратуше, а в последние дни, после захвата Ратуши версальцами, виделись там, где шли экстренные совещания Коммуны, бурные и трагические, словно овеянные дыханием близкого и неизбежного поражения… Да, конечно, Максим! Но почему, откуда у него повязка с красным крестом? Вином же не врач, не фельдшер, даже не санитар, он — веселый, энергичный, отчаянный забияка-журналист, один из редакторов знаменитого «Отца Дюшена». На страницах этой любимся рабочим Парижем газеты Вийом вместе с Вермешем и Эмбером ядовито высмеивали и пригвождали к позорному столбу и Империю Баденге, и «правительство национальной измены», и Версаль Фавра, Тьера и Трошю, предавших Париж и пропустивших прусские орды к фортам и стенам столицы.
Максим Вийом не был членом Коммуны. Но на последних встречах членов Коммуны в мэрии Латинского квартала и в Бельвиле зачастую присутствовали не только избранники Парижа, но и простые граждане, все, кому была дорога Коммуна! И командиры легионов и батальонов, и даже рядовые гвардейцы, заслужившие мужеством в боях доверие и уважение товарищей. До соблюдения ли формальностей было на тех заседаниях, под орудийный гром, под разрывами снарядов и бомб, под грохот рушащихся зданий?!
Варлен с силой потряс головой, прогоняя остатки сна. Сколько проспал: час, два или всего несколько минут? Не мог определить. Но за деревянными зелеными полосками жалюзи еще стоит плотная, непроницаемая тьма — ночь не кончилась. И за окнами — угрожающе, подозрительно тихо.
Все тело ныло от накопившейся усталости. Превозмогая ее, Варлен принудил себя встать. Опираясь на оказавшуюся рядом табуретку, с трудом поднялся на ноги. И так помедлил, прислушался. Говорил Максим Вийом, а Делакур и Большая Мари слушали его в напряженном молчании.
Варлен снова приоткрыл занавеску.
— Да, я предстал перед военно-полевым судом в Люксембургском дворце! И только вот она спасла мне жизнь! — Вийом с благодарностью прикоснулся к нарукавной повязке. — О, если бы в суде узнали, что я один из редакторов гремевшего на весь Париж «Отца Дюшена», вы не видели бы сейчас меня здесь! Я наугад назвался именем знакомого врача, а перед тем мой приятель, студент-медик, нацепил мне повязку с красным крестом Женевской Конвенции, это и выручило! Тот же студент передал мне докторский чемоданчик. Там, откровенно говоря, нет ничего, кроме слуховой трубки, пинцетов и двух пузырьков с лекарствами. Смешно! Но как раз они при встречах с патрулем неизменно отводили от меня беду. По Женевской Конвенции, принятой почти всеми странами и, как это ни удивительно, действующей и в наши ужасные дни, врач — неприкосновенен! Каково? — И Вийом с усилием, нервно рассмеялся. — Вот они каковы зигзаги судьбы, Альфонс, а?!
Девочек в комнате не было, — видимо, их уложили спать. Варлен вышел из кухоньки, прошел, опираясь на стену, к столу и сел. И Вийом с таким непередаваемый изумлением оглядел Эжена, что тот сразу понял: Альфонс и Большая Мари не успели или побоялись сообщать внезапно явившемуся Вийому о спящем на кухне товарище.
— Как?! Ты жив, Эжен?! — с неподдельной радостью вскричал Вийом, приподнимаясь. — А я уже давно считал тебя мертвым! Скольких защитников Коммуны зверски убили за эти дни! Я видел на ступеньках Пантеона тело Жана-Батиста Мильера. Рассказывают, его силой поставили на колени, и он умер, крича в нацеленные дула шаспо: «Да здравствует Коммуна!» А накануне туда же, к Пантеону, для устрашения привезли на навозной телеге тело Рауля Риго с пустым черепом, набитым соломой и мусором! Боже мой, какие люди погибли! О, Эжен, я видел чудовищную бойню в Люксембургском парке, сам чуть-чуть не попал в версальскую живодерку! Я этих картин никогда не забуду!.. Но ты цел, Эжен, жив! Скажи, может, не все окончательно погибло, не все погребено? А?!
Варлен помолчал, исподлобья рассматривая Вийома темными проницательными глазами. Потом сказал, необычно растягивая слова, словно каждый звук застревал в горле:
— Нет, Максим. Не будем тешить себя пустыми иллюзиями. Мы потерпели полное, сокрушительное поражение. Наши мечты, наши надежды, мы сами — все персечеркнуто! Нас, кто еще уцелел, заживо изрубят на куски, наши трупы будут волочить по зловонной уличной грязи. Большинство из тех, кто сражался, убиты, пленников растерзали. И я убежден, даже смертельно раненных прикончат, а если кто-нибудь чудом избежит общей участи и палачи, упившись кровью, пощадят его, то отправят гнить на каторгу! В Кайенну, Ламбессу или Новую Каледонию! И иного не жди, Максим. Нашим врагам страшен даже самый призрак Коммуны, любое напоминание о ней!
Варлен чуть помолчал, с тревогой и жалостью глянув в лицо Мари: может, не стоило говорить при ней такие жестокие слова? И он снова повернулся к Вийому:
— Ну и пусть так! Пусть продажные писаки Версаля осквернят, оплюют наши могилы, правду невозможно навсегда похоронить! Их историки! — с язвительной горечью воскликнул он. — Им требуется одно: лишь бы изрядно платили, лишь бы кидали куски пирога с хозяйского стола! Да, сейчас будет именно так! Но придет, придет же завтрашний день! И тогда люди изобразят нашу борьбу и гибель в ее истинном свете. И скажут, что мы спасли для мира идею грядущей Республики! Что, жертвуя своей жизнью, мы сумели сберечь самые важные человеческие ценности! Утешимся этим, Максим!
Он снова посмотрел на залитое слезами лицо Большой Мари, погладил ее руку.
— Не плачьте, Мари! Думаю, вашему Альфонсу не грозит подобная участь, он не член Коммуны, не подписывал никаких декретов, он — рядовой боец, каких десятки тысяч! Только нужно быть предельно осторожным два-три ближайших дня.
Большая Мари посмотрела на Варлена с благодарностью и вытерла слезы. Делакур сердито теребил свои рыжие вислые усы, а Максим Вийом все еще с надеждой поглядывал на Варлена.
— Но, Эжен! — возразил он, стараясь говорить какможно тверже и увереннее. — Вы обязаны жить. Вы должны постараться сохранить себя во имя предстоящей борьбы. Во имя будущего! В Коммуне вы — единственный! — избраны сразу в трех округах Парижа. Ваша жизнь нужна будущему!
Варлен улыбнулся насильственной улыбкой.
— Дорогие моя, Коммуна не может окончательно погибнуть! Ее мертвецы останутся жить грозными для тиранов тенями… Наверное, мы совершили много ошибок… Не преследовали врагов в дни, когда именно преследование решало победу. К сожалению, я понимаю это слишком поздно, после разгрома!.. И все же есть утешение: наш опыт не пропадет для будущих поколений! Новые герои поднимутся против порабощения, неравенства, зла. Придут более талантливые и дальнозоркие вожди… А мы… мы должны заплатить за свои ошибки. — Он снова горько улыбпулся. — Может быть, это и глупо, Максим, но для меня трусость не совместима с высоким званием члена Коммуны. Я не желаю позорить свое имя перед лицом тружеников Парижа, которые избрали меня в народное правительство. Единственно справедливое! Правительство народа! — Варлен чуть помолчал, выражение боли на секунду исказило его бледное и спокойное лицо. — И вспомните, Максим, Шарля Делеклюза! Он добровольно шагнул навстречу вражеский пулям, когда убедился, что поражение неизбежно! А Рауль Риго? А Дюваль? А Флуранс?.. Риго накануне гибели явился на заседание Коммуны, как на парад, во всей форме, и на вопрос Теофиля Ферре, ради чего он так вырядился, ответил сдержанно и просто: «Раз мы не сумели победить, дорогой Теофиль, нужно хоть умереть прилично!» Это и мое мнение, Максим! Нельзя бросать даже тень трусости…
Не договорив, Варлен устало махнул рукой. С минуту в мансарде стояла полная тишина, только из-за синей занавески доносилось cонноe дыхание девочек. Да где-то неподалеку, за окнами, жалобно мяукала кошка, чудом пережившая осаду.
— Да, вот так, — задумчиво повторил Варлен. — Риго было всего двадцать пять лет, а мне перевалило за тридцать. Я немало пожил. И поверьте, Максим, в последние минуты я ни о чем не стану жалеть! Но до этого мне необходимо кое-что сделать…
Варлен замолчал, молчали и Вийом, и Делэкур. Обернувшись к изображению мадонны, Большая Мари беззвучно шептала молитву.
— И довольно обо мне! — резко и словно обретая в сказанном прежние силу и убежденность, продолжал Варлен. — Согласитесь, Максим, жизнь отдельных борцов не имеет решающего значения в истории…
— А вечный узник Огюст Бланки?! — с жаром перебил Вийом, весь подавшись вперед. — Разве для большинства из нас ничего не значил его личный пример? Подумайте только! Страшные казематы тюрем на Корсике, на острове Бель-Иль, в крепости Сен-Мишель! Почти три десятка лет в тюрьмах! Приговорен к смерти! Разве пример его жизни не вдохновлял нас? Вспомните, Эжен, его призывы: «Народ не может более довольствоваться обглоданными костями!», «У кого меч, у того и хлеб!» Помните?! Разве вы не то же самое исповедовали…
Но, останавливая страстную, горячечную речь Вийома, Варлен протестующе поднял руку:
— Да, да, Максим, вы в чем-то правы! Но не забывайте и того, друг мой, что ни угрозы казнью, ни самые страшные тюрьмы ни разу не поставили Луи-Огюста Бланки перед узурпаторами на колени! «Вечный инсургент» никогда не унижался до просьб о снисхождении, о пощаде! И именно в этом сила его нравственного примера и для нас, и для тех, кто придет следом…
На этот раз перебил собеседника Вийом:
— Пусть так, дорогой Эжен! Но когда того требовали интересы дела, Бланки не считал унизительным для себя скрываться от шпиков и жандармов Империи! Да, да! Напоминаю, Эжен: в январе прошлого года Бланки тайком приезжал сюда, в Париж, на похороны нашего друга Виктора Нуара, убитого принцем Пьером Бонапартом! Так? Если бы в тот день началась революция, он был бы нам необходим. И он не стеснялся прятаться… Меняется обстановка — нужно менять и тактику…
Варлен с непонятной усмешкой посмотрел на Вийома.
— Видимо, Максим, Галилея вы предпочитаете Джордано Бруно? Отречением спасти себе жизнь?
— Да! — почти крикнул Вийом, приподнимаясь, — В драке живая собака полезнее мертвого льва! И вовсе не отречение, а здравый смысл!
И снова Варлен непонятно усмехнулся.
— Не надо обижать ни львов, ни собак, Максим! — И, словно испугавшись прозвучавшего в его словах укора, заторопился. — Но погодите, Максим! Здесь не время и не место для теоретических споров. Мы служили Коммуне верой и правдой, каждым днем и каждой секундой своей жизни! И потерпели поражение, возможно, лишь, вследствие собственных ошибок! А идея Коммуны, независимо от того, живы мы с вами или погибнем, бессмертна, жива! Она так же неизбежна, как восход солнца после тьмы, после ночи. Я не знаю, сколько дней или часов отделяет меня от смерти, но надеюсь, что и этим я часами я послужу будущей — и верю! — всемирной Коммуне…
— Не торопитесь с осуждением, Эжен, — мягко возразил Вийом. — Я тоже готов на самопожертвование, как вы!.. Но не вижу в нем смысла для успеха грядущей революции!
— Повторяю: не будем об этом! — настойчиво попросил Варлен. — Просто мне необходимо еще кое с кем встретиться… Расскажите-ка лучше, что видели и слышали, что вам известно? Благодаря этой регалии, — Вар-лен небрежно тронул повязку на рукаве Вийома, — вы, вероятно, видели многое, чего не могли видеть мы… Кстати, где вы сражались последнее время, Максим? И кого встречали из наших? Кто еще жив?
Вийом устало потер ладонью лоб.
— Где?.. Латинский квартал. Баррикады на площади Сен-Мишель, у Сорбонны, у Пантеона. — И, словно позабыв о только что прерванном споре, Вийом замолчал с застывшим, остановившимся взглядом. — О, я повидал столько ужасного, Эжен! Сотни людей, согнанных в помпезные залы Люксембургского дворца в ожидании так называемого суда. Тупая, бесчеловечная жестокость и жандармов, и мелких судейских чиновников, и судей трибунала. Крики и рыдания женщин. Лица тех, кого уводили «в хвост» — так называется там очередь на расстрел! Я просто чудом избежал гибели! Меня отпустили, поверили, что я врач, и приказали немедленно отправляться в один из их госпиталей! Служить им! Понимаете? И я не пошел, конечно!.. На Сен-Мишель я видел расстрелянных федератов, им в разбитые губы воткнули горлышки пустых бутылок, обкуренные трубки. Я видел мальчишку лет семи, которого на моих глазах изрубили шашками, заметив, что он украдкой выбрасывает в водосточный люк патроны от карабина, — видно, остались у отца или брага…
— И вы не заступились, Максим? — глухо спросил Варлен.
— Нет! Не заступился! Нелепо! Бессмысленно! — с вызовом крикнул Вином, в упор глядя на Варлена. — Вы видели бы их морды! Звери! Изверги! На Сен-Мишель стало бы одним трупом больше! Моим трупом! А мне кажется, — с прежней горячностью продолжал Вийом, — что я еще пригожусь и революции, и Республике! А вы, Эжен, особенно вы, должны постараться сохранить жазнь, чтобы продолжать борьбу, чтобы отомстить за павших!..
— Не будем повторяться, Вийом! — остановил собеседника Варлен. И, словно вспомнив о чем-то важном, торопливо спросил: — Случайно не знаете, что на улице Гранвилье, сорок четыре? На площади Кордери?
— В Интернационале? Да, я проходил мимо. Все разбито, разнесено вдребезги. В окнах нет рам, двери выломаны, мебель исковеркана, изрублена шашками или топорами. Во дворах дотлевали костры бумаг и книг…
— А гравер Фриоур? В Гранвилье же его квартира! А Арну? А Валлес?
— Не видел.
— А Бенуа Малой, Альбер Тейс, Лимузен, Тридон?
— И о их судьбе ничего не знаю.
В эту минуту где-то далеко-далеко на какой-то из соборных башен пробили часы — в тугую тишину ночи упали четыре медные звенящие капли. И странно было думать, что, несмотря на реки пролитой крови, на тысячи, а может быть, и десятки тысяч непогребенных тел, время бесстрастно отсчитывает бегущие мимо секунды и минуты; вертятся, цепляясь одна за другую, стальные шестеренки, качаются маятники, опускаются под собственной тяжестью гири. Да, движение времени, равно как и поступь истории, никто не властен остановить или даже замедлить.
Максим Вийом, вспомнив о чем-то, шарил у себя по карманам. Вытащив несколько обрывков газет, сердито и в то же время как доказательство своей правоты швырнул на стол перед Варленом измятые, замусоленные клочки.
Вот, почитайте! Если, Эжен, вы еще сохранили ясность ума, если намерены не сдаваться, а продолжать борьбу, может, эти реляции подскажут вам, что делать!
Я не стану скрывать… Да, я дорожу жизнью, но не для себя самого, это было бы слишком низко и подло! Я хочу сохранить жизнь во имя завтрашнего дня, во имя завтрашней победы Коммуны! Ну, какой смысл в том, что ваш мозг, как мозг Флуранса и Риго, вомнут в землю башмаки безграмотного, обманутого лживыми обещаниями парня из Бретани или Вандеи? Ну, вспомните, хотя бы, «Вандею» Оноре Бальзака! Неужели исторические уроки ничего вам не подсказывают?!
Варлен не ответил, но губы его покривила болезненная усмешка. Он молча взял со стола брошенные Вийомом обрывки газет, осторожно расправил их на столе, его сильные большие руки при этом ни разу не дрогнули. Проглядел абзацы, отчеркнутые карандашом, обвел медленным и спокойным взглядом Большую Марл, Делакура, Вийома и прочитал вслух:
— «Ни один из злодеев, в руках которых в течение двух месяцев находился Париж, не будет рассматриваться как политический преступник; к ним отнесутся как к разбойникам, каковыми они и являются, как к самым ужасным чудовищам, которых когда-либо породила история человечества. Многие газеты говорят о восстановлении эшафота, сожженной коммунарами гильотины, чтобы не предоставлять коммунарам даже чести быть расстрелянными». — На секунду вскинув глаза, Варлен пристально и с вопросом посмотрел в побледневшее лицо Вийома. — Да, Максим, этого от них и следовало ожидать. И далее: «Каждый задержанный в форме национального гвардейца может быть убежден, что конец его близок. Ему остается пройти несколько шагов из комнаты во двор своего дома». Судя по верстке и шрифту, это «Фигаро»… А вот тоже, из той же газетенки и почти теми же словами: «Мы должны расправиться, как с дикими зверями, с теми, кто еще прячется, пощада была бы в настоящее время безумием!» Как видите, повторено почти слово в слово, не очень-то они богаты на выдумки?
Варлен брезгливо отодвинул газетные лоскутки в сторону.
— Но мы, члены Коммуны, Максим, и не ждали для себя иной судьбы в случае поражения. Правда, мы все время верили в победу… А мне, Альфонс, — он повернулся к молча сидевшему Делакуру, — эти пахнущие кровью ошметки напомнили, старина, о том, что нам пора уходить. Да и Большой Мари с синичками хорошо бы на время перебраться куда-нибудь подальше отсюда. Вдруг ваша любопытная консьержка Клюжи захочет еще разок взглянуть на труп оскорблявшего ее грубияна? И, не иайдя его под обрывом, сообщит кое-куда о бегстве Альфонса Делакура?
Рука Большой Мари, лежавшая на плече мужа, дрогнула, Делакур с угрюмой ласковостью посмотрел на жену. Встал, большой и грузный, в рыжей бороде блеснули улыбкой зубы.
— Эжен прав, Большая Мари! Найди-ка мне старенькие штаны без лампасов, должно быть, у тебя в чулане завалялась кое-какая рухлядь. И утром сразу перебирайся с девочками в Нейи, к твоим старикам. Эжен насчет старой шкуры Клюжи прав! И не надо слез, ведь мы пока живы! Я найду вас там. Кому сказано: вытри слезы?! И вспомни, что на нашей свадьбе нагадала мне цыганка? Что доживу до глубокой старости и меня забодает красный бык. Помнишь? Ты же всегда верила гадалкам! Ну и с добром! Нам надо поторапливаться. Но тебе, Мари, придется проводить нас. Как бы дотошная стерва Клюжи не услышала. Правильно, Эжен?
Не слушая их, Большая Мари, открыв дверцу крошечного чулана, уже копалась в сваленном там тряпье. Некоторое время трое мужчин молча наблюдали за ней. Потом Эжен спросил:
— А куда ты направишься, Альфонс?
— Прежде всего провожу вас, Эжен! Вы же едва держитесь на ногах. А потом, пожалуй, попробую зайти к мадам Деньер. Если ее мастерская собирается продолжать работу, я могу приступить немедленно. Там у нее будет безопасно. Притворюсь этаким старательным малым, скажу, что сгорел дом. И не пойти ли, Эжен, и вам вместе со мной, а?
Варлен покачал головой.
— У меня есть дела, которые я должен сделать. И сделать один, сам. Уходить отсюда нам всем вместе нельзя. Опасно привлекать внимание.
— Что верно, то верно, — со вздохом согласился Делакур. — Но слушайте, Эжен! Давайте-ка я хоть ножницами обкорнаю вашу предательскую бороду, вас по ней за два квартала узнать можно! Да и бритва у меня со времен юности сохранилась! Побрею — и ни одна собака вас не узнает! Всего пять минут!
И снова Эжен отрицательно покачал головой.
— Не нужно! Мне думается, это ничего не изменит в моей судьбе, да и в настоящее время скрываться от опасности…
— Но вы же, Эжен, перед войной уехали из Парижа, когда вам угрожал арест, — стараясь скрыть смущение, горячо перебил Вийом. — Перед третьим судебным процессом над парижскими секциями Интернационала. Вы же вернулись из Антверпена лишь после Седана!
Вар лен чуть помолчал.
— Видите ли, Максим… Тогда все еще было впереди. И, кроме того, из-за моего поступка не мог пострадать никто. А сейчас — может! Мне необходимо или спасти, или уничтожить хранящиеся дома документы. И еще… тогда рядом с моим покалеченным братом Луи оставался средний брат, Ипполит. А сейчас я не знаю, где он. Вполне возможно, что его тело уже засыпано негашеной известью в очередной братской могиле. И я не могу оставить искалеченного Луи на произвол судьбы! Если я сбегу, скроюсь, версальские судьи спросят за мои «грехи» с него. Разве нет? И если случится такое, как же мне жить дальше?
Большая Мари положила к ногам мужа охапку старой, заношенной до дыр одежды.
— Вот что нашлось, Альфонс. Может, кому-то тоже нужно переодеться?
Делакур буркнул:
— Спасибо, Мари! — И оглядел Эжена и Максима. — Да нет, птица-синица, пожалуй, внешний вид сих преступников не вызывает особых подозрений. Смущает меня лишь разбойничья борода Эжена, на изображения которой «Фигаро» потратило немало типографской краски! Почти документальная улика! Сбрить бы ее к чертям собачьим!
— Перестаньте, Делакур! — оборвал Варлен. — Идите, переоблачайтесь, инсургент! — И когда Альфонс скрылся за занавеской кухоньки, с улыбкой повернулся к Большой Мари:
— Запомните, Мари! «Морозами изгнаны ныне, вернутся все птицы весной». И верьте: все ваши самые чудесные птицы обязательно вернутся! И будет у вас не одна счастливая весна. Не поддавайтесь горю, милая Мари, не теряйте надежды иа нашу будущую победу. Будут весны, и вернутся птицы!
Большая Мари смотрела на Варлена глазами, потными слез и тревоги.
— Ах, если бы сбывалось то, о чем поется в песнях! Я так боюсь за Альфонса, Эжен!
Ну и глупая птица-синица! — заворчал вернувшийся с кухни, переодевшийся в затасканную одежонку Делакур. — Ты вот что, жена, дай-ка мне корзинку или кошелку, какую тебе не жалко. И представь: шляюсь по городу в поисках черпака угля или десятка картофелин. Ну, ты посмотри, драгоценная? Разве твой Альфонс похож на презренного повстанца и федерата? У него всю жизнь — единственная забота — как бы сунуть свое рыло поглубже в корыто, пожрать и попить вдоволь! — И вдруг, словно что-то невидимое толкнуло Делакура, oн перестал шутить, шагнул к занавеске в спальню. Приоткрыв ее, несколько секунд молча смотрел в глубину каморки на детские кроватки. Потом повернулся к жене, лицо его от колеблющегося пламени свечи то прояснялось, то покрывалось глубокими тенями. — Береги их, Мари! Я вернусь, как только позволят обстоятельства.
— Ты сам… береги… себя.
— За меня не беспокойся! Помни гадалку и красного быка. И не мешай россказням Клюжи о том, как меня расстреливали на обрыве. А теперь иди, послушай возле се дверей!
— Хорошо, Альфонс!
Осторожно скрипнув дверью, Мари ушла. Делакур торопливо затискивал в топку печурки свои гвардейские, с сорванными лампасами брюки и пытался газетными обрывками поджечь их. Варлен думал о Луи и тайнике на рю Лакруа, а Максим Вийом сидел у стола грустный, помрачневший. Неожиданно, будто очнувшись от сна, вскочил, бросился к Варлену, протягивая ему повязку с красным крестом, сорвав ее с собственного рукава.
— Возьмите, Эжен! Возьмите, пожалуйста! Давайте, я повяжу вам! С ней вы даже ночью пройдете всюду, где захотите. Да дайте же вашу руку!
Но Варлен решительно отстранился.
— Благодарю, Максим! Я не могу допустить, чтобы из-за меня рисковали вы. Ваша жизиь в настоящее время представляет не меньшую ценность, чем моя. Вы — известный, талантливый журналист. А что я? Если чудом останусь жив, снова — простой переплетчик чужих книг. Вы напишете воспоминания о Коммуне, может быть, даже роман, расскажете будущим поколениям, как мы боролись и умирали. И это несомненно принесет пользу. А я? Ну, переплету в сафьян или в телячью кожу десятки томов какого-нибудь новоявленного властителя, «спасителя» Франции. Велика ли заслуга? Нет, Максим! Большое спасибо! Я не имею права принять от вас такую жертву!
Едва слышно скрипнули ступеньки, в полуоткрытой двери показалось лицо Большой Мари.
— Она спит, Альфонс! Слышишь? Храпит на весь дом.
— Ага, слышу. Наверно, напилась на радостях, как свинья! Век бы ей не просыпаться, старой шкуре!
— Альфонс!
— Ну, ладно, ладно, Мари! Отныне я больше не сквернословлю! Аминь! Пошли, друзья. Полагаю, что первым лучше всего выйти Максиму, а? Достойный служитель медицины спешит на милосердное дежурство в госпиталь, скажем Сент-Антуан, где его помощи ждут версальские труженики войны, израненные пулями нечестивых и жестоких федератов! А? Сойдет? Потом вылезаю я. А за мной в ста шагах Эжен. Так? Согласны? Я доведу вас, Эжен, до подножия Монмартра. Хотя вы, собственно, куда направляетесь?
— На рю Лакруа, конечно. К Луи. — И, торопливо ощупав карманы, Варлен спохватился: — Да, Альфонс, верните мои часы!
Делакур досадливо поморщился, покачал головой.
— Вспомнили все-таки, черт вас побери! А я-то надеялся — забудете! Глядишь, старина Делакур и нажился бы хоть немного на вас. Так нет! Держите вашу драгоценность! Как бы только она не стоила вам жизни! Тогда я никогда не прощу себе, что именно я собирал деньги на эту памятную серебряную луковицу. Да еще Бурдон с его гравировкой! Держите! — отдав Варлену часы, Делакур повернулся к жене: — Еще вот что, моя маленькая Большая Мари! Где-то у нас в чулане завалялась старая трость. Ну, помнишь, когда в гололедицу я подвернул ногу. Дай-ка ее Эжену. Ему будет легче, упрямому мадридскому бычку. Хотя, прошу прощения, не мадридскому, а вуазенскому!
Мари снова открыла дверцу чулана, покопалась там в отживших и отслуживших свой срок вещах, выбросшь которые у бедняка не всегда поднимается рука.
— Вот, Альфонс, пожалуйста.
— Держите, Эжен! Эх, если бы еще вам в петлицу красную ленточку Почетного легиона! Любой встречный ажан раскланивался бы с вами, как с наследным принцем!
— Перестаньте балагурить, Альфонс! — с укором попросил Варлен. — Скажите лучше Мари несколько добрых слов. Ей эти дни тоже нелегко дадутся, дружище.
Большая Мари кинулась мужу на шею, судорожно обхватила руками.
— Ну-ну! — шепотом упрекнул он ее. — Будь бодрой умницей, какой бывала всегда в трудные минуты. Я вас скоро отыщу, определюсь на работу к мадам Деньер, и зажином спокойно до нового мятежа. Береги синичек!
По лестнице спускались гуськом и тихо, боясь споткнуться, громко скрипнуть ступенькой, прислушиваясь к храпу, доносившемуся из-за двери каморки на первом этаже. У выхода Делакур шепнул:
— Вперед шагом марш, инсургент Максим Вийом!
Тот хотел было обнять Эжена, но что-то помешало ему, только протянул и пожал руку. Чуть смущенный, повернулся к стоявшей рядом жене Делакура:
— До свидания, Мари! Спасибо! И береги вас бог!
— Благодарю, мосье…
Минут через пять — храп за дверью не прекращался — Делакур шагнул через порог.
— Я пошел! Не теряйте меня из виду, старина! И передайте привет Луи. Он у вас — славный и талантливый парень. Может, именно ему и суждено написать правду о Коммуне…
— Спасибо, друг! Увижу — передам, хотя не обольщаю себя надеждой. Я не видел Лун уже целую недолю. С того самого вечера, когда версальцы ворвались в ворота Сен-Клу.
— И все же, удачи, старина!
НЕДЕЛЕЙ РАНЬШЕ
А что же с Луи? Но вернемся немного назад…
…Накануне вторжения версалъцев в Париж, за семь дней до полного разгрома Коммуны и описанных выше событий, вечером 21 мая, по билету, принесенному Эженом, Луи отправился во дворец Тюильри на большой концерт. Комиссия просвещения Коммуны организовывала такие представления в пользу семей убитых в боях и растерзанных в плену федератов. После «Спектакля в пользу вдовы Дюваль» — командира легиона коммунара Эмиля Дюваля зверски убили в начало апреля — такие концерты-сборы устраивались каждое воскресенье. Коммуна и помогала семьям погибших за нее, и свято чтила их память.
Сам Эжен пойти в Тюильри не смог; созывалось чрезвычайное заседание Военной комиссии. Гражданская война разгоралась все яростнее, версальские части Дуэ, Сиссе и Монтодона, а также кавалерийская бригада Галифе стояли у самых ворот Парижа.
Луи в тот вечер отправился в театр один.
Нет слов, чтобы передать, как поразила к восхитила деревенского парня, выросшего в провинциальном Вуазоне, сказочная роскошь дворца французских монархов.
К театральному залу примыкали фойе и галереи, заполненные произведениями величайших художников мира, чудесными, нежнейших расцветок гобеленами, прославлявшнми «бессмертные» деяния Валуа, Бурбонов и Бонапартов, бесчисленных Людовиков и Карлов. На изысканные узоры наборного паркета казалось кощунственно ступить ногой, обутой в пятифранковый латаный и перелатаный башмак, а позолоченная лепка потолков слепила, как солнце.
И было страшно видеть среди этой помпезной несказанной роскоши пропыленные и пропахшие пороховой гарью мундиры рабочих-гвардейцев, белые блузы каменщиков и широченные шаровары рыночных и судовых грузчиков, скромные и дешевые, хотя и праздничные кофточки прачек и белошвеек, шаспо и карабины тех, кто явился в театр прямо с баррикад и боевых постов, даже не успев вымыть руки.
Боясь опоздать и подгоняемый любопытством, Луи приковылял в Тюпльри за час до начала и неспешно бродил среди множества людей, ни с кем не вступал в разговор, но внимательно прислушивался к тому, о чем и ожидании концерта рассуждали собравшиеся.
Во многих голосах звучала тревога: версальцы подвезли с Бискайского побережья тяжелые осадные морские орудия и готовятся из них обстреливать осажденный город, а пруссаки, возглавляемые Вильгельмом и Мольтке, обязавшиеся соблюдать нейтралитет, одну за другой возвращают «правительству национальной измены» дивизии и целые армии, плененные под Седаном и в Меце, но сохранившие верность Версалю. На сочувствие или поддержку этих армий рабочий Париж, Париж Коммуны никак не мог рассчитывать: навербованные в провинции деревенские парии и наемные вояки, мобили из Бретани не понимали, да и не могли понять парижан, восставших против Империи. На последнем фарсе плебисцита, устроенного Баденге незадолго до начала франко-прусской войны, обманутая щедрыми посулами дереваня отдала новому узурпатору больше семи миллионов голосов! А сам Париж она ненавидела лютой ненавистью, почитая его пристанищем развратников и бездельников, напрасно пожирающих хлеб, с великим трудом выращенный деревней.
Луи слушал и отмечал в памяти: что из услышанного нужно передать при встрече Эжену, что занести в очередную дневниковую тетрадь. Вон какой-то бородач, поблескивая очками, гневно утрируя, громогласно повторяет хвастливые заявления Тьера: «Градом снарядов или золота, но мы задушим Париж!»
Кое-где в галдящей людской толно мелькали знакомые Луи лица журналистов и писателей, навещавших в мирное время мастерскую Варленов, но Луи ни к кому не решался подойти. А они или не помнили, или не узнавали его, — ведь во время яростных и страстных спорен на pю Лакруа Луи всегда держался в тени. Он лишь слушал, с жадностью губки впитывая новое, непривычное, обрушившееся на него в огромнейшем многоликом Париже.
Издали Луи увидел в толпе не особенно красивое, но вдохновенное, как всегда, лицо Луизы Мишель, учительницы и поэтессы, она была в заношенном мундире и кепи Национальной гвардии, видимо, тоже сражалась на баррикадах. Рядом с ней — оживленная, смеющаяся Андре Лео, известная писательница, два романа которой — «Скандальный брак» и «Развод»—Эжен и Луи переплетали на своих станках.
А вон еще знакомое лицо: тонкие, черные щегольские усики, пронзительные, искрометные глаза. Это — Эдуард Вайан, инженер, республиканский публицист, коммунар. Луи не раз видел его на собраниях секции Интернационала на улице Гранвилье, куда обычно ходил вместе с Эженом. Вайан запомнился по его страстным речам, по знаменитой крылатой фразе, передававшейся из уст в уста: «Короли нужны лишь затем, чтобы народ отрубал им головы!»
Сейчас перед Вайаном потрясал массивной тростью неистовый художник, коммунар Гюстав Курбе, публично и с нецензурной бранью отказавшийся в прошлом году от ордена Почетного легиона, пожалованного ему Наполеоном Малым с явной целью подкупить маэстро. Рядом другой соратник Эжена по Коммуне — Рауль Юрбен. Кто-то еще.
За спинами гуляющих по галерее Луи приблизился к группе Вайана — хотелось услышать хотя бы отрывки их разговора. Все последние недели Эжен так редко появлялся дома и времени у него всегда оставалось так мало, что они с Луи никак не успевали серьезно и подробно поговорить. Ведь после избрания в Коммуну у Эжена пропасть дел: сначала в Комиссии финансов, потом в Комиссии продовольствия, а с 5 мая в Военной комиссии. Начальник Управления по снабжению Национальной гвардии и член ее Центрального комитета, деятельный участник Федерации парижских секций Интернационала. Луи просто поражался работоспособности брата — последнее время Эжен едва ли спал три-четыре часа в сутки.
Сквозь то встревоженный, то восторженный гул голосов до Луи доносились возмущенные слова Вайана, избранного в Коммуне делегатом просвещения:
— …При Империи эксплуатация в театрах была, пожалуй, не менее жестокой, чем на заводах и фабриках. Да, да! К тому же она была в тысячи раз безнравственнее и подлее. Любая талантливая певица или балерина, если она красива и стройна, неизбежно становилась на время наложницей либо владельца театра, либо антрепренера, иначе — вон, за дверь! Я знаю актрис, кому из-за своей неуступчивости пришлось буквально нищенствовать и в конце концов отправляться на панель, на ту же пресловутую площадь Пнгаль!.. Коммуна впервые в истории Франции принесла в театр дух свободы и равенства.
И едва различим сквозь шум ответ Юрбена:
— …Одно из самых лучших средств просвещения! Из притона продажности и пороков превратить театр в школу высокой нравственности — вот наша задача, Эдуард! Иначе театр ничему доброму не научит никого, не станет подлинным проводником великих идей…
Серебряный звон у входа в зал возвестил о начале концерта, толпа всколыхнулась, потянулась к широко распахнувшимся дверям, и минут через десять Луи оказался совсем пеподалеку от сцены, скрытой тяжелым занавесом огненно-красного бархата. Кто-то уступил ему, хромому, место, он уселся в обитое тем же красным бархатом кресло и огляделся. Со стен, из позолоченных; овальных рам, с суровой требовательностью смотрели на пеструю толпу великие композиторы прошлого — Бетховен, Бах, Моцарт. В оркестровой яме вразнобой пиликали настраиваемые скрипки, под потолком качались огромные газовые люстры — словно цвели над головами диковинные, экзотические цветы.
И вот раздвинулись тяжелые бархатпые полотнища занавеса, и четким строевым шагом на авансцену вышел молодой элегантный офицер Национальной гвардии и, властно вскинув руку, дождавшись тишины, торжественно заговорил. И хотя он не напрягал голоса, слова были слышны в самых отдаленных углах зала.
— Граждане! Прежде чем открыть воскресный концерт, напомню, что совсем недавно карлик Тьер, окопавшийся в Версале за частоколом прусских штыков, клятвенно обещал своей камарилье, что сего, двадцать первого мая, они будут праздновать победу над Коммуной здесь, в залах Тюильри! Как видите, обещание недоноска Футрике не сбылось! И не сбудется, пока мы живы!
Переждав обвальный грохот аплодисментов, офицер продолжал так же торжественно и убежденно:
— Открывая сегодняшний концерт в честь павших товарищей и в пользу их осиротевших семей, имею честь пригласить присутствующих на наш следующий воскресный концерт — двадцать восьмого мая! — Бросив мгновенный взгляд вниз, на невидимый из зала оркестр, он словно взмахнул над головой несуществующей саблей. — «Марсельеза»!
Зал встал в едином порыве. И никогда раньше Луи не испытывал ничего подобного, не чувствовал такого душевного подъема. Вместе с тысячами других он пел во весь голос и не стыдился слез, которые ощущал на своих щеках, провалившихся от многомесячного голода, забыл, где он и что с ним. Гимн Революции словно вскинул его ввысь и понес на незримых крыльях над необозримыми просторами земли, навстречу свету и солнцу. И когда замерли последние слова песенной клятвы, Луи пришел в себя и, смущенно оглядевшись, с облегчением увидел на лицах соседей те же слезы восторга, какие текли по его щекам.
И сам концерт навсегда запомнился Луи, врезался в память незабываемо, как радостный сон. Раньше ему не доводилось слышать таких прекрасных голосов, ощущать такую страстность, какая звучала за каждым спетым или произнесенным словом. «Медная лира» поэта Июльской революции Барбье в исполнении Агар гремела, словно трубный призыв к решительному бою, от «Республиканской песни» и «Черни», пропетых Морно и Борда, спирало дыхание и останавливалось сердце. Песня «Восемьдесят девятый год» на слова одного из друзей Эжена Варлена, поэта Коммуны Жана Клемана, возвращая слушателей к событиям Великой французской революции, дышала теми же тревогами, яростью, гневом и болью за родину, которыми жил в эти дни многострадальный Париж.
Потом, под закрытие занавеса, снова, окрыляя и вдохновляя, звучала «Марсельеза», могучая и грозная песнь восставшего на борьбу народа, заставляя звенеть хрустальные подвески люстр и как будто беспредельно раздвигая стены.
Но и еще одно неожиданное событие подстерегало Луи в этот вечер. Уже у самого выхода кто-то с торопливой радостью тронул его сзади за рукав.
— Луи?!
Он обернулся со всей стремительностью, какую позволяла его хромота. Почти притиснутая к нему толпой, позади стояла Клэр Депьер. И все ее лицо, и глаза, и с усилием улыбавшиеся губы, и пятнами покрасневшио щеки выдавали волнение. Луи, конечно, понимал, что ее чувства не имеют ни малейшего отношения к нему, она молча, без слов спрашивала об Эжене. И все же он был благодарен этой красивой и на редкость обаятельной женщине, благодарен за то, что она любит его брата, которого он сам, Луи, любил больше всех на земле, может быть, даже больше, чем мать и отца.
— Он не мог прийти, — сказал Луи, не дожидаясь вопроса. — У него заседание.
И лицо Клэр сразу изменилось, исчезла напряженность во взгляде, улыбка стала естественной, ласковой и доброй.
Их толкали со всех сторон, и они медленно продвигались к распахнутым настежь дверям, за которыми над черепицей крыш, над шпилями и куполами по-весеннему молочно-мраморной голубизной отливало майское небо.
Клэр удалось протиснуться вперед, и она шла рядом с Луи, опираясь на его свободную от палки руку. Он ощущал тепло ее локтя, дышал ароматом дорогих духов и пытался представить себе, какого труда стоило Эжену отказаться от ее любви. А Клэр сбоку пытливо и настороженно заглядывала ему в глаза.
— Но с ним ничего не случилось? Не болен? Не ранен?
— Пока нет, мадам.
— Слава богу! Но как же вы живете, на какие доходы? Ведь даже моя мастерская последние месяцы не имела заказов, иначе я пересылала бы вам хоть что-нибудь. Ах, естественно, в сегодняшнем кромешном аду людям не до книг! Мастера все разбежались, многих призвали на войну и там ранили или убили, другие вступили в Национальную гвардию. Ах, боже милостивый, когда же окончится этот ужас?!
— Когда народ окончательно победит, мадам, — тихо ответил Луи.
— Победит? — недоверчиво усмехнулась Депьер. — И вы убеждены в победе столь же непоколебимо, как и Эжен?
— Без этого нам незачем жить, мадам Деньер!
— Господи! — воскликнула она, стиснув руку Луи. — Да оглянитесь вы на всю прошлую историю Франции! Бесконечные восстания и революции приносили лишь слезы, кровь, неимоверные страдания. Вспомните бесчисленные плахи, виселицы, гильотины! Неужели вы, голодные, оборванные и почти безоружные, надеетесь победить окружившую Париж двухсоттысячную армию сытых и обеспеченных всем врагов? Вы одиноки, оторваны, отрезаны от страны, а Версаль поддерживает ставшая поистине могучей объединенная Вильгельмом Германия!
— И все равно, верю! — упрямо отозвался Луи.
— Безумцы! — с сожалением и отчаянием вздохнула Деньер, отпуская руку Луи. — Вы сами обрекли себя на гибель! — Она чуть помолчала и снова с пытливым любопытством взглянула на Луи. — Я спросила: как же, на какие средства вы существуете?
— Эжен, как командующий легионом, получает двенадцать франков в день и еще какую-то сумму, как делегат Коммуны. Мне тоже платят за случайную работу в Ратуше.
— Но ведь но нынешним ценам ваши заработки — гроши! — воскликнула Деньер. — Вы же, наверно, все время голодаете?
Луи пожал плечами.
— Мы имеем то, что имеет каждый честный гражданин Парижа.
Проталкиваясь к двери, толпы зрителей восторжепно шумели, во многих сердцах концерт воскресил пошатнувшуюся было веру в победу. И сквозь гомон множества голосов, уже у самого выхода, Луи услышал сзади обрадованный мужской голос:
— Клэр! Клэр!
Порывисто обернувшись, Деньер искала в толпе глазами позвавшего ее.
— Я здесь! — Она вскинула над головой белую перчатку и помахала ею. — Я здесь! — И на мгновение с виноватым видом повернулась к Луи: — Извините! Это добрый старый приятель… Вы живете теперь на Лакруа?
— Да, мадам.
— Если потребуется помощь, не стесняйтесь, Луи, приходите! Хорошо? Вы же знаете, как я отношусь…
Она не договорила. Расталкивая толпу, к ним пробился атлетически сложенный молодой человек в скромном костюме, но с холеным аристократическим лицом.
— Как я счастлив видеть вас, дорогая Клэр! И я! О, вы ранены, у вас забинтована рука!
А, пустяки! — с еле скрываемой гордостью улыбнулся молодой человек. — Но сие обстоятельство, возможно, спасло меня либо от смерти, либо от позора плена!
— Одну минутку! — Клэр снова повернулась к Луи. — До свидания! И не забудьте моих слов!
— Будьте счастливы, мадам!
Деньер торопливо подала Луи руку и ушла вместе с молодым человеком.
Опираясь на тросточку, Луи неторопливо спустился по мраморным ступеням, оглянулся на величественный, изящный фасад дворца, где огромные буквы «Н» — эмблема незадачливого императора — были либо стесаны зубилами, либо завешены красными полотнищами. И позолоченные крыластые и клювастые орлы, некогда украшавшие здание и окружавшую его кованую решетку, также исчезли: их сбили, сорвали и скинули на землю еще 4 сентября, когда Париж ошеломила весть о седанской катастрофе и о сдавшемся в плен последнем, постылом Бонапарте. На месте свергнутых императорских орлов теперь висели огромные венки бессмертников.
Луи подумал, что, пожалуй, не стоит рассказывать Эжену о встрече с Клэр, возможно, воспоминание о ней причинит ему боль. Откровенный с братом во всем, Эжен избегал разговоров на сердечные темы. Но вполне вероятно, что именно из-за красавицы Клэр он до сих пор так и не женился. Да, чужая, даже самая близкая тебе, душа все же — тайна!
Вечер был так странно тих, по-весеннему напоен запахами цветущих деревьев, прозрачно, синевато светел. Необычно молчала версальская артиллерия, еще вчера забрасывавшая Париж «бомбами Орсини», газовыми и нефтяными снарядами из сотен орудий; лишь кое-где на дальних окраинах шла редкая ружейная перестрелка. Хотелось верить, что и правда не так уж далека победа, возвращение к трудовой, обновленной Коммуной жизни.
И… вдруг на западе, в стороне Пасси в Грепель, зазвучал набат, словно медное сердце церковного колокола забилось в предсмертной судороге. Кто-то там, боясь опоздать, неумело и яростно звонил, призывая на помощь.
Толпа перед Тюильри, только что гудевшая сотнями голосов, мгновенно стихла, и все, как по команде, повернулись туда, откуда несся набатный звон. Все молчали, прислушиваясь, не говоря ни слона. Через четверть минуты тревожный зов первого колокола подхватил другой медный голос, третий, четвертый… Безусловно, произошло что-то непредвиденное и ужасное — колокола звали на помощь, предупреждали город о надвигающейся опасности.
Без лишних слов, только переглянувшись, гвардейцы с шаспо и карабинами бегом кинулись к воротам, ведущим на набережную Сены, перед ними расступались, давая дорогу. Заторопились и те, кто пришел на концерт без оружия, женщины заспешили по домам, — кошмар долгой голодной осады и войны снова встал над городом в полный рост.
И Луи, как мог быстро, с силой припадая на трость, двинулся по набережной, за парапетом которой латунно поблескивающая вода покачивала первые вечерние звезды. Путь до рю Лакруа неблизок, омнибусы в Париже давно не ходили, и Луи изрядно намучился, прежде чем, задыхаясь от усталости, вскарабкался по крутой лестнице в свою мастерскую. Эжена, конечно, дома не было. Да и можно ли ждать другого? Такой человек, как Эжгн Варлен, член Коммуны, не мог вернуться домой, когда над Парижем призывно грохочут сотни колоколов!
Луи зажег у порога газовый рожок и, не снимая кепи и куртки, устало присел к столу, на котором они с братом и обедали, и писали, и читали. Смутно виднелись у окон очертания переплетных станков, к которым они не садились уже месяца три.
Стол был завален грудами книг. Тут же стояли пустые оловянные тарелки и хлебница, где после их скудных трапез не оставалось и крошки хлеба.
«Значит, началось самое худшее, чего ждали наиболее дальновидные коммунары, — штурм Парижа», — подумал Луи. Еще вчера Эжен, забежав на минутку домой, чтобы передать Луи билет на концерт в Тюильри, с необычной для него встревоженяостыо пересказал брату содержание донесения генерала Коммуны Ярослава Домбровского о положении на западных окраинах города. Накануне этого праздничного для Луи дня, на рассвете, Домбровский прислал в Военную комиссию спешно и нервно написанное донесение:
«Несмотря на все мои усилия помешать им, неприятельские траншеи все приближаются. Часть крепостной стены от Пуэн-дю-Жур до Отей никем пе охраняется, так как посылаемые туда батальоны тотчас же возвращаются в Париж в полном расстройстве из-за непрерывного обстрела. Неприятель усиливает осадные работы у ворот Сен-Клу, в ста метрах от вала. Штурм города неминуем…»
Луи прислушался. Набатный гром сотнями медных голосов раскатывался над крышами Парижа, казалось, приближался, становился все оглушительнее, все страшнее. Значит, полкам версальских генералов удалось ворваться в город, и где-то там, на улицах Гренель, Пасся или Вожирара уже идут бои. И именно туда немедленно ринется самоотверженный, не дающий себе передышки Эжен… Ах, будь она миллион раз проклята, моя покалеченная нога, — она мешает мне быть рядом с ним!
Да, увы, броситься к месту сражений Луи не мог. И все же не оставляла надежда: вдруг Эжен забежит домой после заседания Коммуны, которое безусловно прервется или прервалось в этот час…
Сняв кепи и куртку, Луи прошел на кухню, взял в шкафчике остатки принесенной вчера еды — куски жилистой, крепко прожаренной конины, разделил пополам — на случай, если придет Эжен. С трудом прожевав свою порцию, подошел к окну и, прежде чем опустить жалюзи, долго смотрел на запад. Там за смутно различимыми куполами и шпилями занималось дрожащее зарево. Да, Домбровский оказался прав: штурм был неминуем, и он начался.
Со вздохом опустив шторку жалюзи, Луи, прихрамывая, прошел в их общую с Эженом спальню, достал из-под матраса своей постели толстую потрепанную тетрадь, — последние годы он украдкой вел дневник, записывал тудя и то интересное, что попадалось в прочитанных книгах, и свои мысли, и рассказы Эжена. Это скрашивало его унылое одиночество в долгие дни, когда Эжена не было дома, и учило точнее и ярче выражать мысли.
У него хранилось несколько огарков церковных свечей; заходя иногда во время богослужения в храмы, он, воровато озираясь, бессовестно обкрадывал Иисуса и мадонну, отнимая у них поставленные другими полусгоревшие свечи. Отношения у Луи с богом к этому времени были достаточно сложны, — под влиянием Эжена его наивная, простодушная вера таяла так же быстро, как тает на огне свечной воск. Трудно верить в благодать и милосердие всевышнего, наблюдая вражду и жестокость, царящие кругом.
Он зажег огарок, сел к столу, развернул тетрадь на последней исписанной странице. В дневник были вклеены вырезки из версальских газет, из афиш и приказов Коммуны, газетные заметки — все, что привлекало и останавливало внимание.
Долго молча, в суровой задумчивости, сидел он над чистой страничкой, потом взял перо и, обмакнув его в чернила, четко и решительно написал: «Если с Эженом что-нибудь случится, я без него не хочу и не могу жить!»
Потом, лежа без сна, напряженно прислушивался: не раздадутся ли под окнами шаги, не заскрипят ли ступеньки лестницы. И с каждым часом тревога все сильнее сжимала сердце…
Эжен Варлен не появился в их мансарде ни в эту первую ночь «кровавой майской недели», ни в последующие ее ночи и дни, не появился больше никогда…
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВТОРЖЕНИЯ
Да, мало кто в Париже спал в первую ночь вторжения, разве лишь совсем маленькие дети и выжившие из ума старики. А бодрствующие — одни вслушивались в медный рык колоколов с тоской и смятением, дрожа за жизнь близких, другие, при плотно задернутых шторах и опущенных жалюзи, ликовали, поднимая искрящиеся вином хрустальные бокалы. Этим, последним, ревущий над городом набат представлялся чудесной, божественной музыкой. Как все-таки по-разному отзывается в сердцах людей одно и то же событие!
Почти не спала в эту ночь и Клэр Деньер, лишь перед самым утром забылась тяжелым, не приносящим отдыха сном. Утром от орудийного и набатного грохота болела и разламывалась голова. А орудия били и били без передышки, версальцы яростно бомбили часть города, еще занятую коммунарами, куда не успели проникнуть войска Тьера.
Клэр с силой стиснула ладонями виски. Рукопашные бои, подумала она с надеждой, не так скоро приблизятся к Латинскому кварталу, идут в Пасси, Отей, Батиньоле или Гренель, ружейная стрельба на западе едва слышна.
И почти все время она думала об Эжене, хотя совсем недавно ей казалось, что сумела вычеркнуть неблагодарного мастера из своего сердца. Оказывается, нет, не так-то легко! Она, Клэр Денвер, была не только деловой и преуспевающей, но и просто женщиной, которой хотелось счастья, обожания, любви. После скоропостижной и безвременной кончины первого мужа у Клэр не было недостатка в поклонниках и претендентах на ее руку. Добивались взаимности весьма почтенные и состоятельные мужчины, даже титулованные, — казалось бы, ну что тебе, капризонце, нужно? Какого принца ждешь? Полагается, конечно, соблюсти установленные церковью и веками приличия, выдержать положенный траурный срок, а уж потом… А потом как снег на голову сваливается долгожданный «принц» в облике обыкновенного мастерового, переплетчика, крестьянского сына, не обладающий ни громкими званиями, ни наследством, бездомный, снимающий в рабочем предместье жалкую мансарду. Ну что тебе в нем?..
Мадам Депьер сердито смахнула невольную слезу, неспешно оделась, смутно различая на стенах картины и зеркала. Ну, довольно! Поздно и бесполезно оплакивать несостоявшуюся любовь. Все пройдет, все минет! Ты же когда-то думала, что не переживешь смерти мужа, что после похорон не сможешь добраться с Монпарнасского кладбища домой. А добралась, доехала. И вон каким розаном расцвела — самой трудно отвести от зеркала глаза.
Да, все так — и хороша, и богата, а простого переплетчика не смогла покорить!.. Хотя не совсем уж он прост! Не зря товарищи и какие-то их организации — профессиональные союзы и Интернационал — то и дело посылают его за границу, на выставки, конференции и конгрессы. И хромоногого Луи он сумел обучить не только ремеслу, но и всему тому, что знает сам. Даже стенографию и латынь изучали, брали частные уроки у некоего Жюля Андрие, тоже, кстати, члена нынешней Коммуны… Смешно! Ну зачем им, мастеровым, понадобилась латынь, язык ученых и мертвых?
А может, ты, Клэр, несправедлива к нему? Нельзя осуждать человека лишь за то, что он отказался стать твоим возлюбленным. Твоим мужем! Ты, вероятно, не все понимаешь в его характере, в его натуре. Вспомни, с каким восторгом он отзывался о Шарле Дедеклюзе. Этот Шарль тоже, видно, из той редкой породы, что и Эжеы. И по тюрьмам годами сидел, и на Чертовом острове в Кайенне побывал, и мучили его там, и пытали, а он от своего не отступился. Но, вспомни, больше всего Эжена восхищает в Делеклюзе то, что тот отказался от личного счастья, от любви, от семьи, лишь бы ничто не мешало ему бороться за их выдуманную свободу для всех. Странные, одержимые какие-то! Ну зачем им нужна свобода для тысяч голодных нищих, когда сами могли бы стать счастливы рядом с любимыми женщинами с детьми? Не понимаю!
Женившись на тебе, Эжен стал бы владельцем одной из самых преуспевающих переплетных фирм Парижа, дело-то поставлено на широкую ногу и на полном ходу. Ведь именно мастерской Деньер поручали самые крупные и дорогие заказы, здесь бывали и Жорж Санд, и братья Гонкур, и оба Дюма, отец и сын, и другие знаменитости. При его энергии и таланте Эжен здорово расширил бы дела фирмы. Как славно жили бы, растили детей, на бархатный сезон уезжали в Ниццу, на Лазурный берег, купили бы роскошную яхту и плавали по Средиземному морю, наслаждаясь всем, что может дать жизнь. А он, чудак, сбежал!
Но и ты, Клэр, не слепая и не дурочка, прекрасно видела, что Эжен неравнодушен к тебе, его глаза нередко выражали подлинное, глубокое чувство. И когда он заявил, что увольняется, тебя это так поразило и оскорбило, что ты сразу выгнала его. А потом… сколько же ночей проплакала, прячась ото всех, почти не спускаясь в мастерскую? К счастью, дело от ухода Эжена почти не пострадало: Делакур — знающий и толковый мастер.
И лишь много позже догадалась об истинной причине. Вспомнила его восхищение Шарлем Делеклюзом, узнала через Софи: не было и нет у Эжена никакой другой женщины… Господи, что может сделать даже с умным человеком вздорная идея, когда овладеет им! В таких людях, как Эжен, вероятно, заложено нечто от Христа, готовность на подвиг и муки. Вот, дескать, людское стадо, распните меня ради вашего завтрашнего благоденствия — и я буду счастлив! Какая глупость, какой вздор! Все — наносное, противоестественное, навеянное романтическим воображением, республиканской литературой, И главное-то, в этом совершенно убеждена: сколько бы иисусов ни распяли, ничто в повадках людей не изменится, сильные всегда будут угнетать слабых, а те, подыхая от усталости и голода, будут иногда восставать и устраивать что-нибудь вроде нынешней Коммуны. А потом все снова вернется, потечет но выбитому веками руслу!
Клэр подошла к бюро, достала из ридикюля платочек, вытерла слезы и, стоя перед зеркалом, припудрила покрасневшие веки. Постояла у окна и, чуть сдвинув шторку, долго смотрела на улицу.
Шагах в ста от ее дома человек пятьдесят воздвигали баррикаду. Одни катили от дверей винного погребка «Зеленая ящерица» пустые винные и пивные бочки, другие расшатывали и пытались вырвать из земли чугунный фонарный столб. Из баррикады, возведенной пока лишь на половину человеческого роста, торчали бревна, оглобли поваленной на бок фуры, обломки мебели. Ватага мальчишек с веселыми криками выламывала из мостовой булыжники и, не в силах поднять, перекатывала их по тротуару в сторону дикого, уродующего улицу сооружения… Что же, значит, бои будут и здесь, в такой близости от ее дома? Но это ужасно!.. А вон двое парней в синих блузах, вскарабкавшись на распахнутую дверь, стараются сорвать вывеску с антикварного магазина сбежавшего в Версаль мосье Брошара… Господи, ну куда же подевалась негодница Софи?! Нужно приказать ей, чтобы заперла двери на все засовы, мало ли что может произойти!
В эту минуту внизу громко хлопнула входная дверь, и по ступенькам радостно и быстро затопотали каблучки «негодницы». У нее были ключи от парадного входа, — не спускаться же Клэр самой в переднюю на каждый стук!
Клэр собиралась немедленно отчитать непоседу Софа за самовольную отлучку, но та не дала хозяйке сказать и слова. С победоносным видом встав на пороге, Софа прокричала с сияющими глазами:
— Мадам! Наши порвались в город через ворота Сен-Клу! За ночь, говорят, их проникло за валы и ворога более ста тысяч! Bойна кончается, мадам! Я не успела ничего купить к обеду, с рынка все разбежались, но зато я принесла вам неплохие подарки!
И. заглянув в пустую продуктовую корзинку и что-то нашарив там, Софи с ликующим видом протянула хозяйке дома две афишки на серой бумаге.
— Читайте вслух, мадам! Я не особенно грамотна, я могла не все в этих бумажках понять! Ну читайте же!
Софи позволяла себе слишком много, но Клэр и самой не терпелось узнать, что напечатано к листовках Коммуны, что ждет Париж.
И прочитала вслух:
— «Муниципалитеты округов должны без перерыва бить во все церковные колокола… Пусть все мостовью будут разрыты, во-первых, потому, что неприятельские снаряды менее опасны, если падают прямо на землю; во-вторых, потому, что булыжник мостовой может оказаться для нас новым оружием борьбы…»
Клэр невольно кинула взгляд на окно. Значит, Коммуне приходится так туго, что даже камни мостовой она готова считать оружием!
Со смешанным чувством радости и тревоги Клэр положила на бюро неряшливо отпечатанную листовку.
— Ну и что, Софи?
— Читайте вторую, мадам. А потом…
И с тем же двойственным чувством Клэр развернула другой измятый и пахнущий клейстером листочек.
— «Граждане! Довольно милитаризма, долой генеральные штабы в расшитых золотом и галунами мундирах! Место народу, бойцам с обнаженными руками! Час революционной войны пробил! Народ ничего не смыслит в ученых маневрах, но, когда у него в руках оружье, а под ногами камни мостовой, он не боится всех стратегов монархической школы, вместе взятых…»
Оторвав глаза от прокламации, Клэр вопросительпо посмотрела на служанку, та стояла у порога, прижимая к переднику кошелку и загадочно улыбаясь.
— Но, Софи… Здесь ничего нового!
— Читайте, читайте, мадам. А затем… у меня припасен для вас настоящий сюрприз!
И Клэр принялась читать дальше, уже про себя.
«К оружию, граждане! К оружию! Дело идет, как вы знаете, о том, чтобы победить или попасть в руки безжалостных реакционеров и клерикалов Версаля, этих негодяев, которые заведомо предали Францию пруссакам, а теперь заставляют нас расплачиваться за их измену!.. Если вы хотите, чтобы благородная кровь, которая льется, как вода, в течение шести недель, не пропала даром; если вы хотите жить свободными в свободной и равноправной Франции; если вы хотите избавить ваших детей от страданий и горя, которые вы сами испытывали всю жизнь, — поднимитесь, как один человек!»
Не дочитав, Клэр мельком взглянула на подпись: «Делеклюз». Ага, тот самый фанатик, который сбил с пути, оторвал от нее своими бреднями Эжена! Значит, нелегко ему сейчас приходится? Ну и поделом!.. И в невольном порыве гнева Клэр смяла и швырнула листовку на пол!
— Зачем мне это читать, Софи? — спросила она сердито. — Я читаю подобные воззвания третий месяц подряд!
— А вот зачем, мадам! — торжествующе улыбнулась Софи. — Разве не слышите, что сегодня они запели другими голосами, а?!
Всматриваясь в цветущее, играющее ямочками лицо служанки, Клэр впервые задала себе вопрос: а почему же она, Софи, не с ними, не с коммунарами? Ведь тоже выбилась из самых низов, дочь замученной работой прачки Сент-Антуанского предместья, почему она так радуется их поражению? Ах, да! За ней весьма усиленно ухаживает фатоватый сынок старичка — владельца «Зеленой ящерицы», Софи, по всей вероятности, надеется выскочить замуж за этого субъекта!
Сердито глянув на служанку, Клэр собиралась пробрать ее за самовольную отлучку в такое беспокойное время, но Софи не дала хозяйке заговорить. Вытащив из кошелки, подняла над кудрявой головкой свеженькую, на сей раз празднично-розовую бумажку и портрет какого-то генерала в роскошных золотых эполетах, со множеством сверкающих звезд и крестов на гордо выпяченной груди.
— А вот, мадам, и самый важный сюрприз! Я была там! — Тряхнув кудряшками, Софи кивнула на запад, откуда доносилась нестихающая стрельба. — Наших там тысячи и тысячи! Баррикады рушатся одна за другой!
— Ты с ума сошла! Тебя же могли убить!
— О нет, мадам! Ну разве такую молодую и красивую кто-нибудь захочет убить?!
Без особого доверия к легкомысленной горничной Клэр взяла розовую бумажку. Крупными, кричащими строками там значилось:
«Ворота Сен-Клу рухнули под огнем нашей артиллерии! Генерал Дуэ устремился в прорыв и вошел в Париж во главе своих доблестных войск! Корпуса генералов Ладмиро и Кленшапа готовятся последовать за ним!
Версаль. 21 мая 1871 года.
7 ч. 30 м. вечера. Адольф Тьер».
— Ну что, мадам?! — захлебываясь, захохотала горничная. — Теперь-то, надеюсь, вы верите глупышке Софи?! Сознайтесь, вы всегда считали меня ветреницей и недалекой, да? Наши идут, наши! Никакая сила не может их остановить! К вечеру будут здесь! И Софи, мадам, скоро попросит у вас расчет и станет хозяйкой в своем собственном доме. Ах, я так мечтаю…
Не слушая болтовни служанки, бессильно опустив руки, Клэр молча отошла к бюро. Да, прежняя жизнь возвращается, как она и предвидела, в свое русло. Снова закипит работа в мастерской, снова можно будет ходить по вечерам в Жимназ и Амбигю-Комик, Варьете и Буфф-Паризьен, обедать у Бребана, у Маньи… Да, но… ведь это смертный приговор Эжену!
Софи недоуменно смотрела на хозяйку, не понимая, почему та не разделяет ее радости. А Клэр, резко повернувшись, почти крикнула:
— Сейчас они где?
— Кто, мадам?
Клэр потрясла розовой листовкой и портретом Дуэ.
— Эти!
— Они занимают квартал за кварталом, — пожала плечами Софи. — Там говорят, что их войско теперь входит и в ворота Нейи, а по левому берегу дошли почти до Марсова поля, мадам!
Отшвырнув листовку и генеральский портрет, словно они жгли ей руки, Клэр бросилась к двери, сбежала по лестнице, сорвала с вешалки жакетку и шляпу.
— Куда вы, мадам? — в замешательстве спросила спустившаяся следом служанка.
— Жди меня дома! — приказала Клэр. — Возможно, успею!
Позже и сама себе не могла объяснить, как решилась на такой безрассудный шаг. Да ведь и не было ни малейшей надежды, что застанет Эжена в этот критический час дома. И все же бежала, задыхаясь и что-то бессвязно бормоча. Никто, однако, не обращал на нее внимания — в те дни в Париже то и дело встречались потрясенные горем или болью люди.
На улицах Латинского квартала еще не началась стрельба, лишь спешно нагромождались баррикады, да на запад, в сторону Гренель и Вожирара спешили, сжимая карабины и шаспо, отряды, видимо посланные в подкрепление сражающимся.
Клэр задыхалась от бега, пытаясь внушить себе надежду, что застанет Эжена на рю Лакруа. Возможно, удастся спасти, остановить на пороге смертельной опасности предавшего ее безумца! Хотя нет, трудно поверить, он не из тех, кто прячется от опасности, спасая собственную шкуру!
И все же бежала, толкая людей, натыкаясь на встречных.
По Сене, свинцово-серой и грязной, окутывая мосты черным дымом, деловито пыхтя, спешили вниз по течению обшарпанные, замызганные канонерки с красными флагами на мачтах, — матросы-федераты, видно, надеялись подоспеть к месту вторжения врагов и задержать их. Что ж, может, и так, Софи могла и преувеличить, принять желаемое за действительное.
Но, конечно, Эжена Клэр не застала. Едва дыша от усталости и волнения, хватаясь за перила, поднялась в мастерскую Варленов, — о ней извещала висевшая у входа вывеска. Дверь распахнулась навстречу, словно только Клэр там и ждали. На пороге — бледный, растрепанный Луи.
— Я думал — Эжен! — хмуро буркнул он, не поздоровавшись. И, опираясь на трость, прохромал по мастерской, остановился у стола и принялся затискивать в холщовую суму какие-то бумаги, письма, тетради.
Клэр постояла на пороге, обводя мастерскую и видимую в открытую дверь спальню братьев разочарованным взглядом. Значит, Эжена нет!
С Луи Клэр познакомилась года четыре назад, Эжен их и познакомил. Тогда она уже знала через Софи и Делакура, что никакой другой женщины у Эжена не было и нет, что он просто сбежал от нее, Клэр, а может быть, и от самого себя. И — все простила! И однажды, узнав о своеобразном «отлучении», которое объявили разъяренные владельцы типографий Варлену после двух организованных им победных забастовок переплетчиков, когда у Луи и Эжена совсем не стало работы, Клэр пересылала им кое-какие из своих заказов. Раздобыв адрес Варленов у Делакура, она послала Луи записку, и с тех пор он нередко бывал у нее, забирая пачки книжных оттисков для переплета и принося исполненную работу. А Эжен не отказывался, он не был злопамятен, да, кроме того, необходимо было иметь работу для себя и Луи. По совести говоря, ему оказалось не так просто вычеркнуть из своей жизни Клэр Деньер! И все же за эти годы он ни разу не зашел к бывшей хозяйке, лишь изредка вместе с безукоризненно выполненной работой передавал с Луи письмецо с выражением признательности.
…Сейчас, оглядев мастерскую, Деньер откинула с лица вуаль, шагнула в глубину мансарды.
— Где брат? — крикнула опа Луи. — Где Эжен? Вы знаете, что версальцы ворвались в Париж?!
— Да!
— Они наступают! Ни вам, ни этому безумцу нельзя оставаться здесь! — командовала Деньер, словно имела право распоряжаться в чужом доме. — Если они явятся сюда, вас обоих убьют!
— Я знаю.
— Так чего же ждете, несмышленый вы мальчик?
— Эжена, мадам…
— Боже мой, какое слабоумие! Забирайте бумаги, которые важны или могут скомпрометировать Эжена, и идемте со мной!
— Но… куда?
— Ко мне! У меля безопасно, никто не посмеет ворваться! Напишите записку Эжену, пусть немедленно приходит! Фамилию мою не упоминайте, просто — Клэр! И отдайте соседям, какому-нибудь надежному, верному человеку. Поняли? Я попытаюсь спасти вас!
— Я боюсь, мадам, он не придет сюда больше, — буркнул Луи. — Он будет сражаться до последнего патрона.
— Ничего вы не понимаете, мальчишка! — запальчиво крикнула Деньер. — Что у него в кармане: патронный завод с улицы Рапп? Патроны когда-нибудь неминуемо кончатся! Тысячи людей губите сумасбродными, несбыточными идеями… Ему же наверняка необходимо уберечь какие-то документы и письма! Ведь он хранил бумаги здесь, дома?
Луи посмотрел на Клэр исподлобья, с выражением попавшего в западню зверька. Но все же поверил ее доброжелательности и с явным усилием шепнул:
— Да, мадам. У нас был тайничок, все лежало там!
— Уничтожить сейчас вы ничего не успеете! Быстро собирайте самое важное. Да шевелитесь же, ради бога! Слышите: стреляют все ближе!
Луи снова принялся затискивать в холщовую сумку тетради, письма, бумаги, а Деньер медленным и задумчивым взглядом обводила небогатое жилище братьев. Вот, значит, как он жил последние годы! Вон в спальном закутке две узенькие койки под дешевыми, потертыми одеялами, вон полуотодвинутый от стены набитый книгами шкаф, за ним, в кирпичной степе, углубление. Ага, это, видимо, и есть их тайник… Да, небогато жил твой «принц», Клэр, не пожелавший променять свой жалкий угол на твои роскошные апартаменты.
— Поторапливайтесь, Луи! Каждая минута может стоить нам жизни!
— Пожалуй, я готов, мадам…
Но ему, вероятно, жалко было покидать обжитой, ставший родным угол, и он не был уверен, что нужно уходить из дома, куда вот-вот мог вернуться брат. Он с тоской оглядел стены, переплетные станки, кровати, нагромождения книг на подоконниках и на полу.
— Иу, что же вы застыли, как статуя?!
— Вы знаете, мадам Деньер…
— Ничего не желаю знать! — не сдерживая гнева, перебила Клэр. — Скорее! Пишите записку! Пусть глупый упрямец хоть на сей раз перешагнет через свои идеи и идиотское самолюбие и немедленно является ко мне. Пишите: к Клэр! Иначе, поймите, смешной вы мальчик, вы погубите его!
Грохот ружейной стрельбы и характерный железный дробный звук митральез становился слышнее. Вздохнув, Луи рукавом вытер потный лоб.
— Вы, наверное, правы, мадам Деньер… Но позвольте, я возьму для него смену белья, он давно не переодевался…
— У меня найдется!
На секунду Клэр почудилось, что во взгляде Луи — а может, так оно и было — мелькнула неприязнь.
— Он не станет надевать чужое, мадам.
— О, до чего противны вы оба со своим крестьянским упрямством! Прямо какие-то дикие корсиканцы!
Через два часа Луи водворился в доме мадам Деньер. Правда, сославшись на хромоту, отказался подняться в жилые комнаты, в модно обставленные покои хозяйки, а оглядевшись, попросил разрешения ночевать в каморке под лестницей рядом со входом в мастерскую. Когда-то, до появления в доме Софи, сидя в этой конуре, консьержка оберегала дом от вторжения посторонних. И никакие доводы Клэр не заставили Луи подчиниться, — в эту каморку без окон, выполняя распоряжение хозяйки, чуть приметно улыбаясь, Софи принесла Луи поесть.
Чтобы не смущать оголодавшего, отощавшего парня, Клэр поднялась к себе, долго стояла у окна, глядя на суету у баррикады, и спустилась лишь через четверть часа. За это время Луи успел уничтожить все принесенное Софи, затолкал под скрипучую кровать консьержки свою холщовую суму, старательно ощупав ее перед тем, — тетради дневника, связка бумаг, писем и блокнотов Эжена. И успокоился: да, кажется, собрал все, чем дорожил Эжен.
Услышал на лестнице шаги. Вошла Клэр.
— Вы куда собрались, безумный?! Разве не слышите, что творится на улицах?!
— Слышу. Но я пойду искать его, мадам Деньер. Он где-то на баррикадах, не иначе. Я калека, меня не тронут. Кому я нужен?!
Клэр сделала вид, что не услышала горькой иронии последних слов, но подумала: а ведь, пожалуй, он прав! Вдруг ему удастся найти Эжена и привести сюда?
— Ну что ж, Луи, — вздохнула она. — Идите. И да хранит вас…
Луи перебил ее, криво усмехаясь:
— О, конечно, мадам! Провидение и всевышний старательно оберегают нас, нищих!
Клэр снова как будто не заметила насмешки.
— Если отыщете его, Луи, всеми силами тащите сюда! В любое время… Три двойных удара молотком в дверь — и вам сразу откроют.
— Благодарю, мадам.
Луи ушел, не подозревая, что спустя пять минут после его ухода Клэр в каморке консьержки вытащит из-под кровати его суму и примется перебирать содержимое: странички, исписанные летящим почерком Эжена, его памятпые книжки и блокноты, тетради и дневники самого Луи…
ЭЖЕН ВАРЛЕН. НА ПЛОЩАДИ БЛАНШ
…Рассвет казался совсем незаметным: лучи солнца были бессильны пробиться сквозь пелену окутавшего Париж дыма, да и свет пылающих зданий и целых улиц был ярче утреннего солнца. Ветряк на Монмартре давно перестал размахивать горящими крыльями, они обвалились, обуглившийся каркас мельницы почти неразличим. Но огненная река охваченной огнем Риволи все еще рассекает город, и пламя все еще кипит и клубится над каменной, недавно величественной и помпезной громадиной Тюильри.
Тень Делакура маячила впереди Варлена шагах в пятидесяти, старый переплетчик изредка поворачивался и ободряюще помахивал рукой. Эжен машинально отвечал ему и шагал, опираясь на трость, опустив на самые глаза чужую, видавшую виды шляпу. И снова непомерная усталость овладевала им, и снова обрывки мыслей и воспоминаний проносились в памяти, перебивая друг друга, теснясь и корчась, словно береста в пламени.
…Как все-таки поразительно много вместили последние два месяца жизни! Разве можно эабыть или даже просто описать словами восторженное чувство, охватившее Эжена, когда представители трех округов города, споря за честь быть первыми, опоясывали его новеньким, ярко-пурпурным, с золотыми кистями шарфом члена Коммуны… О нет, то не было удовлетворением честолюбца, добившегося власти, не было чувством личной гордости. Радость общей победы! И — вера, слепящая, как солнце, вера в счастье завтрашнего дня, в торжество справедливости и добра…
А потом — напряженные, почти бессонные будни Коммуны! Ежедневная, ежечасная борьба с голодом и нищетой, душившими рабочий Париж. Бесконечные заботы о хлебе для тысяч и тысяч… Подумать только: более восьми месяцев длилась сначала прусская, а затем версальская осада! Мужчин угнали на войну, и они либо погибли на полях сражений, либо оказались в плену… А их семьи, семьи каменщиков и бронзовщиков, кузнецов и ткачей, грузчиков и мелких ремесленников, — что им оставалась делать?! Несчастные женщины тащили в ломбарды все, что там могли принять в заклад за несколько су, начиная с дешевой кухонной утвари и инструментов угнанного на фронт мужа и кончая самым дорогим: подвенечным платьем и обручальным кольцом, детской колыбелью и военными дедовскими медалями, заслуженными еще во времена наполеоновских войн… Десятки тысяч женщин и детей остались без крова, солдаткам и вдовам нечем стало платить за их жалкие мансарды и подвалы, домовладельцы с помощью полиции просто вышвыривали нищенский скарб жильцов на улицы, под снег и дождь…
Да, тяжелое досталось Коммуне наследство от сбежавшей в Версаль своры Тьера! И все эти голодные и обездоленные с первого же дня провозглашения Коммуны шли к ней за помощью, они буквально осаждали Ратушу и мэрии округов, — ведь Коммуна-то и была единственной их надеждой и защитой! И нельзя было допустить, чтобы хоть одна из этих женщин, окруженная выводком таких же тощих, с голодными и жадными глазищами детей, ушла из Коммуны с пустыми руками!
А денег у Коммуны не было. Возглавлявшие финансовую комиссию Журд и Варлен с трудом добились получения во Французском банке двух миллионов франков, и то лишь тогда, когда Журд пригрозил военной силой… Этих двух миллионов едва хватило на уплату жалованья национальным гвардейцам, получавшим свои жалкие тридцать су в день… А в банках наличных денег и драгоценностей вместе с акциями всевозможных компаний и обществ хранилось на миллиарды франков… Глупцы, глупцы! Они считали, что их святая Коммуна не может ни в чем походить на свергнутую ими Империю, не имеет морального права на насилие, на решительную реквизицию награбленных буржуа богатств… Они лишь заняли брошенные бежавшими в Версаль фабрики и мастерские да выдрали у банка те два миллиона!..
А! Зачем он сейчас обо всем этом думает? Теперь все в прошлом и, видимо, у нее ничего изменить, исправить нельзя!..
Ага, как будто мы уже добрели до площади Бланш, вон в полутьме рассвета краснеет знаменитая Мулен Руж, правда, ее нелегко разглядеть на багровом фоне пылающих зарев. Горит, горит Париж, половина города охвачена пламенем.
Постой, постой! Это, конечно, тебе Делакур подает какие-то знаки? Ах, вот в чем дело! Он показывает, что следует перейти на другую сторону улицы; у трактира «Три толстяка», по всей вероятности, появляться небезопасно. Ну конечно! Даже отсюда, издалека, слышны пьяные голоса. Победители завершили кровавый дебош, и угодливый трактирщик, спеша выслужиться, залепил окна своего заведения портретами достославных генералов. Отсюда не разглядеть самодовольных усатых морд, но, конечно, это они — «герои» Резонвиля, Седана и Меца! Винуа, Галифе, Сиссе! У всех мундиры в золоте крестов и звезд. Великие благодетели Франции! Винуа еще при так называемом «короле-гражданине» Луи-Филиппе свирепствовал в Ламбеосе, которую не зря же прозвали Алжирской Кайенной, потом возглавлял позорную Мексиканскую экспедицию 1862 года, где помогал свергнуть республиканское правительство Бенито Хуареса. У всех генералов Баденге подобных «заслуг» немало, они изрядно потрудились и в сорок восьмом, и в пятьдесят первом, — руки у всех по локоть в крови!..
Да, здесь улицу лучше перейти. Но я все же обману, обхитрю тебя, старина Делакур, я не желаю, чтобы ты погибал из-за меня. Твои синички будут с нетерпением ждать отца в Нейи, у бабушки и дедушки, а он обязательно кинется защищать меня в случае опасности и погибнет.
Теперь, Эжен, следует выбрать переулочек поуютней и потемнее и нырнуть туда, переждать в какой-нибудь подворотне. Дорогой Альфонс, я верю в твое чувство товарищества, в нашу многолетнюю дружбу. Но тебе, милый друг, не в чем упрекать себя: ты сделал для меня все, что мог…
Выискивая глазами укромное местечко, где бы удалось спрятаться от Делакура, Эжен бормотал: «Все, что мог, что мог…» Подожди, о чем же это я думал только что? Ах, о буднях Коммуны… Да, нам удалось помочь многим. Из тех же двух миллионов франков, полученных тогда в банке, мы внесли в ломбарды залог за принятые туда вещи бедняков, особым декретом мы отсрочили квартирную плату и задолженность по ней для неимущих, во всех округах мы организовали ежедневную выдачу хлеба и бесплатного супа. Коммуна усыновила детей погибших федератов… Но какие же это были капли в захлестнувшем Париж океане нужды и нищеты…
Погоди, Эжен, вон, кажется, совсем неподалеку, достаточно тесная подворотня, где можно спрятаться от опеки упрямца Делакура…
ЧУЖИЕ ТАЙНЫ
Заслышав вверху голосок Софи, напевавшей когда-то модную песенку, Клэр запихнула сумку Луи под кровать. Совершенно ни к чему, чтобы болтливая служанка видела, как ее хозяйка роется в чужих вещах. Тем более, что по-женски проницательная Софи догадывается об истинных чувствах владелицы фирмы к работавшему у нее старшему мастеру.
Плотно прикрыв дверь в каморку, Клэр поднялась по лестнице. Софи, распевая, что-то жарила на кухне. Клэр мимоходом заглянула к ней:
— Позавтракаем, Софи, и будь добра, принеси свежие газеты и афиши. Купи и версальские, и газеты Коммуны. Необходимо знать все подробности.
— О, разумеется, мадам!
Девушке и самой не терпелось поскорее отправиться на улицу. Как всякое юное существо, она была непоколебимо убеждена в собственном бессмертии и не боялась ни снарядов, рушивших здания, ни шальных пуль, убивавших других. Тронуть, задержать Софи не посмели бы ни коммунары, ни версальцы: ее внешний облик не давал оснований для подозрений. А если и прицеится какой-нибудь слишком уж суровый вояка, у нее есть великолепное оружие: пленительная, неотразимая улыбка и набор милых, игривых шуточек, способных растопить любое мужское сердце.
Клэр мимоходом распорядилась:
— Но прежде чем уйти, Софи, застели кровать под лестницей для Луи. Вытри там пыль, подмети, смахни по углам отвратительную паутину! Висит, словно рыбачьи сети.
— Он останется жить у нас? — чуть иронически полюбопытствовала Софи. — Он, кажется…
— Да! — строго оборвала Клэр. — Он — первоклассный переплетчик, а их дом разрушила бомба. Если и правда, что проклятая война кончается, нужно снова налаживать работу мастерской.
— О да, мадам! При нынешней дороговизне… Кстати, мадам, франк до того безбожно упал в цене, что и мой труд…
— Ты намекаешь на прибавку жалованья?
— Давно следовало бы… мадам!
— Тебе, значит, мало, что ты ешь и пьешь за мой счет? — не удержалась от упрека Клэр. — Нy хорошо… Я подумаю.
Позавтракав, дождавшись ухода служанки, Клэр снова спустилась в каморку и принялась тщательно перебирать то, что брат Эжена счел необходимым уберечь от обыска или уничтожения огнем пожара.
Сначала спасенные Луи бумаги Клэр просматривала в каморке, но здесь отвратительно пахло мышами и пылью, а две свечи, зажженные в подсвечнике, принесенном сверху, давали недостаточно света. Убежденная, что Луи не вернется из своих скитаний до ночи, а любопытная егоза Софи, воспользовавшись разрешением, обежит чуть ли не половину Парижа, Клэр, захватив сумку Луи, поднялась к себе.
Одну за другой перебирала она исписанные летящим почерком Варлена страницы, протоколы заседаний, черновики резолюций и газетных статей, списки и письма.
И бесполезно было бы скрывать правду, прежде всего она отбирала в бумажном нагромождении листочки, исписанные почерком женщин. Наметанный глаз легко отличает женский почерк от мужского, и вскоре перед Клэр лежали три отложенные ею записки, подписанные неизвестным ей именем: «Натали Лемель». Кто она, откуда взялась, что значит для Эжена?
С жадностью и нетерпением Клэр принялась читать бисерно нанизанные строчки. Все они начинались обращением: «Дорогой Эжен!», но дальше не следовало ни признаний в любви, ни клятв верности, ни упреков ревности. Разговор шел преимущественно о рабочих столовых, именовавшихся «Мармит» — «Котел», прилагались счета на оптовые закупки продуктов, отчеты о кассовой выручке, об отпуске обедов в кредит больным и безработным переплетчикам. Одним словом — скука неимоверная!
Протоколы заседаний и газетные статьи Эжена также не давали повода ни к малейшим подозрениям, хотя в них кое-где и мелькали женские имена: Андре Лео, Луиза Мишель, Бланш Лефевр, Мальвина Пулен, — в тексте не содержалось и намека на какие-либо любовные отношения. Привлекло внимание Клэр и письмо, адресованное Эжену и некоему Лео Франкелю, содержащее советы о ведении борьбы с Версалем, о необходимости самых решительных действий и осторожности. Она прочитала несколько строк: «Не следовало ли спрятать в безопасном месте документы, компрометирующие версальских каналий? Подобная мера предосторожности никогда не помешала бы».
Подписано письмо было незнакомым Клэр именем Карл Маркс и не представляло для нее никакого интереса. Затем она просмотрела немало страниц, заполненных именами и фамилиями, с указанием профессий и места работы, — видно, списки организации, к которой имел отношение Эжен. Они тоже, само собой, Клэр мало интересовали, хотя там и значились фамилии нескольких мастеров, работавших в ее фирме. Бог с ними!
Остались непросмотренными лишь с десяток толстых, мелко исписанных тетрадей, почерк явно не Эжена, в них вклеены вырезки из газетных статей, афиш, листовок, воззваний. Заглянув в две тетради, Клэр поняла что это — дневник Луи, и подумала, что вряд ли хромоногий юнец, крестьянский парнишка из Вуазена, способен написать что-либо интересное. Она собиралась засунуть все просмотренное ею обратно в холщовую сумку, но тут в одной из тетрадей она прочла строки, подчеркнутые красным карандашом:
«Видишь за рекой эту гору, уходящую вершиной в облака? — говорили индийские мудрецы. — Представь, что она состоит из чистого алмаза. Раз в тысячу лет — эти слова подчеркнуты дважды — на ее вершину прилетает ворон и точит о нее свои когти и клюв. Так вот, когда клювом и когтями ворона вся гора будет источена до основания, это и будет секунда вечности».
«Ого! — подумала Клэр, — а мальчик-то, оказывается, не так прост!»
Она придвинула поближе к себе развернутую тетрадь.
«Страсти — это ветры, надувающие паруса корабля, иногда они его топят, но без них он не мог бы никуда плыть».
«Видеть несправедливость и молчать — значит самому участвовать в ней».
«Любовь одна, но подделок под нее тысячи».
И словно каким-то печальным, грустным ветром пахнуло на Клэр Деньер от этих поразивших и чем-то как бы поразивших ее строк. Вероятно, они принадлежат кому-то из великих писателей. В книгах, прочитанных раньше, они не попадались ей, хотя по настоянию отца, преуспевающего коммерсанта, она посещала Коллеж де Франс. Правда, следует признаться, что науки не очень-то влекли к себе молодую и красивую Клэр, — поклонниками хоть Сену пруди! Она жаждала для себя совсем другой жизни. Но противиться отцу не осмеливалась.
На посещении дочерью лекций он настаивал, откровенно говоря, лишь из тщеславия: его, выбившегося из мелких торговцев, томило страстное стремление подняться в так называемый высший свет, когда-нибудь нацепить на лацкан сюртука красную ленточку ордена Почетного легиона. И красавица дочь была тем волшебным ключиком, который мог бы распахнуть перед ним заветную дверь: «Сезам, сезам, отворись!» Но преждевременная смерть не дала сбыться честолюбивым мечтам и надеждам преуспевающего коммерсанта, а Клэр, оставив посещение лекций, вышла замуж не особенно расчетливо, но следуя искреннему чувству. А потом…
Клэр задумчиво перелистывала тетрадь Луи. В ней — аккуратно наклеенные вырезки и афиши Коммуны:
«Французская республика. Свобода — Равенство — Братство — Справедливость…
Смерть ворам!
Всякое лицо, застигнутое на месте кражи, будет немедленно расстреляно!»
А ниже другая:
«Статья единственная. Комиссары полиции и национальные гвардейцы должны арестовывать и подвергать заключению всех женщин подозрительного поведения, занимающихся своим позорным ремеслом на улицах города, равно как и пьяных, которые в своей пагубной страсти забывают и уважение к самим себе и свой гражданский долг».
И среди подписей — имя ненавистного Клэр Делеклюза.
Нельзя, однако, утверждать, что угрызения совести совершенно не беспокоили мадам Деньер… «Я словно пытаюсь подглядывать за чужой жизнью в замочную скважину, проникнуть в чьи-то тайны, — с виноватой усмешкои укоряла она себя. — Но мне так хочется понять Эжена, попытаться помочь ему, если ему еще можно помочь, если он еще жив…»
Итак, тетрадка первая, лист первый.
Год 1865. Сентябрь, 23
«Я долго не решался начать эти записи. С самого раннего детства у меня к книгам было чувство труднообъяснимого, почти суеверного преклонения, как к чуду. И люди, которые где-то там, в неведомой мне дали, пишут, сочиняют книги, представлялись мне существами необыкновенными, полубогами, наделенными мистической, сверхъестественной силой. Я никогда и мысли не допускал, что когда-либо осмелюсь взять в руки вот это перо и обмакнуть его в чернила, чтобы написать ну пусть не настоящую книгу, а хотя бы просто дневник.
Если бы не Эжен, всю жизнь я прожил бы так, как жили мои деды и прадеды. Рос бы, мужал и старел в своем милом Вуазене, даже не представляя себе, как необъятен и многообразен мир за горизонтами моего родного селения, сколько на земле и больших и маленьких чудес, сколько обмана и подлости, с одной стороны, а с другой — истинно высокого и прекрасного! Добросовестно и тщательно, как и мои предки, возделывал бы я свой крошечный виноградник, радовался урожаям и сетовал на непогоду, женился бы на Катрин, нарожала бы она мне детишек, ходил бы я с ними и с женой по праздникам и воскресным дням к мессе, слушал проповеди краснощекого кюре, давил в корытах и бочках виноград на вино, пил его вдосталь, а о Париже думал бы, как и все в Вуазене: дескать, раззолоченный и грязный вертеп, притон разгула и разврата. Как случайно и зыбко все в человеческой жизни, как неожиданно может она вдруг повернуться! Хочешь не хочешь, а иногда даже приходится поверить в судьбу, в предопределение, в некий перст божий!
Если когда-нибудь мои записки попадут в чужие, незнакомые руки, читатель наверняка спросит себя с иронической усмешкой: а что же все-таки побудило хромоногого крестьянского парня взяться за перо, как он осмелился приблизиться к тайникам творчества, из коих дозволено черпать лишь избранным и великим?
У меня два ответа.
За годы, проведенные в Париже, я убедился, что мой старший брат — человек необыкновенный, редкий, таких на земле немного. Эжен талантлив, одарен сверх меры и в то же время удивительно скромен, настойчив и беспредельно трудолюбив. Но самое главное — поразительно добр! Он делает все, что может, для обездоленных и обиженных жизнью товарищей, ничего не ожидая и не требуя взамен. Всякая чужая беда ему так же больна, как его собственная. В поведении Эжена нет ни капельки притворства, позерства или фальши, он все делает искренно, от чистого сердца. Мне кажется, что когда-то Эжен выдвинется, прославится, станет знаменитым, и тогда каждая строка, написанная мной о нем, будет и дорогой и интересной.
А вторая причина, побудившая меня прикоснуться к страницам этой тетради, такова. Здесь, в мастерской Эжена, я повидал за эти годы столько самых разных людей. Сюда приходили не только наши товарищи по ремеслу — переплетчики, приходили рабочие всевозможных профессий, посещали нас и журналисты, и писатели, и историки. Мне приятно сознавать, что их приводила сюда не одна лишь потребность отдать в переплет книги, многим хотелось поговорить с Эженом и его друзьями по Интернационалу, поспорить, поделиться новостями, посидеть за чашкой кофе или стаканом недорогого вина, которое нам в любое время и с неизменной любезностью отпускает хозяйка дома, — у нее на первом этаже крошечное кафе „Лепесток герани“, — все подоконники и полки по стенам красны от этих цветов, горшочки с ними висят и у входа, по обеим сторонам вывески.
Так вот, во время таких посещений, прислушиваясь к разговорам писателей — а их-то я особенно люблю слушать, — я и пришел к кощунственному выводу: книга пишут самые обыкновенные люди, а не полубоги. И далеко не все пишущие производят на меня приятное впечатление. Многие из них заносчивы, болезненно самолюбивы, нетерпимы к любому замечанию, эгоистичны. И мне однажды показалось: а ведь и я мог бы сочинить повесть или роман, скажем, о том же Вуазене, о трудной жизни крестьян.
Когда я впервые довольно робко сказал об этом Эжену, он с какой-то даже радостью засмеялся.
— Я рад, Малыш, что ты сам додумался! — ответил он. — Ну конечно же не боги! И я глубоко убежден: если по-настоящему захочешь, брат, со временем ты безусловно можешь стать либо историком, либо писателем, к чему почувствуешь большее влечение. А можно стать и тем и другим, как, например, Вальтер Скотт…
— Моя хромая нога — тому главная порука? — не особенно весело пошутил я. — Ведь так, Эжен, да?
Но он ответил грустно и серьезно:
— Я не шучу, Малыш! Может, сама судьба, чуточку покалечив тебя в детстве, тем самым обрекла на работу за письменным столом, приобщила к великому и прекрасному таинству рождения книги! Если будешь усерден или, по-крестьянски говоря, упрям и если поверишь в себя, возможно, следующее поколение переплетчиков будет одевать в кожу и сафьян книги Луи Варлена! Не зря же старик Бюффон любил повторять, что гений — высшая мера трудоспособности. И — только! Гюстав Флобер ежедневно просиживает за письменным столом по шестнадцать и восемнадцать часов и считает день удачным, если написана половина странички! Каково, а? Это ли не подвиг, не самопожертвование, — недаром же он называет себя каторжником пера! А Генрих Гейне, который пролежал в „матрацной могиле“ восемь лет, Малыш, пролежал почти без движения! И никто никогда не слышал от него ни жалобы, ни нытья. По сравнению с ним ты — Геркулес, Самсон! — И, помолчав, Эжен улыбнулся своей трогательной и милой улыбкой. — Если, Малыш, ты почувствуешь в себе вот такую готовность к подвигу, то станешь писателем! Способности у тебя есть, ты отлично чувствуешь слово. Остается почаще вспоминать изречение старика Бюффона. А нам, дорогой брат, так нужны, так необходимы свои писатели, защищающие обиженных и угнетенных! Ведь таких литераторов почти нет! Все больше — снобы, аристократы, лакеи корон и тронов!
После разговора с Эженом я и принялся не то что читать, а буквально изучать все, что брат клал мне на переплетный станок, — лишь позже я догадался, что он поручал мне переплетать то, что при прочтении может принести мне пользу. Он брал в библиотеке святой Женевьевы самые интересные книги, заставил меня вместе с ним посещать вечерние курсы, слушать уроки Андрие по древнегреческому и латыни, учиться стенографии.
Прошло не так уж много лет, и я с чувством глубокого удовлетворения убедился, что стал понимать, слышать ритмику, скрытую музыку фразы, стал подмечать в книгах места, которые я, как мне кажется, смог бы написать и ярче и сильнее. Не могу передать радости Эжена, когда я говорил ему о своих, в сущности, простых открытиях, он так радовался за меня. И еще я пришел к одному выводу: в книге сосредоточена, заключена особая притягательная, магнетическая сила, — подлинно справедливая книга объединяет, сближает людей. Конечно, нередко бывает и наоборот: написанные страницы расталкивают, разводят родных, делают их врагами на всю жизнь.
Я далек от мысли, что и меня, колченогого крестьянского парня, осенила благодать, что бог, если он есть, или праматерь-природа наделили меня талантом, я не слишком самонадеян и глуп. Но, может, что-то полезное и мне удастся сделать. Для начала я буду записывать слова и мысли Эжена, высказывания бывающих в нашей мастерской писателей и журналистов, это разовьет во мне требовательность, взыскательность к слову. И не только к слову, но и к тому, что за словом стоит. Ведь слово — и средство выражения мыслей, и могучее оружие борьбы… А у нас впереди — борьба!
Вчера я проводил Эжена на вокзал. Он и ого товарищи — Фрибур, Толен, Лимузен, Бурдон, Бенуа Малон и другие — поехали в Лондон на конференцию Международного Товарищества Рабочих, организованного в прошлом году. Часть из них делегирована парижскими секциями Интернационала. Эжен придает предстоящей конференции огромное значение: она знаменует собой начало активной борьбы бесправных и угнетенных против „всевластия жирных“, как выражается тезка моего брата, поэт Эжен Потье.
Поездом Эжен и его товарищи доедут до Гавра, а оттуда отправятся на пароходе в Лондон. С ними поехал и Потье, хотя он, кажется, и не является делегатом.
Я не знал, как долго Эжен пробудет там, но предчувствовал, что мне без него придется жить тоскливо и одиноко. Хорошо, что он оставил мне достаточно работы и интересные книги, это поможет скоротать время. Ведь в дни его отсутствия никто не навестит меня, разве только наш милый учитель — Жюль Андрие. Как, однако, роднит и сближает людей преданность одной идее! Недавно Эжен рассказывал мне о русских декабристах, пытавшихся свергнуть российского императора, о суде над ними и казни. Ну вот, что им требовалось, обеспеченным и титулованным, что привело их на эшафот и каторгу? Боже мой, как мало я знаю и как много мне хочется и нужно узнать…
Эжен поехал в Лондон не первый раз. Три года назад он ездил туда на Всемирную выставку делегатом переплетчиков и, вернувшись, много раз выступал на рабочих собраниях, рассказывал не только о выставке, но и о положении рабочих в других странах, об английских тред-юнионах и их борьбе за лучшее будущее рабочего человека, о самих городах. Мне запомнились слова Эжена о том, что большие города так же мало похожи один на другой, как и населяющие их люди. У каждого города — свое особенное лицо, обычаи, характер и, позволительно сказать, душа. Да так, наверно, оно и должно быть. И климат, и условия жизни разные, да и сама история народа накладывает на город неповторимый отпечаток. Но, к сожалению, бедняков и нищих полным-полно в каждом крупном промышленном центре. До переезда в Париж, когда я жил в нашем патриархальном Вуазене, я и не представлял себе, что в роскошном и прекрасном городе такая уйма обездоленных, бедных и просто нищих. В деревне все проще. Даже в самые суровые, неурожайные годы никто в том же Вуазене не умрет с голоду, помогут и родные, и соседи. Крестьяне, мне кажется, добрее, человечнее, отзывчивее городских жителей на чужую беду. Возможно, сама близость к природе делает их более милосердными.
Часы на башне пробили три, пора спать. Иначе я не смогу завтра работать и не успею к возвращению Эжена сделать то, что он поручил мне. А я его никогда не подводил и не хочу подводить. Да, приятно было бы прочитать хотя бы две-три странички, но — пора, пора. Да и свечка моя почти догорела…»
Откинувшись на спинку кресла, Клэр задумалась.
А собственно говоря, она ничего ни о ком толком не знает! Последние два месяца осады читала лишь враждебные Коммуне парижские и версальские газеты. Кстати, совершенно невозможно понять, почему коммунары, выхватив власть, сразу же не запретили издание в Париже газет, где федераты изображались варварами, кровожадными бандитами, выродками без чести и совести? Только совсем недавно, к середине мая, Комитет общественного спасения опечатал редакции и типографии семнадцати буржуазных газет, с особенной яростью нападавших на Коммуну, без устали поливавших ее отвратительной грязью. И она, Клэр, верила им! А ведь вот, судя по дневникам Луи, по вклеенным в них вырезкам из афиш, да и по характеру того же Эжена, коммунары не жестоки и не подлы. У нее, у Деньер, они не отняла ни дома, ни мастерской, не тронули ее счета в банке… Странно, как странно все!
Колокола над Парижем продолжали гудеть сотнями медных глоток, но кое-где на западе набатный грохот сменялся ликующим пасхальным перезвоном. Значит, там, на колокольнях, кто-то убит и веревки колокольных языков перехвачены другими руками.
Громкие призывные крики на улице, слышимые даже сквозь медный рык колоколов, привлекли внимание Клэр, она встала, подошла к окну. Солнце уже довольно высоко поднялось над черепичными и свинцовыми крышами, но его то и дело заслоняли тянувшиеся с запада тучи дыма. В городе начинались пожары.
Давно, с самого начала войны с пруссаками, в течение долгих и мрачных месяцев осады, улицы Парижа были пустынны, жители прятались, отсиживались по домам. Дальнобойная артиллерия бесприцельно била и била по городу.
Но сейчас улица необычно оживлена, словно люди за эту набатную ночь перестали бояться смерти. У баррикады, уже нагроможденной на высоту человеческого роста, вокруг командира батальона столпились национальные гвардейцы с карабинами и шаспо, над их головами развевается на баррикаде красный флаг. Шестеро мужчин, напрягаясь изо всех сил, катят по развороченной мостовой небольшую пушку, видимо готовясь защищать баррикаду… Да, боев не миновать и здесь, в Латинском квартале, — дай бог, чтобы снаряды не разрушили ее дом.
Наглухо закрыв окна, опустив жалюзи, плотно сомкнув тяжелые шторы, Клэр вернулась к столу, снова придвинула к себе тетрадь Луи. Она не чувствовала в себе сил заняться чем-либо другим, ни к чему не лежала душа.
Она перебросила несколько страничек, которые показались ей неинтересными, отыскивая глазами нужное ей имя. Ага, вот оно…
Год 1865. Октябрь, 1
«Наконец-то вернулся Эжен!
К сожалению, я не знал дня его приезда и не мог встретить на вокзале. Он так радостно возбужден и доволен поездкой, что будто бы помолодел на целый десяток лет! Если бы не ранняя седина в бороде и на висках, ему невозможно было бы дать и двадцати лет. Он уверяет, что чувствует такую бодрость, которой хватит на многие годы. „Я — словно пятидесятитонная крупповская пушка, которую, помнишь, демонстрировали на Всемирной парижской выставке. Из меня, Малыш, можно стрелять по любой подлой и гнусной мишени!“ — смеется он. А с каким глубоким уважением рассказывает о Марксе! „Поистине могучая и ясная голова!“ — не устает повторять он. А я превосходно знаю, как дорога похвала моего Эжена, ее не так-то просто заслужить. Хотя необходимо заметить, что Эжена чрезвычайно огорчает разница во взглядах Маркса и покойного Прудона на задачи и тактику предстоящей борьбы!
Теперь по вечерам наша мансарда превращается в некое подобие Якобинского клуба. Кончается рабочий день на заводах и фабриках — и обе наши комнаты набиты битком. И кто только не бывает здесь! Помимо давно знакомых печатников и переплетчиков приходят литейщики и бронзовщики, грузчики и каменщики. Даже такие знаменитости, как журналист Анри Рошфор…
Эжен привез из Лондона два больших чемодана книг и, отрывая время у сна, чуть ли не до утра засиживается над ними. Мы с ним вместе принялись изучать немецкий и английский, чтобы в подлиннике читать то, что пока не переведено на французский. Он меня впряг в свою тяжеленную колесницу — поручил расшифровать его лондонские блокноты, их целая куча, и я провожу над ними все свободное время. Чрезвычайно помогает то, что мы с Эженом изучали стенографию вместе, на одних курсах, стенографический почерк у нас почти одинаков, и это ускоряет расшифровку. И все же иногда мне приходится подолгу задумываться над его иероглифами, потому что записи делались в спешке, на ходу, так что временами я бреду по его стопам лишь на поводу догадок. Выручает меня знание характера Эжена, строя его мыслей и его отношения к историческим событиям и людям.
Когда окончу, Эжен подправит перевод, и получится нечто вроде большого рассказа о Лондонской конференции. Правда, людям, далеким от дел Интернационала, кое-что может показаться малоинтересным — ведь речь шла лишь о повестке заседаний предстоящего в будущем году Первого конгресса. Я сказал о своих опасениях Эжену, дескать, не получится ли слишком сухо и скучно, но он ответил мне полушутливо: „Вот ты, Малыш, и попробуй, поупражняй свои силы на ниве изящной словесности! Постарайся перевести мою клинопись на яркий и образный язык. Представь себе, что ты все время находился рядом со мной, а?“
Так он посмеивается, а я прекрасно читаю его тайные мысли: ему хочется возможно крепче привязать меня к литературе, заставить позабыть о моей искалеченной ноге. И в глубине души я должен сознаться: он, кажется, добьется своего.
Да я столько раз слышал рассказы Эжена, он все описывает так живо, что у меня возникает впечатление, будто я действительно все время находился рядом с ним, что я его alter ego. Он привез прекрасный подробный справочник — описание Лондона, множество фотографий. Я вижу лица, слышу голоса, шагаю рядом с Эженом по лондонским улицам. В свободный час мы забредаем в портовые таверны, где гуляет и на всех языках галдит матросня всего мира. Здесь можно встретить и сверкающе-черного негра, и неторопливого индуса, и экспансивных итальянцев, и наших парижских парней, покинувших родину либо из-за преследования полиции, либо просто в поисках более счастливой жизни.
И еще одно. Помню, как перед отъездом Эжен мечтал выкроить в Лондоне свободный день и съездить на принадлежащий Британии остров Гернси в проливе Ла-Манш, где столько лет томится наш Великий изгнанник Виктор Гюго. В дни государственного переворота в декабре пятьдесят первого Гюго защищал Республику, а после победы Бонапарта вынужден был бежать за границу. Его бессмертные творения не издаются, ни один театр не ставит ни „Эрнани“, ни „Рюи Блаза“, ни „Кромвеля“. И лишь контрабанда приносит иногда в Париж голос „короля поэтов“. Помню, с какой горечью Эжен сказал мне перед отъездом:
— Ах, Малыш, Малыш! Какое было бы для меня счастье пожать руку, написавшую эти звенящие строки: „Для алой мантии его монаршей славы вам пурпуром, ткачи, не надо красить нить: вот кровь, что натекла в монмартрские канавы, — не лучше ли в нее порфиру опустать?“ Это о нем, о нашем императоре! Я рад был бы не только пожать могучую руку Гюго, а хотя бы издали увидеть крышу, давшую ему приют на чужбине. И я верю: трон Баденге рухнет и великий Виктор вернется к нам!
Но поехать на Гернси Эжену не удалось: в Лондоне навалилось много дел, а потом пришла пора возвращаться.
В первое же воскресенье по приезде Эжена мы с ним рано утром отправились в рабочий пригород Венсенн, что за крепостным валом, на самой границе Венсенского леса. Как было заранее условлено, там на обширной зеленой поляне перед кабачком „Седой пастух“ нас уже поджидало около сотни рабочих из Бельвиля, Менильмонтана, Вильетта. Эжен должен был рассказать им о Лондонской конференции, о парижских секциях Интернационала, — тогда о них знали лишь немногие.
День был солнечный, ясный, хотя осень уже позолотила местами листву каштанов. Владелец кабачка, обрадованный предстоящей выручкой, вынес на поляну, под развесистые кущи деревьев, все столики своего небогатого заведения, на них — кувшины с пивом и квасом, бутылки дешевого вина. И что меня удивило — в толпе, ожидавшей нас, оказалось немало женщин, а некоторые из них привели с собой и детей. И оделись все, словно на праздник: яркие цветастые кофточки и косынки, кокетливые чепчики, а кое-где и шляпки.
Прежде всего нас с Эженом заставили выпить по стакану вина, и отказаться от простодушного, сердечного угощения было невозможно, это значило бы обидеть хороших людей.
Я пишу это ночью. За окнами спит притихший, обезлюдевший на несколько часов Париж, лишь башенные часы каждые тридцать минут нарушают тишину. Уснул и Эжен, набегавшийся за последние дни и уставший до полусмерти. Как и другие делегаты, ездившие в Лондон, он выступает на рабочих собраниях, во всевозможных кафе и закусочных по многу раз в день. И слушают его удивительно!..
Но я начал рассказывать о поездке в Венсенн. Стоит мне хоть на секунду прикрыть веки, я вижу перед собой глаза Эжена, горящие, словно два черных факела, его чистый лоб, вскинутую над головой руку. И слышу голос. У него такой красивый баритон, недаром же его сделали запевалой и солистом в певческом обществе.
Слушали Эжена в напряженном молчании, в коротенькие паузы было отчетливо слышно, как чирикали в ветвях каштанов невидимые птицы.
Эжен рассказывал о волне революций, захлестнувших в конце сороковых годов всю Европу, о революциях, которые крушили империи и опрокидывали троны, повергали в ужас и разгоняли по заграницам королей и королев, буржуа и торгашей, маркизов и баронов. И ветер свободы, как не раз бывало в прошлом, развевал над головами восставших мятежные знамена. Но волны революций, как бы могучи они ни были, неизбежно разбивались об устои монархических крепостей, и снова торжествовали властолюбие и жадность, оставив на городских мостовых лужи крови да на местах боев и казней десятки, сотни, а иногда и тысячи могил. Революции гибли, горячо говорил Эжен, лишь потому, что мы, рабочие, всегда и во всех странах разрознены нуждой, бесправием, голодом и произволом. И именно сейчас, как никогда, необходимо объединение!
Возгласы поддержки и аплодисменты дали Эжену коротенькую передышку. Многие за столиками встали, и какой-то бородач в заплатанной на локтях блузе крикнул:
— Дорогой Варлен! За такое доброе дело полагается выпить!
Выпили не шумно, но торжественно, многие подходили к нашему столику, чокались с братом и со мной.
А Эжен продолжал. Я еще никогда не слышал, чтобы он говорил с такой страстью, обычно брат сдержан в собран, пытается доказать свою правоту логикой, пусть холодными, но неопровержимыми доказательствами, а сегодня стал совсем другим. И вообще я заметил, что поездка в Лондон заметно изменила его, он стал решительнее и как бы тверже.
— Говорите еще, Эжен Варлон! — кричали за столиками, когда Эжен замолкал. Поднимались и глухо звенели жестяные кружки, кое-где падали па столики и на головы людей увядшие каштановые листья. Многие передвигали столики или пересаживались поближе к нам.
И Эжен говорил снова, изредка улыбаясь своей теплой и чуть стеснительной улыбкой.
— Да, каменотесы и литейщики, милые измученные непосильной работой женщины! Объединение, провозглашенное конечной целью интернационального братства трудящихся, стало могучей движущей силой! И не одни мы понимаем это! Ощущают, понимают нашу растущую силу и враги, те, кто присваивает себе львиную долю нашего труда, наших сил, кто отрывает куски наших жизней! Не зря Империя Луи Бонапарта, играя в либерализм, пытается подкупить нас грошовыми подачками! В прошлом году нам швырнули обглоданную кость с царственного стола, отменили проклятый закон Ле Шанелье, разрешили собираться для обсуждения наших нужд. И в то же время заткнули нам рот полицейским кляпом, запретили говорить о политике. И на каждом нашем собрании должен восседать чин, блюдущий интересы Империи! Нам разрешили издавать рабочие газеты, но не дают возможности писать о политике, об императоре и его министрах! Так, газету „Рабочая трибуна“ закрыли на четвертом номере за статью Лимузена о непомерно высокой, непосильной для нас квартирной подате. Правда, мы тоже кое-чему обучились за эти годы, мы вновь и вновь воскрешали свою газету под измененными названиями — до тех пор, пока у нас находились на ее издание деньги!
— Славная была газета, что и говорить! — крикнул кто-то.
Эжен удовлетворенно кивнул.
— После отмены закона Ле Шанелье правительство Бонапарта скрепя сердце разрешило забастовки, и в двух прошлогодних забастовках переплетчики Парижа одержали первые свои победы, добились сокращения рабочего дня и увеличения оплаты труда. Разве такой факт не говорит о нашей нарастающей силе? — Из жилетного кармана Эжен торжественно вынул серебряную луковку часов, отстегнул цепочку и показал собравшимся. — Вы видите эти часы? На их крышке выгравировано моим другом Бурдоном: „Варлену — в знак признательности от рабочих-переплетчиков. Сентябрь 1864 г.“. Я горжусь этим подарком товарищей, но показываю их вам не из бахвальства, а для того, чтобы убедить вас в необходимости солидарности и борьбы. Потому что, в конце концов, дорогие друзья, это борьба за жизнь ваших детей, за ваши собственные жизни, за то, чтобы ваши жены и сестры не падали у прядильных станков в голодные обмороки, не рожали на полу цехов недоношенных детей, не умирали от истощения и труда в тридцать — тридцать пять лет. Мы, переплетчики Парижа, сейчас работаем одиннадцать часов в день, а многие из вас еще стоят у машин по тринадцать и четырнадцать! Вы можете добиться улучшения условий труда и уменьшения рабочего дня, если будете действовать сообща, если придете к нам, в секцию Интернационала на рю Гранвилье, Дом сорок четыре! В случае забастовки и столкновений с хозяевами, вы можете рассчитывать на нашу поддержку, на, пусть и небольшую, денежную помощь!..
Я бывал с Эженом на многих таких собраниях. И надо сказать, что они не всегда проходят спокойно и мирно. Иногда в самом разгаре раздается условный свист пикетчика. Значит, приближается либо ажан, либо шпик, которых в Париже развелось несметное количество. Об этом можно судить хотя бы по песенке, которую мальчишки распевают по рабочим кварталам во всю глотку: „Хлеб дорог, а деньги редки. Осман все время повышает квартирную плату, правительство скупо, и лишь сыщикам платят хорошо!“
Заслышав условный сигнал, Эжен огорченно разводит руками и, прервав речь, начинает с прибауточками рассказывать о чем-нибудь более безобидном, виденном в Лондоне, о том, как живут тамошние докеры и матросы, как они организовали свои тред-юнионы. Шпика обычно сейчас же опознают, он всегда выделяется: либо ведет себя развязно, либо пугливо ежится и озирается по сторонам. И двое дюжих парной тут же подхватывают прилежного служаку под руки и, балагуря, тащат в ближайший кабачок: „Мосье, не лучше ли опрокинуть лишний стаканчик, чем слушать пустые речи?“ И собрание продолжается своим чередом…
Я с гордостью записываю эти подробности и счастлив, что у меня такой брат, которого в случае опасности всегда найдется кому заслонить и уберечь от беды.
А теперь… мне хочется проделать один рискованный опыт. Слова Эжена о том, что я при желании и настойчивости могу стать писателем, всерьез запали мне в душу. Пусть многие сочтут это необоснованными претензиями честолюбивого юнца, но — попробую! Я попытаюсь написать рассказ об Эжене, не будучи свидетелем его поездки…
Итак, я перевоплощаюсь в Эжена Варлева, я его alter ego. Я говорю теми же словами, которыми говорил он, вижу его глазами окружающих; в моей груди бьется его сердце… Надеюсь, брат не осудит меня за чрезмерную самонадеянность, когда прочитает написанное мной…»
ALTER EGO ЭЖЕНА ВАРЛЕНА (Тетради Луи. 1865 год)
Весь день на улице перед домом Деньер гремел бой, хлопали выстрелы, изредка надрывно бухала на баррикадах пушка, пронзительно и по-детски жалобно ржала, видимо, смертельно раненная лошадь, отчаянно кричали люди.
Клэр не подходила к окнам, не открывала жалюзи, не раздвигала штор. В двух или трех местах шальные пули разбили стекла, со звоном сыпались осколки за бархатом занавесок. Оставаться в столовой было небезопасно, да к тому же от стрельбы и криков у Клэр мучительно разболелась голова.
Строго приказав Софи не выходить на улицу и дверь открывать лишь на условный троекратный стук, Клэр перебралась в спальню, — здесь окна смотрели во двор, под ними зеленый по-парижски крошечный садик, два цветущих вишневых деревца, кустики жасмина и роз. Они часто казались Клэр узниками тюрьмы, эти нежные хрупкие создания, рожденные для свободы и простора, но обреченные жить и умереть в окружении камней… И все же жалкий садик доставлял ей немалую радость. Заботливый покойный муж, приобретя дом, сразу же велел специально пробить в стене спальни дверь, а за ней пристроить балкон. Летом там ставили шезлонг и круглый столик, — в свободную минуту Клэр любила посидеть здесь в одиночестве, почитать, подумать… Но сейчас плотно прикрыла и эту дверь: грохот боя на баррикаде доносился и сюда.
Прошлая ночь миновала для Клэр сравнительно спокойно, бои шли тогда в районе Марсова поля, Дома Инвалидов и на набережных Сены вблизи Тюильри. Ночью стрельба почти стихла, но Клэр просыпалась три или четыре раза и думала об Эжене и Луи: где сейчас эти сумасшедшие, что с ними? Но за всю ночь в дверь никто не постучал.
В спальню Клэр унесла и две тетради Луи. Не могла принудить себя заняться каким-либо делом, да и не было и не могло быть в такие часы никаких дел. Оставалось только притаиться и ждать, когда окончится побоище, да молить всевышнего, чтобы снаряды версальцев пощадили дом.
Во внутренних комнатах достаточно тихо. Привычный уют. Шкафы любимых книг в тисненных золотом и серебром переплетах, мраморные копии любимого Микеланджело, над диваном — гордость Клэр — подлинный Корреджо. Но покоя все равно нет. Она долго, до усталости, до изнеможения, ходила из угла в угол, наконец позвонила Софи, попросила подать крепкий кофе.
И, выпив чашечку, почувствовала себя бодрее, снова вернулась к тетрадям Луи. Открыла десятую, незаконченную тетрадь, прочитала последнюю строчку — написана она неровно и крупнее других:
«Если с Эженом что-то случится, я не могу и не хочу больше жить».
Ну еще бы! — подумала Клэр. Нетрудно понять чувства, водившие этой рукой. Хромоногому Луи старший брат был всем: единственной опорой, отцом и матерью сразу, нянькой, учителем, умным и добрым другом. Для обиженного судьбой Луи именно так оно и есть — ведь без Эжена пришлось бы калеке сидеть на церковной паперти с протянутой рукой…
Клэр отложила последнюю тетрадь и взяла ту, которую начала читать вчера, полистала ее странички, кое-где закапанные свечным воском. Вот, кажется, именно здесь она остановилась…
Год 1865. Сентябрь, 23
«Итак, год 1865. Поездка Эжена в Лондон…
Французская делегация и гости, отправляющиеся на Лондонскую конференцию Интернационала, занимают в вагоне поезда „Париж — Гавр“ четыре соседних купе. Почти все хорошо знают друг друга, всех связывают одни заботы и надежды, все вынуждены одинаково гнуть спину по многу часов в день, чтобы заработать несколько франков на свой горький, нелегкий хлеб. В одном купе с Эженом красильщик Бенуа Малой, граверы Анри Толен и Фрибур и художник по тканям Эжен Потье. Каждый надел в этот вояж лучшую одежду, начистил до блеска поношенные штиблеты, все радостно возбуждены. И с торопливой тщательностью ощупывают карманы: все ли на месте, не позабыто ли что?
Эжен в последний раз выглядывает в окно на своего Малыша, видит по лицу Луи, что тот взволнован и огорчен отъездом брата, но заставляет себя улыбаться: он рад и горд за Эжена. Опираясь на изящную тросточку, которую брат подарил ему ко дню рождения, Луи машет свободной рукой. Ему будет грустно и одиноко без Эжена, но он старается скрыть свои чувства. Хорошо, что за последние годы он по-настоящему пристрастился к книгам, а перед отъездом Эжен позаботился о том, чтобы на время разлуки у Малыша было что читать.
— До встречи, брат! — кричит Эжен, высовываясь в окно.
Остальные в купе тоже льнут к вагонному окну, машут шляпами, кепи, шлют воздушные поцелуи. И для отъезжающих, и для провожающих поездка в Лондон — важнейшее событие. Облеченные доверием товарищей, Делегаты Парижа впервые едут на международный рабочий съезд. И даже одно это чрезвычайно важно!
По перрону озабоченно проходит железнодорожник в красной фуражке, три полнозвучных медных удара отзванивает вокзальный колокол, пронзительно свистит впереди невидимый из вагона паровоз. Поезд трогается. Плывут за окнами белые клубы пара, падучими звездами пролетают искры. Мелькают закопченные станционные постройки, ремонтные мастерские, паровозное депо, поворотный круг. Вскоре эта кирпичные постройки сменяются убогими деревянными лачугами окраинной нищеты. Босоногие мальчишки в рваных одежонках, задорно крича, бегут вдоль насыпи… Париж остается позади.
— Ну-с, друзья, в добрый путь! — откидываясь на спинку сиденья, торжественно изрекает, поглаживая свою смолянисто-черную бороду, Анри Толен. Он и Фрибур — главы делегации, но ничем не выдают, не стараются подчеркнуть свое старшинство, сейчас не время для соревнования честолюбий, Эжен доволен, может быть, даже счастлив, но снова и снова продумывает, что же сказать, если ему будет предоставлено слово? Ведь впереди не приятельская беседа в одном из парижских кафе, а международная встреча рабочих. Прошел всего год после того, как в малом зале лондонского Сент-Мартинс-холла был организован Интернационал, а в Цариже он уже завоевал огромную популярность, и совершенно очевидно: его значение в жизни рабочих будет расти и в конечном счете принесет им хотя бы относительную независимость и права.
Варлен очень жалеет, что не знает достаточно хорошо ни английского, ни немецкого, — слишком мало довелось учиться. На конференцию прибудут представители многих стран Европы, но, не поняв их дословно, он, вероятно, далеко не все сможет уяснить и оценить. Вернется в Париж и сразу же вместе с Малышом засядет за учебники. Друг Жюль Андрие не откажется помочь, он прекрасно владеет не только латынью и древнегреческим, но и многими другими языками.
А за окном проплывает тронутая осенней позолотой земля. Крестьяне снимают урожай садов и виноградников, заметно пожухла зелень листвы, кое-где в давильнях уже начинает бродить молодое вино — терпкий, щекочущий аромат брожения ощущается повсюду. Что ж, самая радостная для земледельцев пора, в этом году вемля достаточно щедро оплачивает их труд. Сколько же разбросано по стране таких селений, как крохотный Вуазен, мимо скольких жизней и судеб пронесет их за день пыхтящий, высокотрубный, шумный паровоз!
Однако о чем с такой печальной страстностью беседуют попутчики и друзья Эжена? А, они вспоминают, как совсем недавно погребли, опустили в землю Пер-Лашез дорогого учителя — Пъера-Жозефа Прудона! Вечные ему память и слава! Эжен имел счастье много раз слушать его речи и беседовать с ним, и Прудон всегда напоминал ему доброго пастыря, желавшего всем людям мира и спокойствия.
„Когда я оглядываюсь на историю нашей многострадальной родины, да и всей земли, я просто содрогаюсь от ужаса: неужели для того, чтобы простой труженик стал счастлив, получил возможность достойно зарабатывать кусок хлеба и растить детей, необходимо проливать реки крови и обращаться к ужасному изобретению доктора Гильотена? Кстати, кто-то сообщил мне, будто этот ученый-медик, призванный врачевать людей и облегчать страдания, сам был казнен посредством изобретенной им дьявольской машины. Что ж, хотя я, как уверяют друзья, по натуре совсем не жесток, я счел бы такой конец для сего изобретателя вполне заслуженным. Пожни, что посеял!“ — размышлял Эжен.
„Конечно, из всех философов нынешнего сложного и жестокого века покойный Прудон мне ближе и понятнее всех. Борьба с буржуа и фабрикантами, безусловно, необходима, но и в борьбе люди всегда должны оставаться людьми, мы же не дикари, не животные!.. Он был старше меня на тридцать лет и с первой встречи представлялся мне мудрым и старым, как Моисей. Как беспощадна и бессмысленна смерть: ему исполнилось всего пятьдесят шесть, мог бы еще жить и жить!“
Эжен вспоминает, как его безмерно взволновала речь Потье над могилой Прудона. Стиснув в побелевшем от напряжения кулаке прощальную горсть земли, прежде чем бросить ее на крышку дорогого гроба, Потье произнес строки любимого всеми Беранже:
Господа! Если к правде святой Мир дороги найти не умеет, — Честь безумцу, который навеет Человечеству сон золотой! Если б завтра земли нашей путь Осветить наше солнце забыло — Завтра ж целый бы мир осветила Мысль безумца какого-нибудь!„Я назвал бы Прудона апостолом добра и правды, пытавшимся защитить обездоленных не насилием, а человечным призывом к справедливости и милосердию. Правда, сомнительно, что всех богатых можно словами склонить к сочувствию чужим несчастьям и невзгодам, — в этом меня убеждает хотя бы письмо моего друга Адольфа Асси из Крезо. Там на сталелитейных заводах Шнейдера Асси работает механиком, — условия труда просто чудовищны, эксплуатация варварская. А ведь Шнейдер — один из столпов государства!
Все-таки поразительная в человеке сила — стремление к наживе, к беспредельному обогащению. Ведь у каждого из нас только одно брюхо и одна жизнь, а в могилу, под землю, никому никогда и ничего не удавалось унести с собой. Как можно, имея все, не снизойти к чужому страданию, пройти мимо протянутой к тебе исхудалой детской ручонки? Или права старинная поговорка, которую любит повторять моя мать: „Богатство не уживается под одной кровлей с состраданием и добром“?“
А за вагонным окном плывут и плывут крошечные лоскутки полей и кое-где видны согнутые в работе спины, — начали убирать поздние овощи. Проезжают нагруженные сеном и соломой громоздкие крестьянские фуры, позванивая колокольцами, бредут меланхолические коровы, взбрыкивает тонкими ножками резвящийся на лугу жеребенок. Краснеют в зелени садов черепичные крыши, иногда серебряной змейкой блеснет под мостом безымянный ручеек, истает в небе синевато-белый дым костра.
„Странно, но почти всегда, когда я вот так, с движущегося поезда наблюдаю за проносящейся мимо родной землей, меня все время не покидает чувство щемящей нежности и необъяснимой тревоги, знакомое мне с раннего детства. Помню, такое же ощущение тревоги вспыхивало во мне, когда я, несмышленым мальчишкой, поднимаясь по ступенькам школьного крыльца, смотрел на мутные грязные окна помещавшейся в подвале тюрьмы. Естественно, я в те годы и приблизительно представить себе не мог, что испытывают люди, лишенные свободы и, может быть, ждущие скорого смертного часа. Теперь мне кажется, что я ощущал тогда такой же суеверный ужас, который испытывает все живое, соприкасаясь или чувствуя рядом близость смерти…“
От беспокойных, дум и воспоминаний Эжена отвлекает громоподобный, вдохновенный голос Потье. Похоже, неистовый поклонник муз сочинил новое стихотворение и призывает попутчиков к вниманию? Ну что ж, дорогой поэт, давай послушаем, кого бичует сегодня твоя гневная лира.
Потье стоит посреди купе с растрепанными седыми волосами, сжимая в испачканной красками руке неизменную записную книжку. Он зарабатывает на пропитание семьи тем, что раскрашивает ткани в мастерской отца, но истинное и единственное его призвание — поэзия! И как всякий подлинный поэт, Потье убежден, что именно его слово, кипящее, словно лава, призвано изменить и перестроить мир. Товарищи смотрят на Потье с тем восторженным и чуточку снисходительным обожанием, с каким взрослые наблюдают за расшалившимся, но любимым ребенком. А он, как всегда, неисправим, этот седоголовый, бородатый и остающийся вечно юным увлеченный человек!
Торжественно потрясая над головой записной книжкой, Потье обращается к Малону:
— Внимай рабочему поэту, красильщик-пролетарий Бенуа Малон! Эти великолепные стихи созданы мной давно, но именно сегодня я посвящаю их тебе, дорогой друг!
Дверь в коридор открыта, и перед ней собираются пассажиры соседних купе, все они любят Потье и в любую минуту готовы восхищаться его творениями. На лицах сияют горделивые улыбки: трудовой Париж считает Эжена Потье достойным наследником Беранже.
— Давай, Потье! Жми, Эжен! Давай!
И поэт читает так, что голос его заглушает железный перестук и дребезг колес:
Но справедливого закона слово, Приязнь умов и душ у нас в крови. В концерте единения людского Звучат аккорды дивные любви. И возликует сердце, молодея, Штыком не лечат человечий род, В калеку превращая Прометея! Рыдайте, звезды, шар земной умрет!Потье обводит слушателей торжествующим взглядом, глаза его сияют.
Гигант, рыданьем душу надрывая, Утихнет наконец — и мертвеца Проглотит вечность темная, пустая, Пучина без начала и конца. Его на кладбище миров в могиле У Млечного пути разыщут — вот Планета, на которой люди жили. Рыдайте, звезды, шар земной умрет!Долго по всему вагону гремят аплодисменты, в купе набивается полно народу, каждому хочется пожать руку поэта. А он, вырвав листочек из записной книжки, с поклоном преподносит его Бенуа Малону. Но Варлен, чуть помолчав, спрашивает его:
— Почему так мрачно, дорогой тезка?! Едем мы на небывало радостное дело, а ты преподносишь Бенуа траурную эпитафию, адресованную планете! Не рано ли хоронить земной шар? Может, как раз настала пора подумать о более счастливом его будущем, а?! Сочинил бы ты, дружище, что-нибудь бодрое!
Потье резко оборачивается к Варлену, и горделивая, счастливая улыбка медленно гаснет на вдохновенном лице. Но через секунду глаза его снова загораются.
— А ведь мой тезка прав, друзья! Нужны сильные и дерзкие песни! Напишу! Я клянусь, напишу, Эжен! — Он с силой хлопает себя широченной ладонью по лбу. — Обязательно напишу! Ну, что-нибудь… Постойте, постойте… Ага!.. Вставай, несчастный, заклейменный, весь мир измученных рабов. А?
И опять по всему вагону гремят аплодисменты, кто-то тискает, обнимает Потье, а Бенуа Малон сосредоточенно перечитывает отданные ему стихи.
— Все же я с благодарностью принимаю драгоценный дар! — говорит он и прячет листок в бумажник. — Мне до сих пор никто не посвящал стихов, я недостаточно красив и привлекателен. А ты, милый поэт, весьма нередко посвящаешь свои песни женщинам — то какой-то таинственной Каролине П., то Берте П., то Луизе Мишель! О, в юности ты, вероятно, изрядно погрешил, признайся! Женщины всегда, во все века были неравнодушны к поэтам!
И Потье с грустной и в то же время довольной улыбкой утвердительно покачивает седой головой.
— Не спорю, Бенуа, были в моей жизни радости!
И снова поезд мчится но осенним просторам, сквозь словно настоянный на расплавленном золоте день. Под грохочущим мостом пропосится лазоревая полоса Сены, секунду белеет на ней косой рыбачий парус, натужно пыхтит, извергая клубы дыма, замызганный труженик буксир, волоча за собой низко осевшую баржу. Прибрежные ивы роняют на воду желтые перышки…
Изредка поглядывая на Потье, видимо погруженного в воспоминания юности, Эжен думает о другом одаренном человеке, с которым судьба свела его совсем недавно. „Перо и шпага Республики“ — так уважительно и с гордостью зовут друзья Шарля Делеклюза. Решив посвятить свою жизнь делу борьбы с тиранией Наполеона Малого, Шарль пришел к убеждению, что истинный боец за свободу народа должен ради светлой цели отказаться от всего, что именуется счастьем личной жизни, отказаться от семьи и любви. Много раз он сидел в тюрьмах Парижа, в одном из самых страшных французских казематов, в корсиканской тюрьме, в бретонской крепости Белль-Иль, в марсельской тюрьме, отбывал каторжный срок в Кайенне. И ничто не могло сломить мужественного человека. В своей книге „Из Парижа в Кайенну“, изданной в 1860 году, Делеклюз писал; „Человек создан для действия, для борьбы! Поражение во сто крат лучше, чем бездействие; даже страдание лучше пошлого благополучия, бесполезного существования“.
„А ты сам мог бы поступить так, Эжен? Не знаю, не могу ответить. Ведь окажись Клэр Деньер не буржуазной, а человеком близкой, родственной мне судьбы, кто знает, чем окончился бы ваш так и не состоявшийся роман? А позже, когда ты поставил крест на возможности близости с Клэр Деньер, разве не заглядывался ты на гордую и красивую польку Марию Яцкевич, которая работала брошюровщицей в мастерской Клэр?“
У очаровательной и чуточку надменной женщины всего год назад трагически поломалась жизнь. За участие в польском восстании шестьдесят третьего — шестьдесят четвертого годов ее любимого повесили, а ей с великим трудом благодаря помощи друзей удалось избежать знаменитой на весь мир царской сибирской каторги. Так она очутилась здесь, в Париже, и после пережитых ужасов, суда и казни товарищей еще не научилась снова улыбаться, хотя улыбка у нее, наверно, должна быть прелестной…
„Ну, однако, не станем ковырять старые царапины. А с пани Марией мы встретимся еще не раз, дорога у нас одна. Пройдут годы, заживут, зарубцуются ее раны, и тогда, кто знает, как повернется жизнь…“
После подавления восстания в Варшаве польские эмигранты образовали в Париже многочисленную колонию, Варлена познакомили с Ярославом Домбровским и Валерием Врублевским, — в России их приговорили не то к каторге, не то к смертной казни, и, если бы не верность и находчивость товарищей, они погибли бы.
Требовательный голос Анри Толена возвращает Эжена к действительности:
— Однако, граждане, теперь, когда отъездные хлопоты позади, не пора ли подумать о делах? Полагаю, что в Лондоне самая главная наша задача — проповедь трудов покойного учителя. Как вы понимаете, я говорю о Пьере-Жозефе Прудоие. У германской нации есть Фердинанд Лассаль, у англичан был Адам Смит, но мне представляется, что как философы и вожди они куда мельче, незначительнее нашего дорогого покойного учителя. Догадались ли вы, достопочтенные господа, захватить с собой наше новое евангелие? Я имею в виду „Философию нищеты“?
— Ну как же, Анри!
Толен с удовлетворением поглаживает свою окладистую бороду.
— Значит, все в порядке! Я хотел удостовериться, что мы не зря уполномочены рабочим Парижем!
Никто не возражает Толену, и он, солидно помолчав, продолжает тем же отеческим, наставительным тоном:
— Несмотря на краткость повестки предстоящей конференции, мы и при частных встречах должны использовать все возможности для пропаганды наших идей. Опыт французских революций, начиная с Великой, через тридцатый, сорок восьмой и пятидесятые годы показал, что стремление захватить власть силой оружия приводит лишь к неисчислимым потерям! Необходимо, друзья, вспомнить еще вот о чем! Вы все знаете, что доктор философии Карл Маркс в книжке „Нищета философии“ выступил с резкой критикой нашего незабвенного учителя! Мы не должны попасться на удочку Маркса! Нам предстоит заявить со всей решительностью о верности идеям Прудона! — Анри, оглядывая всех, улыбается с тонкой проницательностью. — Мне представляется, что доктор Маркс не испытал того, что испытали французы, на собственной шкуре, он не внает ужасов Кайенны и Ламбесы, каменных застенков Мазаса и Сент-Пелажи…
Но Эжен не может не возразить Толену:
— Э, нет, Анри, сейчас вы не совсем правы. Маркс такой же изгнанник родины, как наш великий Виктор. Уже полтора десятилетия Гюго вынужден жить в изгнании. И доктор Маркс более двадцати лет назад изгнан из родной ему Пруссии, и при попытке вернуться его ждут в лучшем случае кандалы, а в худшем — так называемая „шальная“ пуля, которыми нередко приканчивают неугодных режиму. И еще напомню, что и из Парижа Маркс высылался по требованию прусского правительства. Так что…
— Все это мне известно, любезный Эжен! — перебивает Толен с оттенком нетерпения. — Просто я хотел подтвердить общность нашей программы и позиции на конференции.
И, желая прекратить разговор, Толен, привстав, достает с багажной полки объемистый саквояж.
— А теперь, друзья-приятели, не пора ли заглянуть в продуктовые кладовые, снаряженные нам в путь родными руками?
— Дельно! Давно пора! — подхватывает Потье и бережно прячет в боковой карман сюртука потрепанную записную книжку. — И, кстати, хороший обед не помешает деловому разговору, не так ли?
Через минуту на столике становится тесно от пакетиков с едой, бутылок с вином и походных, так называемых охотничьих стаканчиков. И за разговорами и шутками незаметно летит время.
— Руа-ан! — нараспев покрикивает в коридоре кондуктор, постукивая ключом в двери купе. — Руа-а-ан, мадам, мадемуазель и мосье! Кто просил предупредить? Ру-а-ан! Стоянка — десять минут!
…В Гавр поезд прибывает к ночи. Синевато-сиреневый свет газовых фонарей заливает перрон. Гомон, крики носильщиков, агентов гостиниц, продавцов вечерних газет. В обшарпанном открытом экипаже пятеро друзей отправляются в порт. Весело и громко гремит в портовых кабачках музыка дешевых оркестриков, мерно покачиваются вонзенные в небо мачты кораблей, пляшут на море латунные отблески лунного света.
— А ведь жизнь — прекрасная штука, друзья! — восклицает, выпрыгивая из экипажа, неугомонный и жизнерадостный, как всегда, Потье.
— Совершенно верно, мосье! — подхватывает на бегу мальчуган-газетчик. — Лишь бы звенели в кармане су! Купите по этому поводу „Фигаро“!
— Стану я марать руки об эту подлую, пакостную газетенку! — кричит Потье. — Но вот тебе, гамен, два су на жареные каштаны!
Газетчик ловко подхватывает брошенную ему монету.
— Благодарю, мосье! Счастливого плавания!
Переночевав в портовой гостинице, рано утром они на первом же пароходике, идущем через Ла-Манш, отправляются дальше. По морю идет довольно крутая волна, истерически жадно кричат чайки, без промаха подхватывая на лету бросаемые им кусочки булок. По обеим сторонам пароходика проплывают видавшие виды, латаные рыбацкие паруса.
Опершись на перила, Варлен зачарованно следит за бегом зеленоватых струй. Кричат, следуя за пароходом, чайки, стеклянными вихрями крутится у бортов вода, нежарко греет сентябрьское солнце, повисшее в сизоватой мгле над Ла-Маншем…
Пароходик резво бежит по давно освоенному маршруту, полощется на ветру трехцветный флаг, — пароходик французский. Седоватый капитан, поглядывая в окно рубки, лениво посасывает обожженную до черноты трубку. Сквозь шипение пара и шелковый шелест воды снизу, из кубрика, доносятся громкие возгласы и стук костей, — коротая свободное время, матросы забавляются игрой. Так же было и три года назад, когда Эжен ехал на Всемирную выставку.
Он вспоминает сейчас впечатления тех дней и думает, что еще десять лет назад подобное путешествие для таких, как он, рабочих, было просто немыслимо! Достаточно проницательный и хитрый Наполеон Малый, почуяв глухие толчки близких революционных потрясений, принялся заигрывать с рабочими, с интеллигенцией. Отменили закон Ле Шанелье, запрещавший стачки. Разрешили собрания, клубы, издание слегка оппозиционных газет и журналов. Дошло до того, что расходы на ту, лондонскую, поездку — а съездило на выставку разными группами из Парижа около двухсот человек! — „гуманнейшее“ правительство решило взять на счет государства. Но Эжену удалось уговорить товарищей отказаться от подачки, не пачкать руки принятием монаршей милостыни!
Смеются дети, плещет и бурлит за кормой вода, одна за другой отстают от парохода чайки, возвращаются к французскому берегу. Видно, и у птиц есть свое ощущение родины, неискоренимая привязанность к месту постоянных гнездовий. Интересно, как же те, которые улетают зимовать в Африку, за тысячи лье, безошибочно находят путь домой, в места, где они впервые из-под теплого крыла матери увидели солнечный свет?..
И снова мысли Эжена возвращаются к оставленным в Париже делам. Сразу же по возвращении из Лондона необходимо заняться созданием кооперативных столовых, где бы кормили рабочего, не обкрадывая его, не наживаясь на нем. Натали Лемель удачно предложила для них общее название — „Мармит“, то есть большая миска, котел, откуда простой труженик мог бы черпать дешевую луковую похлебку. И немедленно же придется всерьез взяться за организацию больничных касс и касс взаимопомощи — они так нужны в дня забастовок и безработицы!
— О чем размечтался, дружище? — выводит Эжена из забытья голос облокотившегося рядом Потье. — На крыльях какой мечты воспарил дух твой?
— О, у моей мечты не слишком высокий полет, дорогой поэт. Приходится думать о самых прозаических вещах, — с улыбкой отзывается Эжен. — Вернемся к своим очагам и снова превратимся в ломовых лошадей!.. Думаю о будущем наших „Мармит“. И чем больше думаю, тем тверже убеждаюсь в правоте Прудона. Потребительские общества, кассы взаимопомощи и кредита — таков единственный путь к нашему освобождению от кабалы, нищеты и в завершение пути — к независимости. И к знанию, конечно, прежде всего!.. Ты представь себе, тезка: мастерские, которыми сообща владеют сами рабочие?!
— Господи! — со смехом перебивает Потье, похлопывая товарища по плечу. — Да хоть на краткий миг позабудь ты будничные заботы! Посмотри на море! Вон уже белеют вдали меловые уступы Дувра! Через час войдем в устье Темзы! Я впервые еду тут и не могу насмотреться. В душе одна за другой рождаются такие великолепные строки, которые не слетели бы ко мне нигде больше! А ты…
— Каждому свое, милый поэт! — стеснительно и чуть виновато улыбается Варлен. — Ты паришь высоко в небе, а удел простых смертных — заботы о земле!
— Да-а, да, — почти не слушая Варлена, соглашается Потье. — А я смотрю кругом, вдыхаю соленый воздух моря, слушаю голоса, которых не понимаю… Смешно, если бы на пароходе было поменьше чопорных и строгих английских дам, я, наверно, запел бы от восторга…
— Ну и пой! — снова улыбается Эжен.
— Ах ты, земная, бескрылая ты душа, дражайший мой тезка! А я почему-то всю дорогу думаю о покойном Беранже. Дважды его судили, дважды сажали в тюрьмы, в Сент-Пелажи и Ла Форс. И никак не могли заткнуть ему глотку, вырвать поистине пророческий, гневный язык!.. Вот, слушай!
И, сняв шляпу, откинув седые, упавшие на лоб пряди, Потье принимается читать, нимало не смущаясь тем, что расположившиеся неподалеку в шезлонгах английские дамы смотрят на него с явным неудовольствием.
Июльским жертвам, блузникам столицы, Побольше роз, о дети, и лилей! И у народа есть свои гробницы— Славней, чем все могилы королей. И пусть в Париж все армии, народы Придут стереть следы Июльских дней, — Отсюда пыль и семена Свободы В мир унесут копыта их коней. О, дети, вам тот новый мир готовя, В могилу здесь борцы сошли уснуть, Но в этот мир следы французской крови Для всех людей указывают путь!Потье читает Беранже поистине великолепно, со слезами на глазах, от строфы к строфе повышая голос. Шокированные его темпераментной речью, англичанки уводят детей и усаживаются поодаль.
Эжен улыбается им вслед и обращается к Потье:
— А помнишь одну из заповедей индусских Вед? „Нельзя ударить женщину даже цветком!“ А как ты ведешь себя, а?!
— ФУ — отмахивается Потье с презрительной усмешкой, — Да разве эти прекраспо одетые портновские манекены — женщины? Для меня, как и для Пьера Жана Беранже, существуют только те женщины, которые рядом со мной сражаются на баррикадах! Да, да! Последнюю маркитантку Национальной гвардии я не променяю на такую вот надменную великосветскую матрону! Ты полагаешь, в этих расфуфыренных дамах бьются живые человеческие сердца? Клянусь Республикой, нет! Мужья и братья именно таких особ, но только одетые не в британские, а во французские мундиры, не дали нам с честью предать земле любимого Парижем поэта! Ты не был, Эжен, на похоронах Беранже?
— Нет, я не мог пробиться!
— А ты думаешь, я смог? Дудки! Пьер Жан скончался шестнадцатого июля, а семнадцатого к двум часам дня его уже закопали, так боялись его даже мертвого! Полиция отдала приказ похоронить Беранже в двадцать четыре часа! Все улицы до кладбища были оцеплены! Полиция, жандармы, войска! Впереди гроба на коне — комендант Парижа со своим эскадроном, за гробом — пять или шесть человек близких, а позади отряды гусар. И над разверстой могилой, над гробом, никому не дали сказать ни одного слова. Вот так узурпаторы хоронят тех, кто отказывается воспевать их, петь им осанну!
Раздраженный Потье принимается стремительно шагать взад-вперед по палубе, а Эжен снова погружаемся в созерцание моря…»
У МАРИИ ЯЦКЕВИЧ
Нырнув в ближайшую подворотню, Эжен издали наблюдал за Делакуром. Тот с деланной уверенностью вышагивал по площади, помахивая истертой хозяйственной кошелкой. Ну что ж, по внешнему виду его никак ее примешь за бывшего грозного федерата, он действительно смахивает на задавленного нуждой ремесленника или мелкого чиновника сгинувшей Империи, обрадованною тем, что наконец-то прекратилась бойня и он может купить себе и исстрадавшейся семье какую-то снедь… Шагай, шагай, старина Альфонс, не оглядывайся!
Баррикаду, которую вчера и позавчера построил и героически защищал женский батальон Луизы Мишель и Елизаветы Дмитриевой, уже принялись разбирать пригнанные солдатами пленники и гражданское население: необходимо освободить проезд каретам, телегам, фургонам. На один из фургонов те же пленные, под угрозой штыков, грузили тела, распластанные на развалинах и у подножия баррикады. Мулен Руж, чудом уцелевшая посреди моря огня, одиноко и как бы торжествующе возвышалась над дымящимися развалинами, только крылья мельницы застыли неподвижно. Но пройдет день-другой, они оживут, и под их прохладной и ласковой сенью опять рассядутся пировать буржуа…
Вон дородный мосье с сигарой во рту украшает перила балкона на той стороне площади ковром, затканным золотыми королевскпми пчелами, вывешивает трехцветный флаг. А внизу, у спущенных железных гофрированных штор магазинных витрин, другой мосье сгребает лопатой с тротуара битый кирпич и брезгливо оттаскивает что-то — отсюда не разглядеть — к погребальному фургону. Да, они теперь заживут, — измаялись, ожидая праздничного для них часа! А миллионы в стране вновь будут обречены на нищету и голод!..
Эжен осторожно выглянул из своего укрытия и тут же снова нырнул обратно: упрямец и грубиян Альфонс Делакур возвращался, огибая площадь, заглядывая за развалины баррикады, совал свою рыжую бороду в каждый закоулок, в каждую подворотню. Он ищет тебя, Эжен! Этот сумасшедший, видимо, решил во что бы то ни стало не покидать товарища, — ишь с какой прытью носится от дома к дому, от одного подъезда к другому! Ну нет, старина, подлости ты от меня не дождешься!
Проскользнув под сводчатой кирпичной аркой мимо закрытой двери консьержки, мимо переполненных мусорных ящиков, Эжен с тревогой огляделся: где же укрыться? Крошечный каменный парижский дворик, где трудно спрятаться даже малому ребенку или бездомной собаке, не то что взрослому человеку! Нужно, Эжен, пожалуй, толкнуться в какую-нибудь из дверей! Но… война за эти трудные месяцы научила людей осторожности, все двери закрыты, заперты, да и осуждать не приходится: еще долго не пройдет у жителей страх перед пушечной и ружейной пальбой, перед свистом пуль и разрывами снарядов. Да и дрожащий отсвет горящих на бульваре Клиши домов пляшет по стенам свою будто бы веселую и озорную, но страшноватую пляску. Ну, скажи: пережив только что минувшие недели и месяцы напряженной опасности, кому захочется напоследок рисковать жизнью?
Он растерянно смотрел в светлый полукруг арки, ожидая, что там вот-вот появится силуэт Делакура. Нет, нельзя допускать, чтобы он тебя увидел!
И Эжен решил вернуться к мусорным ящикам, за ними можно присесть на корточки и переждать минуту-другую, — вряд ли Альфонс сунется в пустой двор. Эжен с усилием оторвал плечо от стены, собираясь пройти к спасительному убежищу, но в окне справа распахнулись створки жалюзи, мелькнула неразличимая в полутьме тень, и кто-то настойчиво постучал в стекло. Открылась форточка, и женский голос испуганно окликнул:
— Эжен, Эжен!
Он оглянулся на приподнятую кисейную занавеску, но лица разглядеть не смог, — только белая рука призывно и быстро мелькала, маня к себе. А через секунду рядом с окном распахнулась дверь, женские руки с силой обхватили Эжена за плечи и втащили в мрачный крохотный коридорчик. И дверь поспешно захлопнулась, железно звякнул засов.
— За вами гонятся, Эжен, да? Жандармы? Версальцы?
Через секунду Эжен оказался в маленькой, убого обставленной, но по-девичьи чистой комнатке с единственным окном, оно-то, на его счастье, и выходило во двор. И прежде чем ответить на вопросы неожиданной спасительницы, Эжен инстинктивно метнулся к окну и поверх занавески увидел Делакура, озабоченно заглядывавшего за мусорные ящики, как раз туда, где собирайся спрятаться Эжен. Рассерженно махая кошелкой, Делакур оглядел двор, пожал плечами и побежал под арку.
Облегченно вздохнув, Эжен повернулся к стоявшей позади женщине. Ее строгое лицо едва различалось в полутьме неосвещенной комнаты, но он сразу узнал и ее скорбные губы, и смелый, надменный разлет бровей, разделенных вертикальной морщинкой.
— Мария?! Вы?
— Да, Эжен! Я так испугалась за вас!
— Но разве вы живете…
Она перебила:
— Я спряталась здесь после боя на площади Бланги, когда убили Сюзи. Истекая кровью, она сунула мне ключ.
— Сюзи? Какая Сюзи?
— Возможно, вы ее видели, мы работали вместе в типографии «Марсельезы». Наборщица. У баррикады мы стояли рядом, хотели держаться до конца на площади Бланш. Но прискакали Ферре и Верморель и приказали оставить баррикаду. Оказывается, пруссаки через ворота Сент-Уэн пропустили корпус Монтодона, и версальцы наступают с тыла, по pю Данремо. Вот-вот ударят в спину. Ферре приказал оставить на баррикаде лишь местных жителей, чтобы создать видимость обороны. Потом они сумели бы укрыться по домам либо уйти через проходные дворы. А Сюзи здешняя, это ее комната. И в самую последнюю минуту… Но у меня поручение Ферре к Врублевскому, если сумею его найти, если он жив… Да садитесь же, Эжен, вы сейчас свалитесь!
Мария придвинула стул, и Эжен сел, отставив трость и с некоторым удивлением покосившись на нее: откуда взялась? Ах да, у Делакура…
— А Врублевский жив? — через силу спросил он. — Ярослава Домбровского убили на Монмартре двадцать третьего, я попрощался с ним в «голубой комнате» Ратуши.
— О, Езус-Мария! — Мария горестно прижала к груди руки. — Я все знаю! Я слышала, что его заподозрили в измене. Будто некий шпион Вейссе предлагал Ярославу от имени Тьера миллионы за переход на их сторону, за открытые ворота Парижа!
— Да, Мария, так было, — кивнул Эжен. — Никто в Коммуне, конечно, не верил в возможность предательства Домбровского, но шепоты и слухи ползли. Помните Макиавелли: «Клевещите, клевещите, что-нибудь да останется»! И подлые слухи оскорбляли Ярослава до глубины души! Он же был моим другом, как и вы, Мария, как многие польские изгнанники.
— О, Езус-Мария! — шепотом повторила Яцкевич, бессильно присаживаясь к столику папротив Эжена. Скорбная вертикальная морщинка па лбу стала глубже, красивые карие глаза налились тоской. — Какие люди, Эжен! Ярослав, его брат Теофиль, Валерий Врублевский!.. Самоотверженные, до конца преданные революции! Борьба за свободу не имеет национальных границ!
Мария судорожным жестом прижала вздрагивающие пальцы к исхудавшему, но прекрасному, словно выточенному из слоновой кости лицу. И впервые за время их знакомства Эжен увидел, как между тонкими пальцами выкатилась на ее щеку слеза.
— Вы, Эжен, вряд ли сможете понять, что для меня в изгнании, вдали от родины, значили эти люди, — шепотом продолжала Мария, опуская руки на колени. — Разве мы могли оставаться равнодушными к вашей борьбе, к Коммуне? Вы…
— Я прекрасно понимаю, дорогая Мария! — кивнул Эжен.
Мария помолчала, прислушиваясь к шуму на улице. Потом произнесла:
— Да когда же придет конец произволу, когда воцарится на земле справедливость?
Эжен ответил не сразу, всматриваясь в измученное лицо женщины.
— Не знаю, пани Мария… Простите, наверно, именно так вас называли на родине?
— Да, так. Я в Польше работала в школе, учила малышей честности и добру.
— Вы знаете Луизу Мишель? Чем-то она напоминает вас.
— Конечно, знаю! Красная дева Монмартра! Мы встречались и на собраниях, и в комитете Союза женщин, а последний раз — на площади Бланш! О, я никогда не забуду ее слов: «В этом проклятом обществе мы всюду наблюдаем страдания людей, но ничьи страдания не могут сравниться со страданиями униженной женщины!» Но погодите, я хотела поискать что-нибудь поесть!
Мария осмотрела настенный шкафчик и полочки над кухонным столиком — там не нашлось ни корки хлеба, ни горстки крупы. Огорченная, она вернулась к столу и опять села напротив Эжена.
— К сожалению, ничего нет.
— И не надо! — отозвался Эжен. — Ночью я немного перекусил у друзей, и у меня хватит сил сделать последнее…
Мария смотрела пристально, с непониманием и даже, пожалуй, с осуждением.
— Что вы хотите сказать, Эжен? Почему последнее? Вы отказываетесь бороться дальше? Вы решили сдаться? — Глаза Марии блеснули гневом.
— О нет, дорогая Мария! Я не собираюсь сдаваться добровольно, но не жду случайной удачи и не могу ждать от них милости! У меня остались кое-какие обязательства, и я сейчас не имею права…
— Постойте, Эжен! — с силой перебила Мария. — В прошлом году вы предпочли изгнание…
— Другое дело, пани Мария! — в свою очередь перебил Эжен. — Но… мне не хочется объяснять. И потом, вы помните, я писал вам…
— Да. У меня, Эжен, хорошая память, — с печальной улыбкой сказала Яцкевич и, отойдя в угол, где стояла кровать, вернулась с небольшим потертым саквояжиком. Эжен наблюдал за ней, не понимая.
— Вы хотите мне что-то показать, Мария?
— А вот это. — Она раскрыла саквояж и принялась рыться в нем. Там были сложены бумаги, тетради, письма.
— Прежде чем перебраться сюда, к Сюзи, я успела забежать домой и захватить самое дорогое. Сейчас, сейчас… Это необходимо либо спасти, либо уничтожить. Дома у меня, конечно, будет обыск…
И Эжена острой болью кольнуло в сердце: да чего же он ждет, ведь цель его нынешнего путешествия по захваченному врагами городу — тайник на рю Лакруа, судьба брата Луи. И, собрав все силы, он решительно взял трость и встал.
— Мне нужно идти, Мария!
Но она жестом остановила его, кивнув на окно.
— Слышите, гремят барабаны? Сядьте! Вероятно, проходят версальские части! Вам необходимо переждать хотя бы полчаса! Зачем бессмысленный риск, Эжен? Посидите, пока пройдут… А я… я вот что хочу вам показать. — И протянула Эжену крупно исписанный лист почтовой бумаги. — Не узнаете? Прочитайте, пожалуйста, вот здесь Эжен. И — пожалуйста, вслух… Когда-то ваши псьма из Бельгии спасли меня от отчаяния, от нестерпимого желания броситься в Сену, накинуть на шею петлю каком-нибудь пропахшем крысами чулане… Ну, прошу вас, читайте!
Эжен узнал свой почерк. Это оказалось его письмо из Антверпена, одно из немногих, которые он решился тогда послать в Париж. Он мимолетно глянул в карие, с золотыми искорками, глаза стоявшей перед ним женщины.
— И вы берегли, Мария?
Она ответила с усилием, негромко:
— Да, Эжен… Потому что, бежав из Польши, здесь, в Париже, я все время ходила по краю обрыва, мне не хотелось жить! Я во все потеряла веру… Вы тогда оказались единственным, в ком моя погибающая вера нашла опору, именно в вашей твердости я снова обрела силу. Не сердитесь, не хмурьте брови! Ну, я прошу, Эжен, прочитайте вслух… У нас есть время!
И она снова показала глазами на окно, за который совсем неподалеку гремели барабаны и звучала походная военная музыка.
Эжен чуть помедлил, припоминая. Тогда, из Антверпена, именно Марии Яцкевич, сломленной и убитой roрем, он посылал письма. Ей и Луи, никому больше. Писать товарищам по Интернационалу казалось небезопасным, нельзя ставить их под удар. А ей, вот этой женщине, писал…
— Ну читайте же! — повторила она.
И он, испытывая неловкость, прочитал то, что написал около года назад:
— «Вы не представляете себе, Мария, как я томлюсь и скучаю в изгнании. Меня беспокоит все, что происходит в Париже, хотя парижане проявили себя недостойными уважения во время последних событий, связанных с войной, — я хотел бы немедленно вернуться в Париж, чтобы лично видеть народные манифестации и действовать сообразно необходимости… Что же сталось с Интернационалом среди этой двойной волны шовинизма, влекущей две великие нации, на которые мы так рассчитывали, к ужасному взаимоистреблению? Почему парижский народ при первых же неудачах не сверг Империю и не поставил революционную Францию лицом к лицу с прусским королем? По крайней мере в случае продолжения войны было бы за что драться, тогда как теперь тысячи людей проливают кровь за Наполеона Третьего и Вильгельма Первого. Печально!»
Варлен перевернул страничку, и из письма выпала небольшая газетная вырезка. Мария быстро наклонилась, подняла и, мельком глянув на нее, передала Варлену.
— Это ваша статья в «Марсельезе» за двадцатое апреля прошлого года. Помните?
— Еще бы не помнить! — кивнул Эжен. «Освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих! — писал он тогда. — Поэтому не будем больше доверяться тем людям, которые до сегодняшнего дня убаюкивали нас пустыми обещаниями, надеясь получить наши голоса, а придя к власти, покинули нас и нам изменили! Теперь все должно идти иначе. Интернационал уже преодолел предрассудок национальной розни. Мы теперь знаем, как смотреть на „провидение“, которое всегда склонялось на сторону миллионеров. „Добрый боженька“ отжил свое время. С нас довольно!.. Мы взываем ко всем тем, кто страдает и борется. Мы — сила и право… Мы должны направить наши усилия против старого „порядка“ — юридического, экономического, политического и религиозного».
Воспоминание искрой пролетело в памяти и погасло.
Мария прикоснулась к руке Варлена горячими пальцами.
— Я была на том собрании в редакционном зале «Maрсельезы», когда вы говорили это, Эжен. Вы не знали, но вы, именно вы спасли меня на краю пропасти, когда ворочаться в помойке, именуемой жизнью, опостылело до последней крайности! Я запомнила ваши речи еще с той поры, когда мы с вами вместе работали у мадам Денвер. Вы были на голову выше других, от вас веяло силой, какая дается только вождям. Вы уволились, ушли, хотя брак с мадам Деньер был бы для вас лестницей в обеспеченное будущее, — так шептались в мастерской все. А вы уволились, и я отчетливо понимала почему. О, женщины проницательнее мужчин, Эжен! И потом — эти письма из изгнания! Вы переживали там то же, что мы, беглецы из Польши, много лет переживаем здесь, в Париже. Когда вы уехали, я заходила к Луи, узнала, что вам грозил новый арест и, конечно, суд. Я помню великолепную речь на втором процессе Интернационала, когда вас присудили к трем месяцам Сент-Пелажи… Да, вы уехали, и мне стало еще тяжелее, Эжен! Многие богатенькие поклонники протягивали ко мне руки, хотя мы, эмигранты, и считались и считаемся здесь людьми второго сорта. Но ведь есть прошлое, которое невозможно и непростительно забыть. Он и его виселица! И было еще настоящее: где-то там, в изгнании, бродили вы, тоже бездомный и, может быть, теряющий силы, отчаявшийся! Я думала, верила, что со временем сумею быть полезной и хоть чуточку помочь вам… И вот теперь… Я не отпущу вас!
— Отпустите, Мария! У меня есть обязанности, и лишь я смогу справиться с ними. Вы же сами никогда не простите мне, если я совершу подлость! У меня хранятся списки членов парижских секций Интернационала, и я должен сделать все возможное, чтобы они не попали в руки версальских палачей. Многих из моих друзей ждут аресты, суд, тюрьма, а возможно, и смерть. Ну, скажите, Мария, могу ли я поступить иначе, даже если у меня всего один шанс из тысячи?
— Да, вы правы, Эжен, как всегда! — Она принялась торопливо застегивать жакетку. — Я иду с вами.
Он медленно и устало покачал головой:
— Нет, Мария! То, что мне предстоит сделать, я должен сделать один. А вы… вы можете поставить меня под удар как раз своей… внешностью, вы слишком бросаетесь в глаза. Нельзя, Мария!
Она напряженно думала несколько секунд, всматриваясь в Варлена с тревогой и заботой.
— Вы совершенно поседели за последние дни. — И, взяв обеими руками его свободную руку, крепко, по-мужски, пожала ее.
— Но вы вернетесь? Да? И вы обещаете быть осторожным, да? Я тоже сейчас должна идти к Врублевскому, кое-что необходимо передать на словах. У него есть возможность достать некоторым федератам фальшивые документы для перехода границы. Постойте-ка…
Мария испытующе оглядела сюртук Эжена, взяла со стола, повертела в руках его шляпу.
— Костюм, что же, вполне приличен! Но знаете что… — Она схватила саквояжик и принялась рыться в нем. — Погодите, погодите немного, Эжен! От слепящего света в типографии у меня одпо время болели глаза, и доктор рекомендовал… Ага, вот они!
Она достала большие очки с темно-зелеными стеклами и надела их ему.
— Спасибо, Мария. Мне пора.
— Я провожу вас мимо консьержки.
— Как раз этого и не следует делать, Мария. Они всегда наблюдательны, эти домохозяйские церберы. Увидит нас вместе и примется следить за вами, вы же чужая, не жили здесь…
— Не беспокойтесь. Здесь, у Сюзи, мне пока ничто особенно не грозит. И меня тут никто не знает, выдумаю что-нибудь и выкручусь…
Приоткрыв дверь, Мария выглянула в коридор, там было пусто.
— Можно, никого нет! Счастливо, Эжен!
ДОКТОР МАРКС (Тетради Луи Варлена. 1885 год)
У Клэр Денвер были любимые писатели и дорогие ей книги, которые она перечитывала с неизменным удовольствием и многие страницы которых знала наизусть. Но влекли к себе и романтические поиски женского идеала Жермены де Сталь в «Коринне» и «Дельфине», заставляла задумываться революционно восторженная назидательность Жорж Санд в «Индиане» и «Консуэло», смешили и восхищали неизменно победные похождения благородных мушкетеров Дюма-отца, не одну слезу пролила она над гротескно-трагическими персонажами добряка Диккенса. С девических лет вошло в привычку перелистывать перед сном несколько страничек причисленных еще при жизни к «бессмертным», а ныне — увы! — покойных корифеев слова: Стендаля и Бальзака, Эжена Сю и Мюссе.
Но в напряженные месяцы войны и осады, и особенно в дни разгрома Коммуны, в последнюю неделю мая, тревожными и тоскливыми вечерами, когда нечем было занять себя, Клэр впервые перестали волновать несчастья и сердечные муки вымышленных литературных героев. Полистав ту или иную раньше трогавшую до слез книгу, равнодушно и со скукой откладывала ее и возвращалась к дневникам Луи. Возможно, лишь потому, что понимала: в этих тетрадях не выдумано ни одно событие, ни одна человеческая судьба, здесь пусть и не слишком красочно и увлекательно, но написана правда.
А кроме того, Лун рассказывал о человеке, который все эти годы был Клэр дорог, хотя и не всегда понятен. Может, если бы ему в кровавые майские дни ежесекундно не грозила смертельная опасность, Клэр и не вспоминала бы так часто о нем. Но, перелистывая тетради Луи, задумываясь над ними, она то и дело ловила себя на том, что с нетерпением ждет условного троекратного стука в дверь парадного входа. А стука все не было.
В одной из записей Луи она прочла, что однажды то ли в шутку, то ли всерьез, Эжен назвал брата своим «личным секретарем», а позднее «летописцем Коммуны». Что ж, по совести говоря, тетради Луи и были подлинной летописью, местами подкупающе бесхитростной а местами чуточку витиеватой, будто бы претендующей на близость к высокой литературе, — невольное или намеренное подражание запавшим в память строкам гениев, чьи произведения негаснущими кострами освещают нам и вчерашний день, и сумрачные дали веков. Вот над этими страницами, томясь в ожидании и тревоге, Клэр проводила долгие часы.
Сейчас она снова взяла первую тетрадь и отыскала место, где оборвала чтение накануне. Да, здесь… Луи пытается представить себя alter ego Эжена, когда Эжен и его спутники подплывают к Лондону, их пароходик входит в устье Темзы…
Год 1865. Сентябрь, 23
«На пристани их встречают представители лондонских секций Интернационала, британских тред-юнионов. И хотя им не знакомы большинство встречающих, радости нет предела, все обнимаются, словно родные братья после длительной разлуки, пытаются за шутками и приветственными возгласами скрыть волнение. Пожимают такие же натруженные руки.
А кругом тысячами голосов шумит один из крупнейших портов мира, главный порт „владычицы морей“, могучей Британской империи, которой принадлежат колонии во всех частях света. Железно — почему-то хочется сказать: кандально — лязгают якорные цепи, сотни судовых колоколов, перебивая друг друга, отбивают „склянки“ перекликаются басовитые, громогласно-хоральные сирены океанских кораблей — суда поражают непомерной громадностью, эдакие гигантские стальные киты. Комарино-тонко попискивают замызганные, с облезлой краской буксиры, по-хозяйски деловито снуют лоцманские и таможенные катера. Покачивается, царапая небо, бесконечный частокол мачт, на них всеми цветами радуги полыхают, переливаются флаги множества стран, где, вероятно, никогда не суждено побывать. И это сознание навевает странную печаль.
Им повезло. Знаменитые лондонские туманы не омрачили их прибытия, и, хотя солнце здесь не такое пылающе-яркое, как над Парижем, оно достаточно тепло взирает на них сквозь пелену распростертого над портом дыма. Остро пахнет рыбой и нефтью, шумят пьяными голосами бесчисленные таверны, в обнимку с раскрашенными девицами разгуливают матросы всех оттенков кожи — кто в драной, кто в праздничной куртке и тельняшке, с лихо повязанным на шее цветным платком. У одного из кабачков завязывается драка, блестит вскинутый над головами нож, покрывают шум пронзительные свистки рослых, атлетически сложенных полисменов, — в Англии их называют „бобби“. Надрываются от криков вездесущие проныры газетчики.
Как все же велик и разнообразен мир! Три года назад, когда Эжен впервые приехал сюда делегатом переплетчиков на международную выставку, туманный, но все-таки величественный лондонский порт поразил его, словно перед ним ожило закутанное в таинственную дымку фантастическое видение. Тогда он думал, что во второй приезд — если, конечно, суждено! — не испытает подобного чувства. А вот оно снова овладевает им…
Новые друзья любезно отводят гостей в заранее приготовленные номера дешевенькой гостиницы, — денег у каждого в обрез, а Эжену к тому же хочется приобрести здесь книги, которые во Франции запрещены более полутора десятков лет назад. С какой радостью он купит произведения Великого изгнанника Виктора Гюго! Ведь и на чужбине перо писателя не переставало трудиться и, по всей вероятности, от горечи и тоски по родине стало еще разительнее и острее. Эжен надеется перехитрить таможенный досмотр и провезти книги. В прошлую поездку он убедился, что алчных чиновников таможни больше всего интересуют отнюдь не книги, а нечто посущественнее, что можно, ссылаясь на инструкции, изъять из багажа пересекающих границу. Видно, нравы и людская жадность повсюду одинаковы!
Кое-как отряхнув в гостинице дорожную пыль, приводя себя в порядок и наскоро перекусив в ближайшем кафе, все отправляются на первое заседание конференции в таверну Фримэсонс-армз на улице Лонг-Эйкр.
Задача конференции весьма ограниченна, предстоит составить и утвердить повестку работы Первого конгресса Интернационала, который намечено созвать в будущем году. Но им, пролетариям разных стран, так важно познакомиться поближе, обменяться опытом борьбы с фабрикантами и торгашами, захватившими власть на всех континентах. Поди-ка, и не осталось на земном шаре места, где самой победной музыкой не является золотой звон доллара, соверена и франка!
„А мы, рабочие… ведь, несмотря на то что изъясняемся на разных языках, думаем мы одинаково, ибо все мы — люди одной судьбы“. Во всех странах и на всех материках пролетарии одинаково бьются в тисках нужды и бесправия, их жены и дочери преждевременно старятся, а дети чахнут и мрут от недоедания и болезней в приютах и больницах для бедных, а то и прямо на улицах. У голода и нищеты во всем мире — одно обличье, одна внешность, одна суть. И лишь Международное Товарищество Рабочих, именуемое ныне Интернационалом, может дать труженикам возможность борьбы за лучшую власть.
Варлен задумался о докторе Марксе. До знакомства с ним Эжен был чрезвычайно, крайне предубежден против него, так как именно он, Маркс, осмелился выступить с резкой, разящей критикой книги Жозефа Прудона „философия нищеты“, которую все — и Толен, и Бурдон, и Лимузен, и Фрибур — почитают подлинным откровением, современным евангелием трудящихся. И хотя „Нищета философии“ Маркса написана еще при жизни учителя, восемнадцать лет назад, хотя она написана Марксом по-французски и впервые издана в Париже, Варлен принципиально не читал и не брал эту критическую книжицу в руки, так оскорбительна и даже кощунственна казалась ему сама дерзость осуждения учения Прудона, всю жизнь призывавшего людей не к восстаниям и революциям, а к мирному переустройству общества.
И вот… Пусть единомышленники назовут Эжена отступником, но он вынужден признать, что Маркс поразил его своим анализом событий, которые до сего времени представлялись хаотическим нагромождением фактов, лишенным всякой внутренней логики развития. Варлен полагал, что нет объективных законов, управляющих жизнью общества, а Маркс увидел эти законы, вытекающие, по его мнению, из самой сущности взаимоотношений людей. Он подкреплял свои суждения множеством примеров из жизни и данными статистики. Эти примеры и цифры, взятые, кстати сказать, и из французской действительности, оказались весьма убедительны.
Глядя в проницательные глаза доктора Маркса, ов заново перебирал в памяти все, что слышал о жизни этого человека, о его изгнании из родной Пруссии дo обвинению в так называемой „государственной измене и оскорблении его величества“ — удел многих подлинных революционеров! — о лишении прусского гражданства, о высылке из Парижа и Брюсселя по требованию той же Пруссии, не желавшей оставить „преступника“ Маркса в покое даже в изгнании; о тюрьме Амиго в Бельгии, куда он был заключен в сорок восьмом году, о неимоверно трудных условиях существования его семьи. Уже здесь, в Лондоне, Варлену рассказывали, что в доме доктора философии часто не оказывается денег на покупку самого необходимого, на пищу, на лекарства для болеющих детей. Годовалую Франциску похоронили на кладбище для бедных, а деньги на гробик мать заняла у одного из французских эмигрантов; двух сыновей, крошку Гвидо-Фонсика и любимца Эдгара, похоронили… Во всех несчастьях, обрушившихся на семью Маркса, повинна прежде всего крайняя нужда, та же самая нужда, что преследует повсюду и простых тружеников, — такое не может не вызвать искреннего и глубокого сочувствия.
После пяти дней работы, несмотря на споры и расхождения по ряду вопросов, повестка конгресса выработана и утверждена. Следует мимоходом отметить, что делегаты всех стран горячо и озабоченно говорили о женском и детском труде. Как и в Париже, женская доля повсюду тяжелее доли мужчины: помимо многочасовой работы на ткацких в прядильных фабриках, в прачечных, швейных и всяческих ремесленных мастерских хрупкие женские плечи несут на себе основную тяжесть забот о семье. Слабая, больная или беременная женщина вынуждена продолжать работу, и сразу же после родов, истощенная болями и кормлением ребенка, она снова возвращается к машине, станку или корыту. Иначе, без ее заработка, невозможно прокормить семью. А детский труд—варварство, изуверство!
К этой теме Эжен вернется позже, постарается написать несколько статей или, может быть, книгу, а пока хочется глубже вдуматься в слова Маркса, потому что его идеи и утверждения во многом чрезвычайно расходятся с учением покойного учителя. До сих пор Эжен был твердо убежден, что именно Прудон наиболее человечен, а сейчас, сознаться, его уверенность поколеблена. Признаваться ему в этом горько, ведь каждая душевная потеря неизбежно и глубоко ранит!
Итак, доктор философии Маркс. Вот один вечер, проведенный Эженом и его друзьями в Лондоне. И вот первая приветственная фраза, которой встретил их Маркс.
— А, знаменитые парижские апостолы Пьера-Жозефа Прудона! — с иронической усмешкой воскликнул он, пожимая им руки. — Рад видеть! Я имел честь лично знать вашего покойного пророка! В сорок четвертом в Париже мы нередко скрещивали в спорах безжалостные шпаги! К великому огорчению, те схватки не принесли Прудону пользы! Судя по всему, он так и почил под знаменами мира с буржуазией! Какая потрясающая наивность, какая слепота! Да разве… — И, внимательно оглядев собеседников, Маркс перебил сам себя: — Судя по выражению ваших лиц, друзья, вы категорически не согласны со мной. Что ж, значит, предстоит побеседовать по душам!
Тот серьезный и весьма важный для Варлена разговор состоялся уже к концу конференции. В большом Сент-Мартинс-холле отмечали годовщину Интернационала: его создание провозглашено ровно год назад в стенах этого зала.
Вечер проходил удивительпо тепло и непринужденно, многие англичане и обжившиеся в Лондоне эмигранты с материка явились на вечер с женами ж детьми, — женские голоса и девичий смех напоминали о домашнем уюте. Возникало впечатление, что в ярко освещенном зале собралась иа торжественный праздник одна большая и дружная семья.
Невысокая сцена украшена зелеными гирляндами и венками ярко-краевых гвоздик, полотнищами, лентам» и флагами того же цвета, символами революции и республики не только во Франции, а во всем мире. Да, тревожный и в то же время зовущий на борьбу цвет революции — цвет пролитой угнетенными крови!
Эжен не мог подавить мальчишески-восторженного чувства, когда председатель Генерального Совета, английский рабочий-сапожник Джордж Оджер открыл вечер и, подхваченная сотнями голосов, в зале могучим прибоем забушевала «Марсельеза» — интернациональный гимн свободы. Эжен чувствовал, что глаза его влажны. К счастью, в зале все находились в таком же состоянии, никто не заметил его волнения.
Затем выступали многие, кого он видел на конференции, выступали и французы, Малон и Фрибур. Вспоминали прошлые революции, говорили о гражданской войне и Америке, об отмене крепостного права в России, о все продолжающейся преступной французской экспедиции в Мексику, о борьбе фениев Ирландии против владычества Англии. Раскаленная речами память возвращала к войнам в Китае, Индокитае и Африке, к Крымской войне с Россией, к организованной Луи-Наполеоном интервенции в Италии для удушения Римской республики. Поминали тысячи и тысячи французских и английских парней, погибших вдали от родины за чужие интересы.
Трудно описать душевное состояние Варлена в те часы, но, возможно, для выражения подобных чувств и не найдешь слов ни в одном человеческом языке. Конечно, всем сердцем он привязан к родине, к Франции, здесь его корни и истоки! Ее история, обагренная кровью лучших ее сыновей, оживала и словно бы вставала в нем на дыбы! После «Марсельезы» хор и оркестр земляков Маркса, немецких изгнанников, исполнил «Крест над ручьем» и «Вахту на Рейне», итальянские изгои играли «Гвардейский вальс».
Но нет, не общим весельем, радостью и надеждой врезался Варлену в память тот вечер. Он ждал обещанного Марксом разговора как возможности заступиться за того кто сам, из могилы, не может произнести в свою защиту ни одного слова. Варлену представлялось, что французские прудонисты сумеют опровергнуть доктора Маркса, что глубочайшая человечность и миролюбие их учителя никем и ничем не могут быть побеждены.
Маркса на вечер сопровождали его жена, урожденная фон Вестфален, державшаяся строго и скромно, но остротой и иронией взгляда напоминавшая мужа, и две дочери — Женни и Лаура.
Именно к французской делегации доктор Маркс подходил чаще, чем к другим посланцам с континента, — значит, помнил о своем обещании. Ну что ж, доктор, послушаем, поговорим, поспорим!
Но вот истощилось красноречие ораторов, любители портера, оранжада и чая утолили свою жажду, стулья отодвинули к стенам зала, и в образовавшемся кругу завертелись в темпераментной мазурке лихие поляки, застучали каблуки в тарантелле, поплыли в медленных волнах вальса танцующие пары.
Сначала красавец Лимузен, а потом Варлен по очереди вальсировали с дочерьми Маркса, и, хотя Эжен в те минуты был преисполнен жажды мести их отцу за поношение Прудона, он должен был признать, что Лаура девушка на редкость умная и обаятельная. Живые, искрящиеся, как у отца, глаза, но улыбка — доверчивая и женственная, совершенно лишенная сарказма Маркса.
В начале танца Лаура молчала, посматривая на Варлена с любопытством, словно изучая и испытывая, предо ставляя ему право первого слова. Но, как всегда с ним случалось в присутствии красивых женщин, он совсем смутился и спросил самое нелепое, что могло взбрести к голову: — Вы не все объяснили, мадемуазель Лаура! Вашего отца спросили: «Значит, где свобода, там и твой дом?» Кажется, так? И что же ответил доктор Мавр? Где он в наше время увидел истинную свободу?
— О, отец возразил Франклину словами Томаса Пейна, немало повоевавшего за свободу и независимость английских колоний. Он заявил: «Там, где нет свободы, там мой дом!» Так же ответил Фридриху и мой дорогой Мавр. Подобные слова произнес и лорд Байрон, покидая берега Темзы, чтобы сражаться за свободу Греции!
Варлен невольно вспомнил о Гарибальди, мужественно и самоотверженно сражавшемся за свободу народов чужих стран. Лаура осторожно тронула его за руку:
— Вам не наскучила моя болтовня?
— О нет, мадемуазель Лаура! — поспешил он возразить. — Просто мне кое-что вспомнилось… Но, следовательно, домом, то есть родиной вашего Мавра, можно считать любую страну мира? Ибо, насколько я могу судить, обетованной свободной земли пока нет нигде! Всюду, куда ни кинешь взгляд, тирания и деспотизм! Может, где-то в девственных джунглях Африки еще существуют свободные племена! Да и то вряд ли! И там властвуют вожди и жрецы!
Лаура вздохнула и чуть пожала плечамп.
— К сожалению, вы правы!.. Но взгляните-ка! Один из ваших друзей по-видимому жаждет говорить с вами!
Варлен оглянулся. На том месте, где минуту назад доктор Маркс беседовал с его товарищами, никого не было. Светился четырехугольник распахнутой за сценой двери, и, стоя на пороге, Бурдон нетерпеливо махал Эжену сложенной газетой; видимо, обещанный доктором Марксом разговор либо начался, либо вот-вот начнется.
— Извините, мадемуазель Лаура. Мне нужно идти.
— Я — с вами! — И, вероятно, заметив недоумение Эжена, она снисходительно улыбнулась. — Вы полагаете, мосье Эжен, что мне будет неинтересен и непонятен разговор, который состоится между французскими прудонистами и доктором философии Карлом Марксом? О, глубоко ошибаетесь! По мере моих слабых сил я помогаю маме вести переписку Мавра. Он ежедневно получает охапки писем, депеш, телеграмм, должен прочитывать, а нередко и конспектировать сотни газетных и журнальных статей. В его кабинете навалены Гималаи книг и газет! Одному человеку не под силу одолеть работу, которую он взваливает себе на плечи, и мы все по возможности помогаем ему. Ну, пошли же!
В эту минуту оркестр снова заиграл «Дунайские волны», по залу закружились пары. Лавируя между ними, Эжен с Лаурой прошли зал и через минуту оказались в небольшой комнате позади сцены. За столиком слева пристроился англичанин, видимо казначей, перед ним стояло пять или шесть человек, он что-то писал в толстую тетрадь и принимал деньги. В ответ на вопросительный взгляд Варлена Лаура пояснила:
— Ежегодный взнос Интернационала — шиллинг и один пенс. Он им вручает членский билет, Манифест и Устав…
А в глубине комнаты вокруг Маркса толпились французские и германские делегаты. Говорили одновременно двое или трое, поэтому Варлен не смог сразу уловить, о чем речь. Маркс внимательно слушал, заложив руки за спину, под полы сюртука, опершись о тумбочку у окна, но не пытался никого из спорящих остановить.
После ярко освещенного зала здесь было полутемно, и Варлен с трудом разглядел Толена и Фрибура, что-то горячо доказывавших Марксу, — другим, судя но выражению лица, тоже не терпелось ввязаться в словесный поединок. Да, разговор шел об учении Прудона, о кооперативных товариществах и рабочих столовых, о кредитных кассах и кассах взаимопомощи, о борьбе рабочих за благосостояние в пределах существующих государственных рамок и ограничений.
Останавливая поток излишне эмоционального красноречия, Маркс наконец выпрямился и протянул руку ладонью вперед. Голос его показался Эжену одновременно и спокойным и странно напряженным.
— Итак, дорогие французские друзья, — начал он с чуть приметной усмешкой, — я терпеливо выслушал вас. Настала моя очередь. Начну с того, что все сказанное вами мне известно давно, и известно со слов самого Пьера-Жозефа Прудона, вечная ему память! Как о человеке я не могу сказать и не скажу о нем ни одного дурного слова, он был добр, мягкодушен, отзывчив на чужую беду, обладал всеми достоинствами, которыми должен обладать каждый порядочный человек. Я не ошибаюсь в своих оценках? Он не только не убивал и не грабил сам, он и других старался убедить в том, что красть и убивать — нехорошо, зазорно, грех. Я не собираюсь чернить память вашего учителя, дорогие сотоварищи, я хочу поговорить с вами о его учении и начну с того, что оно принесло и сейчас приносит делу революции чрезвычайно много вреда. Он убеждал вас не бороться с хозяевами предприятий, не бастовать, не бунтовать, не устраивать революций?
Маркс с полминуты молчал, по очереди, все с той же иронической усмешкой разглядывая слушателей.
— Молчите? Следовательно, я прав! Но тут перед нами встает следующий вопрос: а убеждал ли Прудон хозяев предприятий не бороться с вами? А? Ну-ка, оглянемся на действительное положение вещей. — И глаза у Маркса неожиданно стали пронзительными и острыми. — Четырнадцатичасовой рабочий день на большинстве заводов и фабрик, бесконечные штрафы за малейшую провинность, увольнения, локауты, выселения из фабричных квартир посреди зимы прямо на улицу с детьми! Это что, не борьба прстив вас? И заметим: с помощью жандармов, а иногда и войск. Борьба это или нет?!
Все снова молчали: возражать, собственно, было нечего. И Маркс прекрасно видел и понимал положение своих собеседников.
— Продолжаете молчать, господа прудонисты? — чуть наклонившись вперед, спросил он. — Так почему же почтеннейший Пьер-Жозеф Прудон обращал свою проповедь ненасилия преимущественно к вам, а не к ним? То, что буржуа творят против вас и ваших семей, — это, по-вашему, простите, евангельскому убеждению, не борьба, не насилие?
И опять наступила тишина, чуть слышно прошелестел к бумаги на столе казначея.
А Маркс продолжал, но уже без усмешки, а с беспощадной прямотой:
— Ну, если вы так полагаете, мосье прудонисты, значит, мы с вами думаем принципиально разно, подходим к событиям с различными оценочными критериями. Да, да! — почти крикнул он. — Ваш благостный Прудон призывал вас мириться с нищенским, полурабским существованием, призывал подчиняться насилию и произволу буржуазии. Ну чем не Христос: ударившему тебя по левой щеке угодливо подставляй правую. Прекрасно! Он призывал вас быть «практичными» — я употребляю его выражение — в борьбе с буржуа лишь в пределах существующего строя, толкал к любым компромиссам, не вызывающим революционных бурь? Ведь это именно так, признайтесь! Но я, дорогие мои французские друзья — я все же надеюсь, что мы станем друзьями! — просто смеюсь, хотя, надо заметить, смеюсь достаточно горьким смехом, над такими «практичными» людьми и их трусливой премудростью в обществе безмерного насилия и произвола! Если хочешь быть скотом, нужно повернуться спиной к мукам человечества и заботиться лишь о собственной шкуре! Так вот, ваши хозяева, они же ваше «избранное» народом правительство, как, кстати сказать, и правительства подавляющего большинства стран, — скоты, то есть они стоят спиной к нуждам народов, к бедам и страданиям ваших семей. Почему? Да потому, что буржуа, к миру с которым так настойчиво призывал ваш покойный мессия, ему, буржуа, необходимы — хотя бы просто из-за того, что он привык к ним! — дворцы, замки, виллы и яхты на Лазурном берегу, где ваши жены и дочери за нищенскую плату и за огрызки бананов с господского стола будут до блеска мыть роскошные апартаменты и носить на столы хозяев яства, которых отродясь не пробовали! Нет? Не так? Вы как будто хотите возразить мпе, уважаемый Анри-Луи Толен?
Ожидая ответа, Маркс неторопливо достал из кармана сюртука портсигар, бронзовую гильотинку. Из большого зала по-прежнему неслись плавные певучие звуки «Дунайских волн», и Эжену казалось странным, что всего десять мннут назад он вальсировал там с Лаурой, дочерью этого Мавра. А сейчас она стояла рядом с ним и чуть приметно улыбалась.
— Нет, милейший Толен? — иронически спросил Маркс, обрезав кончик сигары. — Простите, значит, мне показалось! Вернемся к теме. Как бы вы ни были красноречивы, как бы ни распинались перед вашим сытым и жирным Шнейдером, владельцем десятка самых мощных сталелитейных заводов Франции, вы не убедите его добровольно уступить вам ни одного франка, ни одного су, ни одного сантима! Ибо такова его сущность, о которой так старательно и упорно забывал ваш покойный Пьер-Жозеф! И таких Шнейдеров в вашей благословенной богом Франции тысячи, и именно из них состоит «избранное народом» правительство! Разве нет?
Маркс прикурил сигару от восковой спички и, разгоняя ладонью дым перед лицом, продолжал:
— Кстати, напомните мне, сколько дерет с вас, то есть с французского народа, ваш самозваный и самочинный император, это развратное усатое чудовище? Кажется, его «труды» и любовные утехи ежегодно обходятся Франции в три миллиона франков? Это — не считая того, что он и его семейка пожирают бесплатно на чуть ли не ежедневных приемах и балах в Тюильри и Версале!.. О, в новом Бонапарте императорский претендент так тесно сросся с разорившимся авантюристом, что великая идея о его высоком назначении восстановить Империю у него всегда дополнялась другой великой идеей: о призвании французского народа платить его мошеннические долги! Не так ли? Ну что ж, если кто-то на вершине государства играет на скрипке, следует ли удивляться, что стоящие внизу пляшут?
Маркс замолчал, пристально всматриваясь в лица стоявших перед ним и только что кипевших яростным желанием вступить с ним в открытый словесный бой. Но все молчали, Варлен видел чуть растеряпные лица Толена и Бурдона. Да и ему самому вдруг захотелось не говорить, а послушать, что же еще скажет Маркс, хотя возражений, сформулировапных еще покойным Прудоном, у Эжена было немало! Неужели только борьба? Неужели люди не могут договориться? Ведь добро и разум сильнее зла.
Маркс раз и другой сильно затянулся сигарой, пустил к потолку тугую струю дыма.
— Давайте-ка, друзья, еще разок пристально оглянемся на прошлое вашей великой и истинно революционной страны. И нельзя не отметить — многострадальной. Ни одна страна Европы не проливала у подножий своих тронов столько крови! Итак, еще два слова о вашем милом авантюристе-императоре. Кто из вас помнит статью сорок четвертую конституции Франции? Никто? — Маркс засмеялся с торжеством, в котором, однако, сквозили горечь и, пожалуй, легкое презрение. — Так вот, любезные, осмелюсь вам напомнить вашу конституцию, принятую после бегства «короля-гражданина» Луи-Филиппа. Статья сорок четвертая конституции гласит: «Президентом Французской республики не может быть тот, кто когда-либо потерял французское гражданство». За точность цитаты ручаюсь! Так вот, друзья, ваш бывший президент, а ныне император Луи-Наполеон, не только потерял французское гражданство, не только был добровольным полицейским констеблем в Англии — он был даже натурализованным швейцарцем. Каков пройдоха? А? Вот тут я полностью согласен с дражайшим Прудоном, когда он кричал в лицо так называемым либералам: «Вы болтуны и — ничего больше!» Но это, пожалуй, единственный пункт, по которому я не стал бы спорить с вашим пророком!
Маркс как-то странно и коротко засмеялся, но тут же снова стал серьезен. Многие лондонцы, отойдя от столика казначея, присоединились к группе вокруг Маркса.
— Зачем я все это вам говорю? — спросил, помедлив, Маркс, обводя всех испытующим взглядом. — А лишь затем, любезные мои слушатели, что все сказанное имеет непосредственное отношение и к учению Прудона, и к важнейшему сегодня вопросу: что предпринимать дальше нам, членам Интернационала? Ведь именно для этого съехались мы сюда со всей Европы!.. — Он задумчиво потер ладонью лоб. — Да, еще одно напоминание о пресловутом Баденге! Об этом бессовестном искателе приключений, скрывающем свое пошло-отвратителыше лицо под железной маской мертвого Наполеона!.. И до своего восемнадцатого брюмера, то есть до объявления себя императором в пятьдесят втором году, он не раз пытался вскарабкаться на трон своего покойного дядюшки. При Луи-Филиппе он дважды высаживался на севере Франции, чтобы провозгласить себя императором, но оба раза неудачно. Повторная попытка закончилась для него пожизненным заключением в крепости Гам, откуда ему удалось бежать в как-то раздобытой одежде каменщика Баденге, — отсюда и его прозвище! За шесть лет сидения в знаменитой цитадели он настрочил объемистое сочинение, в коем объявлял себя «другом рабочих и бедных классов» — ни более ни менее! Именно эта книжица обманывала и обманывает столько лет деревенскую французскую бедноту.
Стряхнув пепел с сигары, Маркс неожиданно пристально посмотрел прямо в лицо Эжену.
— Мосье Варлен! Не это ли ублюдочное и полное лжи творение вам неоднократно приходилось переплетать в кожу и сафьян? Не оно ли обмануло и вас, и Прудона? Ведь именно ваш благостный Прудон писал о «рыцарском сердце, уме и доброте» Наполеона Малого!
Варлен молчал, не находя что ответить. Конечно, многое из того, что говорил доктор Маркс, временами приходило в голову и ему, но мысли были не собраны, хаотичны, разрозненны. И потом, его понимание добра и милосердия к ближнему само по себе исключало необходимость беспощадной борьбы. Ведь видел же Прудон иной путь!
А Маркс продолжал, изредка окутывая себя дымом сигары:
— Молчите? И что же получается? Целый народ, полагающий, что он посредством революции ускорил поступательную силу своего исторического движения, внезапно прозревает и видит себя перенесенным, откинутым назад в давно умершую эпоху! И чтобы устранить всякие сомнения у него на сей счет, правители вновь воскрешают старые, почитавшиеся когда-то даты, старое летосчисление и календари, старые имена и эдикты, сделавшиеся достоянием антикварной учености! Так воскресают, казалось бы, прочно истлевшие жандармы и полицейские, позолоченные орлы и гербы. Словом, возрождается весь реквизит общественного угнетения и насилия! Нет, не ваше французское общество отвоевало себе новое содержание, а государство лишь вернулось к своей древнейшей форме, к бесстыдно-простому господству меча и рясы! И это не все! Недостаточно показать на примере французов, что их нация была застигнута врасплох. Нации, как и женщине, не прощается минута оплошности, когда первый встречный искатель приключений совершает над ними насилие!.. Увы! Именно при Луи Бонапарте крупная буржуазия стала подлинной его опорой. А мосье Прудон и через тринадцать лет после воцарения узурпатора продолжал петь сладкоголосые псалмы о мире с буржуазией! О, ваш прудонизм, по-видимому, еще долго будет путаться под ногами революций! А вы…
— Но, доктор Маркс! — перебил Анри Толен. — Вы же, вероятно, знаете, что последнее время Империя пошла на целый ряд уступок рабочему движению! Отменен закон Ле Шапелье о забастовках, вот Эжен Варлен и его переплетчики добились значительных успехов в забастовках. Мы убеждены, что в самом недалеком времени получим разрешение на свободу собраний, на издание своих газет.
— Ах, дорогой Толон! — рассмеявшись, воскликнул Маркс. — Вы, видимо, полагаете, что до царственных ушей дошла проповедь Прудона и Баденге внял ей?! И снизошел к народным бедам, стал добреньким? Нет! Просто трон под ним слишком уж сильно заскрипел, зашатался! Вот и все! Он и швырнул вам косточку: радуйтесь, мусольте ее, господа прудонисты! Вы одержали величайшую победу!
И Маркс снова засмеялся, горько и укоризненно.
— Нет, дражайший Толен, вы скоро увидите: Баденге придумает какую-нибудь спасительную для него штучку, вроде очередной военной авантюры. Придумает Франции нового внешнего врага, пририсует ему рога и копыта, и вы все сломя голову броситесь защищать нацию, а значит, не только себя, но и Шнейдеров и самого Баденге! Маленькое кровопускание никогда не повредит великому народу, — говаривал некий скорпион в министерском мундире. Что ж, неплохо придумано! О да, на вас напялят военную форму, и вы броситесь на всякого, кого вам подставят, броситесь с воинственным кличем: «За императора, за отечество!» А за что сейчас умирают французские ребята в Мексике, в Индостане, в Алжире, в Китае? Вы полагаете, что Баденге и правда надеется возродить былое военное величие Франции своими бездарными походами? Э, нет, дорогой Толен, это лишь то самое «маленькое» кровопускание, на которое уповал Талейран. Не более того! А удушение героической Итальянской республики, — вы и эту подлость простили усатому узурпатору? Ну вы поистине добрейшая душа, достойный последователь Пьера-Жозефа!
Чуть заметно покрасневший Толен поднял было руку, но Маркс жестом остановил его:
— Одну минутку, Толен! Я ответил еще не на все ваши вопросы! Ах, вы добьетесь разрешения рабочих собраний? А на каждом таком собрании разве не будет сидеть десяток шпиков или даже, быть может, переодетых жандармов? За малейшую хулу на императора или членов его августейшей семейки, на его политику вам будут давать такую оплеуху, что вы не скоро очухаетесь! Разрешат газеты? И будут душить им горло цензурной гарротой! Нет, господа, видно, не настала для вас пора прозрения от слепоты прудонизма!
И рассерженный Мавр ожесточенно притиснул к пепельнице на столике недокуренную сигару.
— Я просто поражаюсь, глядя на вас, прекраснодушные политические деятели: ведь даже женщины порой стоят ближе к революционной истине, нежели вы! — Из бокового кармана сюртука Маркс извлек небольшую книжечку. — Однако, предвидя некоторые из ваших возражений, я, друзья, отправляясь на сегодняшний вечер, захватил с собой написанную мной около двадцати лет назад «Нищету философии». Мне хочется напомнить, что я заканчиваю ее цитатой из романа вашей соотечественницы Жорж Санд! Эта умная женщина, которой я когда-то имел честь преподнести сию книжицу, кончает свой роман «Ян Жижка» мудрыми словами: «Битва или смерть; кровавая борьба или небытие. Такова неумолимая постановка вопроса!» Каково сказано, а?! И я с ней совершенно согласен, она гораздо дальше ушла по дороге революции, чем вы, господа прудонисты!
Маркс достал из жилетного кармана часы, мельком глянул на циферблат и перевел свой взгляд на Лауру.
— Кажется, нам пора, дочка? Поищи-ка, пожалуйста, где наши? — И когда Лаура, кивнув, ушла, снова обратился к французским друзьям — А разговор мы продолжим у меня дома. Первого октября приглашаю вас к себе на скромный семейный обед. Сознайтесь, многие из вас даже не разворачивали мою книжку лишь из предубеждения, лишь из любви к Прудону. Угадал, да?!
Варлен невольно подумал: «А он весьма проницателен, этот ученый Мавр! Верно определил и наше теперешнее состояние, и прошлую боязнь полемизировать с Прудоном! И все же сейчас я не могу отказаться от учения моего незабвенного учителя, не могу так легко, после одного разговора с Марксом, предать то, во что верил всю мою сознательную жизнь!»
Маркс передал свою книжку Толену, но Эжен в тот же вечер взял ее у него, ночью дважды внимательно перечитал и многое передумал над ее страничками. У него перед глазами стояли последняя встреча с учителем незадолго до его смерти, похороны и речь Эжена Потье над разверстой могилой, — все так памятно, так живо, словно он пережил это лишь вчера. Да, кощунственно восставать против учителя после его смерти, когда он лишен возможности защищаться и привести в доказательство своей правоты новые аргументы! И в то же время нельзя не признать убедительности доводов доктора Маркса. И с тем большим нетерпением Эжен ждал обеда, на которыл был цриглашеп.
Два дня до встречи в семье Маркса Варлен провел во всевозможных хлопотах. Бродил по книжным магазинам, кое-как объясняясь, покупал нужное, в одном букинистическом магазине купил и «Нищету философии». Ему хотелось поскорее вернуться в Париж и у себя дома, в спокойной обстановке своей мансарды, положить рядом две социально-философские работы: «Философию нищеты» и «Нищету философии», свести их в жестоком поединке.
Обед у доктора Маркса был и правда весьма скромен — ни изысканных блюд, ни дорогих вин. Но Эжен всегда был равнодушен к материальной стороне жизни. Ею мучили сомнения, он спрашивал себя: так что же, Маркс — последователь и единомышленник Огюста Бланки, который считает, что лишь при помощи за говоров и цареубийств народ в лице его лучших представителей может прийти к власти? И у него на языке вертелось множество вопросов, которые не терпелось задать Марксу.
Когда он постучал бронзовым молотком в дверь его квартиры, ему открыла Лаура, в ее милых зеленовато-темных глазах вспыхнула улыбка.
— Я рада видеть вас! Вы, наверно, всегда и всюду чуточку опаздываете? Уже явились и Юнг, и Беккер, и Де Пап, и большинство из ваших. И опять, как обычно, ведутся страстные политические дебаты. Наш дорогой Мавр нe в силах отказаться от благородной идеи переделать этот несовершенный мир на свой лад. И я всецело на его стороне!
Лаура взяла у Эжена трость и шляпу, а он не удержался, чтобы не ответить в тон ей:
— Да, я вижу, мадемуазель Лаура, что вы изо всех сил помогаете доктору Мавру в его труде и тоже как будто не щадите сил!
— А что делать мне, если я верю своему дорогому Мавру так же, как вы верите Прудону, а?!
Он не успел ответить на ее язвительный вопрос — дверь в комнаты распахнулась, и на пороге появилась девочка лет десяти, в светлом платьице, выражением глаз и улыбкой напоминавшая Лауру.
— Познакомьтесь, мосье Эжен, наша шалунья, моя сестрица Элеонора, она же — Тусси. Ведь ты позволишь нашему гостю называть себя так, Тусси?
Чуть чопорно, подхватив пальцами подол платьица, девочка присела.
— Если мосье Эжену угодно меня так называть, пожалуйста, я и для него — Тусси! А ты — Какаду! И — Птичий глаз!
Обе они рассмеялись, рассмеялся и Варлен, но, слыша громкие мужские голоса за дверью, заторопился. Хотелось поскорее попасть туда, послушать, по выражению доктора Маркса, «звон скрещивающихся шпаг».
Бродя но книжным магазинам, Варлен задержался, — и Толен, и Бенуа Малон, и Лимузен уже были здесь.
Не желая прерывать беседы, он поклонился от двери общим поклоном, а Лаура, осторожно взяв его за руку, провела и усадила на свободное место в торце стола. Немолодая женщина, позднее Эжен узнал ее имя — Елена Демут, придвинула ему тарелку, положила из большого блюда цветной капусты и спаржи, кусочек бекона, придвинула бокал.
Лаура присела рядом с Варленом, спросила шепотом:
— Что будете пить, застенчивый мосье Эжен?
— Все равно…
— Так я и полагала…
Говорил, обращаясь преимущественно к Толену а Малону, доктор Маркс:
— Дело объясняется крайне просто, друзья! Династия Бонапартов представляет не революционного, а консервативного крестьянина, не деревенское население, стремящееся собственными силами, наряду с городами, ниспровергнуть старый порядок, а деревенское население, которое, наоборот, тупо замыкается в отжившем старом порядке и ожидает спасения и преимуществ для себя и своей парцеллы от призрака Империи. Династия Бонапартов представляет не просвещение, а суеверие крестьянина, не его рассудок, а его предрассудок, не ею будущее, а его прошедшее, его современную Вандею! Вот чего не понимал и не хотел ни понимать, ни видеть Прудон!
Вопросительный и одновременно иронический взгляд Маркса скользнул по лицу Варлена.
— Прошу прощения, господа, — чуть поклонился он остальным. — Я рад приветствовать за своим столом еще одного защитника проповедей Прудона, мосье Эжена Варлена! И сейчас позволю себе ответить ему на угадываемые в его глазах вопросы словами самого же Прудона. — Маркс встал, отступил шагов пять в глубину комнаты, к книжному шкафу, взял с полки зеленую папку и, полистав ее, достал сложенное вчетверо письмо. — Дорогой Варлен! Прошу именно вас внимательно послушать, что написал мне много лет назад ваш учитель. Читаю: «Я исповедую теперь почти абсолютный антидогматизм в экономических вопросах. Не нужно создавать хлопот человеческому роду идейной путаницей: дадим миру образец мудрой и дальновидной терпимости; не будем разыгрывать из себя апостолов новой религии, хотя бы это была религия логики и разума. Я предпочитаю лучше сжечь институт частной собственности на медленном огне, чем дать ему новую силу, устроив Варфоломеевскую ночь для собственников…» Вот так писал мне мосье Прудон. Попытаемся перевести данные призывы на обыкновенный человеческий язык. Под Варфоломеевской ночью для собственников Прудон безусловно разумеет революцию и со всей своей апостольской страстностью предостерегает: не нужно! Нельзя! Табу! И далее пишет: «Попутно я должен сказать вам, что намерения французского рабочего класса, по-видимому, вполне совпадают с моими взглядами». — Маркс сложил мелко исписанные листочки. — Вот так. А я позволю себе усомниться, что рабочий класс нынешней Франции предпочитает кабалу и рабство истинной свободе, империю насильников — народной республике. Не так ли, дорогой Варлен?
Эжен чуть растерялся от прямо обращенною к нему вопроса, но запальчиво спросил:
— Значит, прав Бланки?! Значит — заговоры, восстания, убийства из-за угла, насилие против насилия, да?
Маркс ответил не сразу, внимательно рассматривая Варлена из-под крутых и чуть тропутых сединой бровей.
— Огюст Бланки! — задумчиво, с уважением и с какой-то странной печалью протянул он, садясь и придвигая к себе бокал белого вина. — О нет, дорогой Варлен! Бланки — цельная и могучая душа, человек неиссякающего стального мужества! Вся его жизнь — беспрестанный подвиг. Я помню его в Париже весной сорок восьмого года, мы с женой и дочерьми тогда жили там. Париж бурлил, ликовал, праздновал: только что свершилась революция. Луи-Филипп, а за ним Гизо и герцогиня Орлеанская бежали в Англию. Всегда великодушный в дни своих побед французский народ не препятствовал их бегству. И вот тогда, в один прекрасный солнечный день, на площади Согласия я увидел Бланки. Он был предельно изнурен, измучен, его только что привезли в Париж из тюрьмы-крепости Мон-Сен-Мишель, где он отбывал пожизненное заключение, заменившее ему смертную казнь, к которой его приговорили судьи «короля-гражданина» Луи Филиппа за попытку неудавшегося восстания тридцать девятого года. Напомню и вам, Эжен, и вам, господа, что, выйдя на свободу, Бланки уже не застал в живых ни жены, ни единственного ребенка! Это ли не величайшая человеческая трагедия?! — Маркс опять пристально посмотрел Эжену прямо в глаза. И продолжал: — Нет дорогой Варлен, я не могу сказать об Огюсте Бланки ни одного плохого слова! Это — безупречный рыцарь революции, проносящий ей в жертву все самое дорогое, что у него есть! — Задумчивым взглядом Маркс обвел сидевших за столом. В этом взгляде необъяснимо сочетались и уважение, и грусть, и жалость. Но когда Маркс заговорил снова, в его голосе уже не было даже оттенка этих чувств. — И все же Бланки не прав! — убежденно и с силой сказал он. — Победоносные революции могут быть свершены не заговорщиками в таинственных черных масках, с кинжалами под полами истрепанных плащей. Да, да! Подлинно победоносные революции совершается пародами. И — только народами! Если за спиной любого самоотверженного и честнейшего вождя не стоит народ, любой заговор, любое восстание, даже если оно называет себя революцией, неизбежно обречено на трагическую гибель. Такова неумолимая логика истории, которой, увы, не разумел достопочтенный Прудон… Не понимает этой беспощадной логики и Огюст Бланки. И благодаря этому его героические, заслуживающие всяческого уважения усилия и принесенные им жертвы — все — впустую! Нет, друзья, у народных революций другой путь…
Потом разговор перекинулся на женский и детский труд, распространенный по всей Европе и повсюду — преступно ужасный. Доктор Маркс слушал не перебивая говоривших, едва слышно барабаня пальцами по краям стола. Елена Демут угощала кофе. Наконец, когда все высказались, Маркс вздохнул устало и тяжко, словно сам сию минуту отошел от неумолимо вращающегося прядильного колеса.
— Для книги, которую я сейчас пишу, — сказал он, — мне пришлось переворошить уйму материалов. И должен вам сказать, что детский труд — самое позорное явление нашего низкого века, и первейшей задачей подлинно народной революции будет уничтожение этого варварства… И мне понятно, почему этот вопрос вы так остро ставите перед собой… А я назову вам несколько цифр, почерпнутых мной здесь, в великой, могучей и процветающей Британии! В прошлом веке дети в Англии начинали работать с четырех и пяти лет! Да, да, мосье, с четырех и пяти! Городские власти обязывались отнимать детей у родителей и следить, чтобы дети не покидали стен мануфактур. В Германии и Австрии, замечу попутно, правительство выдавало премии владельцам мануфактур за каждого работавшего ребенка. И работали дети по тринадцать-четырнадцать часов в сутки, жили в ужасных условиях, смертность была поистине чудовищной! Вот так, дорогие собеседники. И сие зло, сия подлейшая язва может быть излечена лишь той социальной революцией, о которой мы мечтаем и за которую боремся, а не мирными прудонистскими соглашениями с кровососами!
И последнее, что запомнилось Варлену в тот день, — коротенький разговор с Лаурой, сидевшей за обедом рядом с ним. Он сказал ей:
— Ваш Мавр, мадемуазель, проявляет подчеркнутый интерес к моей родине, к Франции. Почему? Ведь его волнуют проблемы революционного движения всей Европы и Америки, всего мира.
— Сейчас я вам покажу объяснение, — шепнула Лаура, вставая. Отошла к одному из книжных шкафов и через минуту вернулась с уже тронутым желтизной листком бумаги. На нем было крупно напечатано: «Временное правительство Французской республики. Свобода, Равенство и Братство. От имени французского народа.
Париж. 1 марта 1848 года.
Мужественный и честный Маркс!
Французская республика — место убежища для всех друзей свободы. Тирания Вас изгнала, свободная Франция вновь открывает Вам свои двери. Вам и всем тем, кто борется за святое дело, за братское дело всех народов!
Привет и братство!
Фердинанд Флокон».
И, улыбаясь своей всегдашней улыбкой, Лаура спросила:
— Это что-то объясняет вам, Эжен?
Вместо ответа он с глубоким уважением поцеловал ей руку.
НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ
Луи не возвращался в дом Денвер более трех суток — все не терял надежды отыскать брата или хотя бы что-то узнать о нем. Ему, ковылявшему от баррикады к баррикаде, с улицы на улицу, из одного округа города в другой, никто не чинил препятствий: ну что спросишь с убогого, да к тому же, судя по выражению лица, потерявшегося от горя? На Луи лишь косились с состраданием или брезгливой жалостью, а одна сердобольная старушка, проходя мимо, сунула ему в карман печеную картофелину. Ночью Луи сжевал ее без соли, не очистив от кожуры.
Он и сам не понимал, откуда брались силы, но бродил и бродил, словно лунатик, лазил по разгромленным баррикадам, переворачивал там и тут трупы, смотрел в мертвые, застывшие лица—«Не он! Слава богу! Не он!» — и отправлялся дальше, к другому месту побоища. А такие моста попадались через каждые сто — двести метров, на любой улице, на любом бульваре, на всех площадях.
И лишь с наступлением ночи, в багровой дрожащей полутьме, Луи не ложился, а буквально падал на скамью в попадавшемся на пути бульваре или парке, пытаясь уснуть. Так он провел первую ночь в парке Монсо, вторую — на кладбище Монмартр, где кованые чугунные ворота оказались распахнутыми настежь и будка привратника разнесена снарядами вдребезги, а третью — в безымянном садике — сам не запомнил где.
Но и на предельно измученного на него по ночам не снисходили забытье и милосердие сна, не снисходили лишь потому, что его не покидало, да и не могло покинуть, чувство бесконечной тревоги за Эжена, — она не оставляла его и во сне. Правда, в каком-то дальнем закоулке души теплилась надежда, что, побывав на pю Лакруа, Эжен получил записочку с именем Клэр, оставленную Луи их давнему другу владельцу кафе «Мухомор». Следовательно, необходимо сохранить силы, чтобы наведываться к Деньер. Да, да, пусть изредка, но обязательно нужно заходить туда, тем более что именно там в холщовой сумке хранятся драгоценные для Эжена документы, а Луи не считал себя вправе решить, как с ними в конце концов поступить.
Ночами он лежал на жестких садовых скамейках, уставясь неподвижным взглядом в небо. Там, в небе, будто колебля черные узоры древесной листвы, бесконечной чередой катились пепельно-белые, окрашенные понизу красным облака. В ветвях пронзительно и жалобно кричали птицы, кружась возле разрушенных гнезд.
Ноги Луи, отекшие за голодное время осады, опухали все больше. В довершение несчастий на развороченной снарядами площади Сент-Августин он оступился и подвернул ногу — даже с тростью ходить стало нестерпимо больно. Эту довольно дорогую и модную, инкрустированную перламутром трость брат купил Луи в день его рождения полгода назад, вскоре после возвращения из бельгийских скитаний. Вручая ее, Эжен не особенно весело пошутил: «Ну, теперь ты, Малыш, можешь при случае бахвалиться, будто ранен прусским штыком или саблей, скажем, под Седаном или Мецем! Эдакий заслуженный имперский вояка, а?! Не хватает только гвардейских шевронов да военных медалей на груди, а так маскарад — полный!»
О шутке брата Луи не раз вспоминал в эти дни в своих безрезультатных поисках. Чувствуя под ладонью костяной набалдашник трости, он как бы ощущал рядом Эжена, и это вселяло уверенность, что тот жив, что они обязательно встретятся. И они действительно встретились, но рассказ об этом — путь позже…
Под вечер третьего дня вторжения на улице Риволи зажигательный снаряд ударил недалеко от Луи в стену, и сбитой с фасада гипсовой статуей какой-то греческой богини убило ковылявшего внизу старичка. Костыль его взрывной волной отшвырнуло в сторону.
К этому времени Луи достаточно насмотрелся на картины смерти, сердце перестало отзываться на них, словно окаменело. Самого его в тот раз не задело ни осколками снаряда, ни обломками стены; стоя в подъезде, он долго не трогался с места, глядя на убитого. Тот не подавал никаких признаков жизни, а костыль, на который Луи так жадно посматривал, валялся шагах в пяти. Переждав, пока осели пахнувший керосином дым и кирпичная пыль взрыва, Луи подошел к убитому.
Старикашка оказался одним из тех наполеоновских ветеранов (уж не тот ли это вояка, бушевавший в «Лепестке герани»?), которые всего восемь дней назад, при свержении наполеоновской Вандомской колонны, когда лопнули канаты кабестана, вопили, исступленно ликуя: «Стой, Цезарь! Держись, император!» А через час по-старчески бессильно рыдали, когда новые канаты опрокинули основательно подрубленную громадину колонны на песчаную подушку и когда отколовшаяся при падении бронзовая голова их кумира, их поверженного идола с глухим мертвым звоном покатилась по мостовой. О, наполеоновские ветераны ненавидели Коммуну, пожалуй, не меньше, чем Тьер и его версальская свора!
Торопясь, пока пламя не охватило полуразрушенный дом, Луи отошел от убитого и подобрал костыль: мертвому он никогда больше не понадобится. До блеска отполированный ладонями ветерана, украшенный крупными позолоченными буквами «Н», костыль оказался Луи немного коротковат, но все же с его помощью было несравненно легче передвигаться. Трость практически стала Луи не нужна, даже просто мешала, но бросить подарок Эжена, конечно, не поднималась рука. Придется отнести ее, припрятать где-то, вероятнее всего — у мадам Деньер.
С невольной благодарностью покосившись последний раз на убитого вояку, Луи побрел дальше. Куда? Он и сам но знал. Круг его поисков стремительно сужался: в первый день вторжения версальцы захватили близкие к воротам Сен-Клу аристократические кварталы Отей и Пасси, где их встречали как долгожданных гостей, заняли Гренель и Батиньоль, затем коммунары вынуждены были оставить Монпарнас и пролетарский Монмартр, а также значительную часть Латинского квартала и правобережье центра.
Луи останавливал каждого попадавшегося ему навстречу национального гвардейца, кидался к тем, на чьих кепи серебрились офицерские галуны.
— Где Эжен Варлен, командир Шестого легиона? Вы не видели Эжена Варлена? — без конца спрашивал он — Где Коммуна и штаб Центрального комитета?
Иные отмахивались от него, спеша по своим делам, другие хмурились, подозревая в нем версальского лазутчика, — они наводнили Париж еще до начала штурма. Один старый бородатый гвардеец с испятнанной кровью повязкой на шее даже замахнулся и чуть не ударил Луи кулаком по лицу.
— А тебе зачем понадобилась Коммуна и штаб, шпик проклятый?! — крикнул он с такой яростью, что Луи отпрянул.
— Я шпик? Я?! — с возмущением и растерянностью переспрашивал он еле шевелящимися губами. — Да разве я…
Но бородатый не дал договорить.
— А это что?! — рявкнул он, ткнув штыком гласно в позолоченпую букву «Н» на костыле. — Ишь вырядился под пролетария, продажная шкура! Из-за вас, сволочей, она и гибнет, наша Коммуна! Скажи спасибо своему увечью, а то прикончил бы тебя к чертовой матери! У-у, тварь!
И, плюнув на стоптанный башмак Луи, гвардеец побежал к баррикаде, над которой еще развевался красный флаг.
Дрожа и чуть не плача от незаслуженной обиды, Луи доковылял до мраморной чаши небольшого фонтанчика, присел на ее край и, кривясь от боли, сначала пальцами, потом зубами принялся сдирать с костыля проклятую наполеоновскую эмблему. И, наконец отодрав, отшвырнув в сторону, оглядел костыль. А что ж, по совести говоря, гвардеец мог по такой улике заподозрить в Луи вражеского шпиона. Кто-то вчера рассказывал на баррикаде у Мадлен, как попы и монашки сигналят фонариками с церковных колоколен в сторону врага.
Парижские фонтаны пересохли давно, с начала прусской осады, еще до войны Коммуны с версальцами, но вчера прошел дождь, и на дне мраморной чаши, на краю которой примостился Луи, застоялось тусклое, припыленное озерцо воды. В нем лежали сорванные пулями ветки каштанов, белели увядшие лепесткя облетевшего цветка. Нагнувшись, Луи не смог дотянуться до воды рукой пришлось опуститься на колена. Вода была грязная и теплая, прогретая солнцем, но он с жадностью сделал глоток, зачерпнув воду ладонью, потом обильно смочил лоб и щеки. Покосившись на прислоненный рядом костыль, подумав, наскреб с земли горсть пыли и образовавшейся в ладони грязью старательно затер след содранной с костыля эмблемы.
— Луи?! — обрадованно крикнул кто-то позади. Вздрогнув от неожиданности, Луи узнал голос Жюля Валлеса. С быстротой, какую позволяли усталость и больная нога, он обернулся и встал.
Да, с тротуара к фонтанчику бежал один из близких друзей Эжена Валлес, тоже член Коммуны, редактор газеты «Крик народа», писатель, книги которого Луи любил и неоднократно перечитывал. Сейчас Валлес был в форме командира батальона, поверх мундира сбился на сторону красный шарф с золотыми кистями. На тротуаре за его спиной остановилось с полусотни гвардейцев.
— Ты ранен, Малыш? — крикнул Валлес. Опираясь на трость и костыль, Луи шагнул навстречу:
— Нет, гражданин Валлес! Но моя проклятая нога… Где Эжен?
— Ночью мы расстались с ним в Ратуше… Он жив, жив, успокойся! Но ты видишь, что творится! Враг наступает повсюду, и, подчиняясь приказу Делеклюза, мы рассредоточили силы по округам. Боюсь, не ошибка ли это?..
— Но где сейчас Эжен, где?
— Не знаю, Малыш, не знаю. Как члену Военной комиссии, ему приходится поспевать всюду. Ночью, если натупит затишье, Коммуна соберется в здании Пантеона. Мы должны находиться возможно ближе к линии боя.
У баррикады вспыхнула чуть было притихшая перстрелка, и кто-то из гвардейцев позвал с тротуара: — Командир Валлес!
— Иду! — крикнул через плечо Валлес. — Прости, Малыш! Я передам Эжену при встрече, что видел тебя!
— И еще скажите ему: на рю Лакруа, в кафе «Мухомор».
— Скажу! Держись, Малыш! И верь: последнее слово Коммуны не сказано!
И батальон Валлеса, вернее, его остатки бросились к баррикаде, защищавшей перекресток. Луи видел, что там секундой раньше упал скошенный картечью красный флаг, и какой-то парнишка, подхватив его, карабкался на гребень баррикады, чтобы снова укрепить знамя.
Луи с горечью смотрел вслед Валлесу: неужели и его убьют? Он любил книги Валлеса, где было много понятного и близкого ему, Луи. Как и всех прогрессивных литераторов, Империя Баденге всячески преследовала Валлеса, арестовывала, судила, сажала в тюрьмы. Но в нем, как и в старшем брате Луи, Эжене Варлене, нельзя, невозможно убить преданность революции и Республике, их нельзя запугать! Валлес был дорог Луи не только сходностью судьбы и убеждений с Эженом, его сердечно трогало и подкупало внешнее сходство Жюля Валлеса и брата: та же прическа, та же окладистая с ранней проседью борода, тот же смелый и ясный взгляд темных глубоких глаз.
Значит, к вечеру нужно быть у Пантеона, — если ночь приостановит бои и в Пантеоне соберутся уцелевшие члены Коммуны, Эжен обязательно явится туда, он никогда не манкирует обязанностями депутата. А уж в такие решающие часы об этом не может быть и речи. Если, конечно, к тому времени Эжена не повалит навзничь на какой-нибудь баррикаде шальная или прицельная пуля, адресованная именно ему. О, версальцы с особой тщательностью целятся в серебряные и золотые галуны — отличительные знаки командиров.
А сейчас следует избавиться от трости, доковылять до дома Деньер: а вдруг все же Эжен, получив записку в «Мухоморе», улучил минутку и забежал к Клэр. Ведь его не может не волновать судьба спасенных Луи документов. Да к тому же Луи изнемог, хотелось хотя бы на часок забраться в темный закуток под лестницей, уткнуться лицом в подушку, полежать. Иначе ночью просто свалишься где-нибудь на полпути к Пантеону…
До дома Деньер он добрался под вечер. Баррикада, перегораживавшая улицу, еще не была захвачена ворсальцами, но стены близких к ней зданий были изрядно побиты снарядами, словно дома только что переболели оспой. Странно, но Луи совершенно не думал о собственной безопасности, не гнул головы, когда поблизости свистели пули и осколки, вел себя так, словно был заколдован, защищен от любой угрозы невидимой стеной.
Бродя по городу, он жадно ловил случайные слова, обрывки чужих фраз и благодаря им достаточно ясно представлял себе общую картину версальского наступления.
На второй день вторжения в Париж, вернее, дажо в первую ночь солдатам Галифе, Сиссе и Кленшана удалось, идя от ворот Сен-Клу вдоль внутренней стороны городских валов, зайти в тыл, ударить в спину сторожевым постам федератов и уже к вечеру 22 мая овладеть Севрскими и Версальскими воротами на юге, а на запале отбить защитников от ворот Отей, Пасен и Майо, — во все эти ворота сейчас и вторгался в город многотысячный поток дивизий и армий, возвращенных Вильгельмом и Мольтке версальским правителям из недавнего плена. Через два дня их части уже прорвались к Монпарнасскому и Западному вокзалам, хозяйничали и разбойничали в большей части Латинского квартала, в непосредственной близости от дома Деньер. Даже неискушенному в стратегии Луи положение представлялось катастрофическим, хотя и сердце его и душа отказывались верить в возможность близкой гибели Коммуны.
На робкий троекратный стук молотком в дверь открыла Софи, но, еще не перешагнув порога дома, Луи услышал наверху, на лестничной площадке взволнованный голос Клэр:
— Кто там, Софи? Это Луи? Да?
— Собственной персоной, мадам!
По интонациям женщин Луи сразу понял: нет, Эжен не появлялся здесь. На секунду шевельнулось в душе сомнение, — а стоит ли заходить, но Клэр уже сама сбежала вниз и, отстраняя Софи, с испугом уставилась на костыль Луи.
— Тебя ранили, Луи?! — воскликнула она с такой искренней и сердечной тревогой, что измученный юноша с трудом сдержал просившиеся па глаза слезы. — Да проходи же скорей!
Через минуту он уже сидел на кровати в крошечном закутке под лестницей. На столике в принесенном Софи бронзовом шандале горели свечи, на тарелках дымилось горячим ароматным паром еда. Стоя в дверях, Клэр пристально всматривалась в изможденное лицо Луи.
— Я не спрашиваю, Малыш, — тихо сказала Деньер. — Если бы его убили, ты не вернулся бы сюда, да? Я чувствую! Но ты видел его?
— Нет, мадам Деньер. Я встретил Жюля Валлеса, он разговаривал с братом прошлой ночью в Ратуше.
— Вот и славно! — со вздохом облегчения кивнула Клэр. — А теперь ешь, Малыш, ешь, на тебе прямо лица нет! Мы поговорпм потом! Ешь!
Она ушла, неторопливо простучала вверх по лестнице каблучки. Луи не мог не оценить деликатности случайной благодетельницы, она понимала, что он голоден, как волк в ненастную зиму, и не хотела мешать. Софи тоже не заглядывала в каморку, и он ел, забыв о вилке, прямо пальцами хватая и отправляя в рот куски мяса и вареную рассыпчатую картошку. До начала уличных боев Клэр каждый день посылала Софи на бульвар Монмартр, в знаменитый ресторан Поля Бребана. Да, несмотря на все ужасы войны и блокады, рестораны Бребана и Маньи продолжали исправно снабжать горсточку постоянных набранных клиентов приличными обедами из неисчерпаемых и надежно охраняемых погребов.
От жадности и голода у Луи тряслись руки, — пять минут назад он и не представлял себе, до какой степени голоден, до чего обессилел. И, уже опустошив тарелки, поставленные перед ним Софи, вдруг застыл с открытым от изумления ртом. Постой, Луи, постой!.. Да ведь Клэр, кажется, назвала тебя Малышом, как звали только в семье, в Вуазене, а здесь, в Париже, лишь двое — Эжен и Жюль Валлес! Откуда же она знает?!
Внезапное подозрение, почти уверенность в правильности догадки охватили его. Опустившись на колени, он пошарил под кроватью — сначала рукой, потом тростью. Там ничего не было. Значит, Деньер унесла к себе и читала его тетради, его дневники, самое сокровенное, чего он не показывал даже Эжену!
И сразу почувствовал необоримую, жгучую ненависть и к этим приютившим его стенам, и к постели, о которой полчаса назад мечтал, как о земле обетованной, и к еде, которую только что с такой жадностью уничтожил.
Он сидел, неподвижно уставясь взглядом в лубочную цветную картинку, приклеенную над столиком, по всей вероятности, консьержкой, некогда обитавшей в этой конуре. На картинке на фоне замков и олив, окруженный ликующей и красочной толпой царедворцев, куда-то скакал на белом тонконогом коне один из бесчисленных на то Карлов, не то Людовиков, очередной кумир, благодетель и полубог великого французского народа… И почему-то картинка напомнила рассказ Эжена, когда он вернулся в Париж из добровольного изгнания после седанской катастрофы в дни франко-прусской войны. Да, не у одной Франции существовали и существуют такие кумиры и полубоги; каждый народ так или иначе тащит на хребте подобное бремя. Да ведь не только в монархах беда народов, но и в их разряженных свитах. Эжен рассказывал об одном из любимцев Вильгельма прусского, недавно увенчанного в Версале короной императора объединенной Германии, о князе Бисмарке. Этот воинствующий немец в бытность свою студентом за три семестра умудрился подраться на двадцати семи дуэлях, а позже, заняв высокий государственный пост, изрек свою знаменитую фразу: «Не речами и постановлениями большинства решаются великие вопросы времени, а железом и кровью!» И встало перед Луи сморщенное, залитое слезами лицо отца, когда тот вернулся в дни войны из Вуазена, рассказ об убитом возле конуры Муше…
От беспорядочных, смутных и горьких мыслей Луи отвлек знакомый звук шагов на лестнице — возвращалась мадам Деньер. Он с ненавистью глянул на дверь и отвел глаза: не чувствовал в себе сил посмотреть в глаза воровке, покусившейся на его тайны, залезшей без спроса в его душу.
Клэр вошла и присела рядом с Луи, в ногах кровати. И по напряженности, ожесточившемуся лицу Лун, по валявшейся возле кровати трости сразу догадалась, что произошло. Ласково заглянула ему в глаза.
— Твои вещи я побоялась оставлять здесь, Малыш! Мало ли что может случиться! Вышибет входную дверь, вломится, ворвется кто-нибудь незваный, непрошеный. В такое время возможно все! И я перенесла твои вещи к себе наверх, спрятала надежно. Ну, не нужно на меня эа это сердиться! Я старалась сделать как лучше. Ведь Эжену и его друзьям чрезвычайно важны и дороги спасенные тобой бумаги, да? Я тоже кое-что понимаю, Малыш! — Помолчав, она снова доверительно наклонилась к нему. — Все бумаги, тетради и документы целы, и я могу принести их тебе хоть сию минуту. Хочешь? Но считаю, что вернее хранить их там, в одном из моих шкафов, за книгами, в глубине, где их никто не увидит… Разве ты не согласен со мной?
Луи не мог заставить себя посмотреть в глаза Деньер; однако вспоминал, сколько за эти три дня видел выбитых дверей и окон, разрушенных стен, охваченных пламенем домов. И белых страниц, летавших над пожарищами, словно стаи испуганных птиц. Наконец, с трудом отведя взгляд от царственного всадника на тонконогом коне, он мельком глянул в заботливое, участливое лицо сидевшей рядом женщины.
— Но вы… читали? — спросил он почти с угрозой. И не простил бы Клэр, если бы она сказала неправду.
— Да, — призналась она совсем тихо. — Я невольно прочла несколько строк… А потом, потом я не могла оторваться. Ты очень хорошо пишешь, Малыш! Эжен прав: если захочешь, станешь писателем!.. Ну, скажи мне, что не сердишься на мое непрошеное любопытство, на мою женскую слабость! Эжен всегда был скрытен со мной, а мне так хотелось побольше о нем знать… Ну вот ты и улыбнулся, Малыш… Да, я верю: если вашу Коммуну разобьют, погубят, ты, именно ты сумеешь написать о ней правдивую книгу! Верю, Малыш! А теперь ложись, спи! Хотя… — И, повернувшись лицом к двери, Клэр властно позвала: — Софи!
— Да, мадам? — донесся сверху услужливый и все же чуть иронический голос.
— Ты забыла кофе Луи!
— Ах да, мадам!
Луи попытался отказаться;
— Но я не хочу…
— Не возражай, Малыш!
Клэр ушла, а Луи, выпив чашку кофе, лег, вытянув отекшие, измученные ноги, и с удивлением перебирал в памяти только что произнесенные ими обоими слова. И не чувствовал к Деньер ни неприязни, ни обиды. Неужели она и вправду верит, что он сможет написать настоящую книгу о Коммуне, об Эжене и его друзьях, о тех, кто уже погиб, о тех, кому суждено погибнуть в ближайшие дни или часы, и о тех, кого пощадит судьба?
А может, мадам Деньер просто пыталась подкупить его лестью? Вспомни, Луи, как чутки к похвале все пишущие, кому приходилось навещать вашу с Эженом мансарду, — братья Гонкур, Эмиль Золя, да и почти все прочие. Лесть, восторженный отзыв — словно целебная повязка на болезненную рану. Может быть, лишь потому, что творчество — самое важное, самое главное в их жизни. Помнишь афоризм: «Талант художника — такая нее болезнь, как жемчужина — болезнь моллюска»… Ты хотел бы болеть так? А, не все ли сейчас равно?!
И неожиданно для самого себя Луи впервые за трое суток уснул глубоким, без тревог и видений, сном…
ЭЖЕН ВАРЛЕН. НА РЮ ЛАКРУА
Город в эти утренние часы казался Эжену Варлсну незнакомым и чужим, вероятно, потому, что он впервые видел вдания, соборы и улицы Парижа сквозь темно-золеные стекла очков.
Изредка украдкой поглядывая на свое отражение в уцелевших витринах магазинов и кафе, Варлен думал, что он и сам теперь не сразу узнал бы себя, так изменила привычный его облик чужая одежда: старомодный сюртук, шарф и шляпа провинциального кюре, трость, навязанная ему Делакуром, и особенно большие круглые темные очки, совершенно скрывавшие глаза.
Да, Эжен, следует, пусть и запоздало, поблагодарить Марию, — в этом виде ты, пожалуй, и правда доберешься до рю Лакруа, хотя у тебя чрезвычайно мало надежд застать Луи дома. Если он не догадался вовремя скрыться, спрятаться у кого-либо из друзей, его безусловно схватили, увели. Уж слишком ты, Варлен, лакомая для версальской своры добыча: один из главарей Коммуны! Они станут мучить Малыша до тех пор, пока ты не явишься за ним, именно на это и рассчитывают! Значит, на рю Лакруа идти необходимо, иначе невозможно будет жить дальше!
Париж осторожно, словно с опаской, просыпался — где-то скрипнула дверь, хлопнула створка окна. Но прохожих не видно, улицы безлюдны, — страх крепко удерживает парижан за наглухо закрытыми ставнями и запертыми на все засовы дверьми. Правда, кое-кто и совсем не успел заснуть после вчерашнего вечера, — но многих кабачках и кафе всю ночь напролет продолжали пировать. Эжен обходил такие заведения стороной — не хотел как раз сейчас попасть вражеским палачам в руки, не имел права рисковать.
На его счастье, военный патруль не встретился ни разу: Монмартр и соседний с ним Батиньоль захвачены красными штанами на третий день вторжения, с той поры миновало целых четверо суток, у версальских карателей по горло дел в других, только что занятых ими округах Парижа. А здесь гуляют и тешат душу, по всей вероятности, либо раненые, либо увильнувшие из-под надзора начальства вояки да захмелевшие от радости мелкие и средние торговцы, рантье, бывшие чиновники Империи.
В центре, судя по разлитым в полнеба заревам, продолжали бушевать пожары. Тучи дыма багрово клубились над крышами, полностью скрывая солнце. Шедший ночью дождь к утру стих, мокрый булыжник уцелевших мостовых тускло поблескивал, напоминая рыбью чешую. Изредка, железно громыхая ошинованными колесами, в сторону Монмартрского кладбища проезжали телеги и фургоны, нагруженные телами убитых. Каждая из таких колымаг приковывала к себе взгляд Эжена: кого из друзей и товарищей волокла она к последнему пристанищу?
Кривая улочка поднималась круто на холмы Батиньоля. Братья Варлен поселились тут сравнительно недавно, уже после возвращения Эжена из Антверпена, после седанского разгрома и свержения Империи, но Эжен уже знал на Лакруа каждый переулочек и каждый дом, знал, потому что по давно укоренившейся привычке почти всегда ходил пешком, стараясь сберечь кое-какие гроши для старика Эме. Отца уже нет в живых, похоронили в дни прусской осады, но привычка осталась, да к тому же Эжен просто любил пройтись пешком: от сидения за станком уставали спина и плечи, хотелось размяться, да и как-то легче и глубже думалось на ходу.
Даже в решающие дни боев, когда Эжен заменил на посту гражданского делегата Коммуны по военным делам убитого на площади Шато д'О Делеклюза и в его распоряжении появились и верховые лошади, и экипаж, если позволяли обстоятельства и время, он все же предпочитал пеший образ передвижения. «Мои ноги помогают мне думать!» Эту не слишком-то складную шутку Эжена как-то записал в свой дневник дотошный Луи.
Да, все как будто знакомо и все кажется иным. Через сотню шагов Эжен увидит вдали дом № 27, дешевые меблированные комнатки, нечто вроде гостиницы, где они с Луи поселились в прошлом ноябре, перебравшись сюда с левобережья, с рю Турнон.
Непроизвольно Эжен ускорял таги, трость не помогала, а лишь мешала ему — не привык. Над этой частью города стояла тишина, влажная и по-весеннему прозрачная, напоенная ароматами цветущих деревьев, запах гари пожаров на высотах Батиньоля не перебивал их.
Когда Эжен вступил на узенькую крутую Лакруа, далеко внизу, на уцелевшей от бомбежки башне святого Якова пробило семь. Он удивился: до чего же мало времени прошло с той минуты, как он покинул мансарду Делакура, но насколько же оно, это время, оказалось вместительным, насколько емким! Будто вся жизнь, вдруг увиденная с высоты птичьего полета, пронеслась перед ним, словно за час-полтора снова пережил все заново, переворошил и тревожные и радостные мысли, перечувствовал все боли, от которых сильнее билось сердце.
— Варлен? Мосье Варлен?! — раздался сбоку неуверенный оклик.
Он стремительно и чуть растерянно оглянулся на голос. А, это хозяин крохотного кафе «Мухомор», седобородый Огюстен, бывший бочар, «выбившийся в люди», но так и не сумевший превратиться в мелкого собственника! Не один вечер прокоротали в заведении Огюстена Эжен и его друзья.
С тревогой поглядывая в оба конца улпцы, стоя на пороге «Мухомора», Огюстен махал обеими руками, звал Эжена к себе. Красные отсветы ядовито окрашенного жестяного гриба над головой Огюстена падали на лицо, придавая ему зловещий вид.
— Сюда! Сюда, Варлен!
Эжен подошел. Владелец кафе схватил его за руку и силой втащил в убогое заведение с четырьмя обшарпанными столиками, рябыми от давних пятен вина. Тут по всем стенам над столиками красовались аляповато раскрашенные, усыпанные белыми пятнышками мухоморы.
— Вы домой, Эжен? — громким шепотом спросил Огюстен, прикрывая дверь. — Туда нельзя! Я шестые сутки караулю вас!
— Жандармы?
— Они! Разнесли вдребезги все! Вышвырнули из окон во двор станки, мебель и книги. Изрубили шашками и сожгли.
— А Луи? Где Луи?
— Да не кричите вы! — перебил Опостен, выглядывая на улицу. — Город просыпается, вот-вот появятся люди! Не надо, чтобы знали, что вы здесь. Вы и не представляете, сколько в нашем Батиньоле развелось доносчиков и предателей. А за вашу голову, толкуют, обещана изрядная сумма, Эжен!
— Где Луи?! — не в состоянии сдерживаться, крикнул Эжен.
— Минутку, Эжен! — Огюстен обеими руками притянул голову Эжена к своему уху, — Вашего Луи еще в понедельник увела мадам Деньер. Он передал мне для вас записку. Тогда здесь еще было спокойно.
Внезаппо обессилевший Эжен тяжело опустился на ближний табурет.
— Записку, Огюстен!.. Где записка?..
Зайдя за оцинкованную, исцарапапную и избитую стойку, Огюстен принялся поднимать стоявшие на полках бутылки и шарить под ними.
— Да куда же я ее засунул, старый дурак! Тут нет, тут тоже… Ага, вот она! Читайте!
Дрожащими руками Эжен развернул мятый клочок бумаги, где косо и крупно, с брызгами чернил, было нацарапано:
«Брат! Самое важное я уношу к Клэр. Она пришла сама. Обязательно приходи к ней, я не знаю, что с ними делать. Буду тебя искать. Очень болит сердце».
Подписи под тремя неровными строчками не было, но, конечно, писал Луи. Перечитав, Эжен облегченно вздохнул. Значит, списки, протоколы, письма из Лондона, из Руана, Марселя. Крезо пока не попали в чужие руки!
Значит, по вине Эжена ищейки Версаля не нападут на след его товарищей! Но будут ли документы в сохранности в доме Деньер?
И лишь сейчас он внезапно почувствовал странность, почти необъяснимость случившегося. Деньер? Клэр Деньер? Но при чем тут она? Неужели по собственной воле кинулась помогать в трудную минуту, неужели она, буржуазна до мозга костей, понимает что-то в борьбе, которую ведем мы? И не только понимает, но и сочувствует?
Огюстен с силой тряс Эжена за плечи:
— Варлен! Эжен Варлен! Идут! Опасно! Пройдемте сюда! Тут ваш друг! Да вставайте же, наконец!
Эжен с трудом встал, взял трость.
— Какой друг? — спросил, стараясь одолеть сумятицу охвативших его чувств.
— Жюль Андрие!
Эжен снова бессильно опустился на табурет.
— Постойте, Огюетен. Вы ее сами видели?.. Мадам Деньер?
— Ну конечно сам! Я поразился, Эжен! Она была белая как мел. И шла вместе с Луи. Я, как обычно, стоял на пороге, смотрел. Луи нес большую суму…
— А что в ней?
— Откуда мне знать? — рассердился бывший бочар. — Господи, Эжен, придет ли когда-нибудь на землю правда?
— Обязательно!
— А я во всем разуверился! Видно, господь отступился от нас!
— Стало быть, Огюетен, в бога-то верите?
— А в кого же верить, Эжен?! В Тьера и Галифе? Да будь они миллион раз прокляты! Но пойдемте, Эжен, в нашу заднюю, Андрие там. Ему нельзя появляться дома, тоже — член Коммуны! И пули на вас, Эжен, поди-ка, давно отлиты.
— Само собой!
Эжен привстал, глянул в окно и лишь сейчас заметил трехцветный флажок у двери в кафе.
— А вы предусмотрительны, Огюстен!
— Иначе не прожить в этом подлом и гнусном мире, Варлен. Если бы не это прикрытие, я не решился бы затащить вас сюда… Андрие и ночевал у меня, благо бывший квартальный надзиратель — дальний родственник моей жены. Теперь-то он снова станет властью… Наклоните голову и ныряйте в знакомую вам дыру!
Когда-то в чуланчике размещалась кладовка, но предприимчивый Огюстен поставил там два столика: посетителей за последние годы прибавилось. Как-никак владелец кафе — свой брат, бывший рабочий, и лишку не сдерет, и до получки плеснет в долг рюмку перно. Но обычно в полутемной комнатушке об одном узеньком окошке, выходившем на соседнюю кирпичную стену, собирались лишь свои, когда предстояло перекинуться десятком слов, не рискуя быть услышанным кем-то чужим. Прошлую ночь Андрие и проспал здесь: на полу в уголке — свернутый старенький тюфяк, одеяло и подушка.
Эжен не сразу разглядел в полутьме лицо давнего друга. Но тот вскочил с такой стремительностью и бросился к вошедшему, что чуть не сопл его с ног.
— Ты, Эжен?! А я слышу через дверь — что-то будто знакомое, а выглянуть боюсь: сиятельный владелец сего вамка не велит. Прямо изверг какой-то!
— Изверг, изверг! — с притворной обидой ворчал Огюстен, старательно вытирая салфеткой стол. — При такой гнусной жизни и драконом, и скорпионом станешь! Не сумели удержаться, дурачье чертово!
— А ты где был?! — упрекиул Андрие. — Что-то я не примечал тебя на баррикадах, старый хрыч!
— А кто кормил вашего брата?! — всерьез обиделся Огюстен. — Накопил за десяток лет пять сотен франков, все в вашу утробу ушло, почти даром! Марта каждый деньпо два горшка горячей похлебки на ваши баррикады таскала!
— Ну, прости, прости, Огюстен! — спохватился Андрие. — Я все знаю. Сорвалось глупое слово. И не со зла на тебя, а потому… — Он потерянно махнул рукой и снова повернулся к Варлену, присевшему к столу. — Ты жив, Эжен! Какое счастье! И Луи жив!..
— Знаю, Огюстен передал записку… Но боюсь, Жюль, наше «счастье» окажется весьма и весьма недолгим! Рано или поздно они схватят нас.
— Да, если останемся здесь. Надо убираться из Парижа, Эжен! И как можно скорее. Именно здесь нам, членам Коммуны, грозит наибольшая опасность! У тебя есть какие-нибудь документы?
— Нет, Шюль. Да разве мы думали, разве допускали возможность…
— Погоди, погоди, Эжен! — перебил Андрие. — Не спеши с выводами и трагическими предчувствиями. Прежде всего, наверно, тебе необходимо перекусить и выпить стаканчик вина для бодрости. О, наш кормилец уже волочет что-то! Опять жареная ворона, Огюстен?
— Скажи и за ворону спасибо, злоязычный федератишка!
С беспокойством поглядывая на входную дверь, Огюстен поставил перед друзьями глиняную миску с фасолью и бутылку дешевой анисовой водки, перно. Он, естественно, побаивался и за себя и за свое заведение, но давняя рабочая дружба не позволяла поступить иначе.
— А ну, ешьте, Эжен! И вопреки вашим дурацким привычкам глотните перно! Андрие прав: чем дальше и чем скорее уберетесь из Парижа, тем лучше. Может, удастся перебраться в Швейцарию, она пока не выдавала эмигрантов нашим сучьим властям!
— У меня есть еще в Париже дела, — неохотно заметил Варлен, — Мне необходимо повидать Луи…
— Но вы чрезвычайно рискуете, Эжен! — перебил Андрие.
— Да, наверное. Но иначе не могу.
Андрие печально, но без осуждения покачал головой.
— А вы слышали, Эжен, что произошло с Луизой Мишель?
— Нет.
— Мне рассказали вчера. После боя на Пер-Лашез ей удалось переодеться и пробраться домой. Там узнала, что версальцы, не застав ее дома, угнали в тридцать седьмой бастион мать, Мари-Анну. Луиза бросилась следом, сама отдалась в руки палачам. Но своего добилась: мать отпустили!
— Иного поступка от Красной девы Монмартра и нельзя было ждать, — с чувством невольной гордости тихо отозвался Варлен, ставя на стол стакан. — Она и в смерти останется истинной коммунаркой.
Андрие с силой стиснул ладонями виски, покачал из стороны в сторону головой.
— Они же ее замучают!
— Наверно…
Жюль тоже глотнул вина, вздохнул.
Андрие был избран в Коммуну на дополнительных выборах 16 апреля от первого округа, как раз того, где сейчас догорает Тюильри. Там ему, конечно, появляться невозможно. В этот аристократический центр Парижа, занятый солдатами Версаля еще 24 мая, за последние дни вернулись бежавшие от Коммуны всевозможные графы и бароны, министры и генералы Тьера, попы и владельцы крупнейших заводов и мастерских, — идти туда для Андрие означает верную смерть. Хорошо, что у него нет родных!
Брякнул дверной звоночек в первой комнатке кафе, нетерпеливый посетитель требовательно позвенел монетой по оцинкованной стойке.
— Эй, старый мухомор Огюстен! Где ты?
Огюстен ушел, плотно притворив дверь, многозначительно посмотрев на притихших друзей.
Варлен и Андрие посидели молча, погруженные в свои невеселые думы. Эжен прикидывал, что ему делать дальше, и одновременно, как бы какой-то другой частью сознания, припоминал историю их более чем пятилетней дружбы с Андрие. Его, Эжена, всегда томила неуемная жажда знаний, и с Жюлем Андрие они познакомились на вечерних рабочих курсах, где Жюль преподавал математику и счетоводство. Как-то, столкнувшись в коридоре, разговорились, а симпатия между ними возникла давно, еще до этого разговора. Выяснилось, что оба любят поэзию, а Жюль достаточно хорошо владеет древнегреческим и латынью. Наивному и восторженному Варлену тогда представлялось, что перед ним простирается необъятная, бескрайняя жизнь и ему необходимо знать все, что изучают студенты Сорбонны и Коллеж де Франс. Жюль с удовольствием и сначала за весьма умеренную плату, а потом и вовсе бесплатно согласился давать уроки братьям Варлен…
Так их впервые свела судьба. Жюль работал чиновником в Ратуше, знал о всевозможных махинациях, коррупции и подкупах, о том, как крупные чиновники, члены Законодательного корпуса типа Жюля Фавра жульнически наживали огромные состояния; поэтому он ко многому относился так же, как и Эжен. Не один запавший в память вечер провели они втроем — братья Варлен и Жюль Андрие, беседуя обо всем то в мастерской Эжена, то в крохотной квартирке Жюля, то просто за столиком уличного кафе в тени каштанов и акаций… Как молоды они тогда были, какими восторженными юнцами, как свято верили в неизбежность скорого наступления нового светлого века!..
— Да, Эжен, было, было, — словно отвечая на подслушанные мысли собеседника, грустно произнес Андрие. — Никогда не забуду, как в один из наших первых вечеров ты читал мне Беранже. Теперь мы с тобой, вероятно, разлучаемся надолго, если не навсегда. У меня припасены документы на имя некоего преуспевающего виноторговца, и, может быть, мне удастся с ними перебраться в Швейцарию. Ночь, которая сейчас наступила или наступает в Париже, видимо, продлится десятилетия, пока нация, ее рабочий класс не соберется с силами для нового удара. Давай, дружище Эжен, выпьем на прощание за будущую встречу, когда над Францией спова запоют утренние птицы!
Он разлил по стаканам вино и поднял свой.
— И пусть тебе не покажется дикой и сентиментальной моя просьба, милый друг! Почитай мне перед разлукой что-нибудь из Беранже. В его стихах я всегда черпал силу. И позволь напомнить тебе одну строфу великого Данте: «Здесь нужно, чтоб душа была тверда; здесь страх не должен подавать совета!» Это как раз о нас с тобой. Ну не смотри на меня так удивленно! Прочитай, что тебе хочется…
Эжен действительно смотрел на Жюля с удивлением, — до поэзии ли сейчас, может быть, на пороге гибели? Но почти тотчас же будто кто-то невидимый и неведомый тронул в глубине его души одну из самых высоких и звонких струн, лицо просветлело.
— Хорошо, Жюль!.. — Он отпил глоток вина иг, глядя в запыленное узенькое окошко, прочитал:
Отчизна! Смерть близка, хоть и незрима. О мать, прими прощальный мой привет! Умру, шепча твое святое имя… Любил ли кто тебя, как я? О, нет! Я пел тебя, еще с трудом читая, Я пел тебя, когда цвел жизни май, Петь о тебе я буду, умирая… Мою любовь оплачешь ты… Прощай! Когда триумф справляли свой тираны, Войска свои победные вели, Знамена их я разрывал, чтоб раны Перевязать родной своей земли…С трудом отведя взгляд от кирпичной стены за мутным стеклом, Варлен глянул в лицо Жюля, и опять кто-то неведомый тронул в его душе высокую дрожащую струну. Жюль Андрие плакал, щеки блестели от слез, а в голубоватых, глубоко посаженных глазах горел необычайный и яркий свет. И внезапно Варлен почувствовал не выразимую никакими словами благодарность Жюлю: именно такое обращение к памяти тех, кто не согнулся под ударами жестокой, несправедливой судьбы, может и ему вернуть силы.
От двери повеяло холодком. Эжен оглянулся. Огюстен стоял на пороге с лицом ребенка, готового вот-вот заплакать. Затем, не обронив ни слова, шагнул за стойку, достал из-под нее старую запыленную бутылку, открыл, поставил перед друзьями.
— Это из Вуазена, Эжен, вино твоего отца! Я же каждую осень покупал у него два-три бочонка. Давайте-ка, друзья, чокнемся и за счастливый ваш путь, и за скорое возвращение… Жюль, ты сказал Эжену о возможности…
— Нет, не успел! — Совладав с волнением, Жюль выпрямился, резким движением смахнул слезы. — Спасибо, Эжен! Ты знаешь, оглядки на великие родные могилы всегда возвращают, казалось бы, совсем иссякшие силы. А нам с тобой еще многое суждено перенести!
Андрие откинулся к стене, попросил хозяина:
— Огюстен, прикрой покрепче дверь. Чужие уши нам не нужны. Спасибо! Теперь слушай, Эжен. Есть у меня на примете один старик из Ратуши. При губернаторстве Винуа ведал выдачей всяческих пропусков, удостоверений и прочего. Хитрый, пронырливый тип! Мне известно, что он нередко занимался кое-какими махинациями, ну, ясно, не даром, за известную плату. У него дома, я уверен, хранится достаточно чистых бланков. Сейчас Огюстен даст мне бритву, я побреюсь, приведу себя в порядок и наведаюсь к этому Шейлоку. Я постараюсь достать у него бланк с печатью, впишем туда какое-нибудь имя — и, глядишь, мы с тобой горными тропками и переберемся в благословенную Швейцарию, оттуда — пути на весь мир… А в недалеком будущем мы еще сразимся с властителями вроде Фавра и Тьера!.. Ты сможешь ночью снова пробраться сюда, к Огюстену? Или скажи, где мне искать тебя?
— Подожди, Шюль. Дай пораскинуть мозгами…
— Да тише вы, черти! — сердито шепнул Огюстен, взявшись за дверную ручку, — в кафе снова звякнул входной звонок, послышались голоса: — Я скажу, когда можно будет уйти…
Варлен молча думал, крутя на столике перед собой стакан с отцовским вином. Он никак не мог решить: что делать? Идти или не идти к Деньер? Опасно, крайне опасно! Через весь центр, в Латинский квартал, на левый берег Сены. А на мостах, вероятно, охрана, усиленные патрули. Или, может, упоенные победой, разбив последнюю баррикаду на Фонтэн-о-Руа, изодрав в клочья последний красный флаг Коммуны, они дали своей жестокой ярости передышку? Ликуют, празднуют, поднимают бокалы, вешают друг другу «честно заработанные» ордена? Кто их знает!.. Но идти к Клэр все же, вероятно, надо. Если Луи у нее, необходимо убедить его уехать хотя бы на время в Вуазен, успокоить мать, помочь ей. У Деньер вряд ли может ожидать засада. Не зря же ее фирма переплетала книги дворцовых библиотек, в том числе и творения самого Баденге. И неплохо было бы повидать кое-кого из интернациональцев и коммунаров — кто еще остался жив. Ведь кто-то пока избежал последней пули или сабельного удара, как избежали они, Эжен и Андрие. По Парижу разбросано немало таких верных, как «Мухомор», кабачков, где враги Империи встречались тайком, особенно после второго процесса Интернационала, когда полицейская слежка за ними стала очень уж назойливой.
— Хорошо, Жюль, я постараюсь прийти сюда ночью.
Андрие кивнул.
— Договорились. И еще раз спасибо за Беранже, друг! Ты знаешь, мне в трудные минуты всегда вспоминаются его строки. Его и Гейне. И помогают. Вот кого жизнь и судьба не смогли сломить.
Взяв со стола шляпу, Варлен пытливо глянул на собеседника.
— Не смогли? Гм-м! Относительно Гейне я не очень-то уверен, Жюль.
— Почему же?
— Видишь ли… Когда поэт уже лежал в своей «матрацной могиле», разбитый параличом, у него были написаны четыре тома «Мемуаров», где недруги Гейне были описаны самыми беспощадными и гневными красками. Был у Генриха дальний родственник, банкиришка какой-то, так вот и он изображался в тех «Мемуарах», как говорится, в натуральную величину.
— И?
— И однажды этот банкир явился к сломленному болезнью Генриху и предложил ему пожизненную ренту в четыре тысячи восемьсот франков ежегодно за уничтожение «Мемуаров». А у Генриха и его брата совсем нечего было есть — участь многих великих.
— И неужели?
— Да! В присутствии толстопузой сволочи брат Генриха сжег в камине все четыре тома, до последнего листочка. Как это тебе нравится, дорогой Жюль?
— Какая подлость! Какое изуверство! Но я убежден, если бы Генрих был в состоянии двигаться…
Распахнулась дверь, показалось встревоженное лицо Огюстена.
— Можно идти, ребята! На улице порядочно людей, но подозрительных нет.
Андрие встал, следом за ним поднялся Варлен.
— Значит, до вечера, Эжен?
— Да-а… если ничего не случится.
— Какие-то документы я тебе обязательно достану. Приходи!
— Но… Мы не обременим тебя, Огюстен?
Огюстен не на шутку рассердился:
— Да как ты смеешь, Эжен?! Мой дом — ваш дом! Но дай-ка я еще разок выгляну на улицу.
Распахнув двери, он встал подбоченясь под своим красным жестяным мухомором и с минуту постоял так. Потом обернулся к ожидавшему за его спиной Варлену:
— Топай! Ни пуха тебе ни пера!
— Пошел ты…
ПЕРЕД ИМПЕРСКИМ СУДИЛИЩЕМ (Тетради Луи Варлена)
Год 1868. Июль, 6
«Итак, за моим дорогим Эженом с железным и жутким дребезгом на три долгие месяца захлопнулись ворота Сент-Пелажи, политической тюрьмы, которую парижане прозвали Бастилией Второй империи. Что ж, видимо, ни одна империя в мире не может обойтись без своих бастилий и палачей, жандармов и шпиков!
Когда я сказал это нашему общему другу писателю Жюлю Валлесу, шагавшему рядом со мной в толпе, провожавшей к тюрьме осужденных парижских интернационалистов, он грустно улыбнулся и ответил:
— На то они и империи, Малыш! Какими бы богоподобными титулами ни именовали себя самодержавные властители, без железных решеток и виселиц, без гарроты и гильотины им не обойтись! Да тюремные решетки и не самое страшное, милый юноша! Куда ужаснее машина духовного порабощения, превращение человека из прекрасного венца творения природы в гнусного подлеца или в пресмыкающегося лакея! Вот что в тысячу раз страшнее!
— Но, мосье Жюль, — возразил я, набравшись смелости, — за последние годы я побывал с Эженом на нескольких политических процессах в Париже, ездил с ним к бастующим рабочим в провинцию. И насколько можно судить с моей невысокой колокольни, Империи Бадеегв чрезвычайно редко удается одурачить или оподлить кого-то из своих идейных врагов. Напомню вам хотя бы март этого года! Мы вместе присутствовали на заседании суда над Первым Бюро парижских секций Интернационала в том же так называемом Дворце правосудия. С каким достоинством выступали перед судьями и прокурором те пятнадцать! И на теперешнем процессе ни один из девяти обвиняемых ни от чего не отступился, не струсил, не опозорил себя раскаянием или просьбой о снисхождении! Разве не так? Вспомните, как великолепно все дни держались и Бенуа Малон, и Бурдон, и Комбо, и мой Эжен! Да и вся девятка. Их невозможно ни в чем упрекнуть! А ведь обвинение, особенно для Эжена, было далеко не шуточным!
Я ковылял рядом с Валлесом, а передо мной возникали суровые лица судей и прокурора, их перекошенные злобой рты, так легко извергавшие ложь и хулу! О, шпики и доносчики Баденге поработали перед процессом на славу, обвинению был известен чуть ли не каждый шаг Эжена, его знакомство с Марксом в Лондоне, все опубликованные им статьи, текст выступления в Женеве на Первом конгрессе Интернационала. Язвительно поблескивая глазами за сильно увеличивающими стеклами очков, потрясая газетными листами над головой, прокурор зачитывал собравшимся отчет Эжена о „женевском сборище“ — так прокурор назвал конгресс. Я и раньше читал все статьи Эжена, но теперь, повторенные устами врагов они показались мне еще убедительнее, еще сильнее!
„В первый раз, — писал Эжен по возвращении из Женевы, — рабочие разных стран нашли возможность встретиться, чтобы совместно изучить способы улучшения своей участи! Естественно, что в порядок дня были поставлены прежде всего социальные вопросы… Все делегаты явились на конгресс с твердым намерением предпринять что-либо серьезное и не теряли времени на бесплодные дискуссии и изложение остроумных теорий, а стремились к практическим целям. Слишком уж долго водили рабочих за нос громкими словами и напыщенными фразами. Сейчас мы хотим не слов, а действий!“ В этом месте прокурор с подчеркнутой брезгливостью отложил газетный лист и требовательно оглядел судей, обвиняемых и набитый битком зал. И спросил, воздев над головой руки в широких черных рукавах судейской мантии (во Франции прокурора называют „стоячим судьей“: в течение заседания он не имеет права присесть).
— Так давайте же, господа судьи и все присутствующие здесь в высоком зале Дворца правосудия, — гремел голос прокурора, — давайте посмотрим, к каким „практическим целям“, к каким „действиям“ подстрекал рабочих представший перед нами враг Империи и общества Эжен Варлен?
И дальше прокурор одно за другим перечислил выступления Эжена на собраниях и в печати. Он не позабыл ни одной мелочи, которую можно было поставить в упрек Эжену, квалифицируя их не иначе кан „подстрекательства к мятежу“, как „преступные попытки нарушить покой общества“, как угрозу самому существованию французского государства, как измену интересам родины.
Прокурор напомнил о вмешательстве Эжена в мартовские события прошлого года в Рубэ, когда введение усовершенствованных машин либо лишало пролетариев работы, либо заставляло их трудиться в три-четыре раза напряженнее, чем на прежнем оборудовании. Он прочитал призыв Эжена к бастовавшим горнорабочим Фюво, рассказал о помощи, оказанной бастующим горнякам профсоюзом и Интернационалом. Говорил о стачке бронзовщиков Парижа и цитировал, возмущенно потрясая кулаками, подписанное Эженом воззвание. „В данном случае, — говорилось там, — дело идет уже не о заработной плате! Требуя от рабочих покинуть интернациональное общество, основанное ими для защиты своих прав, хозяева подняли принципиальный вопрос, ибо подобное требование является покушением па свободу труда и личное достоинство рабочих!“
Просто удивительно, с каким артистическим сарказмом подчеркнул прокурор последние слова Эжена! Затем он напомнил о забастовке швейцарских строителей в Женеве, в помощь которым Эжен собрал по подписке десять тысяч франков! Именно благодаря Эжену забастовка победила, и это вызвало особенную ярость прокурора. Затем он пытался очернить Варлена за то, что, будучи избран переплетчиками делегатом на Всемирную выставку в прошлом году, Эжен убедил товарищей отказаться от подачки, от „милостыни“ Баденге. Он цитировал слова Эжена: „Если мы хотим сохранить независимость и иметь возможность свободно выражать свои убеждения и впечатления, мы должны отвергнуть всякое „покровительство“ властей и организовать поездку делегатов на свой счет!“ Но особую неприязнь прокурора вызвал протест французскях рабочих — Эжен именовался в этом деле зачинщиком — против посылки Францией воинских частей в Италию для укрепления светской власти папы римского Пия IX, для пособничества в его борьбе с национально-освободительным движением итальянского народа, возглавляемого Джузеппе Гарибальди. Язвительно поглядывая на скамьи подсудимых, прокурор сокрушался и возмущался тем, что „неучи, не закончившие даже низшей школы“, пытаются вмешиваться в государственные дела, в политику, диктовать правила поведения образованнейшим и умудренным опытом деятелям.
Если бы я не был братом Эжена, если б я его не знал, как самого себя, если бы мне пришлось судить о нем лишь по гневной, пересыпанной замаскированными оскорблениями речи „стоячего судьи“, я, пожалуй, действительно счел бы Эжена опасным разбойником.
В завершение выступления прокурор назвал Международное Товарищество Рабочих „международным товариществом разбойников“ — поскольку-де оно запрещено властями после мартовского процесса — и призывал судей оградить общество от „революционной заразы“, которая, по его словам — увы! — разъедает не одну Францию, а все шире распространяется по всей Европе, как, скажем, в средневековье распространялись эпидемии „черной смерти“ — чумы и холеры. Он вспомнил и митинг на могиле умершего в Париже итальянского эмигранта Манйна, отдавшего жизнь национально-освободительной борьбе Италии и приговоренного у себя на родине к смертной казни. Рядом с Манйна прокурор для большей убедительности поставил и Феличе Орсини, казненного десять лет назад за покушение на жизнь „благороднейшего из правителей, каких когда-либо знала Франция“, на Луи Бонапарта. Не забыл он упомянуть и о провидении, которое позаботилось о сохранении драгоценной жизни монарха, и обвинил Орсини в гибели при взрыве бомбы у театра десяти и ранении ста пятидесяти человек. Так-де господь бог пометил, запятнал злодея, намеривавшего убийство одного из великих благодетелей французского народа, кровью ни в чем не повинных людей!..
От воспоминаний меня отвлекла чья-то рука, настойчиво теребившая за плечо. Я очнулся и снова увидел перед собой грустно улыбающееся лицо Жюля Валлеса.
— И давно у тебя, Малыш, появилась привычка разговаривать с самим собой? Или не находишь более достойных собеседников?
Я смутился, почувствовал, что краснею.
— А разве?..
Жюль Валлес глянул на меня с пристальной лаской.
— А ты удивительно быстро взрослеешь, Луи! — заметил он. — Если и дальше так пойдет, скоро и ты очутишься за этой глухой и мрачной стеной!
Меня обрадовала похвала, я невольно засмеялся в ответ:
— Что ж, если я окажусь там в компании людей вроде моего Эжена и вас, мосье Жюль, я, пожалуй, не слишком стану обижаться на неправедных судей. Надеюсь, в будущем мой жизненный путь не особенно разойдется с вашим.
Валлес одобрительно улыбнулся.
— Неплохо сказано! А ты посмотри, дорогой, какие роскошные проводы в тюрьму устроил рабочий и студенческий Париж твоему брату и его соратникам! Весь цвет прогрессивной журналистики и адвокатуры здесь! Гляди, как неистово жестикулирует Леон Гамбетта, как горячо ораторствует Теофиль Ферре, прислушайся, как поносят имперское судилище Верморель и Рауль Риго, недавно изгнанный из Сорбонны за крамольные статьи и выступления. А видишь, возле калитки две дамы с любезными улыбками пытаются что-то выведать у неприступного часового? Это — романистка Андре Лео и поэтесса Луиза Мишель!
— Я их знаю, мосье Жюль. Они тоже бывали в нашей мастерской.
— Ну да, конечно!.. Ох, предвижу, и достанется завтра в печати Баденге и его своре, знатную трепку зададут им наши бесстрашные рыцари пера! И снова запылают во дворах полицейских участков костры: реквизированные властями кипы газет, листовок, афиш! Да, горячий предстоит денек чиновникам Бонапарта! Но кое-что, я надеюсь, избежит костров современной инквизиции и попадет в руки простых парижан… А ты заметил, Малыш, как конвоиры нервничали и тряслись всю дорогу?
— Конечно, мосье Жюль! Боялись, что узников отобьют силой!
— Безусловно! Ты глянь: многотысячная толпа! И в ней такие яростные последователи Огюста Бланки, как Ферре и Риго! О, эти отчаянные головы способны на любое безрассудство! — Валлес достал сигару и, откусив и выплюнув кончик, закурил, остро щурясь сквозь дым. — А я, Луи, знаешь, чего больше всего опасался сегодня?
— Чего, мосье Жюль?
— Что осужденных после вынесения приговора не сразу поведут сюда, в Сент-Пелажи, к тому же среди бела дня!
— Но что они могли сделать?
— О, святая простота! Из Дворца правосудия узников можно было провести подземными коридорами в Консьержери, вот уж это действительно, скажу я тебе, подлинная Бастилия! А оттуда ночью в закрытых тюремных каретах кого угодно и куда угодно можно перевезти тайком. Либо что-то помешало им сделать так, либо Консьержери набита до отказа, либо они просто остолопы! Остолопы высочайшей пробы! Они же сами организовали громкую рекламу запрещенному ими Интернационалу! В марте, после первого процесса, бонапартистская пресса во главе с „Фигаро“ захлебывалась ликующими воплями. „Мы, — орали они, — отрубили революционной гидре сразу двадцать голов!“ А на место отрубленных у нашей героической гидры тотчас выросли новые, да какие замечательные головы! Как потрясающа речь Эжена, завтра же ее будут повторять и заучивать наизусть во всех рабочих клбачках, на всех площадях Парижа! И, клянусь грядущей Республикой, несмотря на суды и запреты, на тюрьмы, костры и штрафы, в ближайшее время число членов Международного Товарищества убедительно возрастет!
Жюль Валлес пытливым и довольным взглядом обвел людей, толпившихся у облезлой, давно не беленной стены бывшего пристанища „Христовых невест“, превращенного при Баденго в узилище.
— Н-да, Империя нажила себе столько врагов, что стены старых тюрем: Консьержери, Ла Рокетт, Мазаса, Сайте и Сент-Лазара — уже не вмещают осужденных. А толпа-то, заметь, Малыш, все не расходится! Ах, жаль, наши узники не могут видеть ее из окон камер. Ишь даже часовой с перепугу забился в свою полосатую конуру, дрожит за собственную шкуру!
— Но Эжен и его друзья и так все видели, мосье Жюль, — заметил я. — Брат много раз оглядывался по пути и махал мне. И знаете, что интересно: они вовсе не выглядели жалкими арестантами, а как бы возглавили некую торжественную процессию, они мне казались победителями, а не побежденными! И конвой, видя, как о каждым шагом растет толпа провожающих, все настойчивее подгонял, торопил их!
— Да, да, Луи! Очередная пиррова победа Малого Наполеончика! Еще с десяток таких „побед“ — и трон под усатым Баденге рухнет! Ты помяни мое слово, Луи, вместо каждой „отрубленной“ головы у „революционной гидры“ вырастут сотни и тысячи новых! Такова непобедимая логика истории! И нет ничего невероятного в том, что очень скоро мы с тобой будем присутствовать и на третьем процессе Международного Товарищества Рабочих. К тому идет, Малыш! Власти теперь будут все больше ожесточаться и свирепеть!.. Кстати, Луи! Издали я видел, что ты на суде что-то старательно записывал. Что?
— Я стенографировал речь Эжена, мосье Жюль, чтобы занести ее в дневник. Правда, дома у нас остались черновики. Эжен, получив вызов в суд, готовился к выступлению заранее. Товарищи попросили его говорить от имени всех… Но он много и удачно импровизировал, отступал от первоначального текста…
— И ты записал все?
— Почти все, мосье Жюль!
— Да ты просто гений, Луи!
II хотя в этом „гений“ чудилась ироническая нотка, новая похвала Валлеса польстила мне. А он продолжал:
— Дай-ка взглянуть на твои каракули!
Я передал блокнот, Валлес полистал его и с сожалением покачал головой.
— Э, нет, Малыш, в твоих иероглифах мне вовек не разобраться! Необходимо, чтобы ты сам расшифровал свою клинопись. И — немедленно, дорогой мой! Может, мне удастся выпустить вечерний, хотя бы и коротенький, экстренный выпуск с речью Эжена. Было бы просто здорово! Жандармы да шпики спохватиться не успеют! Ты сейчас куда направляешься, Луи?
— Домой, мосье Жюль. Но боюсь, как бы там уже не похозяйничали имперские ищейки.
— Вполне возможно! Тогда знаешь что, дорогой, давай-ка уединимся где-нибудь в верном уголке, и ты при мне все расшифруешь. С твоим текстом я помчусь в типографию! Вечером голос Эжена прогремит по всему Парижу, а власти будут ждать появления отчета о процессе в газетах лишь завтра! Понимаешь, как много выигрываем!.. У тебя есть на примете уютный уголок, где никто не помешает?
— Да, мосье Шюль. В „Мухоморе“ дядюшки Огюстена есть задняя комнатка. Вполне безопасно!
— Вот и отлично! Пошли!.. Хотя нет, погоди, дружок! Такому предприятию нужен солидный размах! — Валлес быстро оглядел редеющую толпу у стен Сент-Пелажи и, схватив меня за руку, потащил за собой: — Идем, идем!
Через минуту мы оказались рядом с группой оживленно разговаривающих журналистов. Здесь были Ферре, Риго, Верморель и кто-то еще, кого я не знал.
— Друзья! — перебил их беседу Валлес, понизив голос. — Прошу внимания! Есть важное и срочное дело! У этого юноши, — он почти с гордостью положил мне на плечо широкую и горячую ладонь, — застенографирована вся речь Варлена на только что закончившемся судилище. Наш долг, чтобы она сегодня же вечером набатом звучала над всем Парижем! Если мы поторопимся, власти и спохватиться не успеют.
Все журналисты с удивлением поглядывали на меня. Первым пришел в себя Рауль Риго, но в его обращенном ко мне взгляде сквозило недоверие.
— Ты знаешь стенографию, Луи?
— Да, мосье. Мы изучали ее вместе с Эженом.
— И записал все?
— Слово в слово, мосье!
— Так это же действительно замечательно! — не сдерживая радости, вскричал Верморель. — Может получиться такая бомбочка, друзья, от которой Баденге и его камарилье весьма и весьма не поздоровится! Надо немедленно печатать экстренный выпуск!
Я никогда не предполагал, что сообщение Валлеса произведет на республиканских „рыцарей пера“, как он только что выразился, такое впечатление. Они буквально вырывали друг у друга мой жалкий блокнот, но, конечно, никто ничего не мог там разобрать.
— Луи! Сколько тебе потребуется времени, чтобы перевести эту абракадабру на понятный человеческий язык? — спросил Валлес.
— Часа два, мосье Жюль.
— Отлично! Значит, друзья, бегом по типографиям. Нужно обеспечить бумагу, наборщиков, печатные машины! И через два часа прошу всех ко мне в редакцию! Мы взорвем „бомбочку“ прежде, чем власти успеют принять меры. Сейчас мы с Луи отправимся в безопасное место для расшифровки его клинописи. А у вас через два часа должно быть все обеспечено: и бумага, и наборщики, и печатники. Неплохой подарок преподнесем нашим узникам, а заодно и подарочек Империи!
И мы с Валлесом отправились в „Мухомор“. Мне было странно, что сегодня ничего не изменилось на улицах и зеленых бульварах Парижа, что так же спешат по делам сотни людей, что жизнь не остановилась ни на минуту. А ведь только что, когда за Эженом железно лязгнула тюремная дверь, мне казалось, что мир почти опустел!
По дороге Валлес рассказывал мне о своей жизни, о коллеже в Нанте, о ссорах с отцом-профессором, о том, как и его, Жюля, таскали по судам за книгу памфлетов „Деньги“, за статьи в „Ла Либерте“ против зверскою подавления генералом Юсуфом восстания алжирцев, о массовых казнях, когда многих повстанцев живьем закапывали в землю. Попало Валлесу за резкую статью, где Мексиканскую экспедицию Баденге он назвал „кровавой бойней“. Всего несколько месяцев назад за статью о парижской полиции в „Глобусе“ Валлес сам провел месяц в стенах Сент-Пелажи. Редактировал и издавал газеты „Улица“ и „Народ“, то и дело запрещавшиеся правительством…
Да, Валлес немало порассказал мне о парижских тюрьмах, о тяжелых условиях пребывания заключенных в большинстве из них. О бессмысленной и бесчеловечной жестокости тюремщиков, о карцерных одиночках без света и воздуха, где тишина и мрак сводят людей с ума…
Я с радостью подумал: слава богу, Эжен будет в Сент-Пелажи не один, с ним все три месяца будут рядом его товарищи. А Жюль Валлес с грустной усмешкой пошутил, что, если бы всех осужденных за последние годы имперскими и полицейскими судами сажать в одиночные камерм, пришлось бы половину Парижа занять под тюрьмы…
Опостен, стоя на пороге своего „Мухомора“, будто бы ждал нашего появления.
— Ну, сколько им влепили? — крикнул он издали.
— Три месяца Пелажи и штраф!
— Ну, по нынешним временам совсем по-божески! — ответил Огюстеи. — Я полагал — припаяют больше!
— У тебя там никого нет? — осторожно спросил Валлес, кивнув в глубину кафе.
— Да нет, сегодня пусто! — Огюстен с комическим сожалением развел руками. — Сплошной разор! Все дни народ прямо с утра бросается к Дворцу правосудия. Терплю из-за вас убытки, негодники!
— Возместится скоро с лихвой, Огюстен! — отозвался, усмехаясь, Валлес. — Нам нужно два часа поработать у тебя, Огюстен. Позволишь?
— Еще бы! Проходите, пока вас никто не увидел, друзья!
И вот мы с Жюлем Валлосом — в крохотной каморке, позади оцинкованной стойки Огюстена. Я принялся за стенограммы. А Жюль, сидя напротив, задумчиво дымил сигарой: Изредка мы перекидывалнсь коротенькими репликами, и Огюстен, когда в кафе было пусто, внимательно прислушивался к ним.
— Давай, давай, Луи! — изредка поторапливал меня Валлес, то и дело поглядывая на карманные часы.
Я переводил фразу за фразой, иногда добавляя к ним то, что Эжен писал в домашних черновиках, и передо мной временами опять возникало багровое от злобы лицо судьи, когда Эжен от имени всех подсудимых бросал ему в физиономию спокойно-гневные, обличительные слова. В дни суда я лишний раз убедился, какой необыкновенный человек мой брат. И печально думал: теперь у меня впереди три месяца тоскливою одиночества, просто не знаю, как их переживу. Хорошо, что много книг, да, надеюсь, кое-кто на друзей Эжена — Жюль Валлес и Жюль Андрне не совеем позабудут меня. Хотя, я понимаю, у них у всех после осуждения Второго Бюро парижских секций Интернационала прибавится дел. Борьба не кончена, она лишь вступила в новую фазу и продолжится с еще большим ожесточением!
Я расшифровывал и словно снова слышал голос Эжена. В зале суда я сидел близко к барьеру, за которым помещались охраняемые жандармами подсудимые, и сильно нервничал, боясь сурового многолетнего тюремного притвора, но Эжен улыбался мне ободряюще и ласково. А я гордился его выдержкой и мужеством, вспоминал героев прежних французских революций, их бесстрашие, преданность идее, презрение к опасности и к самой смерти!
Когда, расшифровав очередную страничку стенограммы, я передавал ее Жюлю Валлесу, Огюстен подошел к нам.
— О, мосье Валлес! — шутливо воскликнул он. — Слушаю я ваши разговоры, и чует мое глупое сердце, что и по вас давно скучает одна из камер Сент-Пелажи! Сейчас напечатаете отчет о суде над Эженом и, глядишь, через недельку составите ему компанию! А?
— Возможно, дружище Огюстен! Возможно! Но мне не привыкать! Там, в Сент-Пелажи, тюремщики, поди-ка, еще не успели как следует затереть мои февральские и мартовские письмена, нацарапанные на кирпиче! Я знаешь как постарался! Гвоздем!
— Ох, лихой, бесстрашный вы народ, писатели и журналисты! — покрутил головой Огюстен, возвращаясь за стойку. — С вами не заскучаешь!
Одну за другой я передавал Валлесу расшифрованные страницы, он быстро перечитывал, одобрительно кивая, иногда у него вырывалось коротенькое восклицание:
— Ну, молодец, Эжен!.. Здорово!.. Лучше не скажешь! Когда я закончил, он бережно сложил листочки, спрятал в карман сюртука. И встал.
— Ты не очень-то тоскуй без брата, Малыш! Должен тебе заметить, дорогой мой, что каждому политическому борцу не только полезно, но и необходимо изредка посидеть в тюрьме. Сидели в той же Сент-Пелажи в свое время и Беранже, и Прудон, н Бланки, и Распайль, и Барбес! Конечно, не дай бог одиночное заключение, оно многих выбивало из сил… А нынешняя политическая тюрьма, где в камере сидят десятки единомышленников и камеры свободно общаются между собой, — это же подлинная академия борьбы, дорогой! Наполеоновские болваны своими крысиными мозгами этого до сих пор никак не могут взять в толк! Обмен мыслями, дружеская поддеря истина, зачастую рождающаяся в ожесточенных спорах, — вот что такое современная политическая тюрьма во Франции, дружок! И Эжену она на пользу! — Он пристально и как-то по-отцовски заботливо, чуть пригнувшись, заглянул мне в лицо. — У тебя, кстати, есть деньги на жизнь, Луи?
— Да, мосье Жюль! — торопливо ответил я о чувством благодарности. — У нас последнее время хватало работы, мадам Деньер пересылала часть заказов…
— Ну и ладно! А в случае чего или когда станет невтерпеж тоскливо и одиноко, забегай ко мне в редакцию! Да и вообще, не пора ли тебе, дружок, по-настоящему прибиваться к журналистике? А? Слово, Малыш, это — острейшее оружие! Правда, и враги кое-чему учатся, то и дело прихлопывают наши газеты. Но мы тут же возрождаем своя издания под другими заголовками… И снова рыщут, носятся повсюду полицейские ищейки, потерявшие след… Эй, Огюстен, старый мухомор, получи с нас, пожалуйста!
Валлес со звоном швырнул на стол серебряную десятифранковую монету, и, когда Огюстен, взяв ее, достал кошелек и принялся отбирать там мелкие монеты, Валлес делапно сердито крикнул:
— И не нужна нам твоя дурацкая сдача, гриб ядовитый!
— Сам хуже всякого ядовитого гриба! — проворчал Огюстен. — Вот помяните мое слово, мосье Валлес, валяться когда-нибудь вашей голове в гильотинной корзине! И не воображайте, плакать по вас не стану!
Пошутив, поблагодарив Огюстена, мы с Валлесом вышли, и уже за порогом он снова обратился ко мне:
— Послушай-ка еще вот что, Луи! Экстренный выпуск будет готов часа через два. Нет ли у тебя на примете десятка шустрых ребятишек, а? Понимаешь, чтобы самим распространить вечером по бульварам, по „Мармит“, по кафе и кабачкам. Надежнее, пожалуй? А? Да и тебе самому, конечно, хочется получить несколько оттисков на память? — Валлес вынул из кармана часы, глянул. — Подъезжай-ка ты к моей редакции, ну, знаешь, где сначала я „Улицу“ печатал, потом „Народ“?
— Да, знаю!
— Вот туда! Подбери верных смышленых ребят, и мы устроим Баденге веселенький спектакль! Перепугается не меньше, чем при взрыве ртутной бомбы Орсини!
Предложение Валлеса обрадовало меня, — одиночество не будет душить меня в этот вечер.
— Через два часа я у вас, мосье Жюль!
— Жду!.. — И на секунду печальная тень темной тучкой набежала на лицо моего собеседника. Он с силой потер ладонью лоб.
— Я что-то не так сказал? — спросил я. — Вы недовольны мной, мосье Жюль?
— О, нет, нет, Малыш! Ты тут ни при чем! Я подумал о наших друзьях в тюрьме и сам не знаю почему вспомнил Феличе Орсини. Когда его повели к эшафоту, он повторил слова, написанные когда-то Торквато Тассо: „Я воскресну из мертвых врагом еще более страшным, хотя буду лишь пеплом могильным и духом бесплотным“. — И Валлес снова с яростной силой, будто желая причинить себе боль, потер кулаком лоб. — Да, Луи, все мы в той или иной мере наследники Феличе, хотя сегодня наше оружие — слово!
И заторопился:
— Ну, жду! Не позже шести!
Я отправился в свою осиротевшую мастерскую, там за время моего отсутствия непрошеные гости не появлялись. Боже мой, как мне показалось в нашей мансарде тоскливо и одиноко без Эжена. Правда, здесь повсюду присутствовали, будто живые существа, принадлежащие ему вещи — вещи, которые он любил, к которым прикасался рукой. Его кофейная и чайная чашки, переплетный станок, на нем — шпагат, натянутый его руками, ножницы, под станком — обрезки полотна и кожи. Книги, которые Эжен любил полистать перед сном, а в крошечной спальне над узенькой кроватью — прикрытые старой простыней его носильные вещи: две крахмальные парадные сорочки, сюртук, который он надевал на собрания и в праздничные дни.
Нет, мне не совестно признаться: я прижался лицом к этим вещам и заплакал, вернее, не заплакал, а заскулил потихоньку, как скулит потерянный пес. Потом лег на постель Эжена и пролежал, неподвижно глядя в потолок, пока часы на ближайшей башне не пробили пять. Тогда я поднялся, привел себя в порядок и вышел из дома. Во многих мастерских закончился рабочий день, и я без труда собрал шестерых ребят, — все они знали о приговоре Эжену, но заставили меня рассказать о том, как проходил суд.
— Вот он какой, мосье Эжен! — то и дело восклицал рыжий Жак, газетчик, давно и навечно прикованный к Эжену той преданнейшей любовью, какой подростки иногда любят взрослых.
Никто из ребят не отказался пойти со мной в редакцию, где нас дожидались уже отпечатанные сотни листовок с речью Эжена, которая звучала отнюдь не как защитительная, а как беспощадное обвинение режиму.
Я взял себе десяток экземпляров, чтобы раздать друзьям Эжена на рю Лакруа, а часть попытаться при свидании в Сент-Пелажи передать Эжену — порадовать его и его друзей…
А потом, в наступающих сумерках, то останавливаясь на людных перекрестках, то сидя на креслице уличного кафе за чашкой дешевого кофе, я слушал крики газетчиков, тревожные свистки ажанов и произносимые незнакомыми голосами слова Эжена. Их читали вслух во многих кафе, на бульварах, их повторяли и восхищались ими. И я тоже твердил их про себя, как молитву, как заклинание. И все же меня томила тревога за жизнь брата: как бы тюремщики не учинили чего-нибудь в стенах Сент-Пелажи, как бы Эжена не убили, не изувечили… Они и на это мастера!
Сейчас поздняя-поздняя ночь. Синевато-оранжевый язычком колеблется в газовом рожке робкое пламя, но я зажег еще свечу и при ее свете без конца перечитываю речь моего Эжена. Беру со стола банку с клеем, осторожно вклеиваю листовку в свой дневник.
Вот она, речь Эжена:
„Хотя перед лицом закона, господа, вы — судьи, а мы — обвиняемые, но на самом деле мы с вами представляем два общественных полюса, две смертельно борющиеся партии. Вы, во что бы то ни стало, всеми правдами и неправдами стремитесь сохранить существующий во Франции строй, а мы, социалисты, хотим этот строй радикально изменить. Почему, зачем?! — спросите вы, спросят вместе с вами миллионы людей.
Рассмотрим же беспристрастно, хорош ли, справедлив ли теперешний государственный порядок и правы ли мы или виноваты в том, что пытаемся его коренным образом изменить?!
Несмотря на то что Великая Французская революция около века назад навсегда провозгласила равенство всех граждан перед лицом общества и государства, в настоящее время несколько одиночек могут, когда им заблагорассудится, целыми потоками проливать народную кровь в братоубийственных войнах, а простой рабочий, мастеровой люд повсюду, во всех странах, одинаково страдает и везде страстно желает одного и того же. Куска хлеба и мира! Соблаговолите, ваша честь, господа судьи, присмотреться к жизни вшшательпо и бесприсграстно! Хотя к вашему беспристрастию я, вероятно, взываю зря! Вопль вопиющего в пустыне!.. Да, да, простите, ваша честь, я не стану отвлекаться от предъявленного нам обвинения! Итак, возвращаюсь к обсуждаемой теме. Всюду миллионы трудящихся — в том числе, господа судьи, и женщины, и дети! — страдают в нужде и невежестве, терпят неописуемые лишения и угнетение, вынуждены ежедневно, ежечасно звенеть кандалами старых предрассудков, закрепляющих их рабство. В то же время на долю небольшой кучки людей выпали все наслаждения жизни, ей преподнесены, точнее сказать, ими захвачены все красоты и прелести земли, и богачи даже не могут придумать куда и на что тратить несметные свои богатства!
Если мы перейдем к частностям, то увидим, что в промышленности не хватает рук, чтобы производить необходимые людям предметы, а в то же время десятки, если не сотни, тысяч рабочих по всей стране занимаются изготовлением необычайно дорогих и, по совести говоря, бесполезных вещей. Миллионам детей бедноты зачастую нечем прикрыть наготу, а в магазинах красуются такие роскошные материи — парча, бархат, шелка! — на изготовление которых потрачены десятки тысяч рабочих дней. Большинству трудящихся недостает их заработка даже на покупку самого жизненно необходимого, в то время как вокруг них люди, ничего не делающие, а лишь наслаждающиеся жизнью, проживают, прожигают огромные состояния. Ваша честь, мадам и мосье! Вспомните, именно рабство погубило древний мир! Современное общество тоже обрекает себя на гибель, если не прекратит страданий большинства, если стоящие у власти будут продолжать думать, что многомиллионный народ должен трудиться от темна до темна и терпеть неслыханные лишения лишь ради того, чтобы ничтожное привилегированное меньшинство — без всяких на то нрав! — купалось и утопало в роскоши!..
Среди этой роскоши и нищеты, самовластия и рабства мы, однако, находим утешение. Оглядываясь на прошлое человечества, изучая его печальную, но поучительную историю, мы видим, как непрочен общественный строй, при котором тысячи людей умирают от голода у самого порога ими же возведенных дворцов, переполненных всеми благами мира!
Присмотритесь внимательнее к тому, что происходит кругом, и вы увидите пока глухую, но смертельную и все растущую ненависть между классом богатых, охраняющих при посредстве штыков и тюрем современный порядок вещей, и классом пролетариев, который стремится к лучшему будущему и имеет полное право на него! Буржуа и правители вернулись к предрассудкам временно уничтоженным в дни Великой революции, составляющей и величие и гордость французской истории! Сейчас правящий класс поражен отвратительной гангреной разврата, коррупции, стяжательства, каждый его член думает и заботится лишь о себе. Все это — признаки неминуемого и близкого падения! Земля уходит из-под ног богачей, берегитесь!
Класс, который до сих пор появлялся на арепе истории лишь во время восстаний, появлялся для того, чтобы уничтожить очередную великую несправедливость, класс, который безжалостно угнетали всегда, — я говорю о рабочем классе! — он наконец-то понял, что именно ему надлежит сделать для уничтожения бесчеловечного зла и страданий миллионов людей. И с вашей стороны, господа, со стороны людей, облеченных властью, было бы благоразумно не мешать его справедливому делу.
Буржуазия в наши дни не в состоянии ничего противопоставить рабочим, кроме насилий и жестокостей, кроме полицейского и судебного произвола, кроме тюрем и каторги, Кайенны и Ламбессы. Но — поверьте мне — все эти меры лишь приближают неизбежный революционный взрыв! Если буржуазия не хочет быть такой бессмысленно и бесполезно жестокой, какой она показала себя до сих пор, ей следует уступить место людям, верящим в лучшее будущее нашей великой Франции и отдающим все силы установлению пового справедливого общественного порядка!“
Вот таков текст речи Эжена, и если сюда вкрались кое-какие неточности, их следует отпести на счет моей несовершениой стенографии.
Судья и прокурор несколько раз перебивали Эжена, грозя лишить слова за оскорбление не только суда, но и Империи и его императорского величества Луи-Наполеона Бонапарта, но все же брату, кое-где смягчая выражения, удалось довести речь до конца. Увешанные золотыми звездами и орденами генералы, упитанные пастыри католической церкви в шелковых сутанах и дамы, блиставшие бриллиантами и диадемами а-ля императрица Евгения, возмущенно вскрикивали и смотрели на Эжена ненавидящими, готовыми испепелить глазами…
Ну вот, я сделал то, что считал своим долгом сделать сегодня, по горячим следам событий. Часы на башнях давно отзвонили полночь, и я тушу свечу и ложусь, хотя нредчувствую, что вряд ли смогу уснуть…»
ДВЕ СТОРОНЫ МЕДАЛИ
В последнюю ночь Коммуны колокола, целую неделю неистово гремевшие над Парижем, замолкали один за другим, а к утру 28 мая где-то в районе Менильмонтана, вблизи кладбища Пер-Лашез, замолк и последний. Видно, рука, дергавшая веревку медного колокольного языка, перестала шевелиться навсегда. И может, то и была рука Эжена? Фанатики, фантазеры, мечтатели! — на что, на кого осмелились замахнуться?! Ну как Эжен, при его природном уме, знании жизни и истории, не понимал, не предвидел всей бессмысленности восстания, неизбежной обреченности Коммуны?
Да, и в эту ночь Клэр думала об Эжене, то и дело ловя себя на том, что жадно прислушивается: не стукнул ли молоток у входной двери, не вернулся ли из очередного похода Луи, не принес ли весточки о брате?
Глупая, глупая ты женщина, Клэр, не умеешь себя по достоинству поставить и оценить! Вот и сейчас сидишь, готовая ронять бессильные слезы на страницы дневника его калечного брата! С риском для собственной жизни спасла Луи от расправы, почти силой притащила к себе, оставила такую опасную записку Эжену. Ведь никому не ведомо, что сотворят с тобой версальцы, обнаружив в твоем доме Варлена, одного из главных вожаков Коммуны? Никакие связи, никакие силы не помогут! Тогда что? Каторга? Смерть?
А Эжена, может, уже и нет среди жнвых, вон сколько перестреляно, перебито за последнюю неделю!
Доносившийся с улицы шум, проникавший сквозь разбитые стекла в окне столовой, оторвал Клэр от дневников Луи. Она встала, вышла в столовую и осторожно подошла к ближайшему окну. Потянула вниз шнурок жалюзи и, стараясь оставаться невидимой с улицы, выглянула из-за портьеры — привычка двухсот осадных и военных дней.
Да, под окнами Деньер стало необычно шумно, но это уже не было шумом сражения. Радостно звучали женские и мужские голоса, лишь изредка перебиваемые грозными окриками офицеров, требующими немедленного исполнения приказов.
Осмелев, Клэр еще потянула шелковый шпурок жалюзи, и ей полностью открылась знакомая много лет улица. И хотя над черепицей крыш сплошным пологом распростерлась дымовая завеса бесчисленных пожаров, хотя камни мостовой разворочены, улица уже возвращается к нормальной, мирной жизни. Вон дородный хозяин ресторанчика «Золотой кубок» напротив дома Клэр, зазывно улыбаясь офицерам Винуа и разряженным красоткам с трехцветными повязками на шляпах и такими же бантиками на груди, впервые за полгода поднимает гофрированные железные шторы своего пощаженного снарядами заведения, приглашает зайти, отдохнуть от ратных трудов, — видно, несмотря на долгую осаду, мосье удалось кое-что сохранить в подземных погребах.
Красноштанные солдаты Винуа и Галифе и десятка два гражданских лиц под командованием щекастого и голосистого капрала поспешно разбирали барракаду, раскидывали камни, расшвыривали обломки мебели, оттаскивали в стороны содранные неделю назад вывески и чугунные фонарные столбы. А у баррикады, мирно понурясь и жуя клок сена, переминался с ноги на ногу ко всему привычный парижский першерон, запряженный в широкую телегу, на каких обычно мясники развозили по лавкам говядину, свинину и прочую убоину. Сейчас на телегу были в беспорядке навалены человеческие тела, свешивались через борта и колеса окровавленные руки и ноги. А кучка солдат, бранчливо перекликаясь, волокла к телеге очередное мертвое тело. Голова убитого бессильно билась о камни, вытянутые руки словно пытались ухватиться за землю…
Этого ли ты добивался, об этом ли мечтал, Эжен? Не хочу, не хочу поверить! Может, и тебя в эти минуты вот так же волокут по булыжникам, и для тебя кончено все, все?!
А для других, для многих жизнь продолжается. За полуразобранной баррикадой остановилась запряженная цугом карета с позолоченным княжеским гербом на лакированных зеленых дверцах. Щеголеватый возница со стрельчатыми усиками под Луи-Бонапарта, напряженно привстав на передке, что-то кричал солдатам, тыкал кнутовищем в сваленные поперек улицы доски и обломки мебели. Из окон кареты нетерпеливо выглядывали с одной стороны голова в генеральской треуголке, с другой — в кокетливой трехцветной женской шляпке с белоснежным пером альбатроса.
Значит, возвращаются из Версаля те, кто покинул Париж после падения Империи, в дни седанской катастрофы, и позже, при провозглашении Коммуны. Рассказывают, что одной из первых, вместе с царственным огпрыском, в карете австрийского посланника сбежала в Версаль жена Баденге императрица Евгения, прихватив с собой дюжину чемоданов с золотом и ценностями, изъятыми из Лувра и других музеев.
Когда около полугода назад мадам Деньер последний раз обедала с друзьями у Бребана, кто-то из лиц, представленных при дворе, повторял хвастливые утверждения бывшей испанской мадемуазель Монтихо, ставшей супругой последнею бесславного Бонапарта. Эта дама в начале франко-прусской войны не раз и не два похвалялась: «Это — моя война!» и «Эта война нужна, чтобы мое дитя царствовало!»
Она, императрица Евгения, прознанная парижанами Баденгетихой, еще до позорной сдачи в плен почти стотысячной армии под Седаном всячески противилась возвращению своего царствепного супруга в Париж, утверждая, что, «если муж явится в Париж, его гибель неминуема и революция станет неизбежной». А после пленения незадачливого императора Евгения вкупе с бездарным военным министром Паликао, сидя в своем парижском будуаре, пыталась, или делала вид, что пытается, руководить бессильными попытками сопротивления победоносному маршу прусских армий. Ну ее ли, женское ли дело — война?!
Улица шумела сильнее, все больше наполнялась нарядными, ликующими людьми. За генеральской каретой, нетерпеливо ожидавшей возможности миновать полуразобранную баррикаду, выстроилась длинная вереница экипажей, фиакров, ландо, — хвост ее скрывался за поворотом улицы. Как же их много, трусов, побросавших все и сбежавших, спасая шкуру… Вон с какой поспешностью карабкаются они на сиденья карет, стараясь по заревам и дымам определить, не их ли гнездо превращается в эти минуты в обугленные головешки, не над их ли дорогим пепелищем вихрятся огненные смерчи?
Э, нет! Клэр Деньер не позволила трусливой волне паники подхватить себя, она не оставила на произвол судьбы, огня или разграбления свой очаг — ведь то все, что у нее есть, единственный фундамент благополучия и независимости! О, кое-чему она все же успела научиться у покойного миогоопытного мужа, он привил ей уважение к могучей власти денег и обучил наживать их. И мир праху его!
А кроме того, Клэр никогда не была убежденным врагом коммунаров, как не была врагом и тех, кто в ужасе сломя голову бежал от Коммуны в Версаль или еще дальше, на южное побережье, в не опаленные войной благословенные и благоденствующие места. «Бог с ними, — думала она тогда, — пусть дерутся, пусть разбираются между собой сами! Мое дело — добротно и изящно руками моих мастеров одеть в телячью кожу, бархат или сафьян печатные листы, превратить их в изящные томики с золотым обрезом, получить за работу плату — и по возможности, конечно, побольше! А остальное меня не касается!» Она не желала и не желает принимать участие в охватившем мир повальном безумии! Слава богу, работы на ее век хватит, книги будут печататься и переплетаться при любом режиме!
Грозные окрики и бряцание оружия на улице снова привлекли се внимание.
Среднюю часть баррикады разобрали, но в образовавшийся пролом кареты проехать все же не могли: навстречу им жандармы и потные, озлобленные солдаты, подталкивая отстающих штыками, гнали колонну пленных. Пронырливая Софи, вернувшись вчера вечером, рассказала Клэр, что в Люксембургском дворце день и ночь заседают версальские трибуналы. Приговоренных к смерти расстреливают там же, в парке, у подножия прекрасных мраморных статуй, а осужденных к тюрьме и каторге отправляют в Сатори, под Версалем. Вот и этих, вероятно, гонят туда же.
Сидевший в передней карете генерал, распахнув дверцу, что-то гневно кричал, размахивал блестящей золотом треуголкой, но жандармы старались не смотреть в его сторону и с тупой настойчивостью делали свое дело. Их служебное рвение объяснялось просто: достаточно на секунду ослабить внимание — и какой-нибудь осужденный рискнет броситься в боковую улочку, в переулок. В толпе стрелять невозможно, а догнать — не догонишь, придется головой отвечать за какого-то мерзавца! А генерал в карете — не один, с дамой, значит, не при службе, может и подождать!.. Да, жандармы снова становятся полновластными хозяевами улиц и площадей Парижа, всесильные представители закона и власти!
Со стесненным сердцем, невольно отыскивая среди обреченных Эжена, Клэр оглядывала за рядом ряд.
Пленные неспешно брели по разрытой улице, заваленной обломками баррикады, и Клэр с удивлением подметила, что большинство из них, даже те, у кого связаны за спиной руки или обмотана окровавленной тряпицей голова, смотрят на беснующуюся на тротуарах толпу без страха, а с презрительным равнодушием. В них через головы жандармов и солдат летели осколки кирпича и штукатурки, пустые бутылки и черепки посуды, но они, казалось, ничего не замечали. И в их равнодушии были и гордость, и какая-то непонятная сила, которую невозможно ни сломить, ни унизить…
Клэр вздохнула с облегчением: Эжена Варлена в колонне не было, она узнала бы его в любой одежде. Но в каждом из осужденных было что-то от него, от его спокойной уверенности в себе, от его «плебейского высокомерия» — так она о нем когда-то, еще толком не зная его, выразилась. И откуда у них такая сила, у измученных годами непосильной работы каменщиков и литейщиков, у сыромятников а бронзовщиков; чем питается гордость в таких, как Эжен? Удивительные люди! В том же Эжене столько врожденного достоинства, благородства, внутренней силы!.. Правда, теперь, полистав дневники Луи, она, Клэр, стала больше понимать Эжена…
Она вспомнила Андре Лео и Луизу Мишель, которые изредка навещали ее мастерскую, их восторженные рассказы о русских декабристах и польских революционерах, жертвовавших всем, даже самой жизнью, ради освобождения страны от рабства, вспоминала описание мужественной смерти Джона Брауна и его двух сыновей, боровшихся в Америке против рабства. Вспомнила об Огюсте Бланки и Гарибальди, о которых недавно прочитала в записках Луи. Андре Лео и Лунза Мишель отзывались об этих людях также с высочайшим уважением. Возражать своим собеседницам Клэр тогда не решалась, по, по правде говоря, она решительно не понимала подобных людей. Да и сейчас вряд ли понимала до конца! Принести себя в жертву, отказаться от простых радостей жизни? И лишь ради того, чтобы кто-то чужой и далекий тебе стал свободен и счастлив? Поразительно, непостижимо! Вот и Эжен из той же породы!..
Толпа пленных и их конвоиры скрылись наконец за поворотом улицы. Ландо, кареты с фамильными гербами на лакированных и раззолоченных дверцах, генеральские экипажи торопливо проезжали мимо дома Деньер, качаясь на выбоинах развороченной мостовой. Ликующий баритон кричал кому-то из ярко-желтого ландо:
— Э, Антуан! Ты все еще жив, старый греховодник? Вечерком у Маньи или Бребана?!
— Лучше у Бребана! Там соберутся, вероятно, все наши!
— И снова — пробки в потолок?!
Вздохнув, Клэр вернулась в спальню, к столу, где белела раскрытая тетрадь — исповедь чужой, такой далекой от гге жизни…
Да, оказывается, и этот юнец, деревенский парнишка из Вуазена не так-то прост!.. Шум на улице мешал Клэр читать мелко исписанные страницы, она просто перелистывала их, наугад выхватывая две-три строки. И даже эти проблески чужих мыслей, записанных, вероятно, потому, что отражали мысли самого Луи, останавливали ее внимание.
«Мир — это бочка, усаженная изнутри перочинными ножами».
«Видали вы когда-нибудь, как лев зевает в зоологическом саду? Это грустное зрелище!»
Да, юноше нельзя отказать ни в наблюдательности, ни в остроте ума. Прочитанные фразы закавычены, значит, впервые сказаны или написаны другими, видимо, кем-то из великих, но ведь заинтересовали же они Луи! А что ж, пожалуй, упоминание о жизни в бочке, утыканной изнутри ножами, и о тоскующем в клетке льве как-то подходит к людям типа Эжена. Они и стремятся выкарабкаться из ежесекундно ранящей бочки, пытаются разрушить ненавистную жизнь, кидаясь на ее острия со всей силой отчаяния и безрассудства!
Она снова глянула на раскрытые наугад странички и прочитала:
«Турецкая поговорка: когда дом построен, в него входит смерть!»
С горечью и непонятной злобой и силой Клэр захлопнула дневник Луи, — каким-то образом он задевал, даже, вернее, оскорблял ее, может быть, ее женскую слабость, неспособность к борьбе со злом, которого она не могла не замечать кругом, ее подвластность течению жизни, которому она легко покорялась, покоряется и будет покоряться почти бездумно, не желая ничем рисковать, защищая только себя, свой дом, свою фирму, свой счет в банке, свое благополучие… А вот эти…
От грустных раздумий Клэр отвлек удар молотка в парадную дверь, она вскочила, прислушиваясь, нет, это не Луи, — два сильных, властных удара. С тревогой покосившись на книжный шкаф, в глубине которого спрятаны документы Эжена, Клэр бесшумно вышла на лестничную площадку — оттуда видна и вся передняя. Игривый голосок Софи спросил: «Кто там?» Ответа Клэр не расслышала, но по тему, как горничная с торопливой готовностью отпирала замки и засовы военного времени, догадалась: кто-то из друзей.
— Да, да, мосье Эдмон! — кокетливо щебетала внизу Софи. — Дома, дома. Пожалуйте вашу шляпу и трость! Вы не были у нас целую вечность!
Ага, это, видимо, Эдмон Гонкур, старший из братьев, которые обычно переплетали книги у мадам Деньер. Ступая на цыпочках, чтобы не выдать себя стуком каблучков, Клэр вернулась в глубину своих апартаментов, к зеркалу: припудрить шею и носик, тронуть помадой губы. Что ж скрывать: Клэр всегда была неравнодушна к обитателям Парнаса, снисходившим к посещению ее мастерской, а к Шарлю Гонкуру — особенно. К несчастью, молодой писатель, брат Эдмона, ушел из жизни обидно рано. В прошлом году Клэр сочла долгом проводить Шарля в последний путь, к семейному склепу Гонкуров на кладбище Монмартра. Там она и виделась в последний раз с Эдмоном, — тот был настолько потрясен смертью любимого брата, что с тех пор стал сторониться людей.
Заслышав голоса на лестнице, Клэр присела в уголок дивана с наугад развернутой книгой в руке.
Шаги, кокетлнво-ласковый смех Софи.
Все в Клэр задрожало от негодования: слишком многое позволяет себе эта смазливая ветреница!
— Мадам! К вам мосье Эдмон Гонкур! Можете ли вы принять?
— О да, да, конечно! Проси! — И, не выпуская книги из томно откинутой руки, Клэр выпрямилась на диване. — Эдмон! Дорогой, как я рада вас видеть! Вы из Версаля?
— О нет, несравненная Клэр! — горестно усмехнулся Гонкур, наклоняясь к ее руке. — Я пережил весь кошмар последнего года здесь, в Париже. Да по правде говоря, после потери Шарля мне нестерпимо стало общество! Я отсиживался у себя в Отей, не в силах покинуть доя, где мы с Шарлем были счастливы почти три года!
— Бедный, бедный Шарль! — вздохнула Клэр. — Как жестока и несправедлива судьба! Такой талант и в самом расцвете сил!
— О, не говорите, Клэр! Сегодня утром зашел на кладбище, к его гробу. На Монмартре, как видно, шли ужасные бои. Но, слава богу, мой фамильный склеп уцелел. Хотя, естественно, могло произойти худшее, чернь в своей слепой ярости не щадит ни жизни живых, ни памяти мертвых! Но как вы, дорогая? Я вижу, ваше уютное гнездышко осталось нетронутым?
— Да! Я непрестанно молила мадонну о заступничестве… Но скажите, Эдмон, вы… — Откинувшись на спинку дивана, Клэр пытливо всматривалась в Гонкура, уютно расположившегося в кресле напротив. — Вы оставались в Париже, но ведь… Коммуна объявила поголовную мобилизацию в Национальную гвардию. Вы не сражались на стороне Версаля, но не сражались и на стороне Коммуны?
— Да, Клэр! — с подчеркнутым вызовом ответил Эдмои, выпрямляясь в кресле. — Вы удивлены? Неужели вы допускаете, что уклониться от службы в Национальной гвардии меня понудила трусость? Нет, отнюдь не трусость, Клэр! Если бы я мог действовать сам, один свершить что-нибудь значительное, командовать, управлять, словом, проявить себя в воине как индивидуальность! Но я не мог смириться и стать нулем, безымянным куском пушечного мяса. Как ни героична была бы подобная смерть, чувствую, что по занимаемому мной месту в литературе я стою большего! Понимаете ли вы меня, Клэр?!
— Разумеется, понимаю, Эдмон, — чуть помедлив, без особенного сочувствия кивнула Клэр, думая о хромоногом голодном Луи, скитающемся где-то по улицам Парижа.
Бесшумно снуя из кухни в столовую и обратно, лукаво посматривая на седого, но все еще обольстительного красавца Гонкура, Софи торопливо накрывала на стол. Искоса глянув на бутылку дорогого вина, на закуска, появившиеся на столе, Гонкур воскликнул:
— Но довольно обо мне! Расскажите о себе. Я вижу, наш дорогой Поль Бребан не оставлял вас своим вниманием и в самые тяжелые дни!
— О да! Софи наведывалась к нему каждые два-три дня! Прямо не знаю, как бы я жила, если бы ее Поль!
Изящным и торжественным жестом Гонкур извлек из бокового кармана сюртука кусок белого бристольского картона.
— Да, наш любезный и заботливый Поль в эти страшные месяцы ие забывал и литературную элиту Парижа! Мы вчера, как обычно, собрались у него на освященный десятилетиями традиционный обед. И вот что мы решили, дорогая Клэр! Монетный двор, его орденские мастерские снова приступают к работе. И мы, четырнадцать друзей, регулярно собирающиеся у Бребана вот уже два десятка лет, заказываем отлить медаль из чистого золота стоимостью в триста франков как знак благодарности Бребану. Вот что будет отчеканено на сем уникальном сувенире, издающемся в единственном экземпляре. Взгляните, Клэр, на его лицевую сторону!
Клэр осторожно взяла картон и прочитала вслух: «Во время осады Парижа несколько человек, привыкнув собираться у Бребана каждые пятнадцать дней, ни разу не заметили, что они обедают в городе с двумя миллионами осажденных. 1870–1871 гг.».
— А теперь, дорогая, переверните! — воодушевленно продолжал Гонкур. — Эти четырнадцать имен, выгравированные на тонком золоте самой высокой пробы, научат потомство, как следует лечиться от народных бедствий, будучи философом, как Эрнест Ренан, поэтом, как Теофиль Готье, романистом, как ваш покорный слуга, критиком, как Поль де Сен-Виктор, и как остальные, чьи имена прославлены во Франции и во всем мире! Пир во время чумы!
Клэр задумчиво вертела блестящий кусок картона с крупными буквами вверху: «Господину Полю Бребану!» — и четырнадцатью фамилиями ниже. И странное, двойственное чувство овладевало ею.
— Вот этим, — торжественно продолжал Гонкур, — прелестная Клэр, цвет литературной Франции постановил отметить возврат от ужасов современного средневековья к нормам цивилизованной жизни! Надеюсь, что после нынешнего урока чернь из подворотен и придорожных канав надолго успокоится и забудет о свободе и равенстве!.. Республика — это конечно же прекрасная греза великих умов, мыслящих широко, великодушно, бескорыстно, но она неосуществима при низких и дурных страстях французской черни. Для этой черни Свобода, Равенство, Братство могут означать только порабощение и гибель высших классов! Представляете себе, Клэр: Жюль Валлес — министр народного просвещения! Или что-то вроде этого! Трудно удержаться от смеха! — Эдмон Гонкур тщательно пригладил когда-то белокурые, а теперь седые, но все еще щегольские усики. — Да, наконец-то пришло избавление, наконец-то ювелиры слова могут вернуться к своим письменным столам-жертвенникам и с присущей им беспристрастностью запечатлеть происшедшее… Вы разрешите курить, дорогая?
— О, конечно, Эдмон!
Гонкур достал из кармана портсигар, золотой гильотинкой обрезал кончик сигары, закурил, глубоко затянулся и пустил к потолку ряд аккуратных колечек дыма, наблюдая за хозяйкой с удовлетворенной улыбкой. Затем заговорил снова.
— Однако позвольте признаться, дорогая Клэр, меня призело к вам не только горячее желание увидеть вас и убедиться, что вы остались живы в эти тяжелые, трудные времена. Скажите, возобновит ли работу ваша фирма?
— Да, разумеется, — грустно улыбнулась Клэр. — Бедной вдове необходимо зарабатывать себе на хлеб!
— Ой, Клэр, Клэр! — с насмешливым укором воскликнул Гонкур. — Какая вдовствующая императрица! Всему Парижу известно, что вы могли бы перестать вдовствовать в ту же минуту, как сняли траурный креп! Я знаю кое-кого, кому ваша неприступность надолго нанесла серьезную травму!
— Надеюсь, не навсегда? — иронически, но и польщенно улыбнулась Клэр, перечитывая имена на бристольском картоне, — Да, Эдмон, моя мастерская скоро приступит к работе. Вам необходимо что-то переплести?
— Да, Клэр! — На красивое, точеное, но чуть расплывшееся лицо Гонкура легла скорбная тень. — Мы с покойным братом… О, Шарль, Шарль, как он мог оставить меня?!. Так вот. Мы с Шарлем в течение всей нашей сознательной творческой жизни вели совместные дневники, сейчас набралось около десяти томов. Без ложной скромности скажу: это летопись эпохи, бесценное свидетельство нашего грозного и — увы! — грязного времени! Это не литература — сама жизнь!
Клэр с усилием отвела взгляд от глянцевитого кусочка бристольского картона и, положив его на стол, многозначительно переспросила:
— Дне-вни-ки? Дневники, говорите вы, Эдмон?
— Да! Мои и моего незабвенного Шарля!
— А можно?.. — Клэр еще раз глянула на четырехугольник белоснежного картона на столе и медленно встала. — Можно, Эдмон, я покажу вам две-три странички еще одного дневника?
— Вашего, Клэр? — вскричал Гонкур, порывисто поднимаясь с кресла. — Неужели и у вас, такой очаровательной и слабой женщины, нашлись силы…
Но Клэр остановила собеседника движением руки:
— Нет, Эдмон. — Она секунду пристально смотрела в светло-синие глаза Гонкура. — Я хочу показать вам дневниковые записи человека, имени которого я не имею права называть… Можно?
Явно разочарованный, Гонкур пожал плечами.
— Если вам угодно, Клэр!
Придерживая рукой подол длинного платья, Клэр неторопливо прошла в спальню и вернулась оттуда с толстой тетрадью в руке.
— Посмотрите эти две страницы, Эдмон! Пусть и косвенное, но они имеют отношение к вашей золотой награде Бребану.
— Извольте! — отозвался Эдмон без особого энтузиазма. И когда он, достав из жилетного кармана пенсне, принялся читать вслух дневники Луи, его голос становился все холоднее и напряженнее с каждой новой фразой. — «В течение двух осад, прусской и версальской, в течение почти восьми месяцев, жалованье национального гвардейца оставалось неизменным, равным тридцати су в день, то есть полутора франкам… Тридцать су — это цена кочана капусты двадцатого ноября, одного воробья — двадцатого декабря. Кошки на центральном рынке — пять франков штука десятого ноября и двенадцать франков восьмого января. Крысы на рынке грызунов возле Ратушн тридцать — пятьдесят сантимов за штуку девятого ноября. В первый день нового года цена на ворон достигла двух с половиной франков. Значит, национальный гвардеец Коммуны, получавший полтора франка в сутки, не мог купить для своей семьи и одной вороны в день…»
Раздражение Гонкура по мере того, как он читал, все отчетливее проступало в его голосе. Наконец он с тяжелым вздохом опустил тетрадь Луи себе на колени. Но Клэр ласково прикоснулась кончиками пальцев к его руке.
— Продолжайте, продолжайте, Эдмон! Мне так интересно, а я почти не могу разобрать эги малограмотные каракули!
Сердито пошевелив седеющими усами, Гонкур достал новую сигару, но не закурив ее, продолжал читать:
— «Лишь богачи могли есть досыта, когда мясо мула стоило восемь франков килограмм, ветчина — шестнадцать франков, говяжье филе — тридцать франков килограмм двадцать седьмого ноября, когда „Потель и Шабо“ продавали швейцарский сыр по тридцать шесть франков килограмм и павлинов по пятьдесят франков за штуку, мясо слона из Зоологического сада сто пять франков за килограмм — двадцать седьмого декабря, а пирожок с телятиной у Шеве — тридцать франков восьмого января!»
— Но, простите, дорогая Клэр! — с принужденным смехом воскликнул Гонкур, брезгливо откладывая тетрадь. — Зачем вы заставляете меня читать это? Дело прошлое, и нам с вами незачем вспоминать о тех черных и страшных днях! Ну, не так ли?
Но Клэр ответила не сразу, она с печальной осторожностью взяла отброшенную Гонкуром тетрадь, бережно положила себе на колени.
— Но согласитесь, милый Эдмон, здесь есть несколько интересных строк!.. Вот, например… в конце декабря, то есть еще задолго до Коммуны, мясо слона, убитого в Зоологическом парке, стоило сто пять франков за килограмм. Зпачит, не Коммуна виновата…
— Но почему это вас так трогает, Клэр? — подавляя раздражение, спросил Гонкур.
Но Клэр словно не слышала собеседника.
— Подождите, подождите, Эдмон! Неужели вам трудно выполнить мою крошечную просьбу? Дочитайте, пожалуйста, вот эту страничку до конца.
— Извольте! — уже не скрывая раздражения, буркнул Гонкур, беря тетрадь. — «Оратор в клубе Революции в Элизе-Монмартр сказал: „Хлеб или, вернее, заменяющее его жесткое месиво состояло восемнадцатого января, во-первых, из сена, во-вторых, овса, в-третьих, из мусора, сметаемого на мельницах, в-четиертых, из глины — главным образом из глины, так что, собственно говоря, в данную минуту мы поедаем холмы Монмартра!“»
Клэр подняла на Гонкура полные слоз глаза.
— И вот тут еще, пожалуйста, прочтите, Эдмон. Кажется, последние на странице строки.
— Милейшая Клэр! Но какое отношение…
Она но дала ему договорить, приказала:
— Читайте!
И он подчинился, хотя ему вдруг захотелось встать, холодно откланяться и уйти.
— «Несмотря на ежедневную выдачу „дешевыми кухнями“ неимущим и нуждающимся гражданам ста девяноста тысяч порций „народного супа“, смертность неуклонно возрастает: если в августе семидесятого года каждую неделю умирало в Париже в среднем девятьсот человек, то на третьей неделе января семьдесят первого года смерть уносила четыре тысячи пятьсот парижан, в том числе восемьсот детей. В пять раз больше!..»
— Ведь это же чудовищно, Эдмон! — перебила Клэр. — Как вы, писатель, знаток и людских и государственных: судеб, не чувствовали ужаса всего происходящего?! Ведь именно от этого хлеба из мусора и глины умирали женщины и дети! Разве такое может оставить равнодушным человеческое сердце?!
Гонкур, закурив, долго молчал, глядя то в окно, то на колечки сигарного дыма. Потом заговорил с твердой убежденностью в голосе, но мягко и поучительно, как взрослые разговаривают с непослушпым и неразумным ребенком:
— Милая Клэр! Выйдите на улицы, пройдпте по prю Риволи, посмотрите на дымящиеся развалины Тюильри, на сожженный Париж! Интересно, с каким чувством вы, дорогая, читали бы сии сентиментально-слезливые строки, если бы на месте нашего дома сейчас дымились обугленные головешки?! Вы полагаете, Клэр, что я бесчеловечен, что я одинок в своих оценках?! Ну, нет! Вчера я побывал у Жорж Санд, и она мне показала письмо Флобера. Напомню вам, дорогая, что в начале войны Флобер сам вступил в Национальную гвардию, чтобы защищать Францию от прусского вторжения. Не кто иной, а именно он, Гюстав Флобер, поклялся застрелиться, если пруссаки вступят в Руан. Правда, он так и не застрелился, хотя Руан был сдан врагу. Но, значит, вначале он должен был сочувствовать Коммуне? Да? А теперь? Вот что он писал Жорж Санд, я запомнил его слова наизусть. «Коммуна утверждает, — пишет Флобер, — что долг не есть долг, долги можно не возвращать, что не обязательно платить услугой за услугу. Это чудовищно по своей глупости и несправедливости!.. Ах, что за безнравственное существо — толпа, и как унизительно быть человеком!»
Клэр подавленно молчала, теребя батистовый платочек. Гонкур взял со стола кусок бристольского картона.
— А вот эти четырнадцать весьма известных и во Франции и во всем мире имен разве ничего не говорят вашему сердцу и уму, Клэр?! Они единодушны в оценке только что завершившейся кровавой драмы…
Он поднял руку Клэр к губам, поцеловал. А она думала об Эжене Варлене, гадая, где скитается этот безумец, если он чудом остался жив?
И СНОВА В БОЙ! (Тетради Луи Варлена. 1868 год)
«Я не могу описать нетерпения, с каким ждал день 6 октября, дня освобождения Эжена из тюрьмы! Эти три месяца тянулись мучительно медленно, словно не месяцы шли, а годы, целая вечность!
К тому же меня не покидала тревога, что в Сент-Пелажи может произойти что-нибудь такое, что даст администрации тюрьмы основание продлить кое-кому срок заключения. Так случалось уже не раз после каждого протеста узников, который тюремщики тут же громогласно именовали бунтом. И тогда судьи приезжали прямо в Сент-Пелажи, и „преступников“ судили здесь же, и пощады им не давали!
Правда, по воскресеньям, когда я приносил Эжену передачу, он всячески успокаивал меня: „Ты не беспокойся, Малыш, ничего плохого со мной не случится!“ Но я прекрасно понимал, что Эжен никогда не скажет мне всей правды, боясь меня огорчить. А от Жюля Валлеса, отсидевшего свой срок совсем недавно, я знал обстановку в Сент-Пелажи, готовность тюремщиков на любую провокацию, если им прикажут отыскать повод для задержания в тюрьме тех, чье присутствие на свободе особенно нежелательно прислужникам Баденге. Тем более что и в самом Париже, и в других крупных городах Франции — Лионе, Марселе, Руане, Крезо — неудержимо нарастает волна рабочих выступлений и стачек.
Больше всего меня тревожило следующее. Через надежного товарища, освободившегося из Сент-Пелажи в конце августа, Эжену и его друзьям удалось переправить на волю и переслать за границу приветствие очередному конгрессу Интернационала, состоявшемуся в сентябре в Брюсселе. Это приветственное послание, оглашенное на заседании конгресса, само собой, появилось и на страницах французских газет и уж, конечно, не могло не вызвать гнева Наполеона Малого и его приспешников. Значит, можно ожидать всего, чего угодно: любой пакости, любой подлости!
Поэтому-то в оту ночь я и уснул едва ли на полтора-два часа. И сон был кошмарно-бесконечный: какие-то преследования и погони, страшные звериные морды, выглядывавшие из-за каждого угла, и почему-то Катрин в изорванной нижней сорочке, растрепанная и босая, по колени в грязи…
Но дурные предчувствия, к великому моему счастью, не сбылись, не оправдались: день освобождения Эжена оказался для меня таким безоблачно-радостным, какого я никак не ожидал. И начался он ранним визитом Жюля Валлёса.
Накануне я отнес мадам Деньер очередной выполненный мной заказ и получил у нее плату. Сегодня, поднявшись чуть свет, я занимался тем, что готовил праздничный обед — в день возвращения брата мансарда наша не будет пустовать. Несмотря на почти нескрываемую, неустанную полицейскую слежку, обязательно явятся самые близкие друзья, а их у нас с Эженом, с гордостью скажу, порядочно!
Не забывал я на всякий случай и о том, что Эжен освободится из заключения не один — он и его товарищи выйдут из тюремных ворот так же, как вошли туда, вся девятка сразу. В „Лепестке герани“ я закупил провизию, — хозяйка нашего жилища на рю Лакруа, куда мы перебрались недавно, весьма расположена к нам. Вовсяком случае, обсуждая однажды эту тему, мы с Эженам пришли к выводу, что хозяйка „Лепестка герани“, она же владелица дома, ни в коем случае не продаст нас, не станет сотрудничать с полицией, как многие домовладельцы и консьержки Парижа.
Да, многого я ожидал от 6 октября, приготовился к встрече дорогих гостей, но не предполагал, что праздничная суматоха начнется так рано.
Я трудился над огромной позаимствованной у хозяйки сковородой, когда раздался стук в дверь, в нем я сразу узнал „почерк“ Жюля Валлеса. В прежние годы, скажем, в те восемь лет, что мы прожили на рю Дофин, мы с Эженом не особенно-то старательно запирали двери нашего убогого жилья — там мало чем можно было поживиться. Но с некоторых пор, заметив пристальное внимание жандармов в шпиков к нашим особам, мы принялись более тщательно оберегать свое жилье от непрошенного вторжения. Поэюму каждый стук в дверь был условлен, оговорен заранее.
Я обрадовался приходу Жюля Валлеса и поторопился в переднюю. Да, пришел мосье Жюль, и не один — из-за его плеча на меня глянуло незнакомое, темное лицо металлиста с частыми, хотя и неглубокими ямочками — следами оспы.
— Я осмелился явиться с другом, Малыш! — улыбаясь через порог, извинился Валлес.
— Ваши друзья всегда желанные гости в нашей с Эженом конуре!
— Ну, не такая уж у вас конура! — засмеялся, снимая шляцу и проходя, Валлес. — Прошу познакомиться, давний друг Эжена, гость из Руана мосье Эмиль Обри! Позавчера он вернулся с Брюссельского конгресса Интернационала и сгорает от нетерпения повидать Эжена.
Я пожал протянутую мне горячую, сухую руку.
— Заочно я с вами давно знаком, мосье Обри! — сказал я, стараясь скрыть свою всегдашнюю проклятую робость перед новыми людьми. — У Эжена от меня нет секретов, и я читаю все ваши письма, присланные из Руана. Уверен, он будет счастлив увидеться с вами! Но, к сожалению, его пока нет дома.
— Пока, пока! — захохотал на всю мансарду Валлес. — К счастью, это „пока“ сегодня и кончается! Э, я вижу, Малыш, ты по сему поводу готовишь настоящий лукуллов пир?
— Паштета из соловьиных язычком не обещаю, мосье Жюль! Но мне хочется вкусно накормить брата после трех месяцев тюремной похлебки. Так и вы сами, вероятно, не успели позавтракать? Разрешите…
— Э, нет, Луи, не пойдет, — категорически запротестовал Валлес, энергично размахивая шляпой. — За праздничный стол мы сядем лишь вместе с Эженом. И встречать его к воротам Сент-Пелажи тоже отправимся с тобой вместе. Полагаю, сегодня, как и три месяца назад, там соберется не одна сотня парижан!
— Хочу добавить… — Мосье Обри произнес первые слова, и меня поразила сила его глубокого и звучною голоса. — Хочу добавить, что из восемнадцати французских делегатов последнего конгресса чуть ли ие все собирались сегодня приветствовать узников Пелажи. Послание, дошедшее к нам в Брюссель сквозь тюремные запоры и решетки, доставило нам необычайную радость! Ещо раз мы получили возможность убедиться, что в наших рядах нет отступников.
Эмиль Обри мне сразу понравился: в нем угадывались те же качества, которые я так ценю и люблю в брате. Острый ум, решительность, воля к борьбе.
Я провел гостей в глубину мансарды и, попросив извинения, вернулся к кулинарным хлопотам. Сквозь шипение дымившегося на сковородке мяса до меня доносились бодрые, оживленные голоса.
Валлес и Обри беседовали о конгрессе, о кипеиших на нем страстях и спорах. Потом разговор перекинулся на общеевропейские дела, говорили о недавнем восстания испанских военных моряков в Кадисе, с чего и началась революция на Пиренейском полуострове, завершившаяся бегством из страны испанской королевы Изабеллы Второй.
— О, об Испании немало говорилось в кулуарах конгресса! — слышал я звучный баритон Обри. — Некоторые полагают, что именно Пруссия попытается завладеть опустевшим испанским троном. И если Гогенцоллернам удастся посадить на этот трон кого-то из своих царственных отпрысков, это может дать повод нашему Баденге к войне с Пруссией. И французскому народу это ничего, кроме новых страданий, не принесет!
— Вообще мир последние десятилетия очень много воюет! — чуть помолчав, задумчиво отозвался Валлес. — Давно ли закончились пятилетняя гражданская война в Америке и наша военная авантюра в Мексике? Совсем недавно — две войиы в самом центре Европы. Австрия и Пруссия против крошечной, но героической Дании, затем — война бывших союзников между собой: Пруссии при поддержке Италии против Австрии. Сейчас — война Кубы с Испанией. Честное слово, Эмиль, мир словно сошел с ума!
Они минуту помолчали, дымя сигарами. А мне припомнились рассказы Эжена о беседах в Лондоне с Марксом, слова Талейрана о желательности периодических „кровопусканий“, они-де укрощают революционный пыл, служат клапаном для ослабления нарастающего давления народного гнева. Что ж, вот они, эти „кровопускания“!
— А! — сердито воскликнул Валлес. — Ты оглянись, Эмиль, на тысячелетия человеческой истории! Жизнь простого рядового труженика никогда не ценилась дороже су! И лишь победа истинно народных революций может установить на земле царство подлинной справедливости и добра! Недаром же так жестоко подавлено восстание на Кипре, не зря англичане так свирепо расправляются с фениями в Ирландии!
— И наш Иптернационал — первый шаг к свободе народов, дорогой Жюль! — со сдержанной восторженностью подхватил Обри. — Тебе, вероятно, трудно представить чувства, которые я пережил на Брюссельском конгрессе. Конечно, были и разногласия. Но, словно родные братья, мы собрались под единым знаменем! Люди разных национальностей и профессий, говорящие на различных языках, но понимающие друг друга всем сердцем! И наши, французские ребята, подобрались что надо, молодец к молодцу: Жан Пенди, Шарль Лонге, Альфонс Делакур, Шарль Мюра. Жаль, конечно, что в делегации не было Эжена, нам просто не хватало его спокойной решительности, проницательности, ума.
Как же я был благодарен почти незнакомому человеку за эти сердечные слова о моем Эжене!
Через полчаса мы, трое, подходили к воротам Сент-Пелажи, у стен которой, как и предсказывал Валлес, уже шумела порядочная толпа. И, словно громовой аккомпанемент, примешивался к ее оживленному нетерпеливому гулу грозный и в то же время тоскливый рык льва из расположенного поблизости Зоологического сада.
— Ну, сейчас появятся и наши львы! — пошутпл Валлес, со звоном захлопывая крышку карманных часов. — Исторический миг!..
Я не могу подобрать в моем скудном лексиконе достаточно сильных и ярких слов для рассказа о том, что творилось у стен тюрьмы, когда из калиточки, врезанной в окованные железом ворота, один за другим, чуть наклоняя голову, чтобы не стукнуться о низкую притолоку, выходили узники. Их встречал многоголосый приветственный крик, и каждого освобожденного родные и друзья подхватывали под руки, обнимали, целовали, хлопали по плечам и спине. А потом торжественно вели, а кого-то из ослабевших или больных несли на руках к поджидавшим неподалеку, специально нанятым каретам.
Многим путь предстоял до дома неблизкий, да и в дороге всякое могло приключиться! Провокации были возможны и у Сент-Пелажи, и в пути: в переулках неподалеку от тюремных ворот мелькали яркими пятнами мундиры тюркосов.
Именно этих африканцев Империя последнее время иногда использовала для внешней охраны тюрем. Чужие Парижу, далекие от его страстей и интересов, тоскующие по раскаленным пескам своей африканской родины, здесь они были самыми ревностными и исполнительными служаками. Империя знает, что делать! В борьбе с революционными массами Парижа она опирается то на обманутую посулами, полуграмотную, а зачастую и совсем неграмотную деревню, испокон веков враждебную Парижу, — так было, например, при избрании президентом Луи-Бонапарта! — то вот на таких людей, абсолютно ничего не понимающих в происходящем здесь.
Когда я почувствовал на шее обнявшие меня исхудавшие руки Эжена, я не мог удержать слез. Никого из нашей семьи я не люблю с такой преданной страстностью, как его, ни одному человеку в мире не верю больше, чем ему. Договорившись с друзьями по камере о встречах в ближайшее время, Эжен вместе со мной, Валлесом и Обри направился к карете, которую Валлес предусмотрительно нанял по дороге к тюрьме.
Никогда не забуду этой встречи у стен Сент-Пелажи. Да, снова здесь собрался цвет парижской журналистики, студенты, рабочие, — сквозь слезы волнения я различал в толпе встречавших сияющие лица Ферре, Риго, Вермореля. Неистовая Луиза Мишель, сверкая черными обжигающими глазами, расцеловала Эжена в обе щеки. И гордость за брата, чувство — благодаря ему! — моей причастности к великим событиям, надвигающимся на Францию, не покидало меня весь день.
Мои кулинарные труды не пропали даром, пир удался на славу. Пришлось дважды спускаться в „Лепесток“ — прикупить еды и вина. Кстати, по прибытии нашей битком набитой кареты любезнейшая хозяйка встретила нас на пороге кафе с букетом срезанных ею гераней. Пылающим красным цветом герани напоминали символические цветы французских революций — гвоздики, и к чести хозяйки кафе нужно сказать, что она не побоялось встретить нас на глазах всей улицы, где конечно же были я соглядатаи, и шпики, и переодетые в штатское жандармы.
Вскоре после появления Эжена мансарда оказалась полным-полна. Как всегда, отпускал свои грубоватые, но сердечные шуточки Альфонс Делакур, близоруко щурился сквозь стекла пенсне Дакоста, вдохновенно читал свои и чужие стихи неистовый „седой юноша“ Эжен Потье. Заходили пожать брату руку и поздравить с освобождением соседи, явились бронзовщики и сыромятники, профсоюзам которых Эжен недавно помог выиграть затяжную забастовку.
Но самое для меня интересное произошло ближе к вечеру, когда большинство гостей оставили нас, — нужно же дать хозяевам хоть немного отдохнуть!
Не тут-то было!
За праздничным столом оставались Валлес, Потье, Обри и Делакур, когда в дверь раздался робкий, неуверенный стук. Сидевшие за столом продолжали горячо обсуждать происходящее в мире, а я поковылял открывать, хотя дверь в течение всего дня совсем не запиралась.
За порогом, на лестничпой площадке, стояли мужчина и женщина со связками потрепанных, видимо, нуждающихся в переплете книг. Меня сразу поразил облик молоденькои женщины, ее непокорно выоявшиеся из-под полей модной шляпки, отливавшие блеском темного золота волосы, задорная и одновременно чуть ироническая улыбка. На женщине была палевая широкая жакеточка, предназначенная, по-видимому, прикрывать излишнюю подозрительную полноту.
Мужчина, стоявший позади, непривычно смуглый для европейца, с изящными черными усиками, с копной буйных темных волос, смотрел выжидательно.
Посетители были мне незнакомы, обоих я видел впервые. Но не это смутило меня до растерянности, до мальчишеской робости, а лукавое сияние глаз золотоволосой женщины, ее улыбка, — она смотрела на меня с выражением узнавания и будто ожидая, что я тоже вот-вот узнаю ее.
— Простите, — пробормотал я. — Вы, видимо, ошиблись, мадам.
— Мадам Лафарг, если позволите! — со смехом перебила она, оглянувшись через плечо на своего смуглолицего спутника. — И мы вряд ли могли ошибиться! Ведь именно здесь переплетная мастерская мосье Эжена Варлена?
— Да, мадам.
Сидевшие в столовой, чуть захмелев, продолжали шуметь, во весь голос читал стихи Потье. И незнакомая гостья, все еще стоя за порогом, внимательно прищурилась, прижала палец к губам.
— Тс-с!.. Кажется, Беранже?
В столовой гремел голос Потье!
Как память детских дней отрадна в заточенье! Я помню этот клич, во всех устах один: В Бастилью, граждане! к оружию! Отмщенье! Все бросилось — купец, рабочий, мещанин! То барабан бил сбор, то пушка грохотала… По лицам матерей и жен мелькала тень. Но победил народ; пред ним твердыня пала. Как солнце радостно сияло в этот день, В великий этот день!Голос Потье смолк, громко звякнули бокалы. И золотоволосая мадам Лафарг, отведя от губ палец, снова улыбнулась мне.
— Я же знала, что не могу ошибиться, Малыш! И если вам не очень трудно, передайте, пожалуйста, мосье Эжену, что его хочет видеть… Какаду!.. — Она вопросительно оглянулась на спутника. — Ты находишь неуместными мои шутки, Поль?
— Разве ты можешь сделать что-то неуместное, Лаура?
И меня словно осенило, я вдруг вспомнил рассказы Эжена о Лондонской конференции, о дочерях доктора Маркса.
— Так вы Лаура? — запинаясь, спросил я, чувствуя, как мое лицо расплывается в улыбке.
Я вернулся в столовую, и все за столом замолчали и изумленно уставились на меня, как на сумасшедшего: так, вероятно, нелепо выглядела моя растерянность, моя улыбка.
— Эжен, там… Какаду!
— Ка… Какаду? — Эжец встал. — Что ты мелешь, Малыш?
Отодвинув стул, он выбрался из-за стола и, отстранив меня, вышел в переднюю. Оттуда донесся его радостный возглас:
— Лаура? Вы?!
И мы увидели обычно сдержанного Эжена в непередаваемо радостном возбуждении, он пожимал руки Лауры, низко наклоняя седеющую голову.
Лаура смеялась, откровенно радуясь оказанной ей встрече.
— Мне и моему мужу, мосье Эжен, внезапно понадобилось кое-что переплести, и нам рекомендовали… — В голосе Лауры звучала добрая и ласковая усмешка. — Да нет, нет, не пугайтесь, Эжен, это все… конспирация!.. Познакомьтесь — Поль Лафарг, мой муж!
— Ах, как я рад! Жаль, что вы чуточку опоздали, мадам и мосье Лафарг, здесь было много прекрасных людей! Но праздник продолжается! Малыш! Бегом вниз!
Я не заставил повторять приказание, хозяйка „Лепестка“ отпустила мне в кредит еще три бутылки самою лучшего из имевшихся в ее запасе вин, и, когда я, хватаясь свободной рукой за перила, добрался наверх, в мансарде было весело, как никогда.
Выяснилось, что мосье Лафарг, сын креолки и французского винодела, много лет прожившего на Кубе, превосходно разбирается в винах.
Шумели на все голоса, звенели бокалами, произносили тосты за будущую революцию, за томящихся в застенках узников. Лишь Лаура, пригубив, отказалась от вина.
Неугомонный Потье тут же потребовал слова.
— Предлагаю тост за здравие будущего первенца наших дорогих гостей, четы Лафарг! Вы правильно сделали, мадам Лаура, что решили покинуть хотя бы на время туманный и сумрачный Лондон. Пусть высокое, синее небо Франции станет родным для вашего будущего ребенка и пусть к тому времени, когда он вырастет, во всем мире исчезнут тюрьмы и те, кому они служат свою жестокую железную службу!
Все с радостью поддержали Потье. Потом слушали Лафарга. Он говорил со страстью и темпераментом истого южанина, и в то же время, как позднее выразился Эжен, в его речи чувствовалась весьма убедительная логика Маркса. Разговор перебрасывался с одного на другое, но более всего присутствующих волновали недавно прошедший в Брюсселе конгресс Интернационала, революция в Испании и события в Ирландии и на Кубе.
— Ну, шутка ли, вдумайтесь! — говорил Лафарг. — Крестьянское население Ирландии за последние двадцать лет уменьшилось на два миллиона человек! Пауперизация, дикий рост нищенства в селах и городах. Голодные дети бродят по дорогам страны и мрут в больницах для бездомных и бедных, а доходы, получаемые лендлордами с пастбищ Северной Ирландии, неудержимо растут!
Все слушали с напряженным интересом, а Лаура следила за мужем с одобрительной и нежной улыбкой. Лафарг продолжал:
— Я снова позволю себе повторить утверждение Маркса, что ирландский вопрос является в настоящее время не просто национальным вопросом, а вопросом о существовании миллионов обездоленных крестьян! Гибель или революция — таков нынешний лозунг! И пусть для нас Англия — лишь приют изгнанников, все равно: ее боль — наша боль, кровь, проливаемая ирландскими фениями, — наша кровь. Я хочу напомнить вам, друзья, о суде прошлого года над участниками братства фениев. Перед судом английских тори предстало сто шестьдесят девять подсудимых! Большинство осужденных ирландцев получили долголетние каторжные сроки. Вы, дорогие мои французские друзья, не одиноки в борьбе. Мы все живем словно в кратере готового к извержению вулкана!..
Облизнув запекшиеся губы, Лафарг продолжал:
— В прошлом году в Манчестере группа братства фениев пыталась освободить двоих осужденных руководителей, когда их перевозили из одной тюрьмы в другую. К несчастью, возле тюремной кареты убили полицейского. Покушение не удалось, пятерых схватили. Манчестерский суд незамедлительно приговорил четверых фениев к смерти. Система освоения ирландских земель английскими захватчиками — это, по словам моего тестя, „по-деловому осуществленное истребление!“.
Эжен, сидевший по другую сторону Лауры, с беспокойством поглядывал на молодую женщину. Она заметила его озабоченный взгляд и улыбнулась:
— Вы, видимо, полагаете, дорогой Эжен, что подобные разговоры повредят мне? О нет! Я надеюсь, нам с Полем удастся вырастить подлинного революционера! Я права, Поль?
Лафарг наклонился и поцеловал руку жены.
С Ирландии разговор естественно перекинулся на Брюссельский конгресс, где вопрос о национализации земель вызвал ожесточенную полемику прудонистов со сторонниками Маркса. Несмотря на яростные протесты французских прудонистов, возглавляемых Толеном, конгрecc признал, что экономическое развитие современного общества неизбежно ставит на повестку дня вопрос о передаче пахотных земель из частной собственности в общественную.
— Но дело не ограничилось резолюцией о земле! — рассказывал давний друг Эжена Эмиль Обри. — Почти без прений и подавляющим большинством принято решение о передаче в общественную собственность всех лесов, рудников, угольных копей, железных и шоссейных дорог, каналов, почт и телеграфов.
— И вы ждете, друзья, — вскричал неистовый Потье, — что после таких „кощунственных“ решений большие и малые наполеончики, крупны и шнейдеры, оседлавшие народы, примирятся с существованием Интернационала?! Да клянусь грядущей Республикой, что очень скоро за всеми вами надолго захлопнутся двери тюремных камер!
В разговор снова вмешался Лафарг:
— Друзья, помните выражение Жорж Санд, которым доктор Маркс когда-то закончил „Нищету философии“: „Битва или смерть; кровавая борьба или небытие! Такова неумолимая постановка вопроса!“ И добавлю: если эти слова звучали актуально четверть века назад, то сейчас они звучат в тысячу раз сильнее и актуальнее!
И уже поздно ночью, когда, проводив последних гостей, мы с Эженом улеглись на свои узенькие койки, брат сказал мне со вздохом:
— Да, Малыш, самые жестокие схватки впереди!.. К сожалению, мы еще не готовы к революции, нам нужен год или, может быть, даже два для пропаганды наших идей через газеты, путем публичных или частных собраний, путем организации рабочих обществ. Необходим» многое сделать, чтобы быть уверенным, что руководство грядущей революцией не ускользнет от нас в руки буржуазных республиканцев, всегда готовых на компромиссы с правящей верхушкой…
Не могу передать, какая тоска охватила меня при этих словах брата, — три месяца жизни без него показались мне тридцатью годами тюремного заключения, мне просто захотелось заплакать. Но я сдержался: ведь Эжену пришлось во много раз тяжелее, чем мне, а он и не думает сдаваться, отказываться от борьбы.
— Значит, что же, дорогой Эжен? — спросил я, стараясь подавить дрожь в голосе и радуясь, что в темноте он не видит моих глаз. — Значит, впереди снова тюрьма, да?!
— Выбор прост, Малыш. Или отказ от борьбы и рабская доля, или борьба не на жизнь, а на смерть!..
Да, в день возвращения из Сент-Пелажи, глядя в будущее, Эжен оказался прав в своих предсказаниях. Вчера мы с ним присутствовали на суде над Жюлем Валлесом: его приговорили к двум месяцам тюрьмы и двум тысячам франков штрафа. Ему придется просидеть в той же камере, где сидел Эжен, до января будущего, шестьдесят девятого года. Но к приговору мосье Жюль отнесся так же спокойно, как в свое время Эжен, как относятся все они, посвятившие жизнь революции. Как и на процессе Эжена, я стенографировал заключительное слово Жюля Валлеса и теперь переписываю его в мой дневник.
«Я погрузился в историю революции, — рассказывал о своей юности мосье Жюль на суде, — и передо мной словно раскрыли огромную книгу, где речь шла о нищете, голоде и жестокости. Я увидел столяров с циркулем, раздвинутым точно оружие, и крестьян с покрытыми кровью вилами. Они кричали: „Мы голодны! Свободы! Да здравствует народ!“ История, жадно поглощавшаяся мною в годы духовного становления, — это не история богов, королей, святых, это история рабочих и крестьян, история моей страны! Там слезы бедняка, кровь бунтаря, страдания моих близких!.. Рядом с победителями, каковыми сегодня считаете себя вы, господа судьи, и побежденными, то есть нами, по-прежнему во весь рост стоит грозный и неотступный антагонизм труда и капитала! Ненависть эксплуатируемого к эксплуататору, пролетариев к буржуа вы не угасили и не сможете угасить!»
Так наш дорогой мосье Жюль закончил свою речь и, улыбаясь, помахивая нам рукой, удалился в сопровождении конвоя.
А Эжен, когда мы выходили из зала Дворца правосудия, задумчиво сказал мне:
— Ну вот, опять нам с тобой, Малыш, придется носить в Сент-Пелажи тюремные передачи!..
СЛУЖИТЕЛЬ ГОСПОДА БОГА МОНСЕНЬЕР БУШЬЕ
Голоса внизу оторвали Клэр от дневников Луи. С удивлением прислушалась она к башенному бою — пробило двенадцать! — даже не заметила, что просидела над тетрадями более двух часов.
Улыбающаяся, как всегда, и принаряженная по случаю победы, Софи с вопросительным взглядом появилась на пороге.
— К вам, мадам, отец Бушье, кюре нашего прихода.
— Проси!
Против обыкновения пастырь был не в сутане, и Клир не сразу узнала его. Обычно краснощекий и упитанный, благостный и уверенный в своей, освященной самим господом богом правоте, Бушье сегодня казался растерянным и помятым, словно изношенный сюртук. Лицо стало изможденно-худым, как у человека, перенесшего тяжелую болезнь и только что поднявшегося со смертного одра. И хотя это легко объяснялось обстановкой выдержавшего восьмимесячную осаду Парижа, мадам Деньер не смогла удержаться от восклицания изумления и сочувствия. «Святые отцы» всегда выглядели скромно, но респектабельно, как бы демонстрируя внешним видом всемогущество и благоденствие католической церкви.
— Боже мой! Что с вами, отец Бушье? Вы болели? Вас просто невозможно узнать!
Она склонилась к протянутой ей для поцелуя худой, со вздувшимися венами руке священника, коснулась ее губами. Затем заботливо поставила поближе к столу кресло и усадила гостя. И лишь тогда обернулась к двери, где, ожидая приказаний, в позе покорной готовности застыла горничная.
— Софи! Кофе!.. Вообще — все, что есть!.. И… вы выпьете кофе, святой отец?
— Пожалуй.
Чисто выбритое, когда-то полное и холеное лицо избороздили морщины, пронзительные студенистые глаза глубоко запали. И губы, привычно готовые к благостной и благословляющей улыбке, сейчас аскетически, подвижнически поджаты…
Кюре не спешил с рассказом, а Клэр, не смея нарушить молчание, ждала. Когда Софи поставила на стол кофейник и чашки, Клэр сама разлила кофе и заботливо подвинула чашку к лежавшей на столе руке кюре.
— Это подкрепит вас. И расскажите поскорее, что же с вами случилось? Где вы были?
— Где? — мученически улыбнулся Бушье. — В тюрьмах Мазас и Ла Рокетт, мадам Клэр!
— Мазас! Ла Рокетт?! — с почти суеверным ужасом переспросила Клэр. — Но за что же, святой отец?! Вы не могли нарушить ни божеских, ни человеческих законов!
— Я их не нарушал, мадам Клэр! А почему я оказался за тюремной решеткой, вы спросите у безбожников-коммунаров, в том числе и у вашего друга Эжена Варлена. Он — один из главных и отъявленных негодяев Коммуны!
— Но… — Клэр смущенно развела руками, чуть заметный румянел, окрасил щеки. — Почему вы считаете, святой отец, что этот… Я… я… Но выпейте же кофе! Он остынет.
— С удовольствием!.. И скажу вам, дочь моя, я всегда верил, что истина не могла не победить! И пусть память о Коммуне сгинет в пламени геенны огненной, как сгорят в огне костров грешные тела бунтовщиков!
Кюре с видимым удовольствием отпил несколько маленьких глотков.
— Господи! Так хочется хотя бы на время уехать от пережитых ужасов куда-нибудь на Ривьеру, в Ниццу, в Венецию! Однако… — спохватилась Клэр. — Что я болтаю о себе?! Жду подробного рассказа о ваших страданиях, святой отец! О, представляю, что вам довелось пережить!
— Э, нет, милая дочь! Вы не в состоянии представить себе муки, которые переживает человек, проходя по всем девяти кругам дантова ада. А я прошел по ним.
И только святая рука всевышнего вывела меня из кровавой темницы.
Бушье говорил проникновенно, словно произносил очередную проповедь с кафедры приходской церкви, в которой ревностно прослужил господу богу и своим приожанам более тридцати лет. Клэр слышала, вероятно, не меньше сотни проповедей Бушье и прекрасно знала его манеру говорить — слегка напыщенно, но сердечно, молитвенно воздевая руки. И хотя она кое-что знала о слабостях и тайных грешках кюре, но тоже в подобающих местах умиленно складывала ладони.
Один из пастырей духовного стада вольнодумного студенческого Латинского квартала давно благоволил к богатой владелице фирмы. Его зоркий глаз не раз примечал, как десятифранковые купюры ложились из ее руки на заваленный монетками су и сантимов серебряный поднос, с которым церковный служка обходит прихожан мосле мессы.
— Итак, я жду вашего рассказа, святой отец!
Бушье скорбно поджал губы, студенистые глаза его увлажнились.
— Речь не о моих личных страданиях, дочь моя. Волею всевышнего мне дарована жизнь, и весь остаток скорбных дней моих, все мои духовные и физические силы я отдам бескорыстному служению матери-церкви, восстановлению устоев веры. Эти безумцы посмели отторгнуть церковь от государства, от школы, пытались лишить народ самых надежных опор нравственности.
— Я знаю, — грустно кивнула Клэр.
Бушье подцепил вилкой ломтик сыра, но тут же отложил вилку, словно она обожгла ему пальцы. Глаза его налились блеском, напоминающим блеск ртути.
— Вы знаете, Клэр, что они убили Жоржа Дарбуа, монсеньера, архиепископа Парижского, одного из самых святых людей, которым доводилось ступать по нашей грешной земле?
— Да, я читала два дня назад. Софи покупает мне газеты…
— И вы совершенно спокойно говорите о вопиющем преступлении, Клэр? Невероятно! Не ожидал от вас. Жорж Дарбуа был безупречнейшим служителем матери-церкви, великим борцом за чистоту веры, за истину, дарованную нам небом! — Бушье молитвенно прижал к груди ладони. — Я имел счастье знать Жоржа с юношеских лет, мы вместе кончили семинарию, вместе начинали высокое служение господу! О, у него была чистейшая, парящая над мирскими, суетными заботами душа младенца, ежечасная готовность к подвигу, к самопожертвованию, как у многострадального Иисуса, и непоколебимая крепость веры, как у апостола Петра!.. Кстати, вы помните, что означает по-латыни Петр?
— Кажется, то же, что и по-французски, — камень? — улыбнулась Клэр.
— Да, камень! Петр означает камень. Но не тот мертвый, бездушный камень, что валяется у придорожных канав, дочь моя! Жорж Дарбуа был камнем нерушимой и благостной веры… И эти подлецы убили его!
— Но ведь его звали Жорж? — сорвалось у Клэр, и она тут же пожалела о сказанном, так гневно блеснули глаза ее пастыря, к которому она время от времени ходила исповедоваться в своих грехах.
— А разве в имени дело? — проповеднически гремел голос кюре. — Я говорю вам, дочь моя, про глубинную суть вещей, говорю о душе, вечно скорбящей о болях мира!
— Простите меня, глупую, святой отец… Я немного… — И, замявшись, не зная, что сказать дальше, Клэр перебила сама себя: — Но за что же его убили?
— Потому и убили, что он являлся светочем истинной веры, а они, суди их бог, так и родились безбожниками и мерзавцами. До тюрьмы я тридцать лет служил во славу создателя, а при их проклятой Коммуне они по вечерам превращали мой храм в место нечестивых сборищ, куда сходились развратники-студенты, пропойцы всего Латинского квартала и продажные женщины, имя которым — твари. Они оскверняли своим нечистым дыханием места служения богу, а Дарбуа всемерно протестовал против сего бесчинства. Они отринули, отторгли святую церковь от детей, собирались даже невинных младенцев воспитывать в мерзости и блуде. Потому и ввергли истинных пастырей в темницы, яко преступников и человекоубийц!
Софи принесла шипящую на сковородке яичницу, переложила ее на тарелку и с улыбкой смиренной послушницы поставила перед кюре. Клэр благодарно кивнула:
— Умница, Софи. Спасибо!
Софи ушла. Бушье с видимым удовольствием принялся за еду.
— Но, святой отец, — нерешительно начала Клэр. — Мне рассказывали, что в подвалах монастыря Пикпюс обнаружили останки женщин, якобы замученных священниками. И каких-то еще живых, но совсем обезумевших старух, просидевших в тех подвалах чуть ли не десять лет…
Вилка Бушье с дребезгом стукнула о край тарелки.
— Да какой негодяй мог сообщить вам подобную мерзость?! — с неподдельным гневом воскликнул он, откидываясь на спинку кресла. — Кто?
Клэр вспомнила вечерние и ночные беседы с Луи, его рассказы о том, что он слышал от брата. Но не могла же она признаться в этом своему духовнику.
— Право, не помню, святой отец, — она скромно потупила взор.
— Клевета! Безбожная клевета! Но я вам скажу, дочь моя, еще об одной причине непростительного убийства монсеньера. Если вы хотите знагь правду…
— О, конечно, святой отец.
— Так вот. Во главе многих бунтов и восстаняй, во главе бесконечного ряда заговоров, попыток покушения на священную особу императора стоял некто Огюст Бланки, один из самых опасных преступников, каких когда-либо знало человечество! К счастью, как раз накануне провозглашения Коммуны властям удалось поймать смутьяна, он и по сей день заключен в тюрьме Фижак, где-то на юге. Вы, вероятно, слышали, что, захватив власть, подлые коммунары с целью оказать давление на избранное в Бордо народное правительство, возглавляемое нашим знаменитым историком мосье Адольфом Тьором, заключили в узилище сотни и сотни служителей церкви, неповинных и в самом малом грехе. Монсеньер Дарбуа, великодушный, как всегда, пытался спасти несчастным жизнь. Он… как бы точнее выразиться… ужо из тюрьмы направил своего викария в Версаль, умоляя правительство освободить Бланки. Вы, возможно, не помните: этот безбожник был заочно избран в Коммуну, но не смог явиться сюда, за день до провозглашения Коммуны его арестовали на юге!
Бушье чуть помолчал, задумавшись.
— Вы спросите, дочь моя, почему Жорж Дарбуа хлопотал об освобождении Бланки? О нет, совсем не затем, чтобы спасти жизнь этому нечестивцу, нет! А лишь потому, что главари Коммуны обещали мосье Тьеру взамен Бланки освободить из тюрем и отпустить в Версаль заложников-священников.
— И что же? — Крайне заинтересованная, Клэр наклонилась над столом. — Неужели?..
— Да, мадам Клэр! Правительство наотрез отказалось освободить Бланки. Я не смею судить, может, в том и были государственная мудрость и необходимость, которые и спасли в конечном итоге Париж от проклятой Коммуны. Мосье Тьор, которого я ценю как выдающегося историка Директории и Первой империи, ответил, что разбойник Бланки стоит нескольких вооруженных до зубов армий. И хотя мне невыразимо жаль безвременно погибшего Жоржа, я не могу не признать основательности опасений мосье Тьера! Если бы Бланки явился в Париж, я, вероятно, не имел бы сейчас удовольствия беседовать с вами, дочь моя! Но Версаль не выпустил Бланки, и в ответ на это мстительная чернь потребовала казни Жоржа Дарбуа. Так погиб достойнейший пастырь… Завтра же отслужу по погибшим торжественную панихиду в храме, наконец-то возвращенном господу богу и мне, его смиренному служителю. Сегодня храм очищают от мусора, оставленного в нем нечестивцами, и я заново освящу древние стены. Надеюсь, вы будете на панихиде, мадам Клэр?
— О да, разумеется!
Клэр отпила чуть-чуть кофе и несмело сказала, виновато глядя в водянисто-синие глаза Бушье:
— Я, наверное, самая заурядная, не особенно умная женщина, святой отец… И никак не могу понять: зачем императору понадобилось воевать с Пруссией? Ведь это действительно могущественная военная держава!
Привычно сложив изящные тонкопалые ручки на опавшем животе и крутя большие пальцы один вокруг другого, Бушье с пристальным сожалением разглядывал хозяйку дома.
— Да, вообще, сие не женского ума дело, — грустно кивнул он, переставая крутить пальцами. — Мое глубокое убеждение, дочь моя, что ваше, женское дело — домашиий уют, забота о благе мужа, детей. К сожалению, набирает немалую силу неверие в святые истины церкви и вместе с этим растет так называемая эмансипация, лишающая женщину необходимых вашему полу женственности и очарования, разрушающая семейные очаги. Поверите ли, дорогая Клэр, несмотря на всю мою терпимость и доброту, я не моту без гнева видеть пахитоску в руках девушки-студентки, не могу примириться с чудовищным падением нравов.
Потупив взор, Клэр молчала, ей не хотелось спорить с Бушье, хотя последние годы в ней все более крепло убеждение, что женщина появляется на свет божий не только ради того, чтобы влачить возле мужчины жизнь рабы и наложницы.
А Бушье, повременив немного, продолжал:
— Да, поистине кому и зачем, казалось бы, была нужна война, принесшая Франции лишь позор и несчастья?.. Вы теперь знаете, милая Клэр, я достаточно долго просидел в тюрьмах. И пусть не покажется вам странным, пришел к убеждению: в тюрьме, за ржавыми железными запорами, порой узнают больше, чем на свободе.
— Простите, святой отец, не понимаю, — смущенно улыбнулась Клэр.
— Я попытаюсь объяснить. Признаюсь, раньше, всецело погруженный в дела церкви, я и сам никогда всерьез не занимался политикой, и только в Мазасе и Ла Рокетт понял, какая могучая движущая пружина событий — политика!.. — Кюре задумчиво позвенел ложечкой о край чашки.
— Была очень важная причина для внешней войны, дорогая Клэр, это я вам говорю не как духовник, а как истинный патриот многострадального отечества, драгоценнейшей жемчужины мира, Франции… И эта причина — все растущее от года к году возбуждение умов, недовольство, вскипающее то там, то тут забастовками и восстаниями, чудовищное падение нравов. И что уж скрывать, дорогая дочь моя, повсеместная коррупция, злоупотребление властью высокими чинами. Признаемся, как на исповеди, Клэр, ведь все это имело место. При нашествии внешнего врага наши внутренние враги забывают о своих претензиях к правительству. Разве вы не обратили внимания, что в начале войны с Пруссией даже упомянутый мной отпетый мерзавец и головорез Огюст Бланки, «вечный узник», как его почтительно величают соратники, даже он в дни войны забыл о своей неутолимой ненависти к царствующему дому и призывал к забвению внутренних распрей перед лицом вторжения? Он тогда еще был на свободе и начал издавать газету «Отечество в опасности!». Помните? И в этом смысле внешняя война, по крайней мере ее начало, имело какое-то оправдание…
Из-под седых кустиков бровей Бушье остро глянул на Клэр, студенистые глазки обрели сухой и беспощадный блеск.
— Вы, вероятно, думаете, что тюрьма превратила вашего кюре в безнравственного циника? Отнюдь! Тюрьма просто сделала меня философом, научила видеть и понимать многое, чего я раньше попросту не замечал! Тюрьма как бы обнажает глубинную сущность человеческой души… Это, Клэр, извините за жестокое сравнение, как бы сдирание чешуи с живой рыбы, с болью и немыми стенаниями…
Помолчали.
— Вы умеете скрывать свои чувства, дочь моя, — с покровительственным добродушием усмехнулся кюре. — Сознайтесь, вам не терпится спросить меня: зачем я к вам явился и к чему клоню речь? Так вот, отвечу вам прямо. Дело не только в том, что сегодня я обхожу прежних своих прихожан, надеясь снова объединить их в лоне церкви. Нет! Мне хочется узнать, где скрывается человек, по милости которого я был брошен в застенки Мазаса и Ла Рокетт?
Красивое, нежное лицо Клэр побледнело, потом покрылось красными пятнами.
— Но, святой отец… я, право, не понимаю…
— Ложь отягощает душу и совесть, мадам, — негромко и нравоучительно заметил Бушье, снова принимаясь крутить большими пальцами сложенных на животе рук. — Вы прекрасно понимаете, о ком я говорю… Мы с вашим бывшим старшим мастером Эженом Варленом не раз спорили и в вашей, а позднее и в его собственной мастерской о месте бога и церкви в жизни каждого человека и общества в целом. Да, да, пусть это вас не удивляет, Клэр! О, я сделал все зависящее от меня, чтобы вернуть заблудшую душу в лоно церкви! Но, поверите ли, Клэр, этот безбожник ни разу не переступил порога моего храма, ни разу не был на исповеди, не причащался святых тайн! Делая вид, что я нуждаюсь в услугах его мастерской, я приносил ему старинные книги, и мы не однажды спорили с ним на важнейшие для всего человечества темы. Не скрою, он достаточно умен и начитан, но мне так и не удалось образумить его и вернуть на путь веры… Посмотрите на меня, дочь моя. Не прячьте глаза. Именно ваш Варлен, будучи членом Коммуны, указал на меня как на горячего защитника церкви, и именно благодаря ему я оказался в числе заложников. Нет, я не ропщу на мою горестную судьбу, ибо мне выпала редкая господняя милость присутствовать при последних минутах жизни Жоржа Дарбуа, я проводил его в последний путь, на его Голгофу! Так вот… мне весьма и весьма хотелось бы знать, где вышеупомянутый богоотступник скрывается… Вы же не так давно навещали его мастерскую, да?
— Да, но…
— Слава богу! — перебил Бушье, крестясь. — Вы нашли в себе силы сказать правду. Так где же он? Кое-кто из моих ревностных прихожан видел, как его хромоногий брат дважды выходил из вашего дома. Так или нет?!
Голос кюре наливался гневной, обличительной силой.
От немедленного ответа Клэр спас стук молотка в дверь внизу и цоканье каблучков Софи, побежавшей по лестнице открывать, — она, само собой, подслушивала душеспасительную беседу кюре и своей хозяйки. Бушье и Клэр молчали, он торжествующе, она — смятенно и растерянно, слушая приглушенные голоса внизу — ни одного слова разобрать нельзя. Но вот снова зацокали по ступенькам каблучки, и на пороге появилась Софи.
— Простите, мадам…
— Да?
— Там пришел ваш бывший старший мастер. Оп просят разрешения поговорить с вами…
На этот раз Клэр так мертвенно побледнела, что далее губы приобрели фиолетовый оттенок.
— Старший мастер, Софи? — растерянно, глухим, чужим голосом переспросила она.
— Да, мадам! — Софи явно доставляло удовольствие наблюдать смущение хозяйки. Для нее, как и для всех в доме и в мастерской, не могла оставаться тайной симпатия, а может быть, и нечто большее, испытываемое мадам Деньер к Эжену Варлену. К тому же она прекрасно слышала только что прерванный разговор и хорошо представляла себе, что сейчас думает и переживает и ее хозяйка, и отец Бушье.
Клэр медленно поднялась с пуфика, стараясь изобразить на лице подобие улыбки. Ах, глупая, глупая! И надо же было оставить в «Мухоморе» ту дурацкую записку! Ну, что теперь делать?
— Вы извините меня, святой отец? — Она улыбалась почти естественно, своей милой и обаятельной улыбкой. — Я на минуту покину вас, спущусь к нему. Видимо, мне снова предстоит налаживать дела фирмы, и оставшиеся в живых мои прежние работники возвращаются ко мне.
— Но зачем же вам, дорогая Клэр, утруждать себя? — тоже вставая, остановил со священник. — Пусть ваш старший мастер сам поднимется сюда. Я надеюсь, что предстоящий разговор не отнимет у вас слишком много времени. А мне ведь тоже любопытно взглянуть на бывшего собеседника и оппонента. Интересно, научили его чему-нибудь события последних дней? Как вы полагаете?
Мгновенный взгляд на Бушье дал Клэр понять, что святой отец на этот раз не уступит, — таким торжеством, гневом и ненавистью горели его бесцветные глазки.
— Да, пожалуй! — покорилась она, бессильно опускаясь на пуфик и внутренне замерев до того, что, казалось, у нее остановилось сердце. — Садитесь, пожалуйста, святой отец. Софи, попроси мастера подняться.
— Слушаюсь, мадам.
Тишина. Легкое постукивание каблучков Софи, потом тяжелые грузные шаги утомленного человека. Даже не глядя на Бушье, Клэр всей кожей, всеми порами лица чувствовала торжествующий, напряженный взгляд сидевшего напротив священника. И может, впервые в жизни шевельнулось в ее душе сомнение: а так ли уж он близок к богу, ее духовный пастырь?
Шаги на лестнице все слышнее, все громче. Ступенька — шаг. Ближе, ближе. Ну зачем ты явился сюда в такой роковой час, Эжен?! Она не могла смотреть на дверь, уронила ложечку, нагнулась поднять.
— Простите, мадам Деньер, — сказал от двери грубоватый голос. — Я не знал, что вы заняты. Софи не предупредила… Но я думал, что, поскольку война окончилась, не найдется ли у вас для меня работы? У меня семья, дочкам нужно есть и пить, мадам. К несчастью, ни война, ни мир не избавляют человека от мук голода…
Все еще не веря в чудо, Клэр подняла глаза. На пороге, смущенно комкая в руках шляпу, стоял Делакур. И Клэр, чувствуя, как прихлынувшая кровь обжигает щеки, вскочила навстречу своему бывшему переплетчику, словно самому близкому, самому родному человеку.
— Это вы, Альфонс?! Вы живы, дорогой ной!
— Да, мадам, — Делакура ошеломила неожиданная и бурная радость Клэр. — Я надеялся…
— И правильно надеялись, мой дорогой старший мастер!. Как раз вы сейчас и нужны мне!
Боковым зрением Клэр видела, как расслабленно откинулся иа спинку кресла Бушье. О, сейчас она уже могла прямо посмотреть в его проницательные глаза, внезапно утратившие свой ртутный блеск.
— Так проходите же, Альфонс! — с неподдельной радостью восклицала Клэр. — Вот познакомьтесь, святой отец, это мой старший мастер Альфонс Делакур, золотые руки!.. Да проходите же, Альфонс! Софи, ну что ты стоишь, словно окаменелая?! Чашку для мосьо Делакура!
— Сию минуту…
— Но, мадам Деньер, — не понимая, что происходит, Делакур безжалостно теребил и без того истрепанную шляпу. — Я… я…
Клэр придвинула к столу еще одно кресло, и Делакур робко присел на его край.
— Вы были на войне, Альфонс?
— Да, мадам. Контузия на подступах к Седану уберегла меня от позора плена вместе с нашим дорогим императором!
— О, вам повезло, Альфонс!
— Я тоже так считаю, мадам. Многих хороших людей закопали там ни за что ни про что в сырую землю.
С недоумением и чуточку оскорбленным видом Софи поставила перед Делакуром чашку.
— Вы пьете кофе, Альфонс? Это первоклассный кофе.
— Само собой, мадам Деньер! Но такой напиток нашему брату не всегда по карману.
Бушье застыл в кресле, безмолвный и неподвижный.
— Надеюсь, вы не откажетесь еще от одной чашечки, святой отец? — с невинным видом спросила Клэр, глядя прямо в лицо Бушье сияющими глазами.
— Пожалуй, с меня достаточно сего божественного напитка, дочь моя. Хотя, хотя… — Ободренный какой-то внезапной мыслью, Бушье выпрямился в кресле, лицо его оживилось. — Разве лишь для того, чтобы выпить ее вместе с доблестным защитником родины.
Чувство внезапной тревоги охватило Клэр.
— Итак, вы были на войне, мосье Делакур. И какое же впечатление вынесли вы с мест сражений? — спросил Бушье.
Делакур осторожно взял хрупкую чашку, в упор рассматривая священника.
— Мягко выражаясь, война была преступно бездарна, ваша святость! Это даже не война, ваша святость, а попросту бойня. Впечатление складывалось, ваша святость, такое, словно наши генералы поставили перед собой задачу угробить как можно больше французских солдат.
— Что вы хотите этим сказать, мой друг? — строго насупился Бушье.
— Именно то, что сказал, ваша святость! — по-детски простодушно улыбнулся Делакур. — Преступная бойня! Хотя перед началом войпы все маршалы в один голос утверждали, что у нас к войне готово все, до последней пуговицы на солдатских гетрах, армии разваливались прямо на глазах, ваша святость! Иначе не скажешь. Иногда нам по три дня не давали куска хлеба. Пушки везли в одну сторону, а снаряды к ним отправляли в другую. Патроны к шасно и карабинам выдавали по три штуки на дуло. Вместо того чтобы изо всех сил защищать продовольственные склады в Шолоне, их по личному приказу нашего дорогого императора сожгли. Зарево, говорят, было видно даже с Вогезов. Под Седаном почти без боя сдали стотысячную армию, в Меце вдвое большую, как раз ту, которая должна была подойти к Парижу и сбить с него оковы прусской осады. Разве такое можно называть войной, ваша святость? По моему скромному мнению, это скорее напоминает хорошо подготовленную бойню, ваша святость!
— Но, может быть, во всем скрывалась стратегическая необходимость, мой друг, недоступная нашему пониманию, а? Мы же с вами не полководцы, не маршалы!
Делакур громогласно, не скрывая издевки, расхохотался.
— О да, ваша святость! Но ведь что получилось в результате, ваша святость? Пруссаки окружают, осаждают Париж, но и пальчиком не трогают Версаль, где окопались Тьер и его свора! Вильгельм прусский становится императором объединенной и сильной, как никогда, Германии, и коронация происходит в двадцати лье от сердца Франции, от Парижа. Поистине великолепная стратегия, ваша святость!
Делакур встал и подчеркнуто почтительно поклонился Клэр.
— Благодарю вас, мадам. Действительно, отличный кофе. Итак, я могу надеяться, что вы снова берете меня к себе на работу, мадам Деньер?
— О да, да, Альфонс!
— Тогда… с вашего позволения я могу приступить немедленно. Мне хотелось бы детально осмотреть мастерскую, там, видимо, кое-что пришло в запустение? Помнится, по мобилизации от вас ушло двенадцать переплетчиков.
— Буду чрезвычайно признательна вам, Альфонс. Там не заперто.
Делакур повернулся было к дверям, но Бугаье жестом остановил его.
— Одну минуту, мосье! Вы случайно не знаете, гдэ находится Эжен Варлен?
— Кто, ваша святость?
— Варлен, Эжен Варлен! Бывший член Коммуны. Говорят, его еще вчера видели на баррикаде Фонтэн-о-Руа?
Делакур в раздумье потер ладонью шишковатый лоб.
— Варлен, говорите вы, ваша святость? Ах да, ну, конечно, я знал в свое время одного Варлена! Он же еще работал и у вас, мадам Денвер. Но я так давно потерял его из виду, ваша святость!.. Кто-то, помнится, говорил, будто он уехал на родину.
— Постойте-ка, постойте! А вы не знаете, где это?
— Да, пожалуй, запамятовал, ваша святость. Где-то у его стариков был собственный домик, клочок земли. Если дом не сожжен пруссаками, можно предполагать, что упомянутый вашей святостью Эжен Варлен вернулся к ремеслу предков и стал мирно выращивать, давить виноград и попивать вино собственного изготовления… Это все, что вам хотелось узнать, ваша святость?
— Да, все.
— Еще раз благодарю, мадам Денвер, за вашу доброту. Я счастлив, что у меня снова есть работа. Руки прямо истосковались. Прощайте, ваша святость!
«ОКРОВАВЛЕННЫЕ БОЛВАНКИ ШНЕЙДЕРА» (Тетради Луи Варлена. 1870 год)
Я снова продолжаю записывать рассказы Эжена.
Вчера поздно вечером он вернулся из Крезо, где пробыл неделю. Вызвал его туда телеграммой наш общий друг Адольф Асси, работающий механиком на одном из заводов Шнейдера. Условия работы и жизни там настолько ужасны, что рабочие решили объявить забастовку. Асси давно знает Эжена, знает, что именно благодаря организаторскому таланту моего брата победно закончились две забастовки парижских переплетчиков, забастовка бронзовщиков и сыромятников. Я всегда с радостью и гордостью вспоминаю о стачке строителей Швейцарии, для которых по объявленной Эженом подписке было собрано около десяти тысяч франков. Подписные листы передавались тогда из рук в руки по всему рабочему Парижу, и лишь благодаря этой помощи женевским товарищам удалось победить.
С Эженом мы проговорили почти до утра. Вернее, ие проговорили, а он рассказывал мне о своих впечатлениях, а я наскоро стенографировал его рассказ, потому что ему вряд ли удастся вырвать время для того, чтобы написать об увиденном, а события в Крезо имеют значение для нарастающей во всей Франции волны борьбы. Вообще-то в стране необычайно усилилось недовольство. В июне прошлого года в каменноугольных шахтерских поселках и городке Сент-Этьенн началась многонедельная стачка шахтеров Кантенских копей, которую правительство подавило лишь силой войск. 16 июня на улицах Сент-Этьениа полиция и солдаты безжалостно избивали демонстрацию бастующих, многих убили и ранили. А чуть позже, в октябре, в Обэне и в Рикамари войска стреляли по бастующим, было убито и искалечено более шестидесяти человек. Эжена подобные события совершенно лишают покоя, он не может найти себе места, почти не спит. Ездил во время забастовок в Марсель, Лион, Руан и в другие города, чтобы оказать посильную помощь руководителям забастовок. Но, к сожалению, в большинстве случаев правительство берет в таких схватках верх. Мне порой кажется, что бессилие, которое Эжен ощущает в подобных ситуациях, причиняет ему физическую боль… А кроме того, на его плечах лежат еще бесчисленные заботы о столовых, о ссудных кассах…
Но я отклонился от того, что записал со слов Эжена и теперь расшифровываю, — Эжен надеется, что этот взрывной, страшный материал можно будет использовать в печати и тем самым привлечь в паши ряды новых борцов!
Вот он, рассказ Эжена. Я не пытаюсь его редактировать или литературно приукрашивать, перевожу стенограмму слово в слово.
«— Как ты знаешь, Малыш, основанный в начале тридцатых годов концерн „Шнейдер-Крезо“ к настоящему времени скупил либо подчинил себе почти всю металлургическую, машиностроительную и судостроительную промышленность страны, и Эжен Шнейдер сделался полновластным хозяином в городах, где расположены заводы и шахты концерна. В Крезо он — царь и бог! Вся местная администрация департамента и города, полиция и жандармерия, суды и официальная печать стоят перед жадным властителем на задних лапках, а точнее сказать — ползают на брюхе. Всем им плевать и на так называемую конституцию, и на общечеловеческие законы, на доброту и нравственность, важно лишь то, что прикажет „сам“, „хозяин“! А у него, как и у прочих членов его семьи, одна задача: получить максимальную прибыль, выжать из рабочего класса как можно больше… Я просто поражаюсь, Малыш, их патологической жадности, жажде наживы, ведь в банках — и французских, и швейцарских — у семьи Шнейдеров, вероятно, лежат миллионы и миллионы! Ну куда, зачем им столько? Я не понимаю, отказываюсь понимать! Чудовищно ненасытна утроба таких людей, и мне представляется, что, чем больше они имеют, тем сильнее их тяга, их стремление к обогащению…
Ну да ладно, Малыш, на подобные темы мы с тобой беседовали не раз, и ты мог бы и не записывать… Итак, я приезжаю в Крезо. Город чуть в стороне от основной железнодорожной магистрали Париж — Марсель, но Шнейдеры проложили туда собственную ветку. На вокзале меня встречают Адольф и его друзья. И прежде всего мы, конечно, отправляемся на завод. Представь себе огромные, грязные, низкие, прокопченные длиннющие цехи. Пылают, плюются искрами пудлинговые печи, где варится металл, грохочут огромные кузнечные молоты, на подвесных кранах плывут над цехами к молотам болванки. Для того чтобы тебя услышал стоящий рядом сосед, ты в этом железном аду должен кричать во весь голос! Грохочут станки, безостановочно крутятся валы прокатных станов, из-под которых, точно огромные шипящие змеи, выползают раскаленные неостывшие рельсы, балки, листы металла. Жара адская, духота, смрад. И в этом аду копошатся полуголые, черные от дыма, копоти и сажи людишки. Не различить лиц! Только блестят белки выпученных от натуги глаз, да изредка в неслышном крике блеснут зубы! И все подчинено неумолимому ритму, который задают машины, порой они кажутся живее людей. Живее и уж, конечно, неумолимей! Стоит рабочему чуточку замешкаться, ослабить внимание, глянуть в сторону, и раскаленная до белого блеска металлическая полоса может снести ему голову, либо отрубить ноги, либо искалечить каким-то другим образом. О, таких случаев несметное количество! Захватило зубьями бесчисленных шестеренок клок одежды, и вот — рвануло, взметнуло человека в воздух, и уже нет его! Нет жизни! И ничто не в силах остановить, даже хотя бы замедлить движение неутомимого молоха. Ты помнишь, Малыш, мифологического молоха, для умилостивления которого родители сжигали маленьких детей? Так вот, чтобы умилостивить нынешнего шнейдеровского молоха, сжигают взрослых. Кстати, во многих цехах работают и дети, подростки по двенадцать — четырнадцать лет! И тоже — гибнут!»
Чуть переводя дыхание, Эжен продолжал: «— Представь: над сотнями измученных непосильной работой и голодом людей, над пролетом цеха плывет от печи к молоту или прокатному стану раскаленная болванка, и вдруг что-то случается, скажем не выдерживает трос или цепь, и раскаленная многотонная глыба срывается вниз, туда, где мечутся люди!.. Меры предосторожности примитивны, чисто символические: кое-где над цехом натянута металлическая сетка. Но обычно она не выдерживает тяжести болванки, рвется, и тогда люди гибнут. Мне хотелось бы написать книгу „Окровавленные болванки Шнейдера“, но какой же издатель напечатает такое, Малыш? И далее… Казалось бы просто естественным, единственно справедливым, если бы искалеченному человеку администрация завода и концерн платили бы пенсию, давали какое-либо материальное возмещение. Нет! Во всем, во всех несчастных случаях обвиняются сами рабочие, их якобы небрежность, нерасторопность, их неумение… И работают в таком аду, Малыш, в некоторых цехах по тринадцать-четырнадцать, иногда даже до шестнадцати часов в смену!»
Эжен залпом выпил чашку остывшего кофе.
«— Почему я все это диктую тебе, Малыш? Да просто потому, что ты знаешь, как я занят и в Интернационале, и в Федеральной палате, и в других местах. Да еще и потому, Малыш, что боюсь, может случиться так, что моего рассказа никто, кроме тебя, и не услышит. Я снова чувствую за собой постоянную слежку, меня могут схватить каждую минуту и снова запихнуть в камеру Сент-Пелажи или Мазаса. А я хочу, то есть просто необходимо, чтобы народ Франции знал всю страшную правду!.. Да, я еще не сказал тебе. Посторонним людям вход на завоцы Шнейдера строжайше запрещен, владельцы, хозяева боятся чужого взгляда. Асси провел меня на завод в своей рабочей куртке, по чужому пропуску, и я в цехах делал вид, что работаю. Правда, пользуясь малейшей оплошностью мастеров-надзирателей, Асси переводил меня из одного цеха в другой… Я измазал себе лицо и руки сажей и мазутом, вместе с другими таскал раскаленные, пышущие жаром балки и прутья, но разговаривать с кем-либо там, в цехах, мне, естественно, не представлялось возможности…»
Эжен замолчал, а я налил ему новую чашку кофе. Он продолжал:
«— Говорили мы обо всем после, когда, освободившись от смены, Адольф повел меня по рабочим квартирам, по баракам Крезо! Бараки Шнейдера! Человека, на счетах которого лежат миллионы франков и в груди которого, казалось бы, должно биться человеческое сердце! То, Малыш, что я увидел в жилищах рабочих, не поддается описанию. Ты сам знаешь, что такое нищета и голод, ты и сам поголодал немало, ты видел, что творилось в каморках парижских переплетчиков, когда мы бастовали… Но, клянусь нашей матерью, Малыш, ты вряд ли можешь представить себе бараки Шнейдера! Зловонные вонючие дыры… В два яруса нары для холостых, одиноких рабочих, отделенные выцветшими занавесочками — для семейных. И замужняя женщина, даже если у нее дети, тоже обязана работать на предприятиях концерна, иначе ее выселят, силой выкинут из барака. Обязаны работать и дети, как только чуть подрастут… Правда, многие коренные жители Крезо имеют собственные домишки, но и там полновластно царствует нищета. Вырастить в саду или огородике, если есть клочок земли, никакое растение невозможно: дым и гарь, ядовитая вонь из кислотных и щелочных цехов пожирают на корню все живое… Сейчас зима, но ты не увидишь там снега, он скрыт слоем пепла и сажи… Ты помнишь описания парижских трущоб в „Соборе Парижской богоматери“ Гюго и „Парижских тайнах“ Эжена Сю? Когда-то, читая подобные книги, я думал, что в них многое преувеличено, но теперь скажу, Малый: каждая буква описанного там правдива. По прочитать книгу мало, нужно видеть все это своими глазами, чтобы по-настоящему понять…»
Эжен задумчиво помешивал ложкой в чашечке с кофе, а я как можно быстрее подправлял кое-что в своих каракулях: говорил брат быстро, и на следующий день я и сам вряд ли полностью разобрал бы кое-какие строки…
«— Сейчас поздно, Малыш, и я не смогу рассказать теое сегодня всего, только то, что наиболее глубоко врезалось в память. Приводит меня уже поздно ночью Адольф в крошечный домишко, точнее сказать, в лачугу на окраине удушенного дымом города. Входим. Чуть теплятся огарок церковной свечки. Посредине — голый стол, и на нем крохотный трупик, прикрытый чем-то. Возле пола сидит мать с сухими глазами, руки, изъеденные щелочами или кислотами, бессильно положены на стол. Она не плачет, не вопит, не причитает, и это, Малыш, самое страшное. А отец в соседней комнатенке деловито пилит на куски ящик, испятнанный черными фабричными клеймами, чтобы сколотить сыну гроб. Печка разделяет комнатушки, угол за ней загораживает драная занавеска, там, видно, кровать. И оттуда выглядывают три крохотные ребячьи мордочки, худобу которых я не в состоянии описать. Мать смотрит на нас безучастно, но отец, товарищ Асси по цеху, прерывает свою скорбную работу, жмет нам руки. Днем я видел его в цехе, но, если бы Адольф не предупредил меня, я, конечно, не узнал бы ею. В цехах, во время работы, все были одинаковы, эдакое дикое чернокожее племя. Он убрал обрезки распиленного ящика, усадил нас. Я спросил: „Сын?“ — „Да“, Отец посмотрел на худенькие посиневшие ножки, торчащие из-под тряпицы, и меня поразило, Малыш, что в его взгляде я не прочитал горя, потрясения, в нем как бы даже сквозило облегчение, что несчастный ребенок отмучился, ушел из каторжной проклятой жизни. Да, да! Ты помнишь, как нас, мальчишек, в Вуазене потрясала каждая смерть даже мало знакомого человека, какой она вселяла в нас ужас? А здесь… „Марта! У нас нечем угостить гостей?“
Жена даже не взглянула в его сторону, просто отрицательно покачала головой. У меня было с собой немного денег, я достал их все, до последнего су, украдкой положил на подоконник. Мне потом даже не на что было купить билет в Париж, меня на тендере увез знакомый машинист…
Это так, крошечный эпизод, Малыш… А самое страшное случилось на следующий день. Асси позвал меня в Крезо, зная, что я руководил несколькими забастовками, окончившимися победой рабочих. Они, в Крезо, просили совета, как быть: ведь дальше так жить невозможно! Ну, у нас в кассе Федерации есть несколько сот франков, но их явно недостаточно, чтобы многотысячной массе людей в Крезо выдержать длительную забастовку… Что я мог посоветовать? Я пообещал, что мы в Париже немедленно объявим подписку, как было в дни женевской забастовки, соберем нужную хотя бы для начала сумму, только тогда и можно объявлять забастовку.
Но забастовка началась сама собой, стихийно, на другой день. Мы с Асси, как и накануне, благополучно миновали охрану ворот, но у входа в кузнечный цех к нам подбежал помощник мастера и, окликнув Асси, сказал, что его немедленно вызывают к главному инженеру. Асси ушел, а я отправился в кузнечный цех один. „Жди меня здесь, Эжен!“ — крикнул он, обернувшись на ходу.
Он вернулся минут через десять и растерянно сообщил мне, что его увольняют, что его обязали немедленно покинуть завод. Но, сославшись на необходимость забрать из инструментального ящика кое-какие личные вещи, ему удалось вернуться в цех. Весть о том, что механика Асси, вожака рабочих, выгоняют с завода, немедленно облетела цехи. А тут…
В том же кузнечном цехе произошел несчастный случай. Болванкой, о которых я тебе уже говорил, сорвавшейся с двигающегося под потолком подвесного крана, убило двоих и искалечило пятерых, работавших внизу. И тут уж никакая сила не могла остановить людей. Откуда-то притащили рогожные кули из-под угля, положили на них мертвых. Заревели гудки и сирены, всполошилась охрана, но многотысячную толпу невозможно было сдержать. Отпихнув сторожей, взломав ломами запертые ворота, неся высоко над головами окровавленные тела убитых, неся на руках искалеченных, рабочие двинулись…»
— К дому Шнейдера? — не вытерпев, перебил я Эжена.
Он посмотрел на меня с удивлением, словно позабыл о моем присутствии, и скривил губы в усмешке.
«— Шнейдеров? Ах, до чего ты наивен, Малыш! Да никто из семейки Шнейдеров уже десятки лет не бывает в Крезо. Они живут в своих замках и виллах под Парижем или на Лазурном берегу… С тридцать шестого года, когда организовался концерн, в первые годы они еще заглядывали туда, а теперь… О, у них там достаточно цепных псов во всяческих мундирах и без мундиров, чтобы охранять за солидную мзду их добро. Разве можно таким утонченным и изнеженным натурам, как сыновья и дочери главы Законодательного корпуса, дышать смрадным воздухом Крезо?.. Нет, мертвых понесли к зданию управления, к домам, где живет администрация… А там уже приготовились к событиям! Навстречу рабочим из боковых улиц ринулись конные жандармы, вышел полк драгун. Они преградили улицу, ведущую к городку администрации и управлению, но толпа не остановилась. И тогда… тогда солдаты принялись стрелять, сначала в воздух, а потом в людей…»
Эжен закусил губу и долго молчал.
«— Теперь предстоит собирать пожертвования среди парижской, лионской и марсельской бедноты, чтобы поддержать Крезо, Малыш… Ну и довольно на сегодня, пожалуй! За окнами почти светло, а меня завтра ждет куча неотложных дел… Надо помочь Лемель с оптовой закупкой продуктов для столовых, потом заседание бюро правления ссудных касс… Прямо голова идет кругом!»
«События, предвещавшие близкую революцию, следовали одно за другим. Через несколько дней после возвращения Эжена из Крезо, 10 января, кузен императора, Пьер Бонапарт, у себя в особняке выстрелом из десяти-зарядного револьвера убил сотрудника газеты „Марсельеза“, талантливого молодого поэта Виктора Нуара, явившегося к нему в качестве секунданта Паскаля Груссе. Дело в том, что за постоянные нападки прогрессивной печати на семью Бонапартов принц Пьер, находившийся в немилости у своего державного родственника и желавший выслужиться перед ним, послал вызов на дуэль редактору газеты „Марсельеза“ Анри Рошфору. Редактора на месте не оказалось, и один из сотрудников, темпераментный корсиканец Паскаль Груссе решил сам ответить на вызов заносчивого родича императора. Его секундантами к Пьеру Бонапарту отправились Виктор Нуар и еще один сотрудник редакции. Необузданный в своем гневе и прихотях принц Пьер, поджидавший Анри Рошфора, но увидевший вместо него других, выстрелом в упор убил молодого поэта и дважды стрелял в другого секунданта, Ульриха де Фонвиля.
Это преступление всколыхнуло, подняло на ноги весь Париж.
Вечером этого же дня на всех перекрестках Парижа тысячами раздавалась прохожим листовка небольшого формата, подписанная Рошфором. В ней говорилось:
„Я имел глупость думать, что Бонапарт может быть кем-нибудь другим, кроме как убийцей! Я смел воображать, что лояльный поединок возможен в этой семье, в которой убийство и западня являются традицией и обычаем.
Наш сотрудник Паскаль Груссе разделял со мной это заблуждение — и сегодня мы оплакиваем его секунданта, нашего бедного и дорогого друга Виктора Нуара, убитого бандитом Пьером Наполеоном-Бонапартом.
Вот уже восемнадцать лет, как Франция находится в окровавленных лапах этих разбойников, которые, не довольствуясь расстрелом республиканцев на улицах, завлекают их в гнусные ловушки, чтобы укокошить их у себя на дому.
Французский народ! Разве не находишь ты, что настала пора положить этому конец?!“
Эта листовка произвела впечатление внезапно разорвавшейся бомбы огромной силы. Братья Нуары вместе со стариками родителями жили в одном из пригородов Парижа, в Нейи, и через два дня на похороны убитого поэта туда собрался весь студенческий и рабочий Париж, все прогрессивные писатели и журналисты. Накануне в нашей с Эженом мастерской побывали многие, произносились страстные речи, но больше всего мне запомнились слова Луизы Мишель — она заходила к нам вместе с Андре Лео.
— Вооружайтесь, друзья! — призывала Луиза, сверкая своими огромными черными, удивительно выразительными главами. — Завтра предстоит битва. И с этой битвы мы вернемся уже не в императорскую Францию, в в Республику! Или не вернемся никогда!
Сначала Эжен не хотел было брать меня с собой на похороны, боясь, что с моей покалеченной ногой я скорое других стану жертвой уличной давки или полицейской расправы. Но я твердо сказал ему:
— Я всегда слушался тебя, брат! Но на этот раз поступлю по-своему, так, как велит мне совесть. И если ты не возьмешь меня с собой, я пойду один!
Это было поистине потрясающее зрелище. Несколько сот тысяч парижан запрудили весь Нейи, все ведущие к нему улочки, Елисейские поля, народу было набито битком от самой Триумфальной арки до Нейи. А во всех боковых улочках стояли, блестя штыками и орудиями, полки солдат, толпились готовые к бою жандармы и полицейские, гарцевали конные.
Шагая рядом с Эженом, я испытывал такое волнение, какого еще не чувствовал никогда в жизни. Схватка представлялась неизбежной, и я то и дело повторял про себя страстные слова Луизы Мишель.
Да, казалось, мы стоим на пороге революции. Виктора Пуара вначале предполагалось провезти через весь Париж и похоронить на одном из самых знаменитых кладбищ Парижа, на Пер-Лашез. И если бы похоронная процессия попыталась так сделать, она была бы расстреляна в упор: за два предыдущих дня правительство стянуло в Париж жандармские, полицейские и воинские силы из всех ближайших департаментов, и похороны превратились бы просто в кровавое побоище. У въезда на Елисейские поля представители похоронной фирмы, видя неизбежность столкновения, отказались везти гроб дальше. Тогда самые неистовые бланкисты обрубили постромки, освободили лошадей и сами впряглись в оглобли, первыми обрекая себя на смерть под пулями… Кстати, Эжен на этих похоронах издали показал мне Огюста Бланки, явившегося в Париж, конечно, нелегально, — это был изможденный старик невысокого роста с лицом пророка!..
Но наиболее дальновидные во главе с Шарлем Делеклюзом, предвидя неизбежность жертв и разгрома, уговорили брата и родных Виктора Нуара отказаться от попытки везти тело погибшего через весь Париж, погребальный катафалк повернули к кладбищу Нейи…
А вечером, когда из нашей мансарды разошлись обычные гости, Эжен убежденно сказал мне;
— Нет, Малыш, Делеклюз был прав. Правительство было бы радо возможности устроить такое побоище. Причем первыми под жандармские пули попали бы прежде всего те, кто наиболее нужен революции… Вот посмотри, что я писал в Руан Эмилю Обри о прошедшем дне: „…мы еще не готовы для революции, нам нужен еще год или, может быть, два, чтобы достигнуть господства над положением и быть уверенными, что революция не ускользнет из наших рук… Без сомнения, вспышка и последующее подавление восстания вполне удовлетворили бы буржуазные партии, так как были бы для них поводом к объявлению нас вне закона, но мы должны быть тем более осторожны, что чувствуем свое одиночество… вот почему мы колеблемся“. Да, Малыш, ярость народа огромна, неудержима, но одной яростью невозможно победить, ярость должна быть вооружена…
— А Бастилия? — осмелился я напомнить брату. Он грустно пожал плечами.
— Ты, Малыш, забываешь, что это произошло почти век назад. И правительство Бурбонов еще не накопило такого опыта борьбы с восстаниями, какой Империя имеет сейчас. Вспомни хотя бы революции тридцатою и сорок восьмого, вспомни пятьдесят первый год! Даром, что ли, барон Осман выпрямлял и перекраивал парижские улицы и бульвары? Увы, мне самому невыносимо горько, но я вынужден признать правоту Делсклюза. Не зря же у него за плечами каторга Кайенны!
Вскоре Анри Рошфор был арестован, хотя как член Законодательного корпуса имел право на депутатскую неприкосновенность. Эжен и его друзья опубликовали гневный протест против этой беззаконной выходки правительства Баденге. И Эжен также был арестован и брошен в камеру тюрьмы, которая словно в насмешку называется Sante.[2]
Итак, я снова остался один. Вечера тянутся мучительно тоскливо и одиноко, брожу по улицам до изнеможения, чтобы потом забыться сном хотя бы на два часа. И даже вот эти странички моего дневника, который когда-то помогал мне жить, перестали тянуть меня к себе. Крепнет убеждение, что и этим страницам суждено погибнуть в безвестности, как, вероятно, погибло бесчисленное множество таких тетрадей, написанных другими… Просто пропала охота писать, потому что пропала вера, что эти беспомощные, бессильные записки смогут когда-то кому-то помочь…
На свидания с Эженом меня не пускают, передач для него не берут, и я просто схожу с ума от тревоги за него…»
ЭЖЕН ВАРЛЕН. В РАЗГРОМЛЕННОМ «МАРМИТ»
Эти скитания были для него как бы безмолвным прощанием с городом. За восемнадцать лет жизни в Париже он не однажды проходил по всем его бульварам, улицам и площадям, они научили его угадыванию тайного, скрытого за стенами, научили глубокому пониманию человеческих страстей, научили мужеству…
Он шагал, не глядя на людей. То и дело проезжали мимо мясные, мебельные фургоны с убитыми, иногда прикрытыми рогожами или рваной мешковиной. Но кое-где еще лежали неубранные, странно плоские, словно вдавленные в землю тела. Эжен не останавливался, не всматривался, — все равно им уже невозможно помочь…
Он прошел по рю Гранвилье, заглянул под арку в глубине двора, там в одной из двух компатушек Фрибура происходили первые заседания парижских секций Интернациоиала. Когда Бурдон впервые привел Эжена, они застали здесь Анри Толена и типографа Шарля Лимузена, которые за год перед тем вместе с Фрибуром побывали в Лондоне, встречались с Марксом и в шумной таверне Боллетера были утверждены парижскими корреспондентами Международного товарищества рабочих… Потом сюда приходили десятки и сотни людей, гонимых нуждой и горем… И именно сюда — помнишь, с каким волнением распечатывали посылку? — пришли из Лондона первые пятьсот еще не заполненных карточек Интернационала. Сколько надежд тогда они возлагали на товарищество, какими волнением и верой переполнялись сердца!..
А сейчас… Окна и двери квартирки Фрибура безжалостно выломаны, под ними тлеют остатки костра из деревяшек, книг и обрывков бумаги. Но людей — ни живых, ни мертвых — не видно…
Затем, движимый безотчетным чувством, Эжен прошел и по пляс Кордери, где члены парижских секций Интернационала собирались последнее время, — тут тоже все разрушено и сожжено. Прошел мимо знакомых домов, как проходят мимо дорогих могил, но больше не останавливался, лишь чуть замедлял шаги, — воспоминания и поздние сожаления ничего пе оставляли в душе, кроме горечи…
Нет, он почти не замечал, по каким именно улицам шел, его вело какое-то шестое чувство, которому нет названия ни в одном человеческом языке. Он просто механически переставлял измученные усталостью ноги, неуклюже тыкая концом трости в камни тротуара. Он не обращал внимания на шум и оживление улиц, а Париж, несмотря на тысячи смертей, снова бурлил, словно готовился к новой Всемирной выставке.
Эжен мысленно усмехнулся, вспомнив нашумевшую когда-то «Ярмарку тщеславия» Уильяма Теккерея, этот «роман без героя», которым восхищался в юности. «Ярмарка тщеславия»? Э нет, Эжен, происходящее в Париже сейчас скорее следует назвать ярмаркой подлости и бесчеловечности, апофеозом исторической несправедливости…
Он шел, глядя под ноги, на обломки кирпича и штукатурки, на пятна крови, на осколки стекла. И вдруг остановился, словно наткнувшись на невидимую преграду. Поперек тротуара у его ног лежала искореженная ударами жестяная вывеска — красные буквы по белому фону. «Мармит». Одно из его любимых детищ, созданных еще до провозглашения Коммуны. Сколько надежд когда-то он и его друзья возлагали на такие дешевые столовки, на кассы взаимопомощи, на рабочие кредитные товарищества! Они тешились прудонистскими иллюзиями, надеялись, опираясь на них, противостоять многотонным шнейдеровским и крупповским пушкам, надеялись с помощью ребячьих игрушечных лопаточек заложить глубочайший фундамент будущею, справедливого и честного общества… Дети, дети! Да, «война или смерть, борьба или уничтожение, такова неотразимая постановка вопроса»! Может быть, он и прав, доктор Маркс?
Невольно подняв глаза, Эжен глянул на пустые оконные рамы, на поломанные столы и скамьи в глубине помещения. У дальней стены — опрокинутый прилавок буфета, сбоку едва держится на одной петле дверь в кухню, где он бывал не раз, чтобы получить за пять сантимов миску супа и посмотреть, как идут дела. Здесь Натали Лемель принимала у новых членов «Мармит» их очередные взносы, обычно — су и лишь изредка — франки, а у котлов хозяйничала Мари Делакур…
Все было разбито, разнесено в прах. И все же какая-то неведомая сила заставила Эжена перешагнуть порог разгромленной столовой, пройти по хрустящему под ногами стеклу. Зачем? Он и сам не мог бы ответить. Так тянет человека на пепелище сгоревшего отчего дома.
Долго стоял на пороге кухни, вглядываясь в следы разгрома. Современные вандалы не удовлетворились простым разрушением, они нагадили, напакостили в котлы, спасавшие от голодной смерти тысячи рабочих. Как ни страшно сознавать это, но, видимо, нет предела бессмысленной человеческой жестокости, почти звериной, осатанелой ненависти…
Он повернулся уходить, но из дальнего, самого темного угла, из каморки, где раньше хранились продукты, раздался знакомый голос:
— Эжен!
Вздрогнув от неожиданности, он обернулся, но в полутьме не мог ничего рассмотреть.
— Это Арну, — продолжал голос. — Артюр Арну. Идите сюда…
Артюр Арну, журналист и писатель, соратник по Коммуне, избранный в нее по Четвертому и Восьмому округам Парижа. Они занимали с Эженом в Коммуне одинаковые позиции и по многим вопросам в борьбе с бланкистами, хотя бы в том же споре о судьбе и казни заложников, о финансах и просвещении… Значит, еще, может быть, не все повержено, не все пропало? На какие-то секунды светлым лучом вспыхнула в груди радость, но Эжен наткнулся взглядом на неподвижно торчавшие из-под опрокинутого котла ноги убитого гвардейца в стоптанных годильотах, и радость погасла.
— Это вы, Артюр?
— Да, Эжен. Идите. Они вряд ли вернутся, здесь уже нечего больше ломать и крушить…
Арну сидел в углу на поваленном ларе. Круто нависший лоб, откинутые назад седые волосы, отросшая, не бритая несколько дней щетина на щеках и подбородке. На нем не было красного шарфа с золотыми кистями, мундира командира Национальной гвардии, — чей-то чужой, серый, заношенный сюртук. Фигура Арну была плохо различима в полумраке кладовки.
— Садитесь рядом, Эжен, иначе вы сейчас упадете… Кто дал вам эти очки?
— Мария Яцкевич…
— Ее не убили? Она ведь тоже член Интернационала и сражалась на баррикадах. Она жива?
— Не знаю… Я видел ее очень давно… утром.
— Очень давно? — едва заметно усмехнулся Арну. — Что ж, пожалуй, вы и правы, это — очень давно… За последние часы произошло немало событий! Да вы садитесь, Эжен. Хотелось бы напоследок отвести душу… Больше нам, кажется, не остается ничего!
Эжен сел рядом с Арну. Едва слышно доносилось сюда с улицы мерное громыханье оркестра, слитный шум голосов, напоминавший гул далекого морского прибоя.
Эжен знал за Арну присущую многим пишущим слабость: желание высказаться, «отвести душу», найти яркий словесный образ, прежде чем сесть за письменный стол. Самому Эжену не хотелось говорить: бесполезное занятие. Но — так томила усталость, так хотелось посидеть полчаса в тишине.
Арну достал из кармана тоненькую измятую сигару, осторожно, из ладоней, прикурил от восковой спички; слабый прыгающий огонек осветил впалые щеки, потрескавшиеся губы под седеющими усами.
— Да, Эжен, вот и окончилось двухмесячное царствование Коммуны, — начал он, но Эжен перебил тихо и сердито:
— О Коммуне нельзя сказать «царствование»!
— Да, конечно, ты прав, друг! — глубоко затянувшись, согласился Арну. — Но именно в этом, в нашей терпимости, можнт быть, и кроется самая большая ошибка Коммуны. Мы прощали врагам их жестокость и подлость, тем самым позволяли версальцам распинать на крестах Версаля и Сатори сотни и тысячи наших товарищей по борьбе!
Эжен поморщился: ему всегда претили напыщенность и экзальтация, котурны, в которых так любят щеголять иные ораторы. Истина всегда должна быть высказана просто и ясно.
Арпу продолжал горячо, но тихо, стараясь не быть услышанным на улице:
— …Два месяца Коммуна стояла у власти в Париже, от двадцать восьмого марта по день вторжения, то есть по двадцать первое мая. В течение двух месяцев мы вели борьбу с жестоким, непримиримым врагом, который расстреливал пленных, который каждый день оскорблял Париж, лишил его звания столицы Франции. С врагом, от которого Коммуна не могла ждать ни милосердия, ни жалости, ни пощады. И вот в эти два месяца полного развития революции, когда было достаточно и побудительных причин, и самых законных оспований, Коммуна не пролила ни одной капли крови…
Эжен слушал молча.
— Здесь я не сужу более! — страстным шепотом продолжал Арну, дыша в лицо Эжена сигарным дымом. — Я не хвалю и не порицаю. Я пытаюсь быть беспристрастным. До вторжения версальцев в ночь на двадцать второе мая Коммуна не совершила ни одной казни! Верно? Однако она имела в руках могучее оружие: закон о заложниках, принятый еще в апреле, и, если ей недоставало крупных заложников, она могла забрать на аванпостах достаточное количество пленных, чтобы применить к ним этот суровый, но справедливый закон возмездия, если бы она захотела. Ей стоило бы только обыскать парижские дома в Пасси и Отей, чтобы найти там тысячи непримиримых противников и многих заключить в тюрьму. Она не поступила так, и первые шесть заложников во главе с монсеньером Дарбуа расстреляны лишь двадцать четвертого мая, когда версальцы уже убили без суда десятки тысяч наших…
— Все это я знаю, — тихо перебил Эжен, слегка отодвигаясь от Арну, он не курил и не выносил запаха табачного дыма. — Не надо об этом, Артюр! Что пользы?! Я думаю сейчас лишь об одном: тем из нас, кто уцелеет, останется в живых, необходимо возможно полнее описать деятельность Коммуны, найти, понять сделанные нами ошибки, приведшие Коммуну к гибели. Дело сейчас, Артюр, уже не в нас, а в будущих поколениях, для которых наш горький опыт может оказаться бесценным! До Коммуны Франция прошла через столько революций, через столько восстаний, а научилась так малому!
Арну помолчал, разглядывая свою сигару.
— Ошибки, ошибки, ошибки! — с грустной усталостью протянул он. — Да, ошибки! Утверждая и редактируя декреты Коммуны, мы исходили лишь из желания творить добро и справедливость. Мы издавали декреты, которые должны были бы облегчить жизнь бедноте, и совершенно забывали о многотысячных и недремлющих врагах, которыми набит Париж. Ну почему мы оставили богачам все их неправедно нажитое, почему не реквизировали их имущество, банки?.. Вот, скажем, твоя бывшая хозяйка, мадам Денвер, почему мы не тронули ее мастерскую, почему мы не забрали в свои руки типографию «Фигаро» и других подлых газет, которые, образно говоря, сидя у нас в кармане, во всю силу воевали против нас…
Эжен вздрогнул при имени Деньер; ах как нужно было повидать Луи, попрощаться, передать матери деньги!.. Да, да!.. Но сейчас это невозможно. Он почти не слушал, что дальше говорил Арну, голос сидевшего рядом доносился словно бы издалека…
А пламенный публицист и оратор снова увлекся, его как бы несло потоком слов, и он отдался на их волю, говорил и говорил.
— …Народ-мессия, увидишь ли ты обетованную землю? На сей Голгофе, более трагической, более печальной, более величественной, чем Голгофа человека-бога, останешься ли ты на ней до последней капли твоей крови, до последнего вздоха, до последней искры твоей революционной гениальности? Соберут ли другие то, что ты посеял, что ты полил своей кровью? Твоя смерть временна, и ты оживешь в своих сынах, в новом поколении, которое и сейчас уже зреет в твоем неистощимом чреве. Новое поколение придет, чтобы утвердить тебя, неукротимого! Как бы там ни было, твоя работа не будет потеряна, не пропадет!..
Арну, казалось, забыл, где находится; ему, видимо, представлялось, что он говорит перед всем миром, что его слушают тысячи, что во множестве сердец запечатлевается его вдохновенная речь.
Эжен шевельнулся и осторожно тронул товарища ладонью за колено. Арну удивленно смолк на полуслове.
— Прости, Артгор, — извинился Эжен и встал. — Я пойду.
— Куда? Ты с ума сошел! — почти крикнул Арну.
— Все-таки я пойду… Желаю тебе когда-нибудь передать свои мысли… тем… потомкам… Прощай, Арну…
И, опираясь на трость Делакура, Эжен пошел к ослепительно сверкавшему солнечным светом пролому двери, за которым шумела, смеялась, бушевала враждебная жизнь…
БЕЗ ЭЖЕНА (Тетради Луи Варлена 1870–1871 годы)
«Прошло две недели.
Эжена освободили из тюрьмы, но радость моя меркнет, как только я гляну в его лицо. Сам он ничего такого не говорит, — видимо, боится тревожить меня, но мы оба чувствуем висящий над его головой дамоклов меч. Я забыл упомянуть, что при аресте Эжена у нас произвели обыск, к счастью, жандармам не удалось обнаружить ничего крамольного: после суда и Сент-Пелажи, наученные горьким опытом, мы устроили хорошо скрытый тайник, где храним наиболее важные документы Эжена и даже эти мои тетради… Сейчас слежка и мелкие провокации не прекращаются.
Писать мне, откровенно говоря, не хочется, и лишь надежда, что мои заметки когда-нибудь попадут в руки честного историка, вроде Жюля Мишле, заставляет меня снова и снова браться за перо. За последние годы я переворошил немало книг по истории, перелистал многотомную безмерно восхваляющую Бонапартов „Историю консульства и империи“ Адольфа Тьера и убедился, что при появлении каждого нового правителя продажные писаки пытаются всячески возвеличить очередного деспота. Но я верю, что все же существуют „великие весы времени“, на чашах которых в конце концов именно истина становится единственно весомой гирей. Поэтому я и стараюсь записывать самое важное. А вдруг написанное мной переживет нынешнее темное время и поможет кому-то воссоздать подлинную картину наших дней.
Эжена выпустили из Sante, не предъявив ему обвинений и даже ничего толком не объяснив, даже ни одного допроса, по сути дела, не было. Лишь перед самым освобождением к нему в камеру явился какой-то чин и сквозь зубы предупредил, что „добром ваши похождения, мосье Варлен, не кончатся, имейте в виду! Пока, — он со значением подчеркнул это слово и зловеще усмехнулся… — Пока мы вас освобождаем, но, кажется, скоро встретимся снова! Идите!“
Эжен возмущен подобным произволом. Вчера он написал гневное письмо своему другу Эмилю Обри, в Руан. Я попросил у него разрешения выписать несколько строк из письма в свой дневник. Вот они:
„И вы хотите, чтобы я был менее революционен при подобном положении дел, которое ухудшается с каждым днем? Когда совершенно исчезнут с лица земли произвол и несправедливость, когда на земле будут царствовать свобода и равенство, только тогда я не буду революционером; до той поры знайте, что, чем больше на меня будут обрушиваться удары деспотизма, тем больше я буду озлоблен против него и тем больше буду для него опасен. Напрасно вы думаете, хотя бы одно мгновение, что я пренебрегаю социальным движением ради политического! О, нет! Я делаю революционное дело исключительно с социалистической, истинно социалистической точки зрения… Но вы должны основательно понять, что никаких социальных реформ мы не сможем осуществить, пока не уничтожен старый политический строй!“
Вот какой он стал, мой старший брат Эжен! В нем все отчетливее ощущается и воля к борьбе, и вера в окончательпую победу. И во мне с каждым днем растет благодарность к нему за то, что он вытащил меня из захолустного тихого Вуазена, научил видеть и понимать главное в жизни! Правда, при воспоминании о Вуазене я неизбежно испытываю острое чувство горечи, особенно когда думаю о Катрин. Сегодня оно сильнее обычного, наверное, потому, что я только что получил письмо, написанное ее наивными неуклюжими каракулями, — она все еще помнит меня… Пишет она по просьбе наших стариков родителей, они оба неграмотны, мы же с Катрин три зимы вместе посещали школу в Клэ.
Под вечер, возвращаясь из булочной, я торопился домой, чтобы приготовить к возвращению Эжена неприхотливый ужин, — брат частенько возвращается со своих бесчисленных собраний, нигде ничего не перекуси». Я прошел мимо распахнутых настежь дверей «Лепестка герани», когда хозяйка окликнула меня, — ни обыск, ни заключение Эжена в Сент-Пелажи и Sante не поколебали ее доброго отношения к нам.
— Луи! — позвала меня хозяйка из глубины кафе. — Зайдите на минутку. Вам принесли письмо!
Это и оказалось письмо от Катрин, которое сейчас лежит передо мной. Хозяйка спросила, как моя нога, как чувствует себя Эжен, почему он никогда не заглядывает в ее «Лепесток»? Я пробормотал что-то о его чрезмерной занятости, о делах.
За столиком рядом со мной сивоусый, прокуренный наполеоновский ветеран, участник многих походов, изрядно подвыпивший, громко разглагольствовал о необходимости восстановить былую военную славу великой Франции, о возможности и даже необходимости войны с Пруссией и Австрией, — слишком-де они зазнались. Я оглянулся на крикуна. Крошечный, едва живой от старости сморчок воинственно колотил себя кулаком в звенящую орденами грудь, угрожающе грохал костылем об пол, кричал о покорившихся императору египетских пирамидах…
Я взял письмо, поблагодарил хозяйку и поднялся к себе. Эжена еще нет. Я прочитал трогательно-наивиые строчки Катрин о том, что урожай винограда в этом году знатоки примет предсказывают хороший, осенью нас ждут на помощь. Но сейчас, я думаю, если действителызо начнется война, Эжена заберут в солдаты и ему придется вытягиваться по стойке «смирно!» перед тупыми генералами Баденге, которого он так неистово ненавидит! Меня от подобной участи спасает покалеченная нога, но брату волей-неволей придется напяливать солдатский мундир… Просто не представляю себе, как он примет это, как переживет…
Часы на башне пробили десять, а его все нет. Время позднее, но я хочу еще хотя бы час поработать за станком: у Эжена почти нет времени заниматься ремеслом, а все наши сбережения он внес в фонд бастующих в Крезо. Так что мне приходится работать за двоих, хотя от многочасовой работы у меня нестерпимо ноют и руки, и спина, и шея…
…19 апреля. Вчера я так и уснул за переплетным станком, и Эжен разбудил меня уже после полуночи, я спал, уткнувшись носом в страницы флоберовской «Госпожи Бовари», книги, которая мне кажется одной из самых интересных у мосье Флобера; книги, побывавшей в свое время под судом. Боже мой, как сказала бы наша мама, даже книги в наше подлое время сажают на скамьи подсудимых! Эжен как-то рассказывал мне об осуждении «Цветов зла» Бодлера, рассказывал, как мучительно жил последние годы и как тяжко умирал талантливейший поэт! И все же я верю, что стихи его переживут творения многих прославляемых ныне одописцев! И императоров, мнящих себя, подобно Нерону, гениями «Великие весы времени»!
Но меня снова занесло в сторону. Я хотел написать лишь о вчерашнем вечере. Эжен вернулся такой бодрый и радостно взволнованный, каким я не видел его давно. Он возбужденно ходил из угла в угол мастерской и говорил, говорил. Он только что из большого зала редакции «Марсельезы», где было несколько сот членов Интернационала.
— Да, Малыш, — говорил Эжен, поблескивая выразительными темными глазами, — они объявили Интернационал внезаконной организацией, запретили его, но он не только существует, а и продолжает стремительно расти. Еще в прошлом месяце, Малыш, в Париже было всего тринадцать секций Интернационала, а теперь их уже двадцать пять! И сегодня у нас праздничный день! Секции объединились, создана Федерация парижских секций Интернационала. Если мы будем действовать согласно с Федеральной палатой всех рабочих обществ, мы станем непобедимы!
Я поставил шипящую сковородку на стол, насильно заставил Эжена сесть, сунул ему в руку вилку. Но он как будто и не чувствовал голода.
— И ты представь себе, Малыш, что меня, простого переплетчика, рабочие Парижа удостоили высокого доверия! Поздравь: я избран в бюро Федерации секций Интернационала. Значит, я чего-то стою в шеренге борцов за создание нового мпра, за утверждение справедливости на земле! И хотя я прекрасно знал, Малыш, что в зале среди тысячи двухсот человек скрывается не одни десяток переодетых шпиков, я выступил с речью, призывая к борьбе. Послушай, как я ее закончил: «Мы требуем абсолютного суверенитета народа, прямого народовластия! Мы утверждаем принцип Всемирной социальной республики и протестуем против объявленного императором плебисцита, рассчитанного на то, чтобы обману и ввести в заблуждение народ и прежде всего деревню!» Ты знаешь, Малыш, я предполагал, что меня схватят прямо при выходе из «Марсельезы», но они побоялись. Как видишь, я дома! По предчувствую, Малыш, вряд ли это пройдет мне даром!..
И предчувствие не обмануло брата. Я пишу эти строки через день, 20 апреля. Сегодня его встретил наш давний знакомый, адвокат мосье Буассе, н предупредил, что готовится новый процесс над Бюро Интернационала, что в префектуре подписаны ордера на арест тридцати восьми человек, в том числе и Эжена. Приговор, вероятно, будет весьма суров, несколько лет тюрьмы. Так правители надеются, по выражению их газет, «обезвредить революционную гидру»! И Эжен скрепя сердце решил уехать. Он ушел из дому без чемодана и саквояжа и запретил мне провожать его на вокзал — нельзя привлекать к себе внимания…
…Я снова один и не могу найти слов, чтобы передать, как тяжело, как тоскливо мне без брата, как горько не слышать его голоса, его смеха. Но все же спасибо Буассе, он оказался прав, арестовано уже более тридцати человек, и, если бы Эжен не уехал, он сейчас находился бы в тюремной камере. Думаю, что, несмотря на то что ему удалось скрыться, его имя будет значиться в списке подсудимых — слишком уж он ненавистный для вражеского стана человек. Знакомые и друзья перестали посещать нашу мастерскую: в ней нет того магнетического притяжения, которое исходит от Эжена, да и по условиям конспирации необходимо воздержаться от лишних встреч. Незачем дразнить шпиков и жандармских ищеек.
…От Эжена я получил два коротеньких письма, верное даже — записочки, первую из Брюсселя, вторую из Амстердама, пишет он чрезвычайно скупо: жив и здоров, но с работой там устроиться весьма нелегко. Очень просит меня побывать хотя бы на некоторых заседаниях суда над Интернационалом и застенографировать для него речи подсудимых, особенно Лео Франкеля, венгерского революционера, — их связывает сердечная, искренняя дружба. Письма Эжена написаны как будто не его рукой, вероятно, он намеренно искажал почерк, и многое в них иносказательно, и о подлинном смысле я догадываюсь, читаю между строк, лишь потому, что хорошо знаю и характер, и мысли брата. Подписаны письма — Анри Барфельд…
…Вот и состоялся третий суд над руководителями Интернационала, и, действительно, имя Эжена значилось в списке обвиняемых. И чего-чего, каких только пакостей не наплел государственный обвинитель: дескать, именно Эжен и его друзья повинны в «кровавых столкновениях» во многих городах Франции — в Марселе, Париже, Крезо, а также и в Белыни, и в Женеве. Прокурор не хотел и слышать о том, что забастовки вызваны непосильными условиями труда и жизни рабочих, он все валил на «разнузданную разбойничью пропаганду» интернационалистов, только их он обвинял в том, что пролита и почти ежедневно проливается невинная кровь! Все перевернуто, все поставлено с ног на голову! Но прекрасно ответил на его смехотворные обвинения Лео Френкель: «Сопротивление, оказываемое хозяевам рабочими, является вполне естественным, а вовсе не „созданным искусственно“… Меня нисколько не удивляет, что капиталисты по поводу стачек, вызываемых их жадностью, обвиняют прежде всего Интернационал. Они действуют в данном случае, как волк в басне Эзопа: находясь на берегу ручья, волк обвинил стоявшего ниже его ягненка, утолявшего в ручье жажду, что тот „мутит ему воду“. Тщетно ягненок оправдывался, говорил, что ручей не может течь вверх, ничто ему не помогло: волк лишь искал предлога, чтобы съесть ягненка!»
Выполняя просьбу Эжена, я застенографировал выступления многих обвиняемых, но особенно понравилась мне спокойная и выдержанная, хорошо аргумептированная речь Франкеля. Вот как он говорил:
«— Интернационал — такое дерево, корни которого глубоко сидят в земле всех стран, и было бы наивностью попытаться осушить сок, струящийся под корой этого дерева, тем, что вы обрубите ту или иную из его ветвей.
Тому, кто не умеет толковать знамения времени, кто воображает, что социальное движение можно остановить таким вот судебным способом, — тому я отвечу словами Галилея: „А все-таки она вертится!“ Союз пролетариев всех стран — совершившийся факт, и нет силы, которая могла бы его расторгнуть!»
Несмотря на остроту и непримиримость его поведения на суде, Лео Френкелю дали два месяца тюрьмы, а отсутствующему Эжену «припаяли» — так выражаются в «Мухоморе» — целый год. Одно это говорит о его значении в рабочем движении… Каково-то ему живется там, вдали от родины? В Брюсселе он так и не смог найти работы, но я надеюсь, что швейцарские товарищи, которым Эжен два года назад помог выиграть забастовку, не дадут брату умереть с голоду…
…Да, я все реже и реже обращаюсь к страницам дневника, так как теряю веру, что написанное мной станет когда-либо известно людям и принесет им хоть маленькую пользу. Но сегодняшнюю дату необходимо отметить. Как ни странно, но тот плешивый сморчок с наполеоновскими орденами, который три месяца назад, захлебываясь слюной, кричал о необходимости или неизбежности войны между Францией и гогенцоллерновской Пруссией, оказался прав: война началась! Все газеты наполнены истошными воплями о нашей непобедимости, идет спешная мобилизация всех способных носить оружие, и я впервые по-настоящему радуюсь, что Эжена нет в Париже, радуюсь своей покалеченной ноге! Чем закончится война, предсказать сейчас, конечно, невозможно. Деревенские парни, ослепленные славой Наполеона Первого, обманутые шовинистическими криками, пойдут воевать за Баденге с уверенностью, что защищают свою крохотную парцеллу, свой дом, свой виноградник. Но в «Мухоморе», в его задней комнатке, куда я изредка заглядываю, многие знакомые с сомнением покачивают головой. Во всяком случае, я рад, что моего дорогого Эжена миновала участь солдата и его не поразит прусская пуля или картечь крупповекой митральезы…
Излишне, пожалуй, объяснять, чем именно эти и другие странички дневников Луи привлекали внимание Клэр… Она разговаривала с Бушье, а перед ее глазами то и дело возникал образ Эжена Варлена таким, каким она его знала и каким возникал он со страниц дневников Луи.
МАЛЕНЬКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В ДОМЕ МАДАМ ДЕНЬЕР
После долгой беседы Клэр удалось проводить кюре Бушье, ни словом не обмолвившись о Луи. Но, допуская, что услужливая Софи за мимоходом сунутую ей пятифранковую монету может что-то шепнуть на ушко излишне любопытному пастырю, Клэр сама проводила его до дверей и даже постояла на пороге, приветливо помахивая платочком, пока Бушье не повернул на бульвар Сен-Мишель. Правда, она не могла не заметить, что святой отец был явно раздражен угаданной им неоткровенностью. Но ведь было бы и глупо, и опасно выложить ему правду о Луи, — это может грозить бог знает чем!
Приоткрыв дверь в мастерскую, Клэр увидела, что Делакур, скинув куртку, заботливо осматривает один из станков, и неслышно прикрыла дверь, — не стоит ему мешать. Поднявшись в жилые комнаты, спросила горничную:
— Ты догадалась приготовить мне одеться, Софи? Так хочется пройтись после долгого затворничества. На улице славно, хотя солнце еще затянуто дымом.
— О да, мадам! Я проветрила на балконе кое-что и отгладила платье темно-зеленого шелка, а также коричневый жакет. Надеюсь, угодила? Да?
— Да, Софи! Ты — умница!
С помощью горничной Клэр переоделась, постояла перед зеркалом.
— Я вернусь, видимо, не скоро, Софи. Ты свободна до вечера.
— О, благодарю, мадам! — Горничная улыбнулась со всегдашним ироническим лукавством. — Мой поклонник, должно быть, стосковался по мне, как и ваш…
— Moй?! — надменно вскинула брови Клэр. — Кого ты имеешь в виду?
— О, никого в частности, мадам! У вас их такое множество!
Нет, она становится просто нестерпимой, эта ядовитая и чересчур много понимающая Софи! Надо подыскать более скромную служанку!
Когда она неторопливо спускалась по лестнице, из двери мастерской выглянул Делакур.
— Простите, мадам Деньер!
— Да, Альфонс?
— У меня к вам маленькая просьба. Не разрешите ли вы мне ночевать в мастерской? В мой дом угодил зажигательный снаряд, дом сгорел, а семья перебралась в деревню. И я, как старый, бездомный пес…
— О чем вы говорите?! — перебила Клэр. — Живите сколько вам потребуется, лишь бы наладилась работа!
— О, за этим дело не станет! — заверил Делакур. — Тем более, мадам, что у вас целая груда непереплетенных книг… Завтра же примусь отыскивать уцелевших друзей-мастеров! И работа закипит, клянусь своей рыжей бородой!
— Заранее благодарю! — засмеялась Клэр. — Такой клятве можно верить!
Она вышла. На какие-то минуты, прорвав занавес дыма, солнце ярко осветило противоположную сторону улицы, уцелевшие за железными шторами и теперь открытые витрины, кресты часовни Ла Шанель. Клэр пошла к бульвару Сен-Мишель. Идти в Ситэ или на правый берег не хотелось, огонь и дым еще клубились над зданиями Риволи.
Да, кончилась мрачная и страшная ночь немыслимой, непонятной для Клэр гражданской войны, улицы полны ликующими людьми, знакомые радостно приветствуют друг друга, пестрят трехцветные ленты на шляпах, на рукавах. Проехал фиакр с откинутым верхом — в нем гордо стояла, вскинув руку, дама, окутанная трехцветным полотнищем, лишь умело обнаженное бедро и колено дразняще выглядывали из-под ниспадавшей ткани. Хрипловатым, чувственным голосом женщина, видимо актриса третьесортною кабаре, распевала куплеты о победе над Коммуной, должно быть только что сочиненные каким-то шансонье, и откровенно призывно поглядывала на мужчин. А в нише, неподалеку от дома Деньер, громоздилась куча неподвижных, окровавленных тел…
Вначале Клэр предполагала навестить кого-нибудь из знакомых и уговорить их отправиться к Бребану или Маньи — спокойно и вкусно поесть, послушать музыку, потанцевать, отвести душу…
Но в этот день ей не довелось попасть в модный ресторан. Она прошла по бульвару Сен-Мишель не более двухсот метров и увидела впереди толпу.
На левой стороне бульвара, у переулка, ведущего ж Пантеону, догорал роскошный дом-особняк, с атлантами, поддерживающими корону свода над дубовой дверью, и мраморными львами, разлегшимися у подъезда. Стены еще держались, но внутри все выгорело дотла. И пожарные в их медных касках, хотя и поливали жиденькими струями шипящее пепелище, сами понимали, что бессильны что-либо спасти. В этом особняке, как знала Клэр, жил маркиз де Плек, один из заместителей директора Парижского банка. И как раз здесь бульвар перегораживала не до конца разобранная баррикада, — именно ее, вероятно, обстреливали версальцы, снаряды которых разрушили и подожгли дом.
Перед подъездом догорающего дома стояли набитые кофрами и чемоданами две кареты, возле них суетились три женщины — одна старая и две молодые. Как догадалась Клэр, они только что вернулись из Версаля к своему родовому гнезду, вернее, к его догорающим останкам, Клэр прекрасно понимала их боль и отчаяние, она чувствовала бы то же, если бы снаряды — неважно чьи! — разрушили ее дом! И она — не в первый раз сегодня — вздохнула с облегчением, — видно, все же родилась под счастливой звездой.
Толпа мешала Клэр пройти, и она остановилась, сочувственно взирая на картину чужого горя. Элегантно одетый, дородный мужчина в черном блестящем плаще и молоденький военный, украшенный золотыми аксельбантами, то пытались успокоить рыдающую старуху, то о чем-то тихонько рассуждали, разглядывая фасад дымящегося здания.
В нескольких метрах от карет пленные федераты под конвоем жандармов и бретонцев растаскивали обломки мебели и фиакров, из которых была сложена баррикада, разбрасывали в стороны камни. Рядом стоял крытый брезентом фургон, куда грузили мертвых, лежавших у подножия баррикады.
Старуха оглянулась на баррикаду, и внезапно лицо ее перекосила гримаса ужаса, слезы сразу высохли. Она закричала:
— Да ведь это наша мебель! Анатоль! Наша мебель!
Размахивая зонтиком, женщина яростно метнулась к баррикаде. Толпившиеся на тротуарах и мостовой о любопытством наблюдали за ней. Остановившись перед искалеченными останками раззолоченной, обитой красным бархатом мебели, старуха заломила руки, готовая рухнуть на землю. Но вдруг лицо ее мгновенно изменилось, она увидела лежавшие у баррикады трупы, бросилась к ним и принялась изо всех сил хлестать зонтиком мертвые тела. Она колотила их наотмашь, наискосок, тыкала в них сверкающим наконечником зонта, плевалась и что-то кричала — слов не разобрать. Самое страшное для Клэр в этой сцене заключалось в том, что лица, на которые обрушивались удары разъяренной женщины, оставались бесстрастными и неподвижными.
Но вот, ударив очередной раз зонтом по чьему-то алебастрово-белому лицу, внезапно поняв, что она не может, не в состоянии причинить мертвым ни малейшей боли, женщина бессильно опустила руки и уронила зонт. На нее, должно быть, от неподвижных тел пахнуло дыханием смерти, она побледнела и попятилась. Но замешательство длилось недолго. Старуха властно и жестко оглянулась на молча наблюдавшую за ней толпу, наклонилась, подняла зонт. И хрипло, задыхаясь, крикнула подошедшему к ней военному в эполетах:
— Ни одному из подлецов, кто остался жив, не должно быть пощады! Слышишь, Анатоль?! Ни одному! Гарнитур Жозефины Богарне! Ты понимаешь, Анатоль?!
— О да, да, дорогая, успокойся, пожалуйста! Не стоит волноваться. Все надежно застраховано. Береги нервы! Слава богу, все это дерьмо, — он брезгливо кивнул на труп, который солдаты волокли по мостовой к фургону, — наконец-то перебито! А от расправы ни один не уйдет!
Тело убитого коммунара дотащили до фургона, подняли за ноги и за руки, раскачали и швырнули на груду погруженных тел. Иссине-черная, с проседью шевелюра и борода, как у Эжена Варлена. Может быть, это он?..
Кто-то рядом с Клэр вполголоса сказал:
— Вчера в тюрьме Ла Рокетт их расстреляно тысяча девятьсот семь!
И внезапно у Клэр пропало желание идти в ресторан, с кем-то разговаривать, пить вино и танцевать. Стараясь не оглядываться на мертвых, она повернулась и быстро пошла назад. Домой, домой! Ничего не видеть и не слышать! Открыла дверь своим ключом и, не снимая шляпы, взбежала по лестнице. И остановилась на пороге, изумленная.
В гостиной, перед огромным, от пола до потолка, трюмо, подбоченясь и вызывающе закинув изящную головку, стояла Софи в одном из любимых платьев Клэр — голубой шелк с прострочками из парчи по рукавам.
— Что ото значит, Софи?! — Клэр задыхалась от негодования.
Горничная растерянно обернулась, лицо ее покрылось пунцовыми пятнами.
— Но, мадам… Вы же сказали: до вечера…
— Ах ты дрянь! Снимай сейчас же… И чтобы ноги твоей в моем доме больше не было!
Красивое, четко очерченное лицо Софи стало, как всегда, чуточку ироничным.
— Слушаюсь, мадам. Я и сама собиралась просить вас о расчете. Вы же знаете: меня давно, еще до Коммуны, сватал весьма состоятельный человек. И не раз приглашал убирать его квартиру кюре Бушье. По правде говоря, мне было совестно огорчать вас своим уходом, — вы же сами ничего не умеете делать, не так ли?.. Я ведь и кулинарка неплохая, да? А мосье Бушье, вероятно, будет небезынтересно узнать кое-какие подробности… Как вы полагаете, мадам?
Такого гнусного шантажа от Софи Клэр никак не ожидала, не считала ее способной на низость. С брезгливым презрением смотрела она на служанку, а та улыбалась, как женщина может улыбаться лишь поверженной сопернице.
— Уж вы извините, мадам, что я примерила ваше платье! Мне всегда нравился этот фасон, я обязательно сошью себе такое же!
— Можешь убираться в нем! — сквозь зубы бросила Клэр. — Неужели ты думаешь, что я надену его после тебя?
— А почему бы и нет, мадам? Но если вы уж так щепетильны, мадам, то должна вам сообщить по секрету, что вам тогда следует отдать мне по крайней мере половину вашего гардероба. Надеюсь, вам понятна причина? Вы так долго носили траур! И потом: разве я так уж плоха по сравнению с вами? Я на десять лет моложе вас, и мужчины никогда не упускали возможности… Клянусь мадонной! Даже покойный мосье Деньер…
— Что-о?!
У Клэр помутилось и поплыло перед глазами, она оперлась рукой о стену, чтобы не упасть.
— Грязная, мерзкая девчонка! — задыхающимся шепотом пробормотала она. — Вон из моего дома! Я жалела тебя, кормила и поила, а ты… Вон!
Софи поклонилась с той же язвительной ухмылочкой.
— Я с радостью покину ваш притон, мадам Деньер, где всегда находили сердечный прием всяческие подозрительные личности. Надеюсь, хромоногого коммунаришку подстерегут у вас, и тогда, мадам, я вам не позавидую…
— Вон, вон! Ты все лжешь. Мой муж был безупречнейшим человеком, а служителям церкви запрещено иметь прислугу женского пола.
И снова Софи снисходительно улыбнулась.
— Неведение часто спасает нас от многих неприятностей, не так ли, мадам?
— Вон! — бессильным шепотом повторила Клэр. Через четверть часа Софи навсегда покинула дом мадам Деньер, а Клэр, отдышавшись, достала мешок Луи, набитый рукописями и тетрадями, растопила камин. И, сидя перед ним, снова принялась перебирать, перелистывать так неожиданно доставшееся ей наследство братьев Варлен. Да, большую часть этого, вероятно, разумнее уничтожить, сжечь; заметки и стенографические записи Луи теперь никому не нужны, а ей, Клэр, могут принести неприятности.
Огонь в камине разгорался, но Клэр медлила бросать что-нибудь в пламя, — так ушло бы навсегда из ее жизни само напоминание об Эжене Варлене, отвергнувшем ее красоту, ее любовь. Ну что же, значит, не суждено. И не надо плакать, Клэр, все пройдет, все заживет, все зарубцуется…
Сидя перед пылающим огнем, она перебирала бумажки, исписанные Луи и Эженом, признаваясь себе, что многого в них не понимает, как не могла до конца понять смысла того, что делал Эжен, на что тратил силы… Она вруг вспомнила, как однажды, еще в самом начале их знакомства, он, разоткровенничавшись, читал ей «Безумцев» Беранже, читал с особенной страстью, с таким чувством, что у нее, весьма далекой от идей и мыслей Беранже, буквально захватывало дух… Да, безумцы, поистине безумцы! Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой, — так, кажется? А зачем тебе сон, зачем тебе боль за других, когда тебе самому все дано, когда счастье рядом?
В одной из дневниковых тетрадей Луи она обнаружила фотографию Эжена, он был снят в большой группе, стоящей у подъезда двухэтажного дома, а под снимком карандашом написано: «1869. Базель. Четвертый конгресс Интернационала». На этом групповом снимке Клэр с трудом разыскала Эжена. Но в той же тетради, через несколько страничек, наткнулась на вторую фотографию, на ней Эжен был снят один, крупно, и это, вероятно, был снямок как раз той поры, когда он впервые пришел к ней в мастерскую. Удивительные все-таки у него глаза, такие живые и острые и в то же время такие добрые; не зря говорят, что глаза — зеркало души. Да, конечно, он и был добр…
И бросить эти фотографии в огонь Клэр но смогла. Да, собственно, чего ей бояться?! Если даже Софи пойдет и донесет на нее, то вряд ли жандармы решатся вломиться к ней с обыском, у нее есть весьма и весьма сильные покровители. Надо только понадежнее спрятать то, что она не смогла сжечь.
Дверной молоток внизу робко стукнул три раза. Вскочив, Клэр напряженно прислушалась: не почудилось ли? Но через полминуты стук повторился. Быстро затиснув в мешок тетради и бумаги Луи, Клэр спустилась в переднюю, ноги у нее подкашивались. Неужели Луи? А вдруг жандармы? Вдруг Софи уже успела кое-кого повидать и донести?
— Кто там? — спросила Клэр, не открывая двери.
— Это я, мадам Деньер.
Да, Луи! И Клэр, чуть помедлив, открыла дверь. Быстрым взглядом через плечо Луи она оглядела улицу, — нет, слава богу, жандармских треуголок не видно, а улица, как и утром, живет, бурлит.
— Входите быстрей!
— Я не один, мадам…
И только тут Клэр увидела стоявшую позади Луи по-деревенски одетую девушку, с открытым загорелым лицом, с большими синеватыми глазами, затаившими и просьбу, и ту стеснительность, какую Клэр всегда замечала в выражении лиц провинциалок.
Клэр пропустила неожиданных гостей в переднюю, закрыла и заперла на засов дверь. Теперь, кто бы ни стал стучать, она не откроет, не отзовется, — ее просто нет дома!
— Это моя невеста, мадам Деньер, — сказал Луи после некоторого молчания. — Ее зовут Катрин.
— Да? Катрин — хорошее имя.
Здесь, в полусумраке прихожей, она увидела, что девушка предельно истощена, разглядела глубоко ввалившиеся глаза и щеки, худенькие, тонкие, но загрубевшие от работы руки.
— Видите ли, мадам… У Катрин вчера умер дедушка. А их дом в Вуазене сожгли боши. Она здесь совсем одна, ей нужно немножко передохнуть, а потом она подыщет себе работу…
— А что ты умеешь делать, Катрин? — спросила Клэр.
— В деревне я умела делать все, мадам, — с робкой, но милой улыбкой ответила девушка. — И в поле, и на винограднике, и по дому… все, что потребуется.
Клэр осторожно взяла Катрин за руку.
— Какая ты худая! Ты, наверно, долго голодала?
— О да, мадам! Мы с дедушкой голодали всю зиму и всю весну… Позавчера я продала флейту дедушки Огюста. И больше ничего не осталось.
— Мадам Деньер! — набравшись смелости, чуть громче сказал Луи. — Не позволите ли вы Катрин полежать в каморке на… той постели?
Клэр поняла: он хотел сказать «на моей», но вспомнил, что это вовсе не его постель.
— А вы, Луи? Снова уйдете?
— Да, мадам. Я должен найти брата.
Клэр незаметно, но с облегчением вздохнула.
— Но тебе, миленькая Катрин, прежде всего нужно хорошо поесть! — решительно сказала она. — И потом… знаете что?.. Луи! Софи надерзила мне, и я прогнала ее. Катрин сумеет постирать, погладить, помыть пол?
— Конечно, мадам, — с гордостью откликнулась девушка.
— Тогда… Хочешь остаться у меня служанкой?
Катрин и Луи переглянулись с такой радостью, что Клэр и сама не удержалась от улыбки.
— Пойдем наверх, Катрин! Я покажу тебе комнату, где ты будешь жить.
Полуобняв Катрин за тоненькую талию, Клэр помогла ей подняться по лестнице, а Луи, обессиленно прислонившись к стене, со слезами на глазах смотрел им вслед. Он знал, что оттуда, сверху, Катрин обязательно оглянется на него и улыбнется. И не ошибся…
«СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ!»
Собственно, идти Эжену было некуда. Решение не ходить в мастерскую Деньер созрело как бы само собой, помимо его воли, — появившись там, он может лишь повредить и Малышу, и Клэр… Нет, совершенно незачем, Эжен! Луи достаточно умен и в курсе всех твоих дел, чтобы правильно оценить обстановку и понять, какую важность для жандармов и опасность для самого Луи и для сотен других людей таят в себе спасенные им документы! Если даже Луи не решился уничтожить их до сих пор, что ж, в доме Деньер они, пожалуй, подвергаются наименьшей опасности. Достаточно умная и расчетливая, больше всею дорожащая своей собственностью, Деньер сохраняла лояльность и по отношению к Коммуне, и по отношению к ее врагам и палачам! Да, каждому свое, дорогой мои, — так, кажется, утверждается в одной из мудрых книг, которую когда-то столь настоятельно рекомендовал тебе изучить кюре Бушье…
Да, закопают в общие могилы, засыплют негашеной известью или сожгут где-то на пустырях, облив нефтью пли керосином, мертвецов Коммуны; под трагическое рыдание оркестров, с воздаянием воинских почестей предадут земле прах титулованных и нетитулованных палачей Коммуны, навешают новеньких орденов оставшимся в живых, погасят пожары… И Клэр Деньер снова станет переплетать снискавшие себе мировую славу творения писателей, причисленных Академией к «бессмертным» преподнесет оглупленному читателю бранчливую пачкотню угодливых писак, тех, кто, забыв о правде и чести, примется воспевать политиканов, которым удастся взобраться в сенаторские и пэровские кресла, а то и выше. Мало ли бродит по стране недоучек капралов, тайно тискающих маршальские жезлы в потрепанных солдатских ранцах из тюленьей кожи?.. О, они обязательно появятся, незваные «благодетели и спасители родины», готовые распродавать ее направо и налево!
— Благословите, отец!
Дрожащий старческий голос оторвал Эжена от тягостных раздумий, привел в себя. Он снял темные очки, рассеянно огляделся. Сизый дым струился над Сеной, по которой плыла горящая канонерка, неуправляемая, без единого человека на борту, с красным флагом на мачте, плыли тела, обгорелые листы бумаги, гвардейские кепи, еще не успевшие намокнуть и утонуть.
Перед Эженом стояла крохотная сморщенная старушка в косо надетом черном истрепанном чепце, в засаленной, заплатанной жакетке. Одна из ее рук, молитвенно сложенных и прижатых к груди, была в крови.
— Что вам угодно? — участливо спросил Эжен.
— Благословения прошу, благословения и отпущения грехов. Потому что близок мой смертный час. А церкви либо во пламени, либо разбиты, либо заперты. Зашла к святой Мадлен, а там мертвецы горой навалены. А вас, по лицу вижу, тоже гнетет скорбь, вот и решилась попросить последнего напутствия…
Она стояла перед Эженом, горестно согбенная, притиснув к груди старческие, сморщенные руки, пристально всматриваясь в его лицо угольно-горящими глазами, полными отчаяния. И было в ней, в этой старушке, что-то и от матера Эжена, и от молодых женщин-коммунарок, убитых позавчера на баррикаде площади Бланш, и отмиллионов других женщин Франции, кому выпало пожизненно мучиться и страдать.
— Вы ранены? — с тревогой спросил Эжен, показывая на красную от крови руку старухи. — Давайте перевяжу. У меня должен быть платок…
Она на мгновение опустила глаза и сейчас же испуганно вскинула их.
— Кровь? — переспросила старуха и, подняв руку к лицу, поцеловала коричневое пятно. — Так это не моя, а Жюля, внучонка. Отца его прусские драгуны шашками на куски изрубили. Второго моего сынка в плену, в проклятом Сатори, свои же, французы, мученической смерти предали, а внучок… — Она с суеверным ужасом оглянулась на переулок, где возле горящего дома толпились люди, краснел пожарный насос, громоздился темно-желтый мебельный фургон, бряцали оружием красноштанные солдаты. — Вон там… — продолжала она шепотом, — Жюля-то в Национальную гвардию не взяли, молод, говорят, не дорос, ну и определили в пожарники, дома от снарядов гасить. А платили все равно, как и гвардейцу национальному, тридцать су в день! — Это она добавила с гордостью и даже выпрямившись, словно позабыв вдруг и о мертвом, и о самой себе. — А ему-то и четырнадцати не стукнуло…
— Так за что же его убили? — как можно мягче спросил Эжен. — Он же доброе дело делал…
— Доброе? Известно, доброе… — Старуха сердито подняла седеющие брови. — А капрал солдатский орал, что коммунарские пожарники все — враги Франции, что они не водой заливают огонь, а, наоборот, разжигают! Словно бы в бочках и трубах у них не вода налита, а какой-то керосин проклятый… Ну и приставили всех шестерых к забору, и капрал кричит сам не свой: «Бей, стреляй коммунарских поджигателей!» Никто и не поверил поначалу, что он всерьез командует. А красные штаны и впрямь выстрелили. Так все шестеро и попадали один за другим. Я кинулась к Жюлю, к внучонку, подумала: а вдруг живой, дотащу, дом наш рядом. А если и убитый, соседа попрошу из стола да скамеек гробик сколотить, чтобы все по обряду… А капрал меня тык кулаком в грудь: «Брысь! Брысь, крыса старая! Или следом за внуком-петролейщиком хочешь?» Уцепилась я за рубаху Жюля, ну да разве их осилишь? Дюжие! Голода, видать, осадного ее ведали! Отпихнули к стене, упала я. А мертвых в фургон, ровно падаль, покидали. Крикнули: на кладбище везите! Ну вот я и жду, в какую сторону тронут, может, добегу следом, гляну на родного прощальный раз. Так что благослови, отец, Иисуса ради.
Рука, в которой Эжен держал очки, поднялась сама собой, но он тут же опустил ее.
— Нет на мне сана, мать! Не дано мне молить бога за чужие грехи и отпускать их. — Хотел добавить, что и бога нет ни на небе, ни на земле, но не повернулся язык: пусть тешится старая.
— А у тебя, милый, на лице великая мука написана, видно, истинно скорбишь! По муке такой тебе и без сана грехи отпускать положено. Человечий-то сан на всех нас есть! — убежденно и с силой возразила старуха, впиваясь в лицо Эжена темными сверлящими глазами. — Человечий сан, он, милый, святее святых. По совести говоря, я к нашему толстопузому кюре пятый год на исповедь не хожу, не нужна мне ни молитва его, ни отпущение грехов. Про него много плохого говорят!.. Ну, дай руку тебе поцелую за муку, которую носишь в себе…
И что-то вдруг укололо в сердце: узнала! Мог поклясться чем угодно, впервые видел ее вот так близко. Но ведь сотни и сотни раз выступал на митингах и собраниях, на площадях и в «Мармит», в церквах, превращавшихся по вечерам в клубы.
— Вы меня знаете? — негромко спросил он.
— А как же, миленький! — торопливо закивала она. — Ты из коммунаров, из самых главных… Как звать не упомнила, память совсем плохая стала. А лицо помню. Три раза слышала, как ты говорил. И всегда справедливые, верные слова были! Вот когда Коммуна вещи нам из ломбардов велела бесплатно отдать. Все же наше барахло с зимы в закладах лежало, — ни обуть, ни одеть нечего… И за квартиру хозяевам чтобы не платить, от вас же, от Коммуны, отсрочка приказом вышла. И суп дешевый в «Мармит» каждый день мне Натали наливала…
— Натали? Лемель?
— Вот-вот, она самая. И внучонку моему, несмотря что маленький, полтора франка в день…
— Эге-ей! — зычно скомандовал в переулке мужской голос, и толпа вокруг горящего дома расступилась, пропуская фургон.
Старуха оглянулась, и в успокоившихся было глазах снова возникло отчаяние. И, сразу позабыв и об Эжена, и о том, что ждала от него благословения и отпущения грехов, с неожиданной резвостью, но чуть не падая, наклоняясь всем телом вперед, побежала за тронувшимся фургоном, — он повернул в сторону Сены, к мосту Александра. Значит, подумал Эжен, если не пошвыряют в Сену, повезут на Монпарнасское кладбище.
Со жгучим чувством жалости смотрел он вслед старуxe… Да, и ради таких вот несчастных старух, как и ради тысяч других обездоленных, создали мы Коммуну, ни разу не согрешив против совести, служили ей… Но так ничтожно мало успели мы сделать, почти ничего! Мы ощупью шли среди руин Империи, ища собственную, никем до нас не проложенную, не найденную дорогу. Все приходилось создавать заново, искать форму народного управления… А что умели переплетчики, граверы, литейщики, бронзовщики? На их плечи обрушились заботы о городе с миллионным населением: накормить, напоить, одеть… А денег, этих проклятых луидоров и франков, нет! Ратушу и мэрии округов осаждали голодные, оборванные, потерявшие кров женщины, старики, дети… Мы усыновили детей погибших в боях и замученных версальцами в Сатори национальных гвардейцев, но тысячи других бездомных ребятишек скитались по улицам и площадям… Мы заставили ростовщиков и ломбардщиков выдать беднякам заложенные ими пожитки стоимостью до двадцати франков! Да, да. Это была нужная, необходимая мера, старуха права!.. Но ведь это капли в море, в океане нужды… Мы только нащупывали свои пути, мы еще только учились управлять таким сложным и огромным… Упразднили армию, заменили ее Национальной гвардией, но ведь и ее необходимо и кормить каждый день, и обуть, одеть… Мы оторвали попов-пиявок от народа и от школы, но этим и ограничились… А они, бывшие чиновники Баденге, попы и торгаши, хозяева фабрик и мастерских, из тех, кто не сбежал в Версаль, все они затаились, и все с камнем за пазухой… Они мешали каждому шагу Коммуны, радовались каждой ее неудаче… А свора Тьера быстро нашла общий язык с Вильгельмом, аплодировала ему в Золотой галерее Версаля, когда на его голову водружали корону… Ах, как мало, как ничтожно мало успели мы сделать, только начинали…
И, сам не зная зачем, не отдавая себе отчета, Эжен тоже направился к мосту. Догорал Париж, всплески пламени все еще бушевали в Ситэ, за серой громадой Консьержери, вихри дыма и черного бумажного пепла, пронизанные пляшущим светом, кружились над Дворцом правосудия, невидимым за зданием тюрьмы.
На мосту Эжен неожиданно обнаружил, что идет, так и неся в руке очки Марии Яцкевич. И вдруг странное спокойствие овладело им, захотелось размахнуться швырнуть очки за перила, — к черту маскарад, который ничего не может ни изменить, ни спасти! Но, уже размахнувшись, почувствовал кожей лица тепло пальцев Марии, и рука опустилась сама собой. Он спрятал очки в карман. Эти очки да подаренные когда-то товарищами часы с выгравированной Бурдоном надписью — вот, пожалуй, все, что у него осталось от прошлой жизни! И не надо изменять прошлому!
Патруль на мосту не задержал Эжена, не остановил, — перевесившись через перила, солдатня с интересом всматривалась в канонерку, на корме которой на виселице из трех поставленных шалашом бревен мерно покачивалось тело в кепи с золотыми галунами. Командира легиона, коммунара, повесили на его коммунарском шарфе. Кто он — Эжен разглядеть не мог, голова повешенного опущена на грудь, лицо в грязи и потеках крови…
Перейдя мост, машинально свернул в сторону Латинского квартала, улицы и переулки которого так хорошо изучил за почти два десятилетия жизни здесь. Всюду развевались трехцветные флаги, шлюхи в трехцветных платьях, стоя в каретах в обнимку с офицерами и ликующими буржуа, проносились по улицам; выдвинутые на тротуары бульваров столики были окружены радостно возбужденными людьми.
Со стороны Люксембургского дворца и сада конвой то и дело гнал по середине улицы толпы осужденных, из доносившихся до Эжена слов было ясно, что там, в Люксембурге, заседает около десяти трибуналов. Но непривычное успокоение сошло на него, он уже вполне готов был принять ожидавшую его участь.
Но вдруг… Окруженный двумя десятками жандармов с саблями наголо, в разодранном сюртуке и такой же сорочке, но с неизменной сигарой во рту, бесстрашно и презрительно щурясь сквозь пенсне на беснующуюся у столиков толпу, навстречу Эжену шагал Теофиль Форре, бывший председатель Комиссии общественной безопасности Коммуны. Он был спокоен, но кровавый шрам на лице подчеркивал и усиливал всегдашнюю бледность окруженного смоляной бородой лица. Кто-то рядом с Эженом в толпе на тротуаре кричал, что Ферре выдала полубезумная мать.
Когда явились арестовывать Теофиля, его не оказалось дома, больная сестра лежала в жестоком приступе лихорадки, по жандармскому офицеру ласками и уговорами удалось вызнать у старухи матери адрес, где скрывается сын… И вот его ведут…
Со всех сторон в Ферре летели обломки кирпичей, випные и пивные бокалы, кто-то через головы жандармов пытался дотянуться до его лица тростью. Но жандармы, не спуская с плеч обнаженных клинков, тщательно оберегали жертву от неистовства толпы, — Ферре, одного из самых ненавистных Версалю коммунаров, ждала куда более жестокая и мучительная смерть.
— Теофиль! — закричал Эжен и с внезапно появившейся силой принялся расталкивать толпу. — Ферре!
Несмотря на шум и гомон улицы, Ферре услыхал, услыхал, может быть, потому, что среди жестокого воя, сопровождавшего его, голос Эжена был единственным человеческим голосом. Ферре оглядел толпу и сразу же увидел Эжена, глаза его строго и предупреждающе блеснули, словно приказывая: «Стой! Ни с места!» Но Эжен все пробивался сквозь давку — к счастью, его слов никто не мог разобрать в многоголосом реве. И когда Ферре увидел, что Эжен настойчиво пытается пробиться к нему силой — бессмысленное, ненужное самопожертвование! — Ферре выхватил изо рта дымящуюся сигару и, захохотав, ткнул ею в лицо ближайшему жандарму.
Началась невообразимая свалка, Ферре повалили на землю, скрутили назад руки. Эжена прижали к газовому фонарному столбу, именно это помешало ему упасть и быть растоптанным. Он смотрел, как уводили Ферре, без шляпы и сигары, с растрепанными черными волосами, с разбитым в кровь лицом.
— Таких нужно не расстреливать, как военных преступников! — надрываясь, кричал кто-то над ухом Эжена. — Их надо поджаривать на медленном огне, живьем сдирать с них кожу!
Вот тогда, оглянувшись на сытое, упитанное, багровое от крика лицо, Эжен по-настоящему почувствовал всю силу своей ненависти к буржуа, пережившим, опрокинувшим Коммуну. Он вспомнил, как, рискуя собственной жизнью, два дня назад пытался спасти на улице Аксо заложников, уводимых на расстрел, и как это не удалось ему. А ведь вполне возможно, что среди заложников, освобожденных Коммуной накануне ее окончательного разгрома, был кто-то и из этой беснующейся толпы, этих людишек, сейчас восторженно чокающихся бокалами и орущих во всю силу легких «Виват, республика!».
Да какое право имеет эта буржуазная сволочь пачкать своими грязными ртами святое имя Республики, какое имеет к ней отношение?! Нет, видно, был прав сегодня утром Артюр Арну, была когда-то права Луиза Мишель, как был прав только что уведенный на смерть Теофиль Ферре! Коммуна оказалась слишком мягкосердечной и наивной, в то время как на Саторийском поле под Версалем пленных федератов ежедневно убивали сотнями, в Люксембурге отправляли в «хвост» десяток за десятком, из-под железных ворот казармы Лобо тек в Сену ручей крови расстрелянных из митральез…
Эжен выбрался из толпы, дошел до ближайшего сквера и, вытирая со лба холодный пот, присел на садовую скамью у мраморной чаши фонтана, посреди которой резвились в простовато-изящном танце фавн со свирелью в руках и молоденькая пастушка, кокетливо приподнявшая подол платья. Эжен видел их смутно, словно сквозь дым…
А колокола над Парижем не уставали греметь победную песнь. Где-то в ресторане неподалеку бесновалась плясовая музыка, кто-то пьяным голосом орал: «Ах, Катрин, Катрин, я жадно жду тебя, милашка, в моей постели…»
Ага, Катрин! Вот что еще все время хотелось вспомнить. Остались ли они с дедом Огюстом живы при захвате пруссаками родного Вуазена, суждено ли встретиться Луи и Катрин? И если встретятся, как сложится их жизнь? Ведь Луи обо всем думает так же, как и ты, Эжен, это ты привел его в свою веру, и если он останется жив, он не откажется от борьбы. Кто это говорил, что семена правды более живучи, нежели семена плевел и зла? Нет, не помню…
Но как бы ни сложился дальше жизненный путь Луи, если ему удастся сейчас ускользнуть от расправы, он, конечно, не пойдет по пути Прудона! Если бы покойный Пьер-Жозеф дожил до нынешней кровавой вакханалии, он и сам, вероятно, отрекся бы от благостных призывов к миру между жертвами и палачами, между волками и овцами. И путь «вечного узника» Огюста Бланки вряд ли привлечет Малыша. Так что же остается, Эжен?.. Доктор Маркс, да?..
От путаных, метавшихся мыслей Эжена отвлекло внезапно возникшее беспокойство, оно исходило откуда-то извне и мешало сосредоточиться, решить что-то последнее, что еще предстояло решить. Может, его томило неясное, тайное желание дождаться ночи и под кровом се багровой от пожаров полутьмы спуститься в последний раз к берегу Сены? Чем не выход? Ведь никто не узнает, что трагическое решение он принял сам, никто из оставшихся в живых друзей не осмелится упрекнуть его в трусости… Но он с презрением отогнал эту мысль.
Беспокойство не покидало Эжена, он неспешно, с усилием поднял голову и огляделся. На какой-то из башен пробило три. Рю Лафайет по-прежнему шумела сотнями голосов за столиками кафе, грохотали колеса карет и экипажей, откуда-то доносилась бравурная мелодия оркестра, перезванивались колокола…
Сквер был почти пуст, но на противоположном краю скамьи, где сидел Эжен, пристроился мужчина и, сложив на набалдашнике трости руки, с торжествующим и напряженным вниманием разглядывал Эжена. Худое, изможденное лицо показалось Эжену знакомым, но он не сразу узнал кюре Бушье. Тот, прежний, из какой-то давным-давно забытой жизни, пастор был всегда свеж и розов, словно яблочко из сада в августовскую пору, я губы у него никогда не привила такая язвительная и победно-торжествующая улыбка. Тот Бушье, из прежней жизни, даже в часы самых яростных словесных схваток с Эженом, даже грозя грешнику бесконечными муками ада, не позволял себе сбрасывать маску человеколюбия и благочестия, приличествующих сану служителя господа бога. Может, перемена объясняется тем, что на Бушье была не сутана, а обыкновенный гражданский костюм?..
Эжен не стал мучить себя поисками ответов, он просто сидел и смотрел в торжествующее лицо священника. Так прошли две или, может быть, даже три нескончаемо долгие минуты.
— Вы узнаете меня, коммунар Варлен? Бывший коммунар Варлен?
Эжен не ответил. Он медленно вскинул взгляд и долго смотрел в небо поверх красных черепичных крыш, поверх шпилей и куполов соборов, — там кое-где, в просветах между клубами дыма, синел нежный перламутр майского неба. Эжен вдруг с тоской и горечью вспомнил, как они с Малышом ходили в мастерскую надгробий выбирать недорогую, но приличную мраморную плиту для старика Эме! Они с братом облюбовали плиту, договорились о цене, но за суматохой последовавших событий так и не довели дела до конца. Больно кольнуло сердце: не отдал ты, Эжен, последнего долга отцу, так могила старика и останется простым земляным холмиком, на котором, наверно, уже пробилась первая зеленая травка… Да, многого не успел ты сделать в жизни, перед многими остался в долгу…
И словно из какой-то далекой дали, из другого мира донесся до него голос Бушье:
— Вы не желаете со мной разговаривать, господин бывший коммунар? Вы, видимо, забыли, что именно благодаря вам мое имя оказалось в списках заложников, что именно вы ввергли меня в ужасные казематы Мазаса и Ла Рокетт? — Бушье подождал ответа и, не дождавшись, саркастически усмехнулся: — Видимо, страх перед неминуемой расплатой лишил вас, гражданин Варлен, и памяти, и дара речи?
Не отвечая Бугаье и не глядя в его сторону, Эжен вслепую нащупал лежавшую на скамейке шляпу. Нет, он не надеялся уйти, да и не хотел этого делать, он прекрасно понимал, что двери жизни за ним захлопнуты навсегда. Но он не мог сидеть в непосредственной близости от этого «святого» служителя церкви. Он надел шляпу и встал.
— Но грех неизбежно наказуем! — тоже поднимаясь, с угрозой сказал ему в спину Бушье. — Когда-то в спорах со мной вы не раз пазывали мне количество сожженных святой инквизицией еретиков! Помните? Или предпочитаете не вспоминать о кощунственных обвинениях, которые вы осмеливались бросать в лицо матери-церкви?! А сколько крови нам пришлось пролить, чтобы покарать вашу безбожную Коммуну?! Опять молчите?..
Не отвечая, Эжен уходил в сторону от шумящей, ликующей рю Лафайет. Но сделать ему удалось но более пяти шагов.
— Господин лейтенант! — послышался сзади громкий, переходящий в визг крик Бушье. — Господин лейтенант! Вон идет один из главарей Коммуны, один из убийц монсеньера Жоржа Дарбуа. Его имя — Эжен Варлен!
Не оборачиваясь, Эжен остановился, и через несколько секунд чья-то тяжелая ладонь властно легла на его плечо.
— Ваше имя!
Эжен молчал.
Он с трудом различал перед собой румяное, розовощекое лицо, щеголеватые, пушистые усики, пристальные, холодно-беспощадные глаза.
— Ваше имя?
И так как Эжен продолжал молчать, лейтенант обернулся к проходившему неподалеку взводу, махнул рукой. Солдаты, повинуясь приказу офицера, подошли.
— Обыскать!
И через минуту десятки рук ощупывали карманы Эжена, все его тело. Бумажник, носовой платок, очки Марии Яцкевич, перочинный нож, часы — вскоре все оказалось в руках краснощекого лейтенанта.
Эжен наблюдал за происходящим безучастно, словно все это было не с ним и не имело к нему ни малейшего отношения. Открыв бумажник, краснощекий лейтенант старательно пересчитал деньги… Двести восемьдесят четыре франка… Так и не удалось тебе, Эжен, передать деньги Луи, переслать матери в Вуазен…
— Господин лейтенант! На часах — именная надпись! Да, часы, подаренные ему когда-то товарищами за победу в первой забастовке переплетчиков!
Чужие руки и так и сяк вертят самую дорогую и памятную для него вещь, отчетливый, но почему-то едва различимый голос читает вслух: — «Варлену — в знак признательности от рабочих-переплетчиков. Сентябрь 1864 г.».
— Это ваши часы?
— Да… мои.
— Прекрасно! Значит, вы действительно Эжен Варлен, руководивший после смерти Делеклюза сопротивлением?
Эжен молчал.
— Да или нет?!
Эжен молчал, глядя поверх крыш прощальным взглядом на багровые, словно окровавленные полосы дыма, на синие просветы меж ними. Да, прощай, жизнь, прощайте, мои дорогие, и живые, и мертвые! И все же ни о чем не надо жалеть! Помнишь, вчера, сидя вечером на обрыве Монмартра, ты говорил себе: «Никакая борьба с насилием, даже если она кончается поражением, не может остаться бесполезной…» Жаль только, что такие уроки даются человечеству слишком дорогой ценой…
Звериный рев сотен глоток как бы вернул его с неба на землю. С некоторым даже удивлением он оглядел собравшуюся вокруг него бесноватую толпу.
Он как будто и не чувствовал, как связывают ему наломленные назад руки, он как бы посторонним зрителем присутствовал при чьей-то казни в одном из парижских театров. И боли, физической боли не испытывал. Появилось ощущение огромной высоты, словно он откуда-то сверху смотрел и на самого себя, и на своих палачей.
Слов он но различал, видел лишь красные, распаленные ненавистью лица, искривленные криком рты и пену в углах губ, видел, как сверкали в прорвавшемся сквозь дым солнечном луче наполненные вином бокалы, звеневшие в честь — нет, не в честь! — а в ознаменование его гибели! Вспомнил, как в позапрошлом году, когда в Зоопарк впервые привезли купленного у Гагенбека льва, они вместе с Малышом ходили смотреть на могучего плененного зверя. Лев метался в клетке, а надежно защищенная решеткой толпа любовалась красавцем и владыкой Африки. Какой лютой ненавистью и какой жаждой свободы горели янтарно-огненные глаза зверя, с какой яростью разглядывал он людей перед решеткой. Эжен и Малыш стояли в стороне, отнюдь не любуясь муками плененного красавца зверя, а, наоборот, сострадая и сочувствуя ему! Они молча переглянулись и быстро пошли прочь.
Почему вспомнилась эта полузабытая сцена? Не потому ли, что теперь он сам, Эжен, оказался подобен плененному и бессильному в своем гневе зверю, что и у него не оставалось даже мизерного средства отмщения пленившим его негодяям? Правда, у него оставалась гордость, бесстрашие и презрение — последние скорбные паруса, которые донесут его до недалекой гавани…
На несколько секунд внимание Эжена привлекло белое пятно в толпе окружающих его злобных багровых лиц. Бушье?.. Да неужели это лицо Бушье, минуту назад выдавшего его, отдавшего на самосуд? Эжену казалось, что там стоял совершенно иной человек! Что-то изменилось в рисунке, в выражении лица, мииуту назад исполненного жажды кары. Что? Их взгляды столкнулись всего на мгновение, но и мгновения оказалось достаточно, чтобы Эжен почувствовал себя победителем, он, а не служитель господа бога Бушье, благостный и праведный, он, Эжен Варлен, которого через несколько минут растерзают и вобьют каблуками в землю…
Но нет, не скорой смертью было суждено умереть коммунару Варлену, мечтавшему о справедливом переустройстве мира! Кто-то сильным ударом трости сбил с его головы шляпу, и на лбу появился первый кровавый рубец. Следом кто-то швырнул в него пустой бутылкой. Она ударила с такой силой, что, если бы окружавшие пленника солдаты но поддержали Эжена, он упал бы. Бутылка попала прямо в лицо, выбила глаз.
На какие-то доли секунды это удовлетворило жестокость толпы, но выбитый глаз был виден не всем, стоящие вдалеке продолжали кричать:
— Смерть! Смерть!
Краснощекий лейтенант, видимо, еще не полностью овладевший искусством убивать подобных себе, испугавшись, что не сможет остановить ярость толпы, растерянно оглядывался. Он, конечно, знал, какая крупная дичь попала ему в лапы, какая его ждет награда. Или, может быть, боялся ответственности, если не остановит самосуда? К счастью, неподалеку показался еще взвод солдат, и лейтенант взмахом руки подозвал их. Эжена окружили плотной стеной.
И последний раз вскинув взгляд, уже смутно видя, почти не различая лиц, Эжен вэдрогнул и едва слышно спросил:
— Малыш? Ты?..
Да, в десятке шагов от него, в месиве багровых человеческих физиономии мелькнул разинутый в неслышном крике рот брата, побелевшие от ужаса глаза и губы. Что кричал Луи, разобрать было невозможно, ни одного слова. Эжен как будто различал мелькавший над головами людей костыль. Луи колотил по головам, по плечам, по всему, что попадалось под удар. И его тоже били и тащили куда-то появившиеся на шум жандармы! Гаснущим сознанием Эжен понимал, что Малыш пытается заступиться за него, сам лезет на верную гибель.
Последним усилием воли Эжен снова вскинул голову, и то ли ему почудилось, то ли он действительно услышал голос Луи:
— Бра-а-ат!
В эту минуту кто-то снова швырнул через плечи солдат чем-то жестким Эжену в лицо, и он потерял сознание.
А когда пришел в себя и глянул туда, где только что белело лицо Луи, там лишь колыхались ненавистные треуголки жандармов…
Толпа, окружавшая Эжена и его конвоиров, полностью запрудила улицу Лафайет, стоявшие вдалеке, чтобы лучше видеть, карабкались на карнизы домов и подоконники, влезали на стулья и столики кафе. Казалось, нет сил остановить толпу, остановить расправу над пленным.
Преодолев замешательство, лейтенант выхватил из кобуры пистолет и выстрелил в воздух. Крики стихли, вероятно, многие предполагали, что лейтенант просто убил Эжена, представление окончено и смотреть больше нечего.
Но Эжен Варлен все еще стоял на ногах, поддерживаемый солдатами с обеих сторон, по лицу его текла кровь.
— В чем дело? — возмущенно крикнул в лицо лейтенанту пожилой человек с серебряной звездой на груди. — Почему вы щадите негодяя?!
И, поднимая голос до крика, угрожающе размахивая пистолетом, лейтенант ответил:
— Категорический приказ генерала Галифе и адмирала Сиссе! Коммунаров расстреливать на том месте, где они восемнадцатого марта убили Лекоита и Клемана Тома! Я выполняю приказ моих командиров. В случае непослушания прикажу солдатам открыть огонь! Очистить дорогу!
Из толпы закричали:
— На Монмартр его! На pю Розье!
И кто-то подхватил с визгливым смешком:
— Да и рано убивать! Надо поводить! Помучить! На Монмартр его!
…Так исполнилось жестокое предсказание кюре Бушье. Через два долгих часа, проведя, протащив Эжена чуть ли не по всему Парижу, конвой и не отстававшая от него более чем трехтысячная толпа привели пленнику на вершину Монмартра. И здесь метрах в пятидесяти от дома номер шесть, на перекрестке улиц Лабонн и Розье, Эжена Варлена, совершенно обессилевшего, прислонили к стене и убили выстрелами в упор. И, уже лежа на земле, смертельно раненный, он приподнялся на локте и крикнул:
— Да здравствует Коммуна!
Бушье стоял на противоположной стороне улицы, и, когда все окончилось, лейтенант конвоя увидел и узнал его. Отпустив солдат, лейтенант подошел к Бушье, козырнул.
— Мосье! Я лейтенант шестьдесят седьмого линейного полка, моя фамилия Сикр. Я должен представить моему командиру рапорт о состоявшейся казни и прошу вас засвидетельствовать события рапорта. Не будете ли вы так любезны зайти со мной хотя бы в это кафе? Я не задержу вас…
Следом за лейтенантом Сикром Бушье вошел в кафе, молча присел к столику. В лице у него не было ни кровинки, и он не мог произнести ни слова.
Сикр попросил у владельца кафе чернила и, достав из своей походной сумки бланк рапорта, заказав стакан вина, принялся неторопливо, по-ученически старательно писать. Хозяин кафе поставил стакан вина и перед Бушье. Вино было цвета крови. Бушье невольно глянул в окно, — на той стороне улицы толпа вокруг неподвижного тела Эжена редела, кое-кто, проходя мимо, пинал мертвого ногой. Глянув почти с суеверным ужасом на стоявший возле его руки стакан, Бушье так резко отодвинул его, что стакан опрокинулся, и вино пролилось на стол.
— Не извольте беспокоиться, мосье! — готовно подскочил хозяин и принялся вытирать стол не особенно чистой салфеткой. — Прикажете повторить, мосье?
Бушье отрицательно покачал головой. Он пристально смотрел на перо лейтенанта Сикра, читая слово за словом, повторяя про себя, словно ему предстояло запомнить их на всю жизнь.
«Господин полковник!
Имею честь донести, что сего 28 мая, воспользовавшись разрешенным мне отпуском, я отправился в лазарет на улице Сен-Лазар, 90, навестить раненного 19 января с. г. офицера, капитана Дарио из Рокфиксада в Арьеже. На улице Лафайет ко мне обратился человек в штатском с орденом Почетного легиона в петличке…»
Перо лейтенанта Сикра перестало двигаться по бумаге, лейтенант отпил полстакана вина и спросил Бушье:
— Простите, мосье! Назовите ваше имя.
Бушье не ответил. Лейтенант Сикр с удивлением поднял на него взгляд.
— Ваше имя, мосье? Это нужно для рапорта. И вам, разумеется, полагается награда. И уверяю: довольно значительная! Итак, ваше имя, звание, адрес?..
Бушье молча, с видимым усилием встал и, спотыкаясь, пошел к двери.
Он переходил улицу, направляясь к остановившейся на той стороне телеге, куда трое солдат поднимали мертвого Варлена. Но вот щелкнул бич возницы, телега тронулась, зацокали о камень подковы першеронов. Бушье стоял неподвижно и смотрел вслед.
— Ну и дурак! — негромко сказал лейтенант Сикр, обмакивая в чернильницу перо. И продолжал писать:
«…и попросил задержать неизвестного мне человека, назвав его Эженом Варленом и заявив, что это — бывший член Коммуны. Мосье, не назвавший себя, присовокупил, что был в свое время по настоянию Варлена арестован и сидел в тюрьме, пока существовал гнусный режим разбойников Коммуны.
Я поспешил исполнить обращенную ко мне просьбу. Варлен, видя, что я направляюсь к нему и что его узнали, пытался скрыться в направлении улицы Кадэ. Я схватил его силой и повел до улицы Лафайет, где мне на помощь подоспело несколько вооруженных солдат 3-го линейного полка.
Крепко скрутив Варлену руки ремнем за спиной, я повел его под надежной охраной к дивизионному генералу Лявокуне на Монмартр… Но так как схваченный отказался отвечать на вопросы, по приказанию генерала я в сопровождении солдат повел арестованного к забору сада, где 18 марта с. г. были убиты доблестные генералы Леконт и Клеман Тома. Толпа в 3–4 тысячи человек, присутствовавшая при казни, одобрила ее криками „браво“.
С совершенным почтением к вам, господин полковник, ваш покорный слуга Сикр, лейтенант 67-го линейного полка…»
Да, рапорт обещал немалую награду, и лейтенант Сикр, поскольку отпуск у него не окончился, позволил себе выпить еще два стакана вина.
Когда он вышел из кафе, начинало темнеть. Распарываясь о шпили соборов, по небу ползли дымы пожаров, кое-где полыхало пламя, розовые отсветы плясали на стенах. Гремела музыка, и не уставали трезвонить колокола, — видно, добровольные звонари то и дело сменили друг друга…
Остановившись на пороге наполненного посетителями кафе, лейтенант Сикр с удивлением всмотрелся. На скамейке возле одного из домов на той стороне улицы неподвижно ссутулилась чья-то фигура… Неужели тот самый дурак, который отказался от награды за поимку одного из главарей коммунаров?.. Ну и ну!
ЭПИЛОГ
…И снова цвел май. Снова раскачивались в теплых струях ветра белые и розовые свечи каштанов, пылали в садах и скверах огненно-красные тюльпаны, с яблонь и вишен уже успел облететь цвет, но молодая, еще не опаленная летним зноем листва нежно зеленела.
Привычно опираясь на самодельную суковатую палку, когда-то заменившую ему сломанный костыль, Луи шагал рядом с Делакуром по знакомым улицам, с щемящей горечью всматриваясь в когда-то знакомые дома, в лица людей.
Да, города, как и люди, умеют забывать пережитые ими трагедии, заживают, зарубцовываются раны. Париж позабыл голод и нищету двух бесчеловечных осад, ужасы той «кровавой майской недели», приукрасился, похорошел. Засверкали свежей облицовкой израненные снарядами и пулями дома, сверкало золото и серебро вывесок, зеркально играли под майскими лучами нарядные, набитые снизу доверху витрины. И так же ворковали под карнизами крыш голуби, так же кокетливо смеялись девушки и так же играли на лужайках в металлические шары мужчины в разноцветных жилетах…
Луи и Делакур шагали молча, лишь изредка перекидываясь незначительными словами, которые не передавали и не могли передать и тысячной доли того, что этим людям хотелось сказать друг другу. Луи, два часа назад приехавший в Париж с Бискайского побережья, все не мог прийти в себя, а старина Делакур, хорошо понимая состояние товарища, не торопился ни с рассказами, ни с расспросами. Все придет в свой час, в свое время. Каждый из них возвращался памятью к незабываемым дням, к грозным событиям, отгремевшим три года назад на отих улицах, к дорогим — и невозвратным! — теням прошлого.
Делакур сосал неизменную трубку, к которой пристрастился с недавних пор, а Луи, ни на секунду не забывая о погибшем брате, с жадностью вдыхал воздух чистый и хмельной после трехлетнего мрака и смрада понтонов, где осталась погребенной часть его жизни…
Они шли по рю Риволи. И здесь все искрилось и сверкало. Париж вернул себе и звание и прелесть первого города, прекраснейшей столицы мира, созданной гением прославленных одиночек и миллионами рук безымянных тружеников, которым именно Коммуна стремилась дать возможность насладиться всеми радостями жизни. Что ж, Коммуна не устояла…
«Все вернулось на круги своя!» Лишь за коваными узорчатыми решетками Тюильри, где когда-то возвышалось помпезное обиталище властителей Франции, шелестела на расчищенном пепелище зелень недавно высаженных молодых деревьев… «Да, город не изменился, но мы-то стали другими, — думал Луи, поглядывая по сторонам. — И я сам, и шагающий рядом со мной старина Делакур, и многие, многие другие… Дни Коммуны и трагические дни ее гибели не моли пройти для людей бесследно, на каждом сердце они оставили неизгладимую печать. В нас живет вера в будущую Коммуну с ее благородными мечтами и делами…»
Делакур, покуривая, украдкой присматривался к Луи, наблюдал за его отражениями в зеркальных стеклах витрин и распахнутых настежь дверей и до сих пор не мог прийти в себя от изумления, пережитого два часа назад, когда Луи перешагнул порог переплетной мастерской Делакура. Раньше, при жизни Эжена, Делакур не замечал поразительного сходства во внешности братьев, но теперь, когда Луи оброс бородой и черные кольца волос, с такой же, как у Эжена, ранней проседью на висках, прикрыли уши и шею, сходство стало пугающе неправдоподобным. После стука в дверь и ответного «Не заперто! Входите!» и Делакур, и Мари, сидевшие с дочками за завтраком, вскочили с места, словно на пороге их убогого жилья появилось привидение.
— Эжен! — крикнул Делакур.
И Мари, словно эхо, повторила за мужем шепотом:
— Эжен?
Они оба не видели, как убивали Эжена на улице Гозье, не знали, куда исчез Луи, — их потрясение было совершенно объяснимо.
И только тогда, когда Луи сделал два шга своей характерной, ковыляющей походкой, Делакур понял, что он и Мари обознались… Но и теперь, идя рядом с Луи, Делакур нет-нет да и поглядывал на своего спутника с чувством почти суеверного недоверия.
Они шли к дому мадам Деньер: Катрин продолжала жить и работать у нее, там же хранились спасенные Лун три года назад кое-какие документы Эжена и дневники самого Луи. Их надо было вызволить оттуда любой ценой, да и Катрин после возвращения Луи вряд ли захочет остаться там. Хотя кто знает, судьба и время иногда так резко меняют людей, их привычки, привязанности, убеждения! Может, за годы тюремных понтонных скитаний Луи Катрин успела превратиться во вполне современную парижскую девушку, тем более что, по словам Делакура, она стала на редкость хороша, «расцвела, ну прямо что твоя роза!»
Сидя за завтраком у Делакуров, Луи ни словом не обмолвился о своих чувствах к девушке-озорнице из провинциального Вуазена, а Делакур, хотя кое-что знал о прошлом семьи Варленов, не решался касаться деликатных тем. Ведь кто может угадать, как обернется дальше! Сам Делакур уволился из мастерской Деньер в прошлом году, когда Клэр вышла замуж за владельца одной из крупнейших типографий Парижа. Супруги объединили свои капиталы и дела, а Делакур, хотя и был искренно благодарен Деньер за то, что она спасла ему жизнь, уберегла, укрыв в своем доме от расправы, предпочел уволиться и сейчас брал работу на дом, где дочки и Мари по мере сил помогали ему…
Минован Лувр, друзья перешли по одному из мостов на левый берег Сены, ни о чем не сговариваясь, дошагали до рю Лафайет.
Сквер с мраморной чашей фонтана, где резвились фавн с дудочкой и улыбающаяся пастушка, существовал по-прежнему, но его недавно отремонтировали, фигурки пляшущих зачем-то покрыли серебряной краской. И та скамейка, на которой тогда сидел Эжен, стояла на прежнем месте, но и ее окрасили в ярко-зеленый цвет — сиденье и спинка сливались с разросшейся кругом листвой жасмина и акаций.
Луи остановился возле скамьи и долго молча смотрел на нее, на струи фонтана, на катающих разноцветные обручи нарядных девочек и их чопорную няню в туго накрахмаленном чепце, прятавшую седые букольки под желто-розовым зонтом.
— Это началось здесь, — глухо сказал Луи. Делакур молча кивнул.
— Я увидел их еще издали, — с усилием продолжал Луи. — Эжен разговаривал с каким-то пожилым мосье, но я не успел подойти. Они оба встали, и Эжена тут же окружили солдаты и моментально вокруг собралась толпа. Я кричал, рвался, кого-то ударил костылем по голове, меня схватили, а так как я продолжал сопротивляться, запихнули в тюремную карету… Потом жандармы узнали, да я и не скрывал этого, что я брат Эжена Варлена и одно время работал при Коммуне в Ратуше. Осудили и отправили на понтоны…
Площадку перед скамейкой недавно посыпали желтым песком, на нем отчетливо печатались следы детских башмачков и полоски от обручей.
— Здесь я видел его последний раз! — глухо сказал Луи, не в силах тронуться с места. — Вы знаете, Альфонс, он очень любил Беранже, особенно вот эти строки: «И нам улететь бы к теплыни, туда, где не зябнут зимой… морозами изгнаны ныне, вернутся все птицы весной»… Нет, не все птицы вернутся…
Делакур видел, что Луи готов разрыдаться, с грубоватой лаской и силой взял его под руку:
— Ну, ладно, Малыш! Эжен любил еще и такие слова своего тезки Эжена Потье: «Любви и равенства давно все ждет, все алчет, голодая! Но в землю брошено зерно, и жатва вызреет тройная!» Давай не терять веры!
Дом Деньер был недавно и роскошно отремонтирован, на фронтоне появились лепные украшения, над входом — фигурный, напоминающий корону стеклянный козырек в позолоченной оправе, и даже когда-то бронзовый молоток оказался позолочен. Луи невольно вспомнил робость, с которой три года назад прикасался ладонью к этому молотку. Что ж, спасибо мадам Деньер за то доброе, что она сделала для него, спасибо за спасенные документы Эжена, спасибо за Катрин. Сочувствие и сострадание, оказанные тебе в горестные, трагические дни, — разно их можно забыть?!
Постучал Делакур. Шагов за дверью не было слышно, но тяжелая, окопанная по краям бронзой дверь распахнулась сразу, словно за ней только и ждали этого стука.
На Катрин было отделанное кружевами платье и изящный фартучек, из тех, что обычно горничные носят в богатых и так называемых приличных домах. Она открыла дверь с заученной приветливой улыбкой, обрадованно поклонилась Делакуру, но вдруг увидела Луи, и лицо ее застыло, она ухватилась рукой за косяк двери. Нет, ее не обманула изменившаяся внешность Луи, может быть, потому, что в первую минуту она видела только его глаза, а в них отражалось все, что их когда-то сближало, делало дорогими друг другу. В выражении глаз Луи сквозила такая несказанная нежность и в то же время робость, вопрос, надежда, что оторваться от них было невозможно.
В глубине дома раздался властно-ласковый голос Клэр:
— Катрин! Ты не позабыла подозвать карету? Нам с Проспером пора.
И Луи увидел на лестнице мадам Клэр. Чуть касаясь перил, она спускалась по лестнице, а следом за ней шел мужчина с лихо закрученными нафиксатуареннымн усами и с тем выражением властности, важности и довольства на лице, которое присуще только богачам. На Клэр — темно-лиловое бархатное платье, на пышной груди — драгоценные украшения. Полуобернувшись к мужу, она что-то говорила, кокетливо и лукаво смеясь. Мадам мало изменилась за эти годы, только стала немного полнее.
Но вот Клэр, не слыша ответа онемевшей Катрин, глянула вниз и в ярко освещенном солнцем проеме двери увидела за спиной Делакура… Эжена!
Покачнувшись, она ухватилась обеими руками за перила, губы ее шевельнулись, произнося неразличимые слова.
Делакур шагнул через порог.
— Вы уж извините, мадам Денвер, — снимая шляпу, но, как всегда, с решительной грубоватостью сказал он. — Вот Луи когда-то оставил у вас кое-какие свои вещи. Он отбыл присужденный ему срок и хотел бы…
— Луи?!
Клэр истерически рассмеялась, растерянно оглянулась на мужа. Тот, отстранив жену, первым спустился в прихожую, с пристальной ненавистью всматриваясь в Луи.
— Если вас интересует судьба вашей малограмотной писанины, так я вам сейчас все объясню. Скажите спасибо, что я не передал те бумажонки в полицейское управление или еще куда. В этом случае вы не выбрались бы из тюрьмы так скоро! Благодарите за это мою жену! Но вы, кажется, и так получили достаточно увесистую оплеуху?! Я обнаружил вашу пачкотню при ремонте и перестройке дома и попросту приказал уничтожить этот хлам. И больше мадам ничем не может быть вам полезна. — Он с требовательным видом повернулся к Катрин:
— Вас просили подозвать карету. Где она?
Не отвечая, Катрин торопливо, отрывая пуговички, стаскивала с себя кружевной передник. Аккуратно повесив его на перила лестницы, она, не глядя ни на Клэр, ни на ее мужа, выбежала на улицу, обхватила Луи зa шею.
— Я знала… знала, ты обязательно вернешься!..
Через полчаса они сидели в «Мухоморе», кабачке дядюшки Огюстона, в полутемной задней комнатке, выходившей окном на кирпичную стену. Выпроводив завсегдатаев, заперев дверь и не отвечая ни на стук, ни на звонки, Огюстен угощал нежданных гостей, чем мог, жадно слушая рассказы Луи о том, что творилось на понтонных тюрьмах. И сам рассказывал то, что знал о судьбе коммунаров — и тех, кого казнили или сослали, и тех, кому удалось укрыться за границами Франции.
Катрин неотрывно смотрела на Луи, не выпуская его руки из обеих своих, словно все еще не веря происшедшему, глаза ее заволакивало слезами то радости, то жалости и сострадания.
Голос Луи огрубел за эти годы и как бы обрел силу, но говорил Луи медленно, не торопясь, видно было, что пережитое уже отболело, стало привычным, потеряло остроту. И рассказывал он скупо и неохотно.
— Да, понтоны эти — списанные с судоходства барки и баржи, проржавевшие и полусгнившие, которые уже опасно пускать в море. Брошенные хозяевами у берегов Бискайского залива, поставленные на мертвый причал, их за бесценок скупило правительство Тьера и затем сменившего его Мак-Магона. И — превратило в тюрьмы. Да и что им оставалось делать, палачам Коммуны? Все, и большие, и маленькие, бастилии Франции, от Марселя до Гавра были набиты битком, а расстреливать без конца тоже стало немыслимо, ведь они пролили реки крови… Вот и нашли выход, откупили или сняли в аренду у бывших владельцев списанные с морей за ветхостью суда…
— Ты ешь, Луи, ешь! — подкладывал на тарелку Огюстен. — Небось пришлось изрядно поголодать?
Луи с нежностью и тревогой глянул на сидевшую рядом Катрин.
— Может, дядя Огюстен, не стоит ковырять старые болячки, а?
— Э, нет, Малыш! — решительно возразил Делакур, набивая трубку. — Необходимо, чтобы народ знал всю правду! И мы не какие-нибудь христосики, чтобы следом за одной исхлестанной щекой подставлять другую! Рассказывай, дружище, рассказывай! Какие же они, эти понтоны?
— Ну, представь себе, дядя Альфонс, огромную, скажем, вроде парижской Ратуши, ржавую жестяную банку, набитую людьми, подыхающими от голода и болезней… нет, не людьми, а тенями, призраками людей. Внутри такого понтона давно ничего нет, прибрежные жители и рыбаки утащили оттуда всо, что можно утащить. В хозяйстве-то любая веревка пригодится! Ржавая вонючая вода на днище. Несколько брошенных поверх воды досок. Вот и все… И вот в такой огромной ржавой жестянке копошатся, мучаются, тешат себя надеждой на близкую амнистию, вспоминают близких и родных сотни таких, как я…
Луи робко погладил руку Катрин.
— Раз в сутки по одному выводили на палубу, чтобы им самим, тюремщикам, не задохнуться от вони… А на носу или на корме понтона — митральеза, нацеленная на люк… Они и полумертвых, все-таки боялись нас…
— Так ведь это просто невозможно, Луи! — с ужасом сказала Катрин. — Жить так нельзя…
— А больше половины на понтонах и умерло! Мертвых под нацеленными дулами ночью вытаскивали на палубу, привязывали к их ногам камень и — за борт!
Луи помолчал, и все за столом молчали. Потом Луи решительно махнул рукой:
— И хватит об этом, дорогие! Однако, как ни покажется странным, я признаюсь, что ни о чем не жалею… Как-то Жюль Валлес сказал мне: тюрьма — академия борьбы с произволом, с ложью и подлостью. Сегодня я согласен с ним. Столько там встретилось мне замечательных, сильных духом людей!.. Кстати, он сам, Жюль Валлес, тоже погиб?
Делакур недоуменно пожал плечами.
— Точно не скажу. Но, по слухам, ему, кажется, удалось уйти за границу, в Англию. Заочно приговорили к смертной казни, но ему помогли скрыться…
— А другие? — с нетерпением, наклоняясь над столом, спросил Луи. — Теофиль Ферре, Артюр Арну, Луиза Мишель, Лефрансе, Натали Лемель?
— Ферре приговорили к смерти, по два месяца мучили ожиданием казни, потом расстреляли в Сатори. Этот несгибаемый человек так и умер с сигарой во рту, сорвал с глаз напяленную ему повязку и чуть ли не сам командовал расстрелом. Арну и Лефрансе, так же как и Лео Франкелю, удалось скрыться. Луиза Мишель, Анри Рошфор, Паскаль Груссе, Натали Лемель — все на каторге, в Новой Каледонии, за тысячи миль отсюда. И на амнистию пока нет никакой надежды, хотя наш Виктор Гюго и многие другие изо всех сил борются за нее!
— Много было тогда осуждено? — спросил Луп.
— А! — зло махнул жилистой рукой Делакур. — Десятки тысяч ушли в землю. Я уже не говорю о тех, кто убит в «майскую неделю» без суда и следствия. Но по судам Версаля осуждено, говорят, только женщин более тысячи, шестьсот пятьдесят ребятишек из рабочих семей в возрасте от одиннадцати лет. Представляешь, Малыш?! Суды все еще трудятся, отправляют и на смерть, и на каторгу, и на твои понтоны… А вообще-то многие называют общее число более ста тысяч человек в одном Париже, дорогой Луи!
— Чудовищно! — После долгого молчания Луи спросил: — А где похоронен брат?
— Никто не знает, — печально покачал головой Делакур. И, желая переменить разговор, разгоняя ладонью трубочный дым, деловито спросил: — А ты-то что сейчас собираешься делать?
Луи молча посмотрел на Катрин.
— Пока мы поедем в Вуазен, — ответила за него девушка. — Моего деда уже нет в живых, но наш домик уцелел. Луи необходимо прийти в себя, набраться сил. А потом… потом, наверное, вернемся в Париж…
Луи с благодарностью пожал руку девушки, а Делакур одобрительно кивнул.
Так закончилась встреча старых друзей под облезлой, выцветшей вывеской «Мухомор». А потом…
Потом — еще одна, уж совсем неожиданная встреча. Делакур повел Луи и Катрин к себе, чтобы они могли переночевать у него до утреннего поезда, да и Мари, поди-ка, уж начала беспокоиться.
По Большим бульварам дошли до поворота на рю Монмартр, и здесь Луи неожиданно остановил своих спутников.
— Постойте-ка! Пахнет жареными каштанами… Эжен так любил жареные каштаны!
На углу бульвара Монмартр и улочки того же наименования дымилась на треножнике жаровня, возле нее седой, неряшливый, растрепанный старик с остановившимся, отрешенным взглядом помешивал на раскаленной сковороде коричневые, аппетитно пахнущие прошлогодние плоды.
У Луи денег, конечно, не было, и Делакур вытащил из кармана куртки истертый кожаный кошелек.
— Ну что ж, погрызем каштанов!.. Ну-ка, мосье, насыпьте нам три порции…
Старик перестал помешивать железной лопаточкой на жаровне, задумчиво глянул на покупателей. И вдруг… бескровное, иссеченное морщинами, давно не бритое лицо исказилось гримасой ужаса. Побелевшими от страха глазами он уставился на Луи, выронил лопатку и неожиданно рванулся в сторону, задев ногой и опрокинув свой треножник. Старик бежал, крича что-то непонятное, зажимая ладонями глаза, полы его длинного, запошенною до дыр сюртука развевались, словно крылья подстреленной птицы.
Не понимая, Делакур и его друзья смотрели убегающему вслед. Горячие каштаны дымились на каменных плитах тротуара.
Рядом с опрокинутой жаровней стояла веснушчатая девушка в простеньком платье, в старомодной, слишком большой для ее головы шляпке. В руке она держала корзину с цветами. Оставив корзинку, девушка подняла опрокинутый треножник, принялась собирать па сковородку рассыпанные под ногами каштаны.
— Что с ним, мадемуазель?
— А! Не обращайте внимания, мосье! Он тронутый.
— А кто он? — хрипло, с внезапной догадкой спросил Луи.
— Говорят, когда-то был кюре в Латинском квартале. А потом что-то случилось у него здесь, — девушка повертела пальчиком у виска. — Его лишили сана. Не беспокойтесь, мосье, он вернется. С ним иногда происходят всякие странности. А пока, если желаете, я продам вам коштанов, только, конечно, мне придется сполоснуть их вон у того фонтана. А деньги я ему отдам до последнего сантима, не беспокойтесь…
— Спасибо, мадемуазель, — так же глухо пробормотал Луи. — Нам, пожалуй, не надо этих каштанов.
Чуть помедлив, Луи и его спутники медленно пошли по кривой и узенькой рю Монмартр. Отцветали в садах на склонах холмов вишни, белые лепестки летели по воздуху.
Делакур взглянул на помрачневшего Луи:
— Успокойся, Малыш!.. Как видишь, снова весна, и не последняя в нашей жизни. А когда-нибудь доживем и до настоящей большой весны. Идеалы Коммуны живы. Рано или поздно она победит. Ты веришь, Малыш?
— Конечно, верю! Иначе невозможно, незачем было бы жить!
Примечания
1
Партизан (фр.).
(обратно)2
«Здоровье» (фр.).
(обратно)



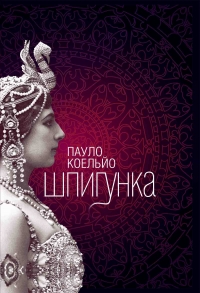
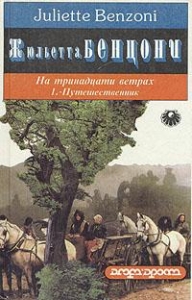

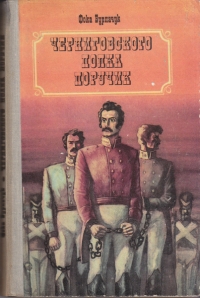
Комментарии к книге «Последний день жизни», Наталья Туманова
Всего 0 комментариев