НОРМАН МЕЙЛЕР ВЕЧЕРА В ДРЕВНОСТИ
Мне хотелось бы выразить благодарность Неду Бредфорду, Роджеру Доналду, Артуру Торнхиллу, Скотту Меридиту и Джудит Мак-Нелли за их помощь и поддержку в этой работе.
Моим дочерям, моим сыновьям и Норрис
Я верю в практику и философию того, что мы согласились именовать магией, в то, что я должен назвать умением вызывать духов, хотя и не знаю, что они собой представляют, в способность создания волшебных иллюзий, в образы истины в глубинах сознания при закрытых глазах; и я верю (…) что границы нашего сознания постоянно меняются, что множество сознаний могут перетекать одно в другое — и, будь это так, — создавать или проявлять единое сознание, единую энергию (…) и что наши воспоминания есть часть одной великой памяти, памяти самой Природы.
У. Б. Шейте. «Мысли о Добре и Зле»I КНИГА УМЕРШЕГО
ОДИН
Непроглядная тьма окружала меня. Но я чувствовал себя уверенно. Я находился в подземном покое — десять шагов в длину и полшага в ширину — и даже понял (так же мгновенно, как летучая мышь), что во всем помещении почти ничего нет. Поверхность стен и пола была каменной. Словно я мог видеть пальцами, мне стоило лишь сделать движение рукой, чтобы ощутить размеры окружавшего меня пространства. Это было так же замечательно, как слышать голоса при помощи волосков в носу. Так я мог обонять запах камня. Еще в воздухе угадывалось отсутствие чего-то, некая пустота, пребывавшая внутри другой пустоты. Теперь я чувствовал рядом с собой гранитный ящик, ощущал его присутствие так явственно, будто мое тело вошло в него — он был достаточно велик, чтобы служить мне постелью! Однако на полу, в шаге от него, мой путь, словно стражи, преградили какие-то старые отбросы, испражнения какого-то маленького, злобного зверька, который, подобно мне, каким-то образом проник сюда, оставил свой след и ушел. Поскольку от него не осталось скелета, невозможно было сказать, что за животное это было. Один лишь запах старого, отдающего мочой помета. Но где же тот проход, каким проникло сюда это животное? Я вдохнул в себя ужас, которым был насыщен воздух вблизи от его скудных извержений. Даже в них заключалось свое послание!
Однако я смог распознать и чистые запахи свежего ночного воздуха, также избравшего этот покой. Он вошел через ход в скале, которым воспользовалась кошка?
В темноте, между двумя каменными глыбами мои пальцы вскоре обнаружили углубление не шире человеческой головы. Судя по свежему дыханию, исходившему из него, оно должно было вести наружу. Струя воздуха, проникавшая через каменный ход, была лишь слабым дуновением, не способным поколебать и одного волоска, но она несла прохладу пустыни, что приходит глубокой ночью, когда солнце давно село. Я потянулся к этому прохладному шепоту и, к своему удивлению, смог проникнуть в отверстие вслед за своей протянутой вверх рукой. Это был длинный ствол между огромными каменными плитами, в поперечнике местами, казалось, не больше моей головы, однако, шел он по прямой, под небольшим углом вверх, я продвигался в грязи. Мой путь был усыпан бесчисленными скорлупками мертвых жуков. По моей коже ползали муравьи. Крысы пищали от ужаса. Однако я бесстрашно карабкался вверх, лишь удивляясь узости прохода. Наверняка я не смогу выбраться наружу — лаз вряд ли шире змеиной норы, — однако казалось, что у меня вообще нет плеч и бедер. Мои движения обнаруживали изворотливость змеи, я не боялся очутиться в ловушке следующего прохода. Я мог становиться тоньше. Или можно, но ничуть не лучше было бы сказать, что я мысленно продвигался по длинному и узкому ходу, а мое услужливое тело обладало способностью полностью мне повиноваться — на редкость необычное ощущение. Жизнь переполняла меня. Струйка воздуха, шепот которой я угадывал впереди, мерцала в темноте. Частички света сияли в моем носу и горле. Я не мог припомнить, чтобы когда-либо чувствовал себя таким живым, и в то же время совершенно не ощущал бремени мышц и костей. Словно я уменьшился до размеров маленького мальчика.
Когда я наконец лег у рта этого каменного ствола, в конце него мне открылось небо и лунный свет, срезанный его краем. Пока я отдыхал, луна стала полностью видна и облила всего меня своим божественным светом. Из далеких фруктовых садов доносилось благоухание финиковых пальм, фиговых деревьев и ясно различимая свежесть винограда. Воздух этой ночи пробудил во мне смутные воспоминания о садах, в которых я когда-то любил женщин. Я вновь узнал запах роз и жасмина. Далеко внизу, у берега, очертания пальм, должно быть, казались черными на фоне серебристой воды реки.
И вот наконец я выбрался из хода, проделанного в этой громадной каменной горе. Я высунул наружу, в ночь, голову и плечи, вытащил ноги и в изумлении судорожно вдохнул воздух. Подо мной, залитый светом луны, простирался белый каменный откос; земля виднелась далеко внизу; но дальше, на пустынном плато, там, на границе моего поля зрения, безмолвная, как гора серебра, высилась Пирамида. За ней — другая. Ближе ко мне, почти полностью засыпанный песком вырисовывался каменный лев с человеческой головой. Я угнездился на склоне Великой Пирамиды! Я только что побывал — никаким иным местом оно быть не могло — в погребальном покое фараона Хуфу.
Резким, как звук мужского храпа, было имя Хуфу. Он ушел тысячу, более того лет назад. Однако при мысли о том, что я был в Его усыпальнице, мое тело утратило способность двигаться. Саркофаг Хуфу был пуст. Его гробницу нашли и ограбили!
Я думал, что сейчас услышу последний удар своего сердца. Никогда еще я не ощущал в своем животе столь очевидной лужи трусости. А ведь я, насколько мне помнилось, был человеком доблестным, возможно, чем-то прославившимся воином, — в этом я мог поклясться, — однако, несмотря на это, я был не в состоянии сделать и шага. При свете луны от стыда меня передернуло. Я стоял там, на склоне нашей величайшей Пирамиды, лунный свет падал мне на голову и проникал в сердце, внизу была статуя гигантского льва, к югу — Пирамиды фараонов Хафра и Менкаура. На востоке я видел отражение луны в Ниле, а далеко на юге различал даже последние огоньки светильников, догорающих в Мемфисе [1], где меня ждали любовницы. Или теперь они ждали уже кого-то другого? Я был низведен до такого состояния, что меня это не занимало. Приходила ли ко мне раньше подобная мысль? Это ко мне, который единственно чего и боялся, так это своей слишком живой готовности убить любого, кто только взглянул на мою женщину. Как же я ослаб. Так вот цена, которую я заплатил за то, чтобы войти в гробницу Хуфу? В мрачном расположении духа я начал с трудом спускаться, скользя от трещины к трещине в облицовочном камне и зная, что какие-то скверные изменения уже произошли во мне. Моя память, которая, казалось (при первом проблеске лунного света), обещала вернуться, все еще представляла собой густую тину. Теперь воздух стал тяжелым от запаха жидкой грязи. Таковы были ароматы здешних мест: жидкая грязь и ячмень, пот и земледелие. Завтра к полудню берега реки превратятся в печки, где тростник становится пеплом. Домашние животные оставят свои подарки в прибрежной грязи — овцы и свиньи, козы, ослы, волы, собаки и кошки, будет даже неприятный запах гусиного помета — мерзкая птица. Я подумал о гробницах и о друзьях в гробницах. Словно кто-то тронул туго натянутую струну, так коснулась меня еще смутная печаль.
ДВА
Я пребывал в необычайно странном состоянии. Я все еще не знал, кто я и каков может быть мой возраст. Был ли я взрослым и могущественным или лишь в начале своих сил? Вряд ли это представлялось важным. Я пожал плечами и зашагал, избрав по какой-то причине путь через Город мертвых. Так я бесцельно брел и по дороге принялся объяснять себе то, что видел, в той мере, в какой был способен это сделать, так как находился в полном замешательстве, словно мой собственный житейский опыт стал мне чужим.
Признаться, здесь мало что могло привлечь взгляд, в лунном свете предо мной простирались лишь прямые улицы кладбища — зрелище, лишенное особого очарования, разве что имелась возможность обнаружить эту притягательность в высокой цене здешней земли. Локоть за локтем Город мертвых располагал самыми дорогими земельными участками во всем Мемфисе — уж это, по крайней мере, я помнил вполне отчетливо.
Блуждая по дорожкам нашего однообразного Города мертвых, медленно проходя мимо наглухо закрытых дверей одной усыпальницы, потом другой, я стал — непонятно почему — думать о друге, который недавно умер, о самом дорогом, как, казалось, говорили мне эти воспоминания, из моих друзей, погибшем самой нелепой и насильственной смертью. Теперь я мог лишь размышлять о том, не находится ли его гробница где-то поблизости, и новые воспоминания посетили меня. Мой друг, подсказывала мне память, происходил из влиятельной семьи. Его отец, если я не ошибаюсь, одно время служил Смотрителем коробки с красками для лица Царя. (Я бы скорее умер, — подумал я, — чем стремился к таким званиям.) Все же эта должность заслуживала не одних лишь насмешек. Наш Рамсес [3], если мне не изменяла память, был тщеславным, точно какая-нибудь красотка, и не терпел никаких изъянов в Своем облике.
Разумеется, с таким отцом мой друг (имя которого, боюсь, все еще ускользало от меня) был определенно богат и знатен. Несчастный, заключенный в гробницу распутник! Он должен был быть по меньшей мере отпрыском Великого Рамсеса [4], да, того самого, умершего, как мне помнилось, примерно сто лет назад, нашего собственного Рамсеса Второго. Он умер очень старым, имея множество жен, более сотни записанных сыновей и пятьдесят дочерей. Они производили потомство в таких количествах, что сегодня трудно даже представить, сколько чиновников и жрецов являются Рамессидами, хотя бы по одной своей линии. Справедливости ради замечу, что вряд ли богатая дама в Мемфисе или Фивах [2] преминет предъявить в доказательство этого родства одну из добропорядочных щек своих ягодиц, место царское, как сами Фараоны, и, можно быть уверенным, даст знать обо всем вполне определенно. Быть отпрыском Рамсеса Второго, возможно, не такая уж редкость, но это совершенно необходимо, по крайней мере, в том случае, если она желает обрести для своей семьи место в Городе мертвых. Тогда ей лучше, хотя бы наполовину, быть одной из Рамессидов. На самом деле, иначе невозможно даже купить землю в Западной Тени, и это лишь первое требование в подобных торговых расчетах знатных дам из Мемфиса. Участков земли не хватает. Поэтому они идут на большой риск. Например, мать моего умершего друга, госпожа Хатфертити, всегда была готова вступить в сделку. Если цена была подходящей, саркофаг предка мог быть перенесен в менее достойную усыпальницу или даже сплавлен по реке в другой Город мертвых. Конечно, нужно было спросить себя: кем был усопший? Насколько действенным было его проклятье? Это являлось негласной частью сделки — следовало быть готовым навлечь на себя опасность стать жертвой кое-каких злокозненных заклинаний. Однако некоторые даже приветствовали таковые в том случае, если они были столь ужасны, что сбивали цену. Например, у Хатфертити хватило дерзости продать гробницу своего умершего деда. Относительно этого покойного родственника, деда ее мужа (который, кстати, доводился дедом и ей, так как она, безусловно, была своему мужу сестрой), покупателю было сказано, что старик Мененхетет был самым добрым и кротким из людей. Его слабость состояла в том, что он не мог причинить вреда своим врагам. Вообще, его проклятий вряд ли стоило опасаться. Какое надругательство над истиной! Тайком, на ухо, шептали, что Мененхетет отличался тем, что ел жареных скорпионов с пометом летучих мышей — так необходимо ему было защитить себя от проклятий влиятельных людей. Насколько я мог припомнить, он прожил потрясающую жизнь.
Так вот, о покупателе, которому Хатфертити продавала этот участок, честолюбивом мелком чиновнике — такие люди не редкость. Он знал, что для такого захудалого Рамессида, как он, лучшей защитой от любого злого наговора служит собственная достойная гробница. До тех пор, пока он ничего не мог предложить своей семье, любое посещение его женой или дочерьми дома людей, занимавших в Мемфисе более высокое положение, было обречено на неудачу. Для таких, как он, просто не было места в рядах мертвых. Получалось, что они уже живут под гнетом проклятия — их унижали. Ибо что такое проклятие, если не бесчестная кража силы? (Что бы ни предпринималось для улучшения своего положения, приносит в результате меньше, чем затрачено усилий.) Жена и дочери этого Рамессида стали плакать так часто, что он уже был готов рискнуть навлечь на себя ярость мертвого деда. Может быть, если бы он знал побольше о старике Мененхетете, то подождал, но он трепетал, предвкушая возможность заполучить нечто ему недоступное, но совершенно необходимое, чтобы занять желанное положение в обществе.
Мои раздумья об этих сделках оказались не напрасными. Теперь я вспомнил имя своего друга! Мененхетет Второй. (Подобное имя, между прочим, образец неумеренных семейных чувств. Мененхетет Второй — будто его мать была царицей.) Я, однако, не знаю, действительно ли он принадлежал к самой царской семье. Все, что я помню, так это то, что среди нас, его друзей, он выделялся своей неуравновешенностью; иногда по ночам его обуревали такие неистовые желания, что казалось, он мог вызывать злых духов. Я думаю, некоторые из нас стали жалеть, что дали ему прозвище Ка. В то время оно казалось удачным, поскольку не только означало дважды (из-за Мененхетет Второй), но также было нашим исконно египетским именем Двойника человека после его смерти, а Двойник, как говорили, отличается непостоянством. Так что ему оно подходило. С нашим другом Ка нельзя было угадать, когда в него вселится дух льва, однако он к тому же любил проклинать Богов, и тогда нам бывало не по себе. Мы и сами не отличались набожностью, более того, чтобы действительно ощутить себя мужчиной, считалось уместным всуе помянуть Божественное имя, однако Ка заходил слишком далеко. Мы не желали разделять с ним кару за богохульства, которые слетали с его языка, тем более что для них не было более серьезных оснований, чем неукротимая ярость, которая охватывала его при мысли о его матери. Дело в том, что, когда Хатфертити продала гробницу Мененхетета Первого безвестному Рамессиду, Ка вскоре дознался, что это была также и его гробница. Во всяком случае по условиям завещания его прадеда, Мененхетета Первого.
Теперь, стоя под луной, освещавшей Город мертвых, исполненный грусти, я едва ли мог уяснить себе обстоятельства, предшествовавшие смерти Мененхетета Второго; не знаю, присутствовал ли я тогда, когда Хатфертити говорила ему о гробнице — хотя я был склонен предположить, что для Ка ничего не осталось. Как бы то ни было, подробности я помнил смутно. Вернее было бы сказать, что это, казалось, все, что мне удалось припомнить. Или мне следовало бы сравнить себя с лодкой, которая прокладывает себе путь в гавань через разрывы в тумане? Сейчас, когда я собрался с мыслями и сообразил, что нахожусь на одной из самых убогих улиц Города мертвых, у меня появилось ощущение, что я стою недалеко от жалкого участка, который Хатфертити пришлось купить в большой спешке после его внезапной смерти. Вернулись воспоминания о благочестивых похоронах, но недостойной гробнице. Теперь у меня в ушах зазвучал голос Хатфертити, говорившей всем, кто хотел слушать, что Ка желал покоиться на самой нижней оконечности Западной Тени. Это был позор. Так как все знали, что Хатфертити просто слишком скупа, чтобы заплатить положенную цену за достойную усыпальницу. И все же Хатфертити держалась этой печальной сказки: «Мени все время снился один и тот же сон, — говорила она, — что сперва он должен упокоиться в убогом пристанище. Когда же он будет готов к переходу, она получит сообщение во сне. Вот тогда-то она и перенесет его в подобающие покои». Все это сопровождалось такими громкими причитаниями, что те, кто оказался рядом, испытывали отвращение. Ведь по заведенному у нас порядку не полагалось призывать семь душ, теней и духов умершего навещать живых. Предполагаемая цель похорон в том и заключается, чтобы с почтением отослать всех семерых в Царство Мертвых. Поэтому мы испытывали естественный страх перед тем, кто ушел из этой жизни в результате насильственной смерти. Его дух мог продолжать поддерживать отношения со своей семьей, причиняя ей беспокойство. Именно во время таких похорон потерявшие родственника должны изо всех сил стараться умиротворить покойника, а не унижать его. В данном случае со стороны Хатфертити было безрассудством во всеуслышание заявлять, что она вскоре перенесет гроб с телом сына в свою лучшую усыпальницу. Все знали, что она держала эту гробницу для себя. Мы даже раздумывали, не намеревалась ли она на самом деле толкнуть нашего Мененхетета Второго на стезю мучительных скитаний, уготовив ему удел призрака! Хуже того! Сами похороны могли быть пышными, однако гробница выглядела настолько жалкой, что грабители могил вряд ли побоялись бы ее открыть. (Проклятие, которое воры принимают на себя у дверей бедной гробницы, в конечном счете редко бывает действенным. Причина здесь в том, что еще большая вражда сохраняется между бедным усопшим и его родственниками, оставившими его в такой нищете!) Поэтому можно было лишь гадать, не предпринимала ли Хатфертити все это, наверняка рассчитывая на то, что склеп ее сына будет осквернен.
Я вышел в начало дорожки, ведущей к гробнице Мени, и осмотрелся. Многие из этих гробниц были не больше шатров пастухов (хотя лишь в Городе мертвых можно найти такие гранитные шатры), но каждая крыша представляла собой маленькую пирамиду с отверстием на крутом переднем скате. Уже по одному этому можно было понять, что ты в Городе мертвых, поскольку такое отверстие было окном для Ба. Если каждый умерший имел своего Двойника, которого мы знали как его Ка, то у него была и своя маленькая сокровенная душа — Ба, самая сокровенная из семи сил и духов. Эта Ба имела тело птицы с лицом усопшего. Именно поэтому, вспомнил я теперь, и нужно это закругленное окошечко на крутом скате маленьких пирамид. Выход для Ба. Конечно, я начал припоминать. Разумеется! Кто бы ни покоился внизу в саркофаге — каждая птица, которую я мог увидеть в окошке-башенке, это его Ба. Да разве обычные птицы приблизились бы к Городу мертвых, когда в нем бродят духи? Я содрогнулся. Духи в Городе мертвых были коварными: все эти неудовлетворенные чиновники, ненагражденные военные, несправедливо наказанные священнослужители и вельможи, преданные своими ближайшими родственниками, или те, что встречались чаще, — духи грабителей, убитых на месте преступления, когда они оскверняли гробницы. И хуже всех — жертвы воров: все эти мумии, пелены которых были сорваны, когда грабители искали драгоценности. Такие мумии, как известно, распространяли самый ужасный смрад. Представьте, сколько мстительного разложения должно содержаться в любом хорошо спеленутом трупе, на самом деле поддающемся гниению после того, как против тлена были приняты меры. Это должно было удвоить результат. По меньшей мере!
И тут я заметил призрака. Он был не далее чем на расстоянии трех дверей от гробницы Мени и, надо сказать, имел такой злобный вид, что я чуть не упал в обморок. По его тряпью в нем можно было узнать грабителя могил, одного из худших духов. От него также исходило неописуемое зловоние. Теперь оно обрушилось на меня.
В лунном свете я разглядел безрукого калеку с носом прокаженного, разлезшимся на три лоскута. Этот нос, это несчастье, уродливая насмешка над тройным членом Бога Мертвых Осириса, тем не менее все еще обладал способностью дергаться под его дикими желтыми глазами. То был настоящий призрак. Я разглядел его так же отчетливо, как собственную руку, и в то же время мог видеть сквозь него.
— Кого ты здесь разыскиваешь? — выкрикнул он, и его смрадное дыхание, исходившее, казалось, из самой отвратительной нильской грязи, где гниют дохлые крабы, было благоуханным в сравнении с кошмарами, пребывавшими в испускаемых им ветрах.
Я просто поднял руку, чтобы отогнать его. Он отпрянул.
— Не ходи в гробницу Мененхетета Первого, — произнес он.
Он должен был напугать меня, но ему это не удалось. Я не мог понять — почему. Если бы он не отступил и мне пришлось бы сгонять его с дороги, это было бы хуже, чем погрузить свой кулак в бедро, изъеденное гангреной. Он вызывал неодолимое отвращение, которое удерживало вас на расстоянии. И все же он боялся меня. Он не рискнул бы приблизиться и на шаг.
Тем не менее мне не совсем удалось уйти без потерь. Его слова вошли в мою голову вместе с его зловонием. Я не понял, что он имел в виду. Что Мененхетета Первого тоже перенесли в убогую гробницу, купленную для Мененхетета Второго? Произошло что-то, о чем я не знал? Или я попал не на ту улицу? Но если мои воспоминания имели под собой основание, это была та самая узкая дорожка, по которой скорбящие прошли в тот торжественный солнечный день, когда отборные белые волы с позолоченными рогами и белыми боками, разукрашенными в зеленый и алый цвета, проволокли золотую повозку с Мени Вторым к его последнему отвратительному пристанищу. Или этот призрак пытался сбить меня с пути?
— Не входи в гробницу Мененхетета Первого, — снова нараспев повторил он. — Будет слишком много неприятностей.
То, что он, этот взломщик могил, готов был теперь предостерегать других, рассмешило меня. В лунном свете мое веселье, вероятно, смутило тени, потому что призрак быстро отступил назад. — Я мог бы сказать тебе больше, — выпалил он, — но не в силах выносить твоей вони. — И он исчез. Самое утонченное его наказание состояло в том, что он принимал собственный смрад за зловоние, исходящее от других. Теперь эта оплошность подстерегала его при всякой встрече.
И вот, как только он исчез, я увидел Ба Мени Второго. Она показалась в окне. Размером Ба была даже меньше ястреба, и лицо у нее было таким же маленьким, как у новорожденного, однако это было лицо Мени — самое привлекательное, какое я когда-либо видел у мужчин. Теперь уменьшенные, его черты были утонченными, как у младенца, родившегося с умом совсем взрослого человека. Что за лицо! Если Ба и взглянула на меня, то немедленно отвернулась. Затем Ба Мененхетета Второго расправила крылья, издала уродливый звук, похожий на крик вороны, исторгнутый из глубин безнадежности, заунывно каркнула раз, потом второй и улетела. Огорченный таким безразличием ко мне, я приблизился к двери в усыпальницу.
Когда я остановился внутри входа, на меня вдруг нахлынула самая неожиданная, сокрушительная печаль, огромная и бесхитростная, словно в меня перешло все горе моего умершего друга Мени. Я вздохнул. Последним моим воспоминанием об этом месте был неопрятный вид входа, и он совершенно не изменился. Помню, как я подумал, что сюда можно будет легко забраться; и вновь я ощутил ту способность приноравливаться, что помогла мне ранее этой ночью выбраться через узкий проход из погребального покоя Хуфу. Теперь мой палец протек — по крайней мере, так мне показалось — через желобки деревянной замочной скважины. Когда я повернул руку, зубец поднялся, а вместе с ним и засов.
Я вступил в усыпальницу. И сразу же почувствовал что-то своей кожей — точно по моей голове провели ногтем. Казалось, будто мои подошвы царапал кошачий язык. Они зудели. Меня испугало ощущение непорядка и зловония. Луна светила сквозь открытую дверь, и в ее свете я мог видеть, что грабители давным-давно сожрали все оставленные здесь приношения пищи. Все ценное было разбито или исчезло. Все вокруг говорило о том, что грабители были одержимы желанием осквернить это место. Сколько извержений сокровищниц кишечника! Полная мера мерзостей. Я был в ярости. Какое небрежение смотрителей! В этот момент мой взгляд остановился на обгоревшем обломке, торчавшем из бронзового светильника на стене, и в исступлении злобы я так яростно на него уставился, что почти не удивился, когда появился дым, уголь на конце обломка вспыхнул и факел зажегся. Я слышал о жрецах, способных сосредоточить свой гнев настолько, чтобы зажечь огонь светом своих глаз, но редко верил таким россказням. Теперь же это казалось столь же обыденным, как высечь искру из сухого дерева.
Какие потери! Потоки будущего хаоса пребывали в неудовлетворенности этих неистовых грабителей. Бойтесь обитателей дна нашего царства! Они разбили столько же, сколько украли. Это навело меня на мысль о том, сколь изысканным был дом Мени в последние годы его жизни, и в тот же миг я смог вспомнить всхлипывания Хатфертити, которые не мешали ей советоваться со мной, какие алебастровые вазы и ожерелья в форме воротников, браслеты и пояса с драгоценными камнями следует похоронить с ним. Должна ли она замуровать в его усыпальнице длинный ларец из черного дерева или ящик красного дерева, его светлый парик, его красный, его зеленый, его серебряный или его черный парики, его благовония и краски для лица и ногтей, его полотняные набедренные повязки, его широкие полотняные юбки, даже его кровать из черного дерева (которую, как я знал, она отчаянно хотела оставить себе, и таки оставила). Затем, что выбрать из оружия: золоченый лук и расписанные золотом стрелы, копье с драгоценными камнями на древке — должны ли все эти восхитительные вещи уйти с ним в гробницу? Посреди грез обо всех этих прекрасных вещах она временами восклицала: «Бедный Мени!» — и добавляла благочестивые причитания, которые звучали бы нелепо, будь они произнесены любым менее низким голосом, чем голос Хатфертити. «Выклевана зеница моего ока!» — пронзительно вскрикивала она среди белых стен этого принадлежавшего Мени безмятежного дальнего крыла их дома, его лучшего крыла, украшенного самыми изысканными произведениями, какие он только мог себе позволить, особенно наглядно свидетельствовавшими о его тонком вкусе именно теперь, в его отсутствие, и среди них она — ну, просто картина! — вне себя от горя утраты, с сердцем, разрывавшимся от необходимости хоронить столько усыпанных драгоценными камнями подарков и прекрасных изделий из золота. Она рыдала над его детским стульчиком — совершенством, отлитым в бронзу, украшенным золотой фольгой, рыдала так долго, что оставила его. Даже его ножи, его ящик с красками, его кисти — она едва смирилась с мыслью, что их тоже похоронят, а уж лопасть его топора — сокровище времен Тутмоса Третьего со сквозной литой вставкой посредине, изображающей дикую собаку, вцепившуюся сзади в газель, — да у Хатфертити кровь пошла носом еще до того, как она осознала, что это подарок ее сыну н его нельзя взять назад. Разумеется, это позволило ей оставить другие предметы, в частности его корону из перьев, его леопардовую шкуру и его скарабея из зеленого оникса (все шесть ног жука были золотые). Будьте уверены, что каждая часть собранных Мени вещей, в конечном счете попавшая в усыпальницу, являла собой истинное соотношение между алчностью Хатфертити (восемь долей) и верой Хатфертити в силы загробного мира (пять долей). Однако при этом она никогда не позволяла себе целиком поддаться алчности. Это создало бы прореху, сквозь которую могли проникнуть злые духи. Однажды я даже услыхал от нее поучение о Маат — и, конечно же, то было самое благочестивое наставление, какое только можно получить. Ибо Маат — это праведное мышление и отказ от обмана своих ближних. Маат — это достоинство уравновешенности; да, Хатфертити и в ревущем водовороте своей алчности могла рассуждать о Маат вполне почтительно. Иначе чего бы только она себе не оставила?
И все же, стоя с факелом в руке, я бы ни за что не обвинил Хатфертити в излишней праведности. Достаточно было посмотреть на все разбросанное по полу! По меньшей мере она пригласила грабителей, у которых не было ни малейшего понятия о Маат. Они мочились на оставленную усопшему еду, не говоря уж о том, что запеклось на золотых блюдах, которые они не прихватили с собой.
Следующее помещение оказалось еще хуже. Погребальный покой даже не был вырыт внизу, а просто являлся продолжением первого. Их разделяла лишь стенка из необожженных кирпичей. Дешево! Для перехода из комнаты приношений прямо в погребальный покой не было никакой преграды. И все же я колебался. Мне не хотелось входить.
Переступив второй порог, я почувствовал, что воздух здесь другой. Я уловил едва различимое присутствие запаха, столь пугающего, что застыл на месте. Пламя моего факела мигало и дрожало вдвое сильней, чем я ожидал. Конечно. Не один саркофаг, а два. Оба разбиты. Покровы внешних гробов были брошены в угол. Крышки каждого из внутренних саркофагов также были сорваны. И вместилища для лишенных теперь защиты мумий свидетельствовали о кражах. Там, где вырвали драгоценный камень, благородная патина поверхности была обезображена небольшой язвочкой алебастра. Исчезли все нашейные украшения и амулеты. Разумеется. Раскрашенное лицо Мени (изображение столь же прекрасное, сколь прекрасным некогда был он сам) и его грудь покрывали шрамы. Три вертикальные разреза изуродовали нос. Была предпринята грубая попытка проковырять ножом пелены на груди.
Однако этот ущерб был незначительным по сравнению с тем, что сделали с ногами! Там грабители стали разматывать пелены. Унылые лоскуты оболочек покрывали пол, некоторые — бесконечно длинные, другие — куски квадратной формы или бесформенные обрывки. Столько мусора под ногами. Будто какое-то животное собиралось устроить себе гнездо. Тут были даже кости цыпленка. Грабители ели здесь. Если мой нос не подводил меня, они не осмелились еще и испражняться — только не здесь, вблизи от спеленутых тел! Все же происхождение этого слабого, но вызывающего беспокойство запаха было ясным. Одна из обнаженных ног начала разлагаться.
Стоявший в углу другой саркофаг был также потревожен. Он мог принадлежать только Мененхетету Первому. Хатфертити перенесла его сюда как раз во время, чтобы его осквернили. Мои ноги, однако, отказывались нести меня в том направлении. Нет. Я не смел приблизиться к мумии прадеда.
Меж тем рядом со мной находился Мени, ноги его были открыты, а гробница ограблена. Пища для его Ка была сожрана ворами.
Это привело меня в ярость. Я хорошо видел слабое свечение, окружавшее его; и все три его световых слоя были бледно-фиолетового оттенка и почти так же неразличимы, как туманным вечером неразличимы очертания трех холмов, расположенных один за другим.
Мне не хотелось смотреть на это. По цвету свечения можно было прочесть все. Например, у Хатфертити, когда она бывала в ярости, четко разделялись цвета: оранжевый, кроваво-красный и коричневый, а у почившего Фараона, как говорили, оно было чистого белого, чистого серебряного и золотого цветов. Тогда как бледно-фиолетовое свечение над обернутым телом моего друга говорило об изнеможении, будто то немногое, что от него осталось, пыталось сохранить хоть какое-то спокойствие среди множества ужасных обстоятельств. Предположим, что первым из них должно было быть присутствие другого саркофага. При мысли о том, чтобы взглянуть на останки прадеда, я в смущении опустил факел. Он немедленно погас. Я чувствовал, сколько силы требовалось Мени Второму просто для того, чтобы выдержать присутствие другого.
Все же теперь этот гнет, казалось, несколько ослаб. Не знаю, насколько здесь помогло мое усилие — внезапно я ощутил изнеможение, — но в любом случае едва заметное свечение вокруг Мени стало ярче. Напряжение ослабло. Мне захотелось посмотреть, что осталось от его несчастной ноги.
Худшей мысли не могло прийти мне в голову. В дыре на пальце ноги шло пиршество червей. Кто знает, что осталось от плоти ноги в этом месиве? Здесь вообще не было даже слабого свечения. Рядом с пальцами не осталось никакого света, кроме бледно-зеленого мерцания, исходившего от клубка самих личинок червей.
Я продолжал смотреть, и свет снова стал ярче. Я увидел, как через дверь в погребальный покой вползла змея. Схватив факел, я ударил ее по голове один раз, второй, а потом поймал. Ее тело извивалось в предсмертном танце. Сразу же после ее последней судороги мой факел загорелся. Теперь я, не колеблясь, понес его обратно. Мне захотелось вновь взглянуть на червей.
Однако, исследуя полость в ноге Мени, эту белую и насыщающуюся мельницу, я внезапно почувствовал порез на пятке собственной ноги. Неужели дружба простирается так далеко, что я теперь буду хромать за компанию со своим старым приятелем? При виде разложения его тела я ощутил омерзение. Я был готов поднести факел к дыре в его ноге, выжечь червей и закрыть пораженную гнилью плоть. Собственно, я и начал это делать, но остановился из страха, что обожгу собственную ногу. Теперь я почувствовал голод, внезапный и всепоглощающий. Я стиснул челюсти, стремясь в самом начале подавить это чудовищное желание, способное заставить меня, подобно собаке, принюхаться к канопам [5], стоявшим у фоба, это были четыре сосуда Сыновей Хора, каждый размером с толстую кошку; но тот, с вырезанной головой павиана Хепи, содержал тщательно завернутые тонкие кишки умершего, а сосуд, за которым присматривал шакал Дуамутеф, мог предложить такое же вместилище для сердца и легких, Имcет же, с головой человека, теперь владел желудком и толстыми кишками, тогда как сокол Кебехсенуф имел печень и желчный пузырь. К моему ужасу, как я ни старался отогнать от себя столь отвратительное искушение, я не мог отделаться от мысли о супе, который можно было бы сварить из этих сохраняемых органов. С другой стороны, мне надо было удовлетворить свой голод. Вряд ли я смог бы оставить гробницу, пересечь Город мертвых, проделать весь путь до Нила, затем отыскать какую-нибудь лавку со съестным, очагом и старой ведьмой, которая бы меня накормила. Нет, не в это время. Пищу надо было найти здесь. Готовый поддаться смятению от приступа столь непристойных желаний, я очутился на коленях и стал молиться. Чудо состояло в том, что я помнил слова. Но ох уж эти черви в открытой и кишащей ими дыре на ноге. Они подсказали молитву.
— Когда душа отошла, — тихо произнес я; свет от моего факела отбрасывал на потолок тени, — человек узнает разложение. Он становится сродни распаду и погружается в мириады червей, он становится ничем иным, как червями…
Хвала Тебе, Божественный Родитель Осирис. Ты не увядаешь, Ты не гниешь. Ты не обращаешься в червей. Так и мои члены пребудут вечно. Меня не коснется разложение, я не сгнию, я не узнаю порчи, и я не увижу распада.
Глаза мои были закрыты. Я взглянул внутрь себя, глубоко в темноту чернейшей земли, которую я когда-либо видел, черной, как Страна Кемет [6], наш Египет, и в этой черноте я услышал, как гулко отдаются мои слова, точно подхваченные большим колоколом на воротах приемной храмовой десятины под Мемфисом, и я знал, что подъемная сила этих слов больше, чем у молитв, восходящих в ароматах воскурений. Эхо отдавалось в темноте моих закрытых глаз, и, будучи больше не в силах сдерживать свой голод, я поднял руку с растопыренными пятью пальцами, словно говоря: «Этими пятью пальцами я буду есть», и обернулся вокруг, предавая себя Богам, злым ли духам — не знаю.
В ответ пять скорпионов чередой вышли из сосуда Кебехсенуфа, Бога Запада с головой сокола, владельца печени и желчного пузыря, и пересекли пол от возвышения, на котором стоял гроб Мененхетета Первого до дыры в покровах Мененхетета Второго. Там они принялись, как мне представлялось — ибо я не был готов смотреть, — пожирать червей. Добрались ли они до плоти Второго? Не знаю, но моя воспаленная нога горела от жестоких укусов, словно на нее накинулся целый муравейник.
ТРИ
Словно для того чтобы с насмешкой взглянуть на свое отчаяние в этом отвратительном месте, я подумал о вечере в Мемфисе, заполненном едой, вином и приятнейшим разговором. Не знаю, было ли это день или год назад, но я гостил с одним жрецом в доме его сестры, а в том месяце — как наслаждался я жизнью в тот месяц! — я был любовником его сестры. Жрец же — точно ли я помню, что он был жрецом? — был (как и многие другие добропорядочные братья) ее любовником в течение многих лет. Как оживленно мы болтали. Мы обсудили все, кроме того, кто из нас будет в эту ночь с его сестрой.
Она, разумеется, была взволнована нашим совместным появлением — да разве не имела она на то серьезных причин? Когда он вышел из комнаты, она шепнула мне, чтобы я подождал и посмотрел на нее и ее брата. Девушка из хорошей семьи! Она сказала, что как раз в нужный момент собирается оказаться сверху. И надеется, что тогда я буду готов войти в нее. Она пообещала, что сможет принять нас обоих. Какая бы из нее получилась жена! Поскольку я, образно говоря, бывал уже в других ее входах, мне было приятно ожидание того, что предназначалось для меня — ягодицы этой женщины были подобны заду пантеры (упитанной пантеры). А тогда, если повезет, можно было бы вдохнуть запах моря, воспользовавшись любыми из ее ворот. Или унюхать мерзейшее из болот. Она могла одарить нежной и тонкой вонью, пребывающей в лучшей из лучших грязей — клянусь, то был дух Египта, — или благоухать, как молодая поросль. Женщина достаточно одаренная для нас обоих. В ту ночь я сделал, как она сказала, и вскоре доказал жрецу, что живые могут так же быстро находить своих двойников, как и мертвые (поскольку он вскоре потерял всякое представление о том, кто здесь больше женщина — его сестра или он сам, — с той лишь разницей, что он был полностью обрит — таким образом среди наших объятий можно было понять, кто где находится).
Естественно, проблески подобных воспоминаний усугубили мой голод. Как боль, пульсирующая в ране, его ярость росла с каждым моим вдохом. Не любовью желал я насытиться, а пищей.
Вероятно, меня охватила какая-то смертельная лихорадка — я точно знал, что никогда ранее не испытывал такого голода. Мой желудок, казалось, утоплен в каком-то глубоком темном колодце, а перед моими глазами плясали картины различных блюд. Я подумал о том мгновении в Начале, когда Бог Атум единым словом создал все сущее. Царство молчания обрело жизнь в сущности звука, изошедшего из сердца Атума.
Посему я снова поднял руку с пальцами, указующими на невидимое небо там, над потолком этого покоя, — и произнес: «Да будет пища».
Однако ничего не появилось. Лишь тонкое скуление отдалось в пустом пространстве. От тщеты своего усилия я был на грани обморока. Лихорадка сжигала меня. Перед моими закрытыми глазами я увидел маленький оазис. Предлагалось подношение? Я стал прокладывать себе дорогу через мусор на полу, словно пересекал воображаемую пустыню — образ стал осязаемым: даже песок забивал мне ноздри! Теперь я был в углу и при свете своего факела увидел красивые рисунки на стенках разбитого гроба Мени. То были изображения еды. Все изобилие пищи, которое только мог пожелать, проголодавшись, Ка Мени Второго, было представлено здесь: ужин на дюжину друзей со столами и чашами, сосудами и кувшинами, вазами и части разрубленных туш животных, задние их части свешивались с крюков — все было нарисовано на боковинах этого разбитого гроба. Сколь совершенное изображение подношений! Перед моими глазами была домашняя птица и крылатая дичь, утки и гуси, куропатки и перепела, мясо домашнего скота, диких буйволов и кабана, ломти хлеба и пироги, фиги, и вино, и пиво, и зеленый лук, и гранаты, и виноград, и дыни, и сладкий плод лотоса.
Смотреть на это было больно. Я не смел искать в своем сознании слов (когда-то я должен был им учиться), обладающих силой, которая могла бы теперь дать мне часть этой нарисованной еды, вызвать ее из небытия, чтобы вкусить ее, — нет, еда, нарисованная здесь, предназначалась для Мени Второго, этот запас был оставлен для него на тот случай, если другие подношения из дичи и фруктов будут украдены.
Затем меня посетила мысль предать Мени, и я с удивлением осознал — из-за своей проклятой и отрывочной памяти, — что он, видимо, был мне настоящим другом. Ибо я почувствовал, что не имею никакого желания грабить эти запасы нарисованной снеди. Напротив, угрызения совести, казалось, несколько утихомирили мою прожорливость. По мере того как я разглядывал нарисованную еду, голод переходил в более терпимое состояние, когда кажется, что он уже почти утолен. О, чудо! Совершенно безо всякого усилия мои челюсти уже жевали, и кусок утки, по крайней мере такой у него был вкус (тщательно прожаренной на заботливо поддерживаемом огне тлеющих углей), был уже у меня во рту, и соки от этого мяса — я уже не был таким ненасытным — согласно бежали по пустому проходу в мой желудок. У меня даже возникло искушение отнять еду от своих губ и посмотреть на нее, однако любопытство — не то безрассудство, которое могло бы допустить удовлетворение подобным моментом. К тому же меня тронула щедрость моего друга Мени. Должно быть, он в полной мере познал тяготы голода, однако все же дал и мне кое-что (воспользовавшись, как я подумал, своим влиянием в Царстве Мертвых).
Появилась новая еда, сдобренная множеством приправ, буйволиное мясо и гусятина, фиги и хлеб, всего по кусочку. Поразительно, как мало пищи требовалось, чтобы утолить недавно еще столь сильный голод. К примеру, я ощущал в своем желудке целый кубок пива, который поглотил незаметно для себя самого. Однако мне было так хорошо, что я не возражал против возможности небольшого опьянения и даже рыгнул (ощутив привкус меди кубка), а потом понял, что произношу окончание молитвы, положенной при прошении о еде. Так велико было желание заснуть, что я, как ребенок, пожаловался вслух, потому что на полу, среди этого отвратительного мусора из пелен, негде было лечь. Тогда-то я и рассудил, что раз уж Мени был достаточно добр, чтобы предложить мне пищу, предназначенную для его Ка, то он вряд ли будет возражать против того, чтобы я прикорнул рядом с ним, поэтому я вставил свой факел в кольцо и, забравшись к нему, лег рядом с мумией, не беспокоясь даже (настолько все мои члены уже погрузились в дремоту) о том, что моя нога лежала рядом с его ногой, где в открытой дыре гнездились скорпионы. Я же продолжал устраиваться и успел даже еще раз рыгнуть и подумать, что съеденное мною, хоть и хорошее, мясо вряд ли, однако, было с кухни Фараона, поскольку отдавало чесноком, который всегда с такой готовностью используют в дешевых харчевнях. Затем, уже на границе мира сна, который начинался так близко и простирался так далеко, я подумал о Мени, его добром сердце и любви ко мне, и печаль, мощная, как река слез, захлестнула мое сердце. Медленно, слыша свой вздох, я вернулся в сон, и он, из глубочайшего причастия дружбе, из владений своей могилы, принял меня. И мы ушли вместе: он — в Царстве Мертвых, и я — наполовину в царстве живых, и я знал, что ощутил все то, что должен был чувствовать он в час своей смерти.
ЧЕТЫРЕ
В таком сне, думается, я проделал путь сквозь тень, что сходит на сердце, когда глаза закрываются в последний раз, и семь душ и духов готовятся вернуться на небеса или спуститься в подземное царство.
Холодные огни проносились перед моими невидящими глазами, когда они готовились покинуть меня. И они не взлетели мгновенно, но тронулись в путь чинно, подобно совету жрецов, все, кроме одного — Рена, Тайного Имени человека, который отошел немедленно, как будто небо прочертила падающая звезда. Все происходит так, как и должно происходить, решил я. Ибо Рен не принадлежит человеку, но приходит из Небесных Вод, чтобы войти в младенца в момент рождения, и остается недвижимым до тех пор, пока не приходит время возвращаться обратно. Хотя Тайное Имя и имеет определенное воздействие на человеческий характер, оно, несомненно, является самым отдаленным из наших семи светов.
Затем я прошел сквозь тьму. Имя ушло, и я знал, что следующий — Сехем. Дар солнца, он — наша Сила, он движет нашими конечностями, и я почувствовал, как он поднимается из меня.
Он покинул меня, и мое тело стало неподвижным. Я ощутил уход этого Сехема, и он был подобен закату на Ниле, что приходит со звуком трубы жреца. Сехем исчез вслед за Реном, и я был мертв, и мое дыхание улетело с последним отблеском заходящего солнца. В этот час облака на закатном небе отдают свой карминный свет. Однако с наступлением вечера темные облака остаются на виду, словно предвестие бурь, что придут на рассвете. Ибо Сехему придется задать свой зловещий вопрос. Как и Имя, он является даром Небесных Вод, однако в отличие от Рена, уходя, он может быть сильнее или слабее, чем когда впервые вошел в меня. Итак, вопрос был следующим: «Некоторые преуспели, достойно используя Меня. Можешь ли и ты утверждать это?» Таков был вопрос Сехема, и в наступившей тишине мои конечности напряглись, и последняя сила, которой могло хватить лишь на подергивание кожи, сжалась и иссякла. Угасание могло бы быть полным, если бы не ощущение бодрствования. Я ждал. Во тьме, беспросветной, не потревоженной и дуновением, бездыханной и потому неспособной вызвать движение мысли, настойчиво звучал вопрос Сехема. Достойно ли я пользовался им? И время текло неизмеримо. Прошел ли час или неделя, пока лунный свет поднялся из глубин моего тела? Птица со светящимися крыльями пролетела перед этой полной луной, и ее голова была подобна светящейся точке. Должно быть, то была Ху — эта прелестная птица ночи — создание с божественным умом, одолженным нам точно так же, как Рен или Сехем. Да, Ху — свет нашего разума, покуда мы живы, однако после смерти ей следует вернуться на небеса. Ибо Ху также вечна. Из ее распростертых крыл на меня сошло такое чувство, да, чувство такой нежности, какой я не испытывал ни к одному смертному и никогда не получал в ответ — в парении Ху пребывало какое-то грустное понимание меня. Теперь я знал, что она мой Хранитель и не схожа с Силой или Именем. Ибо возвращение моей Ху на небо не будет ни легким, ни беспрепятственным. Пока я следил за ее полетом, я смог заметить, что одно ее крыло повреждено. Разумеется! Хранитель не может так заботиться обо мне, не разделив со мной некоторых из моих ран и ударов. Вероятно, как раз когда ко мне вернулось понимание этого, тогда и Ху вспомнила о прочих своих обязанностях, потому что птица начала подниматься ввысь, кренясь в небе на свое поврежденное крыло, покуда не миновала луну, а луна не зашла за тучу. Я снова был один. Трое из семи моих светов наверняка отошли. Имя, Сила и Хранитель, и они никогда не умрут. Но что с прочими душами и светами — с моей Ба, моим Ка и моей Хаибит? Они не были столь же бессмертными. Наверняка они никогда не смогли бы пережить всех опасностей Царства Мертвых и таким образом им, возможно, придется узнать свою вторую смерть. После того как ко мне пришла эта мысль, мрак сошел в мое тело и я стал страстно ожидать появления Ба. Однако она не подавала никакого знака, что готова явиться. Ведь Ба, вспомнилось мне, может считаться госпожой вашего сердца, и в ее воле решать — говорить или не говорить с вами, так же как и сердце не всегда может простить. Возможно, моя Ба уже отлетела: некоторые сердца коварны, некоторые не могут переносить страданий. Затем я стал думать, сколько мне придется ждать своего Двойника, однако если я правильно помнил, Ка не должен появиться ранее семидесяти дней, пока не завершится бальзамирование. Наконец я был обязан помнить шестого из семи светов и теней. Это Хаибит. Хаибит — моя тень, несовершенная, как и предательские обрывки моей памяти — такова Хаибит — моя память. Однако я стал считать: Рен, Сехем и Ху, Ба, Ка и Хаибит. Имя, Сила и Хранитель, мое Сердце, мой Двойник и моя Тень. Кто мог быть седьмым? Я чуть не забыл седьмого. Им был Сеху, бедный дух, которому придется оставаться в моем спеленутом теле, когда отойдут все другие! Останки — не более чем отражение силы, словно лужи на берегу, когда вода отступает с отливом. Что ж, у Останков памяти не больше и не меньше, чем солнца в последнем вечернем свете.
С этой мыслью я, вероятно, провалился в обморок, так как вступил в пределы, отделенные от света и звука. Возможно, я был далеко, путешествуя где-то, потому что меньше всего я представлял себе ход времени. Я ждал.
ПЯТЬ
В мой нос вошел крючок, вломился через ворота в крыше над моей ноздрей и погрузился в мой мозг. Куски, обрывки и целые части мертвой плоти моего мозга извлекались из меня то через одно отверстие моего носа, то через другое.
Но, хоть он и произвел все эти повреждения, я как будто состоял из маленьких камней и корней. Мне было больно не более, чем земле, когда из нее выпалывают сорную траву, и она выходит, выдирая свои волоски из комков почвы. Боль присутствует, но как слабый крик выкапываемого растения. Таким же образом крючки, узкие в месте своего искривления, проникали через нос вверх, входили в голову и тыкались, как слепые пальцы в нору, чтобы поймать обрывки мозга и вытащить их наружу. Теперь я чувствовал себя, как каменная стена, основание которой подкапывают скребки, и даже странным образом ощутил тепло, будто пригревало солнце, но то было лишь дыхание первого бальзамировщика, горячее от вина и фигов — каким отчетливым было ощущение запаха!
Все же оставалась загадка. Как мог мой ум продолжать думать, если они разодрали мой мозг? Они явно извлекали куски вещества, такого же живого, словно то была сухая губка, которую протаскивали через сухие проходы в моем носу, и я понял — потому что, когда в него в первый раз вошел крючок, в моем черепе мелькнула вспышка — что один из моих светов в Царстве Мертвых наверняка поколебался. Была ли это Ба, Хаибит или Ка, что помогали мне теперь думать? И я задохнулся, когда особо едкое средство, какая-то гнусная смесь извести с пеплом была влита бальзамировщиками, чтобы растворить все, что еще могло остаться прикрепленным внутри моего черепа.
Не знаю, как долго они работали, сколь долго они позволили этой жидкости пребывать внутри моей опустошенной головы — это всего лишь один из многих вопросов. Время от времени они поднимали меня за ноги, держали меня вниз головой, затем клали обратно. Однажды они даже положили меня на живот, чтобы взболтать жидкости и позволить едкому веществу выесть мои глаза. Точно сорвали два цветка, так опустели глазницы.
Ночью мое тело холодело, к полудню оно становилось почти теплым. Разумеется, я не мог видеть, но мог обонять и начал различать бальзамировщиков. Один употреблял благовония, но все равно его тело всегда имело безошибочно различимый резкий запах кошки, когда у нее течка, другой — крупный человек, и его тяжелый запах не был так уж неприятен — это тот самый, дышавший вином и фигами. От него пахло также полями и грязью, и его запах говорил мне о том, что он привык есть много жирной еды — его пот, пот любителя мяса, был крепким, но не неприятным — что-то надежное исходило от соков его плоти. Так как запах сообщал мне об их приближении, я знал, что, коль скоро пришли бальзамировщики, наступил день и я мог считать часы. (Их запах менялся по мере разогрева воздуха в этом месте.) От полудня до трех всякий сильный запах с горячих берегов Нила, и хороший и плохой, также доходил досюда. Некоторое время спустя я стал понимать, что, кажется, нахожусь в палатке. Часто слышались хлопки парусины, которая билась над головой, а порывы ветра трепали мои волосы — ощущение, оставлявшее столь же четкое впечатление, как след копыта на траве. Слух стал возвращаться ко мне, но любопытным образом, поскольку меня совершенно не интересовало сказанное. Я понимал, что слышу голоса людей, но не чувствовал желания разбирать слова. Они походили не столько на крики животных, а скорее на ленивый шум прибоя или свист ветра. И все же я сознавал, что способен воспринимать происходящее с поразительной ясностью.
Однажды мне показалось, что пришла Хатфертити или, поскольку палатка, скорее всего, стояла на земле, принадлежавшей нашей семье, возможно, она бродила по садам и остановилась, чтобы заглянуть внутрь. Я точно уловил ее запах. Это наверняка была Хатфертити; она всхлипнула разок, будто наконец поверила в кончину своего сына, и немедленно ушла.
Как-то в эти первые несколько дней они сделали надрез в боку моего живота острым тонким ножом — я знаю, насколько острым, так как даже с помощью тех немногих чувств, которыми еще располагали мои Останки, ощущение остроты прошло сквозь меня, как плуг, разрезающий землю, только еще острее, точно я был змеей, разрезанной надвое колесом колесницы, а затем принялись за самое подробное обследование. Это трудно описать, поскольку боли не было никакой, однако в те часы я был готов сравнить внутреннее пространство моего туловища с зарослями в роще: одно за другим деревья извлекались из земли, их корни будоражили вены камней, их листья шелестели. Мне чудились города, течение несло их вниз по Нилу, как плавучие острова. Однако, когда работа была сделана, у меня появилось ощущение, что я стал больше, словно мои чувства обретались теперь в большем пространстве. Происходило ли это потому, что мои легкие поместили в один сосуд, а содержимое живота — в другой? Пусть мои органы, будучи распределены по разным местам, плавали в различных жидкостях и настойках, все же они пребывали вокруг меня, составляя некое подобие сельской общины. Конечно, их верность мне будет утрачена. Завернутые и вложенные в канопы, они смогут поднести своему Богу то, что знали о моей жизни.
Меня занимали размышления о том, что эти Боги узнают обо мне, когда мои органы попадут в Их сосуды. Кебехсенуф поселится в моей печени и узнает обо всех тех днях, когда все ее соки были исполнены храбрости; также Кебехсенуф узнает и о тех часах, когда печень, как и я, пребывала в тумане долгого страха. Простой пример — моя печень, но более пригодный для рассмотрения, чем мои легкие. Ибо при всем том, что они знали о моих страстях, останутся ли они преданными мне, переместившись в сосуд шакала Дуамутефа, и когда будут жить во владениях этого пожирателя падали? Я не знал этого. По крайней мере до тех пор, пока мои органы оставались не завернутыми и таким образом до некоторой степени продолжали принадлежать мне, я мог понять, каким образом, как только их забальзамируют и поместят в соответствующие сосуды, я их утрачу. При том что сейчас части моего тела были разложены по разным столам в этой палатке, среди нас все еще сохранялось чувство семьи — сосуд моего опустевшего мертвого тела был удобно окружен старыми островками предпринимавшихся усилий, всех их — мои легкие, печень, желудок, большие и малые кишки — связывали одни и те же воспоминания о моей жизни (пусть даже каждый придерживался собственных и яростно пристрастных точек зрения — в конечном счете моя жизнь должна была представляться весьма и весьма по-разному моей печени и моему сердцу). Так что эта палатка для бальзамирования отнюдь не была такой, как я ожидал, нет-нет, вовсе ничего похожего на кровавую скотобойню вроде прилавка мясника, а скорее напоминала кухню с большим количеством трав. Действительно, здешние запахи вызывали длительные полеты фантазии, сходные с теми, что случаются в лавке, где торгуют пряностями. Достаточно представить головокружительные ощущения в моем носу, когда свободная полость моего тела (гораздо более пустая, чем чрево женщины, которая только что родила) была омыта, умиротворена и умащена возбуждающими притираниями, вычищена, сдобрена перцем, травами и оставлена в состоянии равновесия всех этих составляющих, через которые не мог просочиться и намек на телесное тление. Они промыли окровавленную полость пальмовым вином и предоставили воспоминания о моей плоти брожению. Они набивали внутрь специи, перцы и редкие шалфеи, растущие на известняковых почвах Запада; затем наступил черед листьев тимьяна и пчелиного меда, собранного с тимьяна; апельсиновое масло втирали в полость груди, а масло лимона бальзамировало внутренность таза, освобождая его от стойкого запаха кишок. Щепки кедра, крепкая жасминовая настойка, кусочки веточек дерева, источающего мирру, — я слышал крики разламываемых растений более отчетливо, чем звуки человеческих голосов. Мирра даже издала присущий ей звук рожка. Сильнейшим благовонием (столь же сильным в царстве трав, как глас Фараона) была мирра, вложенная в раскрытую раковину моего тела. Затем последовали листья корицы, ее корень и кора, призванные смягчить мирру. Подобны редким порошкам, добавляемым к сладкому мясу при фаршировке голубя, были эти поразительные благовония, которые они вкладывали в меня. От их красоты у меня кружилась голова. Закончив, бальзамировщики зашили длинный разрез в боку моего тела, и мне показалось, что я возношусь сквозь высокие пределы лихорадки, и что-то из моих воспоминаний, опьяненное этими порождениями земли, закружилось в танце, и старейшие из моих друзей стали молодыми, тогда как дети моих любовниц состарились. Я был как царская лодка, поднятая в воздух молениями редкостного Верховного Жреца.
Очищенный, начиненный и крепко стянутый, я был помещен в раствор крупной соли — той, что высушивает мясо, превращая его в камень, — и лежал там под грузом, удерживавшим меня на дне. Медленно, на протяжении бесконечных протекших затем дней, когда воды моего тела были таким образом преданы жажде соли (припавшей к моей плоти, подобно каравану, прибывшему в оазис), всем влагам, с их неутолимым желанием растворить мою мякоть, пришлось навсегда покинуть мои члены. Опущенный в эту соль, я стал твердым, как кора дерева, затем как горная порода, и почувствовал, как последнее из того, что осталось от меня, уходит, чтобы воссоединиться с моим Ка, моей Ба и моей устрашающей Хаибит. И раковина моего тела вошла в камень возрастом в десять тысяч лет. И притом, что я уже ничего не мог обонять (не более чем камень способен воспринимать запах), отвердевшая плоть моего тела стала похожа, однако, на одну из тех витых ракушек, что, выброшенные морем на берег, все еще хранят рокот волн, слышный, когда подносишь их к уху. Я стал чем-то вроде этого рокота, ибо был близок к тому, чтобы слышать древние голоса, проносящиеся над песками — если теперь я не мог обонять, то, во всяком случае, мог слышать — и точно дельфин, чьи уши, говорят, могут улавливать эхо с другого конца моря, так и я погрузился в соленую влагу, и мое тело уходило все дальше и дальше. Подобно камню, окутываемому туманом, прогреваемому солнцем и впитывающему запах моря на берегу, входил я в эту немую вселенную, где частью получаемого нами дара была способность слышать истории, которые всякий ветерок рассказывает каждому камню.
И все же, даже притом что меня несло по этим путям с Мени (его лакированный покров был влажен от моего дыхания — так близко я прижимал его к себе), я, наверное, пошевельнулся во сне или переместился в пространстве в скитаниях сна, ибо случилось так, что два облака встретились. Могло ли соприкосновение этих облаков покачнуть мой сон? Я почувствовал, как с каждым вздохом мое тело нисходит в гроб мумии, да, погружается в него, будто ее твердая оболочка была всего лишь мягкой, податливой землей, да, я вливался в покров мумии, и моя память и Мени снова стали одно. Еще раз я почувствовал священнодействия бальзамировщиков и пережил часы, когда они смывали соль с моего отвердевшего тела жидкостью из сосуда с составом не менее чем из десяти благовоний. «О, благоухающая душа Великого Бога, — нараспев говорили они, — Твой аромат столь прекрасен, что лицо Твое никогда не изменится и не исчезнет». Слов я не слышал, но их звуки были знакомы мне давно, я понимал, что говорится, и мне не нужно было принюхиваться к мази, которую они втирапи мне в кожу и умащали ею мои ноги, укладывали мою спину в священное масло и золотили ногти на моих руках и ногах. Они наложили специальные пелены мне на голову, повязку Нехеба на лоб, а Хатхор — на лицо; повязка Тота легла мне на уши и была скреплена у рта; ее край закрыл мне подбородок и заднюю сторону шеи; двадцать два отрезка ткани были наложены на правую сторону моего лица, и двадцать два — на левую. Они вознесли молитвы о том, чтобы я мог видеть и слышать в Царстве Мертвых, они натерли мои икры и бедра маслом черного камня и священным маслом. Пальцы на моих ногах были обернуты в полотно, на каждом кусочке которого был изображен шакал, а мои руки были завернуты в другое полотно с изображениями Исиды, Хепи, Ра и Имсета. Меня омыли водной настойкой камеди. Оборачивая, они укладывали амулеты, фигурки из бирюзы и золота, серебра и ляпис-лазури, хрусталя и сердолика; один из моих пальцев с позолоченным ногтем проскользнул в кольцо, брелок которого содержал смесь из тридцати шести капель [7] — по одной каждой из составляющих бальзамирования. Затем они наложили цветы растения анхам, потом полотнища и скатанные полотна, узкие полоски, длиннее, чем царская лодка, и сложенные полотна, чтобы заполнить все мои полости. Вместе с Мени я вдыхал запах бальзамической смолы, которая должна была припечатать полотна к моим каменным порам. Я слышал звуки молитв и чувствовал легкое дыхание художников, разрисовывавших мой саркофаг, они пели друг для друга в жаркой палатке под проходящим над ней солнцем. И пришел день, когда наконец я узнал звук камней мостовой, по которым с грохотом волокли повозку со мной и всем тяжким грузом погребального саркофага к гробнице, где меня должны были похоронить в нескольких гробах, и мне были слышны тихие всхлипывания женщин, такие же нежные, как отдаленные крики чаек, и возглашения жреца: «Вот идет Бог Хор со Своим Ка». Гроб ударился о ступени усыпальницы. Затем прошло несколько часов — часов ли? — церемонии, которую я не мог ни слышать, ни обонять; ничего, кроме звона сосудов с едой, стука небольших орудий и звука жидкостей, выливаемых на пол, но все это отдавалось в моей каменной сути, словно глухой рев подземной реки, что низвергается водопадом в пещерах, а затем на мою голову пал камень, после чего послышался скрежет цепей, но на самом деле это резцом [8] касались моего лица. Потом я ощутил, как некая огромная сила разжимает мои каменные челюсти, и множество слов влилось в мой рот. Я услыхал рев вод моего зачатия и надрывающие сердце рыдания — мои собственные? Я не знал. Реки воздуха подкатили ко мне, подобно новой жизни — и забытое первое мгновение смерти нахлынуло и ушло так же быстро. Затем родился мой Ка, иными словами, я родился вновь, и сколько времени прошло — день, год или время, за которое не могли умереть десять Царей? Но я восстал и снова был собой, существовал отдельно от Мени и его несчастного тела в гробу.
Да, я существовал отдельно, понимал, кто я, однако я был готов разрыдаться. Ибо теперь я знал, почему Мени был мне самым близким другом, а его смерть — моей предсмертной мукой. Да, мои смутные воспоминания о его судьбе были не чем иным, как смутными воспоминаниями о моей собственной жизни. Ибо теперь я знал, кто я такой, и чувствовал себя ничуть не лучше, чем когда я в смятении искал пищу, считая себя призраком. Я был не кем иным, как несчастным Ка Мененхетета Второго. И, если первым даром мертвых является то, что они могут добавить к своему имени имя Бога, тогда я был Ка бедного и беспомощного Осириса Мененхетета Второго, да, Ка, похороненным самым неподобающим образом и охваченным страхом, Ка, который теперь должен был жить в этой разоренной гробнице — о, где же я был сейчас, что узнал, где я нахожусь? И мысль о Царстве Мертвых открылась мне во всей полноте понимания того, что я — всего лишь седьмая часть всего, что когда-то было светами, дарами и силами живой души, некогда моей живой души. Теперь же я — не более чем Двойник умершего, и все, что от него осталось, — лишь остов его плохо завернутого тела и я.
ШЕСТЬ
Итак, теперь я мог правильно понять причину отсутствия у меня памяти. Будучи Двойником Мененхетета Второго, таким же храбрым и никчемным, как он сам, я все равно не мог помнить о нем более того, что было необходимо для придания его чертам должного выражения. Двойник, как зеркало, не имеет памяти. Я мог лишь думать о нем как о друге, самом близком своем друге! Что ж удивляться тому, что мне хотелось лечь рядом с коконом его мумии.
И все же, притом что в моих воспоминаниях чувств было не больше, чем в длинном шраме на коже, я тем не менее был самим собой.
Мое лицо все еще могло вызывать у других разнообразные приятные чувства. Был ли я когда-либо любовником Хатфертити? Откуда я мог знать? Но подобные мысли о собственной матери отнюдь не смущали меня — едва ли у зеркала могла быть мать. Да и что мешало мне предположить, что я — самая холодная часть сердца Мени? И все же, стоя среди беспорядка его — моей — гробницы, я знал, что эти бессердечные мысли уравновешивает ярость, которую будила во мне Хатфертити. В этот момент я мог бы убить ее. Ибо скоро мне предстояло покинуть это место, вскоре, если я осмелюсь, мне придется отправиться в путь, ведущий через Западную пустыню в Дуат, Царство Мертвых, — действительно ли оно такое, каким его описывали жрецы, с чудовищами и кипящими озерами? Как я смогу выдержать предстоящие мне испытания, если не помню своих дел и потому вряд ли смогу отчитаться за них? Страх смерти охватил меня в первый раз, настоящий страх — я понял, что моей жизни может прийти конец. Умереть в Царстве Мертвых, погибнуть со своим Ка — означало умереть навсегда. Вторая смерть была и последней. О, в каком отчаянном положении я оказался. Какая несправедливость! Хатфертити сделала так мало для моей гробницы!
Ярость душила меня. Гнев был слишком сильным чувством для нежных легких Ка. Ка отличался слабым дыханием. Именно поэтому на стене усыпальницы должно было рисовать парус — чтобы он мог помочь дыханию Ка вернуться. Однако здесь, на этих стенах, не было рисунка, изображающего парус. Задыхаясь от негодования, я тем не менее попытался представить себе его образ, и мне удалось вызвать легкий ветерок, тронувший волоски в моем носу — разве мог я быть мертвым, если они были столь чувствительными? Но стоило мне вдохнуть этот чистый воздух, сильный приступ страха, равный моей ярости, вновь охватил меня. Еще бы, недосмотры Хатфертити дорого обойдутся мне. Где рисунок, изображающий меня стоящим у воды? Что я буду пить? Как предзнаменование в глубине моего горла возникло саднящее ощущение сухого пятна, словно ошпаренного кипятком.
По сторонам моего гроба не были нарисованы и четыре двери для ветров. Разумеется, я не мог свободно дышать, когда ветрам было нанесено такое оскорбление. Странная мать! Она также не подумала приготовить коробочку с моей пуповиной. И, таким образом, я был лишен еще одного пути через Царство Мертвых.
Вот и еще упущение. Стоило мне просмотреть свитки папируса, положенного со мной в гроб, я обнаружил, что среди них отсутствовали тексты важных молитв. Я был поражен, как много я мог вспомнить: Заклинание-о-том-чтобы-не-умереть-во-второй-раз, Заклинание-о-том-чтобы-не-позволить-человеческой-душе-быть-запертой, Заклинание-о-том-чтобы-не-позволить-человеку-погибнуть-в-собственной-гробнице. Мой гнев стал бурно разрастаться и так окреп, что приступ бешенства прошел. Я ощутил властное желание призвать Хатфертити.
Словно для того, чтобы найти знак, я опустился на колени. Под мусором из сорванных пелен я обнаружил мертвого жука, да, прямо передо мной был навозный жук. Точно так же, как он пользовался своими задними лапками, чтобы толкать шарик навоза, размерами во много раз превосходящий его, в укромную нору, где на этом навозе вырастут его личинки, так и Хепри, похожий на гигантского жука, объясняли нам жрецы, каждый день несет Лодку Ра по небу, словно веслами гребя Своими шестью ногами по небесам. Это распространенное объяснение предназначалось для детей и крестьян. Я же не нуждался в подобных россказнях. Я был способен полагать, что если Великий Бог захотел войти в жука, то потому, что Боги любят прятаться в странных местах. Таков был первый закон великих тайн. Поэтому я съел каждое из крыльев мертвого жука, жуя так медленно, как только могло терпеть мое небо. Их сухие пластинки резали мой язык, как маленькие ножи, а голова жука, хоть я и жевал ее тщательно, оказалась всего лишь маленькой песчинкой, однако, признаюсь, проглотив ее, я попробовал представить себе голову Хатфертити. Не прибегая ни к каким заклинаниям, но исполненный величайшего презрения к гнусностям, совершенным моей матерью, я сказал: «Великий Хепри небес, да восторжествует справедливость. Яви мне живую Хатфертити». Сквозь закрытые глаза я увидел вспышку света, и земля дрогнула у меня под ногами от глухого раската грома. Однако, подняв голову, я увидел не Хатфертити. Вместо нее передо мной явилось изможденное тело Ка старого Мененхетета Первого. Не могу сказать, что мне понравилось, как смотрел на меня мой прадед.
СЕМЬ
Он был одет как Верховный Жрец, и, насколько я знал, он и был Верховным Жрецом. Его голова была обрита, и казалось, он пребывал в воздухе, исполненном его собственной божественности, словно каждое утро его тело освящалось. При этом он не был похож ни на одного Верховного Жреца, каких я когда-либо видел. Он был слишком грязен и очень стар. Цвет пепла был теперь цветом его некогда белых полотняных одежд, и многолетняя пыль забилась в основу ткани. Пепельного же цвета была и его кожа, еще темнее его одежд, но протравленная той же пылью, а пальцы на его босых ногах казались каменными. На его браслетах проступила зелень разных оттенков. Кольца, украшавшие его щиколотки, покрылись черной ржавчиной. Блестели только его глаза. Их зрачки были также лишены всякого выражения, как взгляд нарисованной рыбы или змеи, однако белки светились, как известняк под луной. В свете моего факела лишь белизна его глаз свидетельствовала о том, что он не статуя, ибо он оставался недвижим на стуле рядом со своим гробом, и, если бы не злобный свет этих глаз, на вид ему можно было бы дать сто или тысячу лет.
Я почувствовал, что ко мне возвращается то же гнетущее ощущение, что я испытывал, глядя на его гроб. Он был так стар! Невозможно было даже описать его черты, не различая границ его носа и щек. Просто уступы его кожи были испещрены морщинами. Казалось, он вообще почти лишен каких-либо признаков существования, однако его присутствие вселяло в меня такую тревогу, что я решил избавиться от него. И быстро. Словно он был каким-то вредным насекомым. Посему я сделал шаг к канопе, ближайшей к его гробу — то был Дуамутеф, — и повернул ее крышку. Она сдвинулась легко. Сосуд был пуст. В вазе шакала не было спеленутых сердца и легких. Я повернулся к Имсету. Тот тоже был пуст.
— Я съел их, — сказал Мененхетет Первый.
Неужели с того дня, как он умер, разряженный воздух его горла ни разу не согрело солнце? Его голос прозвучал, как эхо в холодной пещере.
«Почему, — хотел я спросить, — почему, прадед, ты съел собственное благословение?», — однако наглость этого вопроса была удалена из моего рта, прежде чем я смог его задать. Мне никогда не доводилось переживать что-либо подобное. Ощущение было таким, словно грубая рука вошла мне в горло так глубоко, что я едва не подавился, схватила за язык и ошелушила его от корня до кончика.
Вот тогда я и почувствовал страх, такой же отчетливый, как самые ясные моменты моего сознания. Ибо я был мертв, как понял еще раз (снова как впервые), и, будучи мертвым, должен был теперь встречаться с каждым ужасом, которого избежал при жизни. Можно ли сказать, что первым из этих кошмаров оказался мой предок Мененхетет? Ибо я мог точно припомнить, как часто мы говорили о нем в нашей семье и всегда как о человеке несказанной силы и зловещих привычек.
Пока я смотрел на него широко раскрытыми глазами, он заговорил.
— Ну, и что ты думаешь? — спросил он.
— Что я думаю?
— Теперь, когда мы вместе.
— Надеюсь, — сказал я, — что мы лучше узнаем друг друга.
— Наконец-то.
В моих легких был тот же бодрящий воздух, который я уже вдыхал в гробнице Хуфу. Наверное, вернулось лучшее, что было во мне, потому что я почувствовал странный подъем, даже уверенность в том, что встретился со своим врагом. Неужели я встретил врага всей своей жизни теперь, когда был мертв? Но умолчим о смерти. Она мне безразлична. Никогда еще так явственно я не ощущал полноту жизни. Словно в какой-то ужасный день, решив покончить с собой, я подошел к краю скалы, посмотрел вниз, в пропасть, наверняка зная, что сделаю шаг в пространство передо мной и сразу же после падения буду мертв. В такой момент я должен был бы ощущать страх в каждой капле своей крови, и все же будущее должно было бы видеться ярким, как вспышка молнии. И вот сейчас мной овладело именно такое чувство. Счастьем было находиться вблизи от своего страха, и все же отделенным от него, отчего я мог наконец совершенно ясно увидеть все те пути, по которым я не сумел пройти в своей жизни, всю ту скуку, что я покорно проглотил, каждое гадкое чувство напрасно растраченной плоти. Точно над моей жизнью тяготело проклятье, и его знаком — несмотря на весь разгул пьянящего риска и буйства — было ощущение непреложного однообразия, жившее в моем сердце. Чувство смерти при жизни — откуда ему было взяться, как не от проклятья? Тогда я стал догадываться о том, какой силой обладает желание умереть, раз это единственный способ повстречаться со своим злым духом. Неудивительно поэтому, что сейчас я стоял перед ним в замешательстве столь же бодрящем, как ледяная колодезная вода. Ибо как часто прекрасными вечерами и в скольких прекрасных садах я рассказывал забавные истории об отвратительных привычках того, кто первым носил мое имя? Как мы плакали от смеха, говоря о его расчетливости, его хитрости, его святотатственных пиршествах, во время которых он ел помет летучих мышей.
Но вот, как будто услышав мои мысли, он в первый раз поднялся — человек не большой и не такой маленький, каким он мне показался при своем появлении, и пропыленный, как самая заброшенная дорога в пустыне.
— Эти истории, — пробормотал он, — оставили отвратительное пятно на моем имени, — самообладание, с каким это было сказано, заставило меня задуматься о том, совершенно ли несомненно мое нравственное превосходство над ним? Я не прекращал верить в то, что он вел меня к окончательной гибели, однако теперь мне пришло в голову, что у него, возможно, была и другая, более высокая цель. Если, пребывая в странном опьянении от знания, что я мертв, я и почувствовал себя так превосходно, как герой, то все еще не мог припомнить, в чем состояло мое геройство. Тем не менее я почти не сомневался, что мои цели (если я когда-либо сумею их выяснить) окажутся благородными. Теперь же я не был в этом так уверен.
— Как ты думаешь, — спросил он, — я привлекателен или безобразен?
— Не слишком ли ты стар и для того, и для другого?
— Это — единственно правильный ответ. — Он рассмеялся. Подтрунивая надо мной, он водил пальцем перед моим носом. — Ну что ж, ты мертв, — сказал он, — и тебе определенно грозит опасность испустить дух вторично. Тогда уж ты исчезнешь навсегда. Прощай, милый мальчик. Твое лицо было прекраснее твоего сердца. — Он по-стариковски коротко хихикнул, невообразимо непристойно. — Ты доволен тем, что согласился, чтобы я был твоим проводником в Херет-Нечер? — спросил он.
— А у меня есть выбор?
— Пуповина уже приготовлена. Изображение Мени, стоящего в воде, заказано самому выдающемуся в кругу моих друзей художнику; он также нарисует паруса, которые поймают дыхание вечера для нежных легких моего сына. — В его словах зазвучала самовлюбленность Хатфертити, высшим наслаждением для которой было слушать глубокие звуки собственного голоса. — Разумеется, у меня было столько дел, что работа еще и не начиналась. Мне говорят, что гробница в полном беспорядке, все в ней разбито и загажено. Бедный Мени. Как, интересно, он и Старый Помет ладят между собой?
Я рассмеялся. Редко доводилось мне слышать столь мастерское подражание. Если когда-то я смеялся над Богами и блудил со жрецами, то никогда с такой легкостью. Я стал понимать причины моего необычайно приподнятого настроения: быть мертвым и при этом более живым, чем раньше, — это состояние пьянило так же, как ночь, когда ты готов ко всему.
— Расскажи мне про Херет-Нечер, — сказал я так весело, будто просил еще вина.
На старом, опустошенном лице, покрытом морщинами, как панцирь черепахи, прошедшей через огонь, появилось выражение приверженности Верховного Жреца церемониям. — Укрепи мое дыхание, — сказал он своим гулким голосом.
При этих словах с ним произошло превращение. Грязь, покрывавшая его тело, казалась теперь серебряной пылью, а его правая рука была воздета к небесам. Глаза его продолжали торжественно созерцать землю. Но затем он подмигнул мне. Я был поражен. Похоже, ему доставляло удовольствие заставлять мои мысли разбегаться в разные стороны. — Нам надо, — сказал он, — подготовить тебя. Ведь ты забыл то, что знал. Это обычно для Ка. Он мало что помнит о наших самых священных обрядах.
К тому же происходившие с ним перемены не давали мне прийти в себя. Теперь он вновь говорил торжественным тоном: — О, Повелитель Осирис, — начал он и свел кончики указательных и больших пальцев, образовав фигуры, похожие на два глаза, — я прошел над реками огня и сквозь озера кипящей воды. Я вошел в темную ночь Царства Мертвых и проследовал семью залами и особняками Сехет-Иару. Я выучил имена Богов, стоящих у двери каждого зала. Услышь о тяготах этого прекрасного молодого человека, Ка которого будет сопровождать меня. Как обрести ему терпение выучить имена трех стражей при двери каждого зала, когда его память нетверда? Распознать опасности, что ожидают его. Хранителя дверей Четвертого Зала зовут Хесефхрааштхеру, а Глашатай, проверяющий тех, кто умирает ночью, откликается лишь на звук имени Нетекахрахесефату. И это всего лишь два из двадцати одного имени, которые Ка этого юноши должен запомнить, если желает пройти чрез врата Сехет-Иару. — Мой прадед умолк, будто затем чтобы предаться размышлениям об этих именах. — Да, — сказал он необычайно звучным голосом, — я, Осирис Мененхетет Первый, выжил по твоему решению. Так услышь же мое моление, Повелитель Осирис, и избавь Ка этого юноши от подобных огней, ибо он не кто иной, как блистательный Осирис Мененхетет Второй, мой правнук, сын моей внучки, госпожи Хатфертити, бывшей моей наложницей при жизни и сохраняющей плотскую близость со мной во все годы моего посмертного существования, и да служат мне и впредь скорпионы.
Я был изумлен. Моление было благочестивым, однако не походило ни на одно из тех, что я знал; но более всего меня смутили только что прозвучавшие замечания о моей матери.
— Я могу рассказать тебе больше, — промолвил он. — Я знаю молитвы, отпугивающие змей и пронзающие крокодила. Я могу дать тебе крылья ястреба, чтобы ты пролетел над твоими недругами. Или показать тебе, как пьют хмельную влагу в теле Бога Птаха. Я могу открыть твоему взору врата, ведущие в Поля Тростника, и научить тебя, как выскользнуть из рыбацких сетей. Да, я сделаю все это, если буду твоим проводником.
Меня клонило в сон, хотя время сна еще не пришло. Этот древний, словно доносящийся из-под земли, голос призывал так много имен. Возможно, я некогда подшучивал над этими именами, но вызывать такое войско в столь короткий промежуток времени — подобная дерзость лишила меня сил. Теперь я понял, что сила моего Ка столь же недолговечна, как и уверенность ребенка, только начавшего учиться ходить, в том, что он устоит на ногах. У меня возникло желание пасть перед ним ниц.
Однако он никогда не вызывал у меня такого отвращения. Если мне удастся пережить эту ночь, то с теми сказками, которые я мог бы теперь рассказать, я, пожалуй, смогу ужинать в любом царском саду на берегах Нила. Он был крайне нелеп, этот пропыленный старик со своим низким, холодным голосом, одинокий, как гагара, и все же исполненный уверенности в себе — судите сами о неуместности его речи, когда он пускал ветры из своей задницы, произнося имя каждого Бога, которого он называл: отвратительный поток хлопков, писков, шипения — пип-поп-пуп, рыков и завываний зловонных ветров, и все это, судя по выражению его лица, с самой изысканной непристойностью. Каждое чудовище, божество или злого духа, которых он призывал, он приветствовал сдержанным изысканным движением своего запястья, как будто его плоть хранила знание их всех, что позволяло ему испускать громоподобные приветствия из бойниц своего старого заднего прохода. Гробница смердела; сначала из-за мусора всех тех загаженных повязок, а теперь еще и от бури его слов со всеми смрадными запахами его дыхания и порывов ветров его тела.
— Знаешь ли ты о моей жизни хоть что-нибудь, что соответствовало бы действительности? — спросил он.
Я ответил: — Ты истязал пленников, молился мерзейшим Богам и пиршествовал, поедая такое, что никто не мог выносить.
— Я молился Богам, силы которых были столь устрашающими, что другие избегали Их дел. И я ел много запретных вещей, в них заключены тайны вселенной. Неужели ты думаешь, что я стал Смотрителем при Повелителе Богов Осирисе без того, чтобы решиться на многое?
— Мне не представляется правдоподобной, — сказал я, — сама мысль, что ты — Смотритель на службе у Осириса. Я не вижу доказательств превосходства твоего знания. — Однако это замечание было слишком дерзким. Еще не договорив, я содрогнулся.
Он улыбнулся, как будто полностью завладел разговором. — О чем ты можешь судить? — заметил он. — Ты не знаешь истории Осириса. Ты не помнишь даже того, чему тебя учили жрецы.
Опечаленный, я кивнул. Я действительно не знал. Я мог припомнить истории, которые мне рассказывали в детстве про Исиду и Осириса и других из тех Богов, от Которых мы все произошли, однако теперь казалось, что суть этих историй утрачена и так же далека от меня, как мои завернутые органы, каждый из которых пребывал в своей канопе, я вздохнул и почувствовал внутри себя пустоту пещеры. Притом что я не мог объяснить, почему я так думал, мне представлялось, будто нет ничего важнее, чем хорошо знать этих Богов, поскольку именно Они могли восполнить всю пустоту моей сущности и таким образом послужить верными проводниками в Царстве Мертвых, со всеми его опасностями, которые еще ждали меня на этом пути. Ибо теперь я припомнил старую пословицу: «Смерть вероломнее жизни!»
И все же, когда Мененхетет кивнул мне в ответ, смеясь над моим плачевным положением, я почувствовал — в каком-то последнем порыве гордыни, — что обязан высказать свое самое смелое замечание. — Я не могу поверить, что ты — посланник Осириса, — сказал я ему. — Твоя вонь была бы отвратительна ноздрям Бога.
Мененхетет Первый грустно улыбнулся. — Я обладаю силой вызывать любой запах, какой ты пожелаешь. — И в наступившей тишине он вдруг стал чист, как благовоние, и приятен, как трава. Я склонил голову. Вероятно, Осирис, прекраснейший из Богов, позаботился обо мне, если его Смотрителем был Мененхетет Первый. Сколь привлекательной для моего тщеславия казалась такая мысль.
Посему я попросил своего прадеда, чтобы тот поведал мне историю Осириса и всех Богов, Которые жили в начале бытия нашей земли, а в доказательство своей искренности я пересек разделявшее нас пространство, чтобы сесть рядом с ним. Он улыбнулся, но более ничем не поощрил меня. Вместо этого он вложил руку в складку своей длинной пыльной юбки и, одного за другим, достал оттуда нескольких скорпионов, каждого из которых он немного подержал привычной к этому и нежной рукой. По одному скорпиону он положил себе на каждое веко, двух — у входов в свои ноздри, по одному на каждое ухо, а последнего скорпиона он положил себе на нижнюю губу: семь скорпионов на семь отверстий своей головы. Затем он вновь кивнул мне, и кивок этот был тяжек, как камень.
— В начале, — сказал он, — до того как появилась наша земля и Боги еще не родились, до появления первой реки или Царства Мертвых, когда не было видно неба, Сокрытый Амон истинно пребывал уже в Своем невидимом великолепии. — При этих словах Мененхетет поднял руку, словно желая напомнить мне изысканный жест, который Верховный Жрец использовал в храме во времена моего детства.
— Итак, именно от Амона ведем мы свое начало. Он вышел из своего Сокрытия, чтобы явиться как Атум, и это Атум издал первый звук. То был призыв, обращенный к свету. — Торжественность жрецов, наставлявших меня в детстве, снизошла на меня теперь, и мои конечности ослабели. — Крик Атума, — сказал Мененхетет, — дрожью прошел по телу Его Жены, Которой была Нут, и Она стала нашими Небесными Водами. Столь мощным голосом говорил Атум, что первая волна всколыхнулась в Ней, и эти Небесные Воды произвели свет. Так был рожден Ра — из первой волны вод. Из великого спокойствия Небесных Вод родилась огненная волна Ра, и Он поднял Себя на небеса и стал солнцем тогда, когда Атум вновь скрылся в теле Своей Жены и был снова Амоном, — Мененхетет перевел дыхание. — Таково начало, — сказал он.
Я ощущал то же почтение, что чувствовал, когда жрецы говорили о первом звуке и первом свете. — Я буду слушать, — сказал я ему.
Однако, как только я произнес эти слова, он снял скорпионов, вернул их в складку юбки, откуда и достал ранее, и заговорил совершенно иным тоном, как будто торжественность произносимого в Царстве Мертвых не могла длиться более седьмой части времени, отводимого для самых торжественных часов нашей жизни. Ибо теперь, безо всякого предупреждения, он вдруг стал крайне непочтителен к Богам, даже позволил себе упомянуть позорящие их подробности, словно все Они были его братьями в большой семье, о которой ходила дурная молва. При всем том, что я слышал о его способности к святотатству, я даже представить себе не мог, насколько непристойной станет вскоре рассказанная им история Осириса.
Не был я также готов и к тому, как много времени она займет. И до того как мы закончили, мне пришлось хорошо узнать этих Богов.
II КНИГА БОГОВ
ОДИН
Словно старик, чье горло подобно горшку с мокротой, Мененхетет забулькал, смеясь над теми грязными проделками, что нас ожидали. — Поставь перед Ра одну из богинь, — сказал он, — или скользкую от грязи старую свинью — для Него все было едино. Они все ему нравились. Единственной Его заботой было найти себе жену похолодней, чтобы та могла переносить Его пыл. Поэтому он и остановил Свой выбор на Богине неба. — Мененхетет снова зашелся смехом. — Ра мог придавать Своему члену любую из сорока двух форм, присущих разным животным: барану, быку, бегемоту, льву — выбирай любого! — но однажды он сделал ошибку, сказав Нут, что ему не нравится утолять Свою страсть с коровой. Разумеется, Она избрала Своим местопребыванием тело коровы. В браке всегда так бывает. — Он кивнул. — Как только ей представлялась возможность, Нут устремлялась вниз, чтобы вываляться в грязи с Гебом. Какое скотство! Для женщины нет мести слаще той, когда измены происходят прямо под носом у ее мужа. Ра так разъярился, что в течение следующих пяти ночей в Ее чрево попало пять младенцев. Ра и Геб просто не слезали с Нее, так что от земли шел пар, а небо было затянуто густым туманом.
Теперь Мененхетет умолк. На его лицо легла тень грусти, словно то, о чем он собирался рассказать далее, нельзя было назвать забавным. — Так вот, — сказал он, — зачал ли этих пятерых отпрысков Ра (чьими детьми Их немедленно объявили), или они произошли от Геба, навсегда останется тайной, однако от того или другого, но Нут в первый час родила Осириса, во второй — Хора, в третий из бока матери вырвался Сет, проделав таким образом в небе прореху, через которую могут ударять молнии. Исида вышла с влагой росы, а Нефтиде, рожденной последней, было дано Тайное Имя — Победа, ибо Она была самой прекрасной. Однако Ей суждено было выйти замуж за Своего брата Сета, тогда как Исида обручилась с Осирисом (хотя об Исиде и Осирисе говорили, что Они любили друг друга еще во чреве матери). В подобных обстоятельствах как можно спрашивать, кто кому приходился наполовину братом или сестрой?
В этом месте рассказа его голос зазвучал так близко к моему уху, что я уже перестал понимать, каким образом мне передается его знание. Когда я закрыл глаза, мне даже ненадолго показалось, что все это происходит со мной, и я, конечно, смог услышать голос Ра.
«Я гляжу на Моих детей, — кричал Он, — и не знаю, Они Мои или Они ползучие отродья каверн Геба. Если я прокляну Их, я причиню ущерб Себе, так как не знаю, незаслуженным ли будет Мое проклятье или недостаточно действенным».
Три брата — Хор, Осирис и Сет — и сестры — Исида и Нефтида — жили в доме, полном дурных предзнаменований. Даже будучи детьми, Они играли в измену и мечтали об убийствах. Проклятье Ра перешло как в союз Исиды и Осириса, так и в брак Сета и Нефтиды.
Однако какими же они были разными. Исида любила Осириса, находя Его привлекательнее Себя, тогда как Нефтида была несчастна. Плоть Сета опаляла ее нутро. Под огнем Его рвения, Ее жгли раскаленные камни пустыни. «Как могу Я носить имя Победа, — спрашивала Нефтида, — если Мое чрево горит, когда Он входит в Меня?» Осирис же был прохладен, как тень оазиса. Его пальцы были нежны, когда он передавал Ей блюдо. И пришла ночь, когда Нефтида изменила Своему мужу с Осирисом.
Надо сказать, что у Сета было растение, расцветавшее каждую ночь, когда Он возвращался домой, однако в этот вечер голова цветка поникла.
«Подними свое лицо, — сказал Сет, — ибо Я здесь».
В ответ растение зачахло. Теперь Сет знал, что Нефтида была с Осирисом, и, когда Она вернулась домой, Он увидел, что ночь с Его братом была для Нее прекраснее любого часа, проведенного с Ним. Потом Нефтида призналась, что зачала, но с такой радостью в голосе, какой Он никогда еще не слыхал. Стыд взрастил ненависть Сета. Он совокуплялся с Нефтидой каждую ночь, а мысли об Осирисе подхлестывали Его бедра, превращая их движения в бешеный галоп. Он трудился с таким усердием, чтобы погубить плод Ее чрева, что мать стала чувствовать отвращение к тому, что носила. В час родов Нефтида плакала и не могла смотреть на лицо младенца. Зачатое в красоте, это создание появилось на свет столь же уродливым, как надругательство над Ее чревом. Низменная злоба отразилась в лице новорожденного, от которого исходил дурной запах — родился Анубис, Бог с головой шакала. Нефтида отнесла этого Анубиса в пустыню и беззащитного оставила его там. Однако Ее сестра Исида решительно воспротивилась тому, чтобы младенец пропал. Пусть Анубис и был доказательством самого вероломного часа в жизни Ее мужа, все равно Исида знала, что он не должен погибнуть.
Тут Мененхетет сказал вслух: — Кто бы ни родился от предательства, он не должен погибнуть насильственной смертью.
— Почему же? — спросил я.
— Потому что, когда люди умирают в ярости, зачинаются злые духи.
Мне не понравилось то, что он сказал. Как пришел мой собственный конец? Чтобы скрыть свою неловкость, я сказал ему: — О тебе говорили, что ты убивал всякого раба, который не хотел работать.
— Это было в золотых копях, и я не убивал их. Они умирали от тяжкого труда. Кроме того, я никогда не говорил, что не хочу плодить злых духов, — ответил Мененхетет Первый и вздрогнул. Его шепот был похож на звук закипающей воды. Однако я видел все то, что он мог сказать, и очень отчетливо. Так я узнал, как Исида, охотясь с собаками, которым дали понюхать простыни со следами родов, вскоре нашла ребенка. Мененхетет Первый понюхал свой палец, и я почувствовал запах свернувшейся крови. Он едва улыбнулся, показав по ходу рассказа свои возможности.
— Исида, — продолжал он, — воспитала ребенка своим стражем. К тому же Анубис — шакал, который держит весы правосудия. Перед ним предстают мертвые. Ты и это забыл? — Не дождавшись от меня ответа, он кивнул. — На одной их чаше помещают сердце покойного, на другую кладут перо истины, и горе умершему, если чаши не уравновешиваются. Анубис может судить подобные дела. Первый день Его собственной жизни не обещал и того недолгого срока, что дан перу. Ты еще можешь предстать перед Анубисом. — Мененхетет улыбнулся, но когда я не ответил, просто пожал плечами и вновь вернулся к рассказу. — Представь себе убийственную ярость Сета, — сказал он. — Ублюдок Его жены все же остался в живых. Сет поклялся отомстить, и эта клятва не должна была утратить силу, сколько бы лет Ему не пришлось ждать, а их оказалось немало. Ибо Осирис был не только первым, но и величайшим Царем Египта. Он научил нас, как выращивать пшеницу и варить пиво из ячменя; возделывать поля, разводить хороший виноград и делать доброе вино. Он даже научил нас, как готовить закваску и находить семь сил и духов души в кубке колоби. Однако затем Осирис отправился путешествовать за Великую Зелень, чтобы передавать свои знания в менее просвещенные земли, и это оказалось безрассудством. Он был столь почитаем при каждом дворе, что ко времени Его возвращения в Египет Он стал слишком много думать о Своей красоте.
В первый месяц после Его возвращения Сет пригласил Его на великий праздник и возбудил тщеславие Осириса рассказами о великолепном сундуке, который Он сделал таким образом, чтобы он соответствовал телу Бога, самого близкого к Атуму.
Сет повелел принести сундук и приказал семидесяти двум Богам Своего Двора по очереди лечь в него. Сундук не подошел ни одному из них. Не пришелся он по размеру и самому Сету. Наконец настал черед Осириса, и сундук оказался ему точно впору. «Ты так прекрасен», — сказал Сет, когда Его брат лег в него. Тут Он захлопнул крышку. Семеро Его воинов запечатали ее расплавленным металлом.
Тотчас же они отнесли сундук к Нилу и спустили его на воду. В полдень, когда солнце было в знаке Скорпиона, он отплыл от берега. И Осириса не стало.
Узнав об этом, Исида издала крик, ставший частью того вопля, который вырывается у мужчин, когда они зрят собственные раны, и принялась искать гроб в болотах и трясинах Дельты.
И будто страдая от того же потрясения, я передвинулся и сел, прислонясь щекой к прохладному дереву гроба бедного Мени, действительно несчастного Мени! Ибо кто был он, как не я сам! Когда Мененхетет продолжил свой рассказ, я подумал, что, наверное, дополз до конца ветки одного сна и, упав с нее, погрузился в другой, так как я вернулся в поток его слов после того, как гроб Осириса уже спустился по водам Нила и был в открытом море, на пути к Библу [9] у побережья Финикии. Там я услышал всплеск последней волны, когда зыбь подняла гроб на ветки вечнозеленого тамариска, который рос на прибрежных камнях. И вот, как только Осирис причалил к нему, этот жалкий куст, перекрученный всеми ветрами, стал разрастаться, и его ствол мощно обхватил гроб и поднялся на невиданную высоту, так что его заметил Царь Библа и сразу вслед за тем приказал срубить дерево, чтобы сделать из него центральную колонну в своем новом дворце.
К этому берегу пришла Исида, ведомая своими семью скорпионами, и, когда Она прибыла ко двору Библа и Царица приняла Ее, от Исиды исходило нежнейшее благоухание, более прекрасное, чем ароматы любого сада.
Для этой Царицы — Астарты — высшим мерилом знатности была совершенная внешность. Она горячо желала, чтобы ее окружали люди столь же прелестные, как она сама. Поэтому она обрадовалась Исиде, и они так нежно полюбили друг друга, что Исида смогла даже уговорить Царицу обратиться к Царю с просьбой срубить колонну и таким образом освободить Ее мужа из гроба. Просьба эта была поистине царской. Пришлось бы разрушить самый большой зал дворца в Библе. Однако с того самого дня, как он срубил дерево, чтобы построить покои, этот Царь, Мелькарт, стал втайне бояться тишины своего дворца. Поэтому он согласился.
Однако, когда сундук открыли, Осирис был найден в самом неприглядном виде. Его лицо было покрыто червями. Исида издала скорбный вопль, и так силен был звук ее голоса, что младший сын Мелькарта умер от испуга. Из его ушей хлынула кровь.
Царь не стал сильно сокрушаться из-за этой смерти. Он отнюдь не был убежден в своем отцовстве, ибо, как только срубили великолепное дерево, его поразило любовное бессилие. Теперь же он ощутил, что к нему вновь вернулось желание обладать своей супругой, и он увел Царицу в свои покои и попытался стать счастливым, но не смог. Он боялся доставить себе удовольствие сразу же после такой смерти. Оно могло стоить еще одной. Однако затем Мелькарт понял, что не доверяет ни одному из своих сыновей, и потому был готов, сразу же как Исида соберется в дорогу, отправить с Ней старшего из своих мальчиков как члена корабельной команды.
Ее корабль еще был виден с берега, когда над телом в гробу начали совершать обряды. Освободив из шва Своей юбки семерых скорпионов, Исида велела им поглотить червей, поселившихся на лице и членах Осириса. Скорпионы заработали со скоростью ветра в парусах и к вечеру были уже круглыми, как голубиные яйца. Затем Она раздавила их вялые тела и таким образом совершенно пренебрегла той защитой, которую могли дать эти скорпионы. Убивая их, Она, разумеется, знала, что они пошлют весть своим братьям: «Бойтесь Исиды!», однако Она была полна решимости восстановить красоту Осириса. Масло для подобного ритуала можно было найти лишь в животах скорпионов, полных червей. И Она втерла приготовленную из этого масла мазь в Свои ноги и живот. Сняв для этого с Себя юбку, Она тем самым возбудила у несчастного Принца из Библа столь сильное желание, что его семя изверглось на палубу. Она и его добавила к притираниям (ибо Принц был благословен столь же прекрасными чертами, как и его мать), а затем умастила Осириса целебной мазью, возложив Свое тело на тело Своего мертвого мужа, и этим вызвала у Его семи рассеянных светов такое сильное стремление вернуться, что Он возвратился назад в обитель Своего тела из всех болот, гаваней, со всех гор и морей Своей смерти. В тот час, вновь молодой и прекрасный, лежа на Своей спине, Он послал Свое семя вверх, в Исиду, и тогда Богиня впервые осмелилась сидеть на Боге. Принц из Библа, подсматривавший за этим совокуплением, был сражен взглядом Исиды, исполненным такой злобы, что он замертво упал в море, и Хор, другой брат Осириса, также умер в это мгновение (сломав себе спину при падении с лошади), тогда как Хор — дитя Исиды и Осириса — был зачат в тот же миг, но Он явился на свет со слабостью в ногах. Поскольку Боги умирают нечасто, новорожденный Хор был новым обличьем Хора-брата, и, конечно, ребенок рос быстро и был взрослым мужчиной уже в четырнадцать лет. Однако грядущие годы были трудными. Исида знала, что Ра и Сет ожидают Ее.
Поэтому вернувшись в Египет, Исида принялась искать место, чтобы спрятать сундук с телом Своего мужа. Однако найти такое место было непросто. Дело в том, что он должен был покоиться там, где бы на него падали прямые лучи Ра. Солнце могло насылать проклятия лишь на тех Богов, которые прятались от Него. Осирису не был страшен гнев Ра, если Его гроб оставался на поверхности земли. Поэтому Исида выбрала мелкое озеро в болотах Дельты и закрепила гроб камнями, чтобы тот не уплыл из окружавших его зарослей папируса; более того, Осирис лежал в гробу со снятой крышкой, открытый благословенным лучам Ра.
И все же Исида отнюдь не чувствовала Себя в безопасности. Поскольку Ра всегда мог наслать проклятье, зайдя за облако, Ей пришлось за немалую цену заключить мир со скорпионами. Она дала клятву охранять их покой во всех их грядущих жизнях. Это было необходимо. Она нуждалась в них. Скорпионы — те редкие создания, которые не выносят лучей солнца. Поэтому, когда солнце пряталось, они быстро выбирались на поверхность земли и ожидали у гроба Осириса. Таким образом на протяжении всего дня тело Осириса было под охраной, находясь на солнце или в сумерках, благодаря бдительности скорпионов. А ночью, в самый темный ее час, когда Ра скитался по подземному миру, в тот исполненный тьмы час ночи, когда скорпионы засыпали, тогда Исида была уверена, что Сет не найдет Своего брата в такой топи. К тому же в этот час великой тьмы царствовал Анубис, а Он был предан Исиде — точнее, так долго, насколько был в силах. Силы Анубиса оставались неколебимы в темноте, однако его преданность бледнела с приближением рассвета, когда Он чувствовал, что наступает час шакала и Ему пора уходить.
На протяжении нескольких месяцев Сет спал днем и бодрствовал ночью, но тщетно до тех пор, пока Он не убедил Ра попросить луну одну ночь странствовать по небу вплоть до рассвета.
Так Сет получил еще несколько часов лунного света. Ему еще предстояло найти то болото, в котором был спрятан Его брат. Поэтому Ему пришлось призвать на помощь все Свои воспоминания. Таким образом, я говорю, что Его гордости пришлось вновь корчиться от позора рогоносца. Но хоть Он и был вынужден думать о Нефтиде с Осирисом, от этих картин ему оставалось сделать лишь шаг, чтобы увидеть Осириса в объятиях Исиды, и таким образом Сет смог войти в мысли Исиды. Итак, в ту ночь, когда солнце зашло, Сет отдался во власть вечернему небу и темным краям земли (ни много ни мало Своих отца и матери!) и медленно повернулся, пока в Своих мыслях он не увидел Исиду в городе Буто [10], где Она жила. Неподвижный, как охотник, Сет ждал того момента, когда глубина начала ночи озарилась светом луны, поднявшейся над болотами. Тогда в Его сознании, в тот самый миг, когда он проник в сознание Исиды, появился образ зарослей, в которых был спрятан Осирис. Он пришпорил Своего коня и стал носиться взад и вперед по болоту в поисках этого места, пока весь в лихорадочном поту, облитый грязью, словно собственной накидкой, при меркнущем свете луны, на исходе часа шакала, Он нашел открытый неохраняемый гроб — скорпионы спали, а Анубис уже ушел. В этот предрассветный час бледной луны Сет поднял Свой меч и разделал мертвое тело Своего брата, вырубив сердце, позвоночник и шею, голову, ноги и руки, живот Осириса, Его внутренности. Его грудь, Его печень, даже Его желчный пузырь и Его ягодицы! Сет наверняка отрезал бы и детородный орган, если бы не остановился, чтобы произвести подсчет, и обнаружил, что у него уже набралось четырнадцать частей — число дважды по семь, дававшее, таким образом, невероятное удвоение несчастья Его врагов. Однако тут он сильно расстроился, потому что не мог дальше уродовать тело Своего брата. Его кровь бесилась, покуда Он не поднял Свой меч и не отсек Свой собственный большой палец. Сет оставил его во рту Осириса. На Своей лошади Он отвез гроб и четырнадцать частей тела брата обратно в лагерь, а затем послал Своих людей доставить гроб к месту стоянки Исиды. Теперь Он был готов к путешествию вверх по Нилу. Наняв лодку с самыми сильными в царстве гребцами, Он знал, что Его судно будет плыть под парусом и идти на веслах быстрее, чем Исида при всех стараниях могла бы гнаться за Ним, а по пути Он будет хоронить части тела Осириса в разных местах. Но сперва, в опьянении Своей победой, Он решил пройти вниз по отдельным рукавам Дельты и оставить нижние конечности в Бубастисе [11] и Бусирисе [12] (вот почему иероглиф буквы «Б» является изображением ноги); Он даже оставил одну руку в Баламуне [13] — для ровного счета, а другую — в Буто, где жила Исида, задержавшись там на время, достаточное, чтобы изнасиловать Ее любимую служанку и разбросать еще две части тела брата по болоту. В этот час Исида была бессильна что-либо сделать.
Затем Сет оставил части тела Осириса в Атрибисе [14] и Оне [15], а голову — в Мемфисе, похоронил одну часть тела в Фаюме [16], потом прошел дальше вверх по Нилу до Саути [17], Абидоса [18] и Дендеры [19] и, чувствуя Себя наконец в безопасности, доверил своим людям пройти с последней частью на веслах большое расстояние вверх по реке до Элефантины [20]. Если бы они шли пешком, то это заняло бы дважды по тридцать дней, но они остановились, чтобы устроить праздник, что отняло вдвое больше времени.
Теперь у Исиды пропало всякое желание покидать Свою постель. В Ее груди не было молока. Пребывая в пучине Своего отчаяния, Исида пала до почти человеческого состояния. Сет превзошел Ее в магии. И, конечно, не было ни малейшего намека на то, что к Ней вернутся самые сокровенные Ее силы. В этой печали Ее мысли вызвали слезы, которые породили дождь — последний дар благодатных сил тела Осириса, разбросанного теперь от болот Дельты до вод Первого Порога.
Не знаю, возник ли в воздухе этот непривычный для нашего египетского слуха звук дождя, но мои мысли подернулись дымкой, и я больше не мог видеть этих Богов. Я был поражен, узнав Мененхетета, глядевшего на меня из глубины сверкающей белизны своих глаз. — Теперь, — сказал он, — мы подходим к деяниям Маат. Без Нее для Исиды все могло быть потеряно.
ДВА
— Да, — сказал он, — Маат так предана точнейшему равновесию, что избрала для Своего лица перо. И подумать только, что Она — дочь Ра! — И вновь меня смутил его неподражаемый смех. Точно в эти моменты его захлестывала алчность худших попрошаек, какие-то используемые для орошения потоки человеческих отбросов. И при этом казалось, что он совершенно забывает о том, какой удар эти низменные чувства наносят его достоинству. — Да, — сказал Мененхетет, — Маат — порождение самой безобидной внебрачной связи развратника Ра. Ведь она была зачата маленькой птичкой, которая (после всех быстрых и робких перемещений своей жизни) лишь раз опьянела от теплого воздуха. Воздушный поток подхватил этот нежный комочек пуха и понес в объятия Ра. Все выше и выше он парил в трансе и в одно мгновение испустил последний вздох — что за совокупление! Мамаша изжарилась до состояния хрустящей корочки, а дитя спустилось к нам вниз в виде пера — дух равновесия между влечением сердца и очевидным жертвоприношением. — Он снова непристойно рассмеялся. — Теперь именно это перо использует Анубис, когда взвешивает нравственную ценность сердца каждого умершего человека. — Он снова пожал плечами. — Изо всех Его детей одной лишь бесплотной Маат нечего терять, поэтому она бесстрашна. Она была единственным Божеством, достаточно храбрым, чтобы отругать Ра за Его услуги Сету, и сказала Своему отцу ни много ни мало, как: «Опасно защищать победителя от проклятий побежденного. Такой Бог будет благоденствовать, не прилагая к тому никаких усилий, и мир придет к своему концу».
«Не говори о равновесии, — сказал Ей Ра. — Я плыву на золотой лодке днем, но в темноте ночи принужден путешествовать через Дуэт и сражаться со змеем. Если я хоть раз потерплю поражение, мир уже никогда не увидит Моего света».
Мененхетет разразился смехом: — Могу тебя уверить, Маат не собиралась говорить Ра, что змей не представляет большой опасности.
И снова, как будто рассказ накатил на меня, подобно потоку проходящих духов, видения в моем сознании пришли в движение. Я увидел, что Ра больше не сражался один, что много Богов и Богинь помогали Ему изловить змея. В сущности, Ра оставалось только изрубить Апопа на куски. И все равно, закончив свой труд, Он тяжело дышал. Ра старел.
— После того как Отец отчитал Ее, Маат стала наблюдать за повадками Его рыб-лоцманов. Поскольку обязанностью этих двух созданий, которых звали Абту и Ант, было служить Ему глазами, когда приходило время прокладывать путь среди опасностей Дуата. Каждую ночь, плывя по бокам лодки Ра, они направляли ее мимо огней, ям с кипятком и зловонных мест. Днем же эти рыбы, уставшие от праведных трудов, предпочитали превращаться в две короткие веревки, лежащие под солнцем на берегу Нила. Там они и грелись на солнышке, две бухты отбеленной конопли, такие короткие, что ни одному проходящему рыбаку и в голову не приходило сплести из них веревку подлинней. Маат, путешествуя теперь в Своем естественном обличье — перышком на ветру, парила вдоль берега до тех пор, пока не оказалась над рыбами-лоцманами.
Зависнув над этим местом, Ей удалось бросить тень на Абту и Анта. Лишенные света Ра, они стали плохо соображать и поэтому покинули берег, чтобы вернуться в воду, но теперь на ее поверхности мелькала тень змея. Они не поняли, что это перышко скручивало свой тонкий стерженек над рекой, отбрасывая вниз пятнышки тени. Итак, они преследовали тень змея вниз по течению, пока Маат не привела их к тазовой части тела Осириса, помещенной в обломке корня выкорчеванной пальмы, в месте, хорошо известном Маат. (Как дух равновесия Она присутствовала там, когда, вместо члена Осириса, последним ударом Сет отрубил Себе большой палец.) Теперь Абту набросился на член Осириса, откусил его, проглотил и, обезумев, затанцевал в воде. Его чешуя светилась, он чувствовал себя созданным из света. Ужас! Где спрятаться? В смятении, обе рыбы помчались к берегу, чтобы вернуть свой облик беленой конопли, однако, когда Абту обернулся веревкой, он стал белее луны, и Анту пришлось укрывать его грязью до тех пор, пока вновь не настало время отплывать в Дуат. Но все равно он светился в темноте. Он мог привлечь внимание ко всем им. В ярости Ра извлек его из воды и проглотил. Ант остался служить лоцманом, однако поскольку он не мог уберечь лодку от камней с невидимой ему стороны, она дрожала и скрежетала при каждом ударе, а Ра вскоре почувствовал недомогание, так как в его животе застрял член Осириса.
Равновесие нарушилось. Так как Божественный орган оказался неудобоваримым, Ра стало настолько не по Себе, что Он позволил небу затянуться облаками. Исида ворочалась в своей постели и прислушивалась к крикам чаек. Их резкие звуки не умолкали на протяжении всех этих серых и туманных дней. Другие птицы прилетели и рассказали, что конь благородных кровей, на котором Сет охотился на болотах, отпрянул от упавшего дерева и сломал ногу. Похоже, удача Сета пошатнулась.
Исида осмелилась вспомнить тот час, когда Она и Осирис зачали Хора. И когда она вновь увидела, как Царевич из Библа падает назад и за борт, от Ка Осириса пришло известие: Исиде надлежало сделать своим оружием Тайное Имя Ра. Она начала прислушиваться к сплетням Богов.
Так Она узнала, что Ра состарился и что Его кости из золотых стали серебряными, а суставы утратили гибкость. Когда Он говорил, из Его рта текла слюна. Семь выделений Его тела постоянно падали на землю, и дороги были покрыты серой из Его ушей, Его потом, Его мочой, Его соплями, Его дерьмом, Его семенем и слюной.
Исида думала, как воспользоваться этими отправлениями. От содержимого кишечника солнца, конечно, разило богатством. Однако откуда Она могла знать, какие чудища серной ночи Дуата могли выйти вместе с ними? Мощь этой силы была слишком велика. Исиде было нужно лишь Тайное Имя и ничего больше. Да и с чего Ей было полагать, что Ра извергает Свое Тайное Имя ежедневно?
По этой же причине Она побоялась использовать пот. В Его влаге могла содержаться слава Его имени, однако в ней же, возможно, чувствовался и запах каждого животного, которым Он становился, пока совокуплялся с ним. Значит, там были их Тайные Имена. Переизбыток и путаница.
Не собиралась Она искать и Его семя. В нем можно было бы найти Тайные Имена Его будущих сыновей и дочерей, но не Его собственное. Прошла Она также и мимо соплей и ушной серы. Ра едва ли слушал то, что говорили другие, так что сера Его ушей хранила всю эту чушь, тогда как нос не был надежным местом для сокрытия Имени, поскольку там его мог пронюхать любой ветерок. Оставались лишь моча и слюна: выбор между дурными водами Его крови и колодцем Его рта. Каждая влага имела прямое отношение к Имени. Подобна великой реке (уносящей многие тайны земли) была моча Ра. Однако эти воды возвращались к Небесным Водам. Нут, безусловно, рассердилась бы, попробуй Исида украсть у Нее Тайное Имя. Поэтому Исида остановила свой выбор на слюне. В ней был дух речи Ра. В центре Его речи должно пребывать Имя. И вот Она взяла влажной пыли поблизости от того места, где, следуя по Своему пути, старый Бог пролил слюну. И Исида растерла слюну с пылью в Своей руке и добавила к ней старого порошка, сдеданного из семени Сета (которое Она собрала с юбки изнасилованной Им служанки). Нет лучшего способа усилить яд, как смешать извержения своих врагов. Итак, Исида сотворила эту смесь из плевка Ра и семени Сета, а затем придала ей форму змея и намазала его смертоносные зубы (сделанные из обрезков Ее ногтей) ядом скорпионов. Потом Исида сказала этим зубам: «Выходите. Отыщите в вашем враге то, что более всего отлично от вас. Нанесите удар в это место. Выпустите свои жала!» Яд сердца Исиды вытек из Ее глаза, и вся плотская память о Ра была в нем. Ибо Она отнюдь не невинно обследовала все семь Его извержений. На Ней остался Его запах. Несмотря на Свое обожание Осириса, подобное нежности неба, когда вечер спускается на оазис и животные стоят бок о бок друг с другом, Исида никогда не могла превозмочь одного неистового желания. То был трепет, пробегавший по Ее животу при виде Ра. И вот Она провела один тайный час в наслаждениях со Своим отцом. Теперь смерть Осириса заставила Ее вновь ощутить тяжесть Своего старого предательства. Она никогда не говорила об этом мужу, и поэтому Осирис слишком полагался на Ее преданную любовь. Очень мало зная о силе других Богов, Он чересчур беззаботно лег в гроб, изготовленный Сетом. Таким образом к Ее гневу на Ра добавился вихрь чувств, связанных с Ее собственным обманом. Да, сильны были чары, с которыми Исида оставила змея на дороге!
Совершая короткую прогулку на рассвете, Ра проходил по прохладным полям небес, надув губы и роняя слюну. На этом пути Исида и оставила Своего змея. Когда старый Бог приблизился (Его живот все еще распирал неперевариваемый член), змей перепрыгнул внутри себя — из бездыханной глины в трепещущее жизнью проклятье — и вонзил в Бога свое жало. И яд произнес: «Гори, Ра, точно пламя лижет Твои чресла. Застынь в холоде Своего золотого глаза, точно из него уходит свет. Изготовлен яд, что найдет Твой последний предел».
И Бог-Солнце почувствовал в Себе присутствие всего чуждого Ему. Оно проползло по Его телу, и его члены напряглись, сопротивляясь яду, а жар стал Его мукой. Он зашатался, и Его воля познала страх всего того, что было чуждо Его плоти. Его кожа потеряла окраску, и Он стал бледен, как платина, бледен, как серебро собственных костей. Старость Ра перевернулась у Него во рту, и Его губы заставили Его плюнуть на землю. Яд вошел в Его плоть, подобно Нилу, что разливается по земле. «Что ужалило Меня? — воскликнул Он. — Поразил Меня некто, кого Я не ведаю и кого Я никогда не создавал. — И Он издал вопль замешательства, который вырывается у всех людей, когда они ощущают, что пришла их смерть. — Придите, Боги и Богини, — вскричал Он, — все Вы, созданные из Моей плоти!!»
Воздух изменился. Границы света и тьмы исчезли, краски начали переливаться. Бога и Богини явили Свое присутствие, прибыв от четырех небесных столпов, поднявшись из рек и прилетев с ветрами, что пересекли пустыню. Воды Дуата вскипели.
Ра сказал: «На рассвете проходил Я через царство Египта, чтобы обозреть то, что Я сотворил, и Меня ужалил змей, которого я не видел. Я стыну быстрее воды и пылаю жарче огня. Мои ноги в поту, и Мое тело сотрясает дрожь, Мои глаза слабеют, и влага выступает на моем лице, словно пришла пора Разлива. Смертные муки вошли в Меня».
Во мраке, что окутал Их при этих словах, темном, как кровь, что засыхает на песке после того, как прошла война, заговорила Исида. Сперва Боги захихикали — все Они знали, как Сет унизил Исиду. В Ее голосе, однако, не было ни малейших колебаний. «Великий Ра, — сказала Она, — яд, отравивший Тебя, содержит чары, измысленные, чтобы убить Тебя».
«Я не могу умереть, — произнес Ра. — Я — Первый, и Сын Первого».
«Ты умрешь, — сказала Исида, — если не назовешь Своего Тайного Имени. Ибо живет Тот, Кто может открыть Свое Имя».
«Я не назову Своего Тайного Имени, — ответил Ра. — Если Я умру, земля разверзнется, и небеса пропадут вместе с землей. Ибо Я создал небеса и тайну Горизонта».
Она вышла вперед. Шаг за шагом, Она вошла в сияние Ра. Теперь Она зашептала Ему на ухо. Ее голос дрожью прошел по Его плоти.
Он попытался встать в полный Свой рост, но немощь заставила Его согнуться.
«Я не могу умереть, — сказал Ра. — Отец Мой дал Мне Тайное Имя в огне. Моя Мать закалила Его в водах. Они спрятали Мое Имя, когда Я был рожден. Ни одно слово не может иметь надо Мной власти, покуда Мое Тайное Имя остается неизвестным».
«Яд, — сказала Исида, — проникнет в самый последний уголок Твоей плоти. В этом яде — семя Сета, а Он не побоится обыскать Тебя».
«Я открою Свое Тайное Имя всем», — сказал Ра. У Богов вырвался крик, затем Все умолкли. Однако Исида знала, что Ра солжет.
В прошлом, когда он лгал, Его глаза всегда выдавали то, что было у Него на сердце.
«Мои имена, — сказал Ра, судорога боли свела Его рот с такой силой, что челюсть Его двигалась с трудом, — моим именам нет конца. Мои обличья — обличья всех вещей. Каждый Бог живет во мне!»
«Не умирай, Великий Ра», — вскричали Боги. Однако Они не знали, что призывать — Его жизнь или смерть. Они не ведали, чего так страстно желали, — страшный для Богов день.
«Мое Имя, — закричал Ра, — Создатель Неба и Земли,
Я — Тот, Кто-сотворил-горы-и-создал-все, находящееся-на-них.
Я — Тот, по-Чьему-повелению-разливается-Нил.
Я — Тот, Кто-создал-радости-любви.
Я — Создал-тайну-горизонта.
Я — отверзающий-Свои-глаза-и-творящий-свет.
Я — закрывающий-Свои-очи-и-творящий-мрак.
И — не ведают-Боги-Моего-Имени».
Он споткнулся и чуть не упал. Исида сказала: «Ты не назвал Своего Тайного Имени. Скоро яд завладеет Тобой. Произнеси Имя!» Когда Она говорила это, среди Богов прошел ропот. Она была великолепнее Ра. Бок о бок, Они стояли вместе, и Она была великолепней Его.
«Я — Тот, Кто-создал-пламя-жизни, — сказал Ра. —
Я — Хепри-утром, Ра-в-полдень и Атум-вечером.
Я — Тот, Кто…» — Голос Его дрогнул. Яд преодолевал пороги Его крови, и Его пылающее сознание разливалось морями. Злобный жар пребывал во всем Его существе. Охваченный пламенем, Он сорвал с Себя одежды.
«Обыщи Меня!» — вскричал Ра.
На виду у собравшихся Богов, Исида вышла вперед, сняла Свои одежды и легла на Него. Из недр Его живота член Осириса оживил жезл Его старых чресел, и Он вошел в Исиду с Тайным Именем (и всем семенем Сета, которое Он вобрал в Себя с ядом, и это соитие породило самую ужасную молнию, когда-либо виданную в небесах Египта — так Сет впервые стал повелителем молнии и грома), и так Ра передал в лоно Исиды Свое Тайное Имя. Оно вошло со звуками тихого голоса, сказавшего Ей: «Атум — Один; Небесные Воды — Два; а Ра, дитя Атума и Нут, — Три. Итак, Его Тайное Имя — Три. Рычи, Исида, подобно льву, дабы мы слышали раскаты этого р-р-р во всех языках. Ибо рык солнца есть свет земли. А преемник Ра должен быть подобен свету сознания, который есть смерть. Славься, Осирис, Повелитель Царства Мертвых. Восстань, Исида, в Которой пребывает Тайное Имя Ра. Ты — все, что есть и что было; все, что будет и что есть».
ТРИ
Исида поднялась, и пена старика сошла с Ее ног. Она сказала: «Изойди, яд, изойди! Из Меня! Из Ра! Ра живет, а яд умирает». Затем Она надела величественное золотое одеяние, которое Ра сбросил с себя. Оно было нечистым, однако осевшая пыль и влаги сошли с него, словно смытые дождем, и Исида стояла в сиянии. Боги рукоплескали. Они были напуганы. Некоторые вспомнили, что клеветали на Исиду (При этом самые красивые из Них уже старались поймать Ее взгляд.) Но вот из Их задних рядов вышел незнакомец, держа в руках одежды, чтобы прикрыть Ра. Волосы незнакомца были седыми, однако лицо Его — молодым и прекраснейшим из всех. Это был Ка Осириса.
Он встал рядом с Исидой и взял Ее за руку. В то же мгновение Его тело исчезло в Ее теле. Его плоть была столь прозрачной, что Осирис стал невидим в Ней. Обратившись к Ра, Она сказала голосом Осириса: «Старый Бог, когда придет нужда в спокойных днях, Ты можешь дать сахар фруктовым деревьям и ускорить созревание урожая на полях. Однако ночью, когда Ты войдешь в пределы Дуата, Ты будешь носить Мой струящийся саван. Теперь да будет Мой сын Хор золотым глазом дня и серебряным глазом луны. В Дуате да буду Я править мертвыми, а через Свою жену Исиду — урожаями Нила. Иди и исполняй Свои обязанности». Отделившись от Исиды, Осирис вновь стал видимым. Удерживая Свое тело на отдалении не более ширины пальца от тела Исиды (ибо стоило Им коснуться друг друга, как Его божественная сущность вновь устремлялась в Нее), Он приказал Богам вернуться на Свои места и не мечтать ни о какой новой власти. Хозяин будущего явился, и Осирис раскрыл Свою набедренную повязку, чтобы показать, что если раньше Его член был откушен Абту, а рыба позже проглочена Ра, то теперь Он, Осирис, стал пожирателем Того, кто поглотил Его. Соответственно, Его член имел теперь три ствола. Один — символ Птаха, искусного строителя, — выдавался вперед, как столп, и светился жаром, словно металл в горне. Шишка другого — массивного, неподвижного и темного, как Секер, — торчала, подобно корню из глубин земли.
Последний, совершенно прозрачный, был членом Самого Осириса, и после Его странствий сквозь воздух, прибой и туман он изгибался, точно радуга, — сияющий член Повелителя Сознания, Осириса, Бога Воскрешения.
При виде этого зрелища Ра стошнило. Но из Его живота ничего не вышло. Еще недавно неудобоваримый член, конечно, исчез, и Ра мог лишь улизнуть.
Однако, когда Исида и Осирис остались одни, их разговор стал менее торжественным. «Отчасти, — сказал Осирис, — сложность нашего положения состоит в том, что мы даже не можем прикоснуться друг к другу, или я вновь исчезну. Поэтому нам не следует этого делать. Ибо тогда мы не сможем говорить, а Мне надо многое сказать Тебе. Я знаю о Дуате больше, чем Тебе захотелось бы слушать. — Он мягко улыбнулся и добавил Своим самым легким, самым приятным голосом: — Когда я был молодым Принцем, я никогда не слушал какого-нибудь негодника, чьи россказни нагоняли на меня скуку. А теперь я провожу Свои годы, рассматривая бесчисленные оправдания мертвых. Их набожность просто ненасытна. „Была ли это твоя вина или вина твоей жены?" — спрашиваю я какого-нибудь законченного мерзавца, и его неизменный ответ: „Лишь Поватитель Осирис может это знать!"»
«Да, Ты, наверное, устал», — тихим голосом ответила Исида. Холодность Его приветствия, безусловно, совсем не походила на Их последнее объятие у берегов около Библа.
«Я могу лишь сказать, — промолвил Осирис, — что мне пришлось скитаться по стольким жизням, что это невозможно описать». Он зевнул.
Внезапно на Ее лице отразилось отвращение. От Его дыхания, хоть и не веяло разложением, но исходил запах пустоты. Она чувствовала, как Ее силы исчезают в этой пустоте. Понимающе улыбнувшись, Он отодвинулся подальше и заметил с грустью: «Да, Нам надо поговорить. Наше положение очень уязвимо. Мы должны поговорить быстро. Поэтому я оставлю без внимания те омерзительные удовольствия, которым Ты предавалась с Ра. Хоть это и стоило Мне жизни».
«А я забуду Твой день с Нефтидой».
Осирис кивнул. «Наши поступки не имеют значения. Я не могу править бок о бок с Тобой до тех пор, пока Ты не соберешь воедино то, что было расчленено на четырнадцать частей».
«Поиски не должны быть трудными, — сказала Исида. — Я сильнее, чем когда-либо».
«Нет, — сказал Осирис, — всегда необходима еще одна сила. — И Он вновь грустно улыбнулся. — Все Мои части должно разыскать и достойным образом забальзамировать за четырнадцать лет».
«А что, если это займет больше времени?»
«Ты унаследуешь беды Сета. Выбери между громом и молнией».
И вот Исида вернулась к Нилу, а Осирис, полностью распоряжаясь пустынными обителями мертвых, правил на Ее месте. Небеса были безгласным местом, и развлечений там было немного. События происходили под спокойным небом. Ра просто кивал Своим старым почитателям, отправляясь в свою ежедневную поездку, а Исида, на каждом собрании Богов, сидела на расстоянии от Осириса. Ее красота начала пропадать.
Найти каждую часть тела Осириса оказалось непростым делом. В первый год Она ничего не нашла, и во второй, и в третий. Ничего за три года. Вместе с Анубисом Она рыскала по дальним местам, однако собаки, которых Она использовала, оказались беспомощны. Обученные Анубисом, обладавшим мудростью шакала, Ее охотничьи псы могли, разумеется, унюхать тончайший запах, однако у мертвого не было запаха. Даже Его набедренная повязка не источала ничего, кроме слабого запаха бедер Исиды — достаточного, чтобы собаки были готовы напасть на Нее.
Итак, Они ничего не нашли. Возможно, согласно равновесию Маат, и не полагалось обнаруживать более одной части в год. Поскольку Сет уже разбросал три из них в Буто, перед воротами Ее лагеря, вероятно, стоит предположить, думала Исида, что они смогут найти четвертую до начала четвертого года.
Анубис спросил, что Она сделала с первыми тремя частями, и, ответив, что Она положила их в соляной раствор, Исида начала размышлять над Своими словами. В то время как одиннадцать ненайденных частей могли уже давно разложиться, Ей следовало продолжать поиски, словно они еще существовали. Почему бы тогда не рассудить, что каждая часть оказалась достаточно мудрой, чтобы приплыть к болотам, где соль была в избытке? В таком случае в каждом месте поиска Она смогла бы ограничиться осмотром заводей, высохших русел, излучин и болот с высохшей солью.
И все равно, даже когда Они искали на сырых равнинах, где было много бальзамической соли, собаки не могли взять след. Анубис смешал травы, которые могли бы навести на след Осириса, но и они не направили собак. Наконец Он предположил, что Хор — ребенок, зачатый от мертвого Бога, — возможно, по запаху напоминает Своего Отца, или, другими словами, по отсутствию у Него какого-либо запаха. «Не знаю, перенесут ли охотничьи собаки подобную пустоту», — ответила Исида. И тем не менее Она дала свою юбку Хору, чтобы Тот поиграл с ней. Он изжевал ее, обмотал обрывки вокруг Своего тела и вернул разорванную одежду. Надев ее, Исида умастила Себя соком мандрагоры, укрепив ее миррой, чтобы аромат мандрагоры усилился, покуда Она будет спать и путешествовать в поисках утраченных частей Осириса.
На рассвете Анубис дал одежду собакам. Охотничьи псы забились в конвульсиях, которые настолько обострили их нюх, что в каждый год из оставшихся лет одна часть тела Осириса находилась очень быстро. Однако не все заслуги этих находок следует приписать собакам. Голова Осириса — первая найденная часть — все еще держала во рту большой палец Сета, и с его помощью Исида смогла направлять свою лодку. Таким образом, благодаря рулю Сета или носам собак, поиски никогда не занимали более недели, и оставшуюся часть года можно было посвятить постройке усыпальницы.
Разумеется, было непросто найти жрецов для такого дела. Многие боялись Сета. Однако встречая подходящего человека, Исида говорила: «Мы возьмем эту Божественную часть и добавим к ней тело из воска. Один ты должен знать, что здесь покоится лишь четырнадцатая часть тела Осириса. Однако часть эта будет как все целое, а ты станешь Верховным Жрецом в этом номе Египта». Затем Она скрепляла договор поцелуем. Исиде неизменно претило это короткое объятие. Божественность переходила с Ее уст в рот жреца, хоть при этом его воля и подчинялась Ей. Впредь он слушался всех Ее приказаний. И все же Она горевала, поскольку до того, как будут построены четырнадцать усыпальниц, Ей предстоит ощутить на Своих устах губы четырнадцати подобных людей — смертных и таких одинаково скучных. Прикосновение плоти этих жрецов, рожденных от четырнадцати в большей или меньшей степени ничем не примечательных женщин, внесет свой разрушительный вклад в угасание Ее черт. Единственным утешением для Нее служило то, что каждый жрец был обманут. Ибо те части Осириса, которые Она им давала, также были сделаны из воска. Куски настоящего тела были закрыты в сундуке, наполненном бальзамической солью, и на этом троне восседала Она, поднимаясь в своей лодке вверх по Нилу или идя вниз по его течению.
В первый день четырнадцатого года, когда Исида, Анубис и охотничьи собаки нашли последний размокший обрубок ноги Осириса в окутанных паром влажных солях Элефантины, началось солнечное затмение, Исида задрожала от внезапного страха перед всеми грядущими временами. Словно собираясь идти, нога выпрямилась, когда Она схватила ее, затем она выпала из Ее руки, и в момент ее падения Исиде было видение предстоящих войн между Хором и Сетом. Ужас все еще тяготел над Ее домом. Но Исида, укрепив свое сердце, прошла через соли к своей папирусной лодке и положила ногу к остальным частям. Она завернула тело, соединив его части, а вечером позвала Свою сестру Нефтиду, Маат и Тота. Вместе с Хором, Они заклали быка, чтобы ознаменовать конец проклятия Сета.
И вот Хор, четырнадцати лет от роду, с широкой грудью и тонкими ногами, открыл глаза и рот Осириса — так впервые совершилась Церемония Отверзания Уст и Глаз, — и сказал Хор: «Пусть Ка Осириса выйдет из глаз и рта Его нового жилища». И Ка Осириса присоединился к Ним, источая аромат прекраснейших садов Египта, и Они хорошо поели этой ночью. Утром Они отправились на Небеса, ибо Осириса беспокоили предвестники надвигающейся бури. Перед рассветом блистала молния, и гремел гром. «Мы успели как раз вовремя», — сказал Он.
ЧЕТЫРЕ
— Если ты думаешь войти в сокровенную жизнь Богов, — сказал Мененхетет Первый, — то ты еще только на пороге. История, которую я предложил твоему вниманию, не более чем игра света на поверхности воды. Хотя все в ней истинно, тем не менее за каждой раскрытой мной тайной скрывается другая тайна. Я, к примеру, был одним из четырнадцати жрецов, которых поцеловала Исида. И хотя прошла тысяча лет, это все еще придает мне смелость проникать в суть многих запретных вещей.
Мы сидели там в молчании, теперь я со стыдом осознал всю ограниченность моей несовершенной памяти, словно, будучи калекой с одной рукой и одной ногой, я пытался надеть на лошадь седло. Я не мог постичь его жизни. Солгал ли он? Действительно ли он был когда-либо жрецом, которого поцеловала Исида? И был ли он когда-то военачальником, одержавшим столько побед, что мог жить на подарки, сделанные ему Фараоном? Казалось, я помнил, что так оно и было. Но кто же был этот Фараон? Как ни глубок был мой гнев, вызванный Хатфертити, я также горячо желал увидеть ее, хотя бы только затем, чтобы спросить об этих простых вещах. Почему мне не удавалось вспомнить историй про моего прадеда? Ко мне вернулось чувство подавленности.
Он сел обратно в свое кресло, и я впервые смог заметить — на самом деле в первый раз мой страх перед ним уменьшился настолько, чтобы я мог глядеть не только ему в глаза, — что ножки его кресла золотые и отлиты они в форме передних и задних лап льва. Теперь Мененхетет был похож на льва — и вправду он был так же исполнен достоинства, как старый военачальник, живший воспоминаниями подвигов прошлого. — Да, — сказал он, — человек может считать, что достиг чего-то в жизни, если он начал как сын шлюхи, однако так себя проявил, что поднялся до ранга командующего Золотым Строем Ра, Лошадьми Сета, Лодкой Амона и Плавильней Птаха. Когда-то эти четыре крупных соединения были под моим началом. Притом что сам я начинал рядовым. В конце концов сыну шлюхи дается знание, которого нет у других. Как его мать знала много объятий, так и мой меч всегда был готов встретить выпад другого меча. У меня был быстрый глаз, и я научился думать не так, как другие. Все-таки я был одним из любовников своей матери.
— И моей матери.
Он хихикнул. Он подмигнул. Ладонь одной Его руки прижалась к бровям, а другой Он ухватил себя за мошонку. Движение было грубым и представлялось Ему необыкновенно забавным. — Что вверху, то и внизу, — выговорил он, давясь от смеха.
Я почувствовал, что внезапные перемены в его поведении вызывают во мне отвращение, равное моему смущению. В изысканной поверхности его манер была трещина, сквозь которую временами просачивалась мерзейшая гниль старческих мыслей.
— Да, — сказал он, — я был любовником твоей матери. И она была мне милей моей собственной.
Его веселость промыла брешь в моем достоинстве. Мы оба рассмеялись. Я пришел в ужас от того, сколь бесхарактерным оказался мой Ка. С тем же успехом я мог быть вырванным из земли сорняком, которого волен подхватить любой ветерок в пустыне.
— Ты действительно стал одним из четырнадцати жрецов Исиды? — не смог удержаться я от вопроса, — или ты солгал мне?
— Я солгал тебе. Путник из дальних мест навсегда останется лжецом. — Он улыбнулся. — Я был одним из истинных четырнадцати служителей Исиды не более, чем моя мать — шлюхой, в действительности она была всего лишь простой крестьянкой. Однако не все, что я сказал тебе, — ложь. Жизнь мертвых поддерживается точным повторением их истории. И вот каждый год Исида проходит между нами по берегам Дуата и, выбрав из наших рядов четырнадцать мужчин, бывших ранее жрецами, повторяет тот поцелуй, благодаря которому были заложены храмы Ее мужа. Я всегда бываю избран, но по той причине, что Она явилась ко мне под действием чар, когда я еще был жив, и обняла меня.
Изысканно, изящно он взмахнул совершенно расслабленными пальцами, точно в Его руке, когда-то державшей самый тяжелый меч, не осталось теперь силы даже на то, чтобы сорвать цветок. — Боги, — сказал он устало, — способны на все. Они делают все что угодно. — И с неожиданной яростью добавил: — Вот отчего Они поистине нуждаются в Маат. Если бы не Маат, не было бы конца чинимым Ими разрушениям. А также диким страстям, которые Они расплескивают вокруг, уподобляясь животным. Гнусность состоит в том, что Их превращения зависят от дерьма, кровавых жертвоприношений и совокуплений, а Они не уважают ничего из этого. Они не понимают, насколько магия подчинена своему самому сокровенному принципу.
Я смог лишь пробормотать, что не понял ничего из сказанного им, тогда он взглянул на меня и заявил: — По справедливому обмену, в магии никто не может получить много, не согласившись рискнуть потерять все. Только так находят самую чудесную добычу. Нельзя купить несколько магических слов, произнести их над цветным порошком, рассыпать его по песку и на ночь пригласить в свою хижину танцовщицу. Девушка действительно может прийти, и, возможно, она станцует на пороге, однако если у тебя самого нет настоящей силы, то она также оставит воспаление на головке твоего члена и гнид паразитов на волосах твоих бедер. За магию приходится платить. Высыпай цветной порошок на песок, но поклянись также обнажить назавтра свой меч при первом же оскорблении и следуй этой клятве — принесет ли тебе танцовщица бедность или удовольствие. Эти принципы непреложны. Ищи риска. Мы должны подчиняться его голосу в любое время. Из добродетелей собственного прошлого не извлечешь никакой пользы.
— Ни единого раза?
— Только не в магии. В делах благочестия, но не в магии. Вот, к примеру, Исида. Она была благородной женщиной по любому счету — верной женой, храбрым воином, искушенной в магии, превосходно управлявшей Своей волей. Однако в конце (а именно в конце каждого магического действия поджидает самая опасная ловушка) Она предала Свою семью.
— Но Она этого не сделала!
— Позволь мне повторить. Есть чары, которые навлекаем мы, и магия, направленная против нас. Ты помнишь, как Исида уронила последнюю, четырнадцатую часть тела Осириса в соли Элефантины и увидела битвы, которые произойдут между Хором и Сетом? То было предупреждение найти достойное жертвоприношение, иначе не будет мира. Она услышала Свой собственный голос, говорящий Ей, чтобы Она заклала быка, однако после того, как Она зарезала быка, Ее голос также сказал, что жертва недостаточно велика, чтобы уравновесить злые чары Сета. Ей следовало добавить кровь от более болезненной утраты. Она должна была отрубить Себе голову и заменить ее мордой коровы. — Здесь Мененхетет захихикал. Когда я спросил, почему он смеется, он заметил: — Я думаю о том ужасном создании, которое прячется в маленьком перышке Маат. Она доводит принцип равновесия до того предела, где он превращается в пытку. Естественно, Исида запротестовала. Могу уверить тебя — Она не преминула напомнить все Свои добродетельные поступки за четырнадцать лет Своих странствий. И Ее доводы были справедливы. И конечно же, Она была столь красноречива, выдвигая свои деяния в прошлом в качестве защиты в настоящем, что Маат на самом деле уменьшила Свои притязания. Теперь Исиде было достаточно коснуться лбом волос между рогами на голове быка. Со временем, через несколько месяцев, у Нее наверняка вырастут рога, и Она начнет походить на корову.
Исида сказала: «нет». После четырнадцати лет, проведенных в обществе Анубиса, Она устала от сознания окружающего Ее уродства, которое не покидает тебя, когда каждый день приходится смотреть на тупую морду. В тот час тщеславие Исиды было больше Ее преданности Хору. Итак, Она решила ограничиться простым жертвоприношением быка, и когда похороны закончились и Осирис восстал, Они вернулись сквозь бурю к новому двору Ка Осириса, где им предстояло воспитывать Своего сына, чтобы тот стал достойным противником Сета в грядущих войнах.
Теперь, поскольку силы Сета были уменьшены, жар Его ярости уже не обжигал землю. После ежегодного разлива Египет расцвел столькими оазисами, что они слились в леса, и Хор, зачатый в открытом море, прекрасно чувствовал себя в этом влажном климате и набрал силу так, как позволило Ему Его нескладное тело. Его плечи приобрели звериную мощь, но все равно Он двигался, как обезьяна. Согнутый, на своих слабых ногах, Он чувствовал Себя хорошо лишь среди ветвей деревьев или внизу, у туманных болот. Однако даже в такие приятные минуты Он не улыбался. Ибо, взрослея, Хор всецело сосредоточился на развитии Своей силы. К примеру, Он не разрешал Себе смеяться, смех расслаблял Его мышцы и таким образом позволял слишком большой силе вернуться в землю.
Здесь голос моего прадеда приблизился ко мне, и мы вместе совершили путешествие по мыслям Хора, когда Он размышлял о слабости Своих нижних конечностей и слушал разговоры о войне. Хотя многие считали, что битва должна произойти между Осирисом и Сетом, Боги, посовещавшись, пришли к заключению, что Осирис слишком ценен, чтобы Его терять. Ка, будучи всего лишь одним из семи душ и духов живых, в любом испытании силы встречается с превосходством именно в той же пропорции — семь к одному.
Разумеется, некоторые Боги вообще возражали против какого-либо состязания, поскольку Сет недостоин. Он выглядел разбойником. Он отяжелел, рыжая грива на Его голове была неизменно всклокоченной, а на красном лице не проходило раздражение. По цвету Его кожа напоминала нарыв, а Его борода — запекшуюся кровь. На Его лице и руках были язвы, а бугристый нос — в красных прожилках. Сила Его была ужасающей, однако столь же омерзительным, как и Его пот, было Его дыхание, поскольку Он не пил ничего, кроме вина из скверного винограда. Ведь Он разводил виноград на крови воров, настолько безрассудных, что они отважились ограбить храм, после чего их отдали на съедение львам, обитавшим в том оазисе, где жили эти воры. Теперь же, когда Сет пил это вино, приготовленное из лоз, выращенных на земле, пропитанной кровью этих воров, в Его дыхании звучали отзвуки бури. Он ел мясо диких кабанов, проливая его сок на Свои пальцы, чтобы Его руки никогда не соскальзывали с рукояти оружия. Он не снимал с Себя старые шкуры, запах которых был столь отталкивающим, что Его слуги один за другим покинули Его и поклялись в верности Хору. Даже Его любимая наложница Пуанит однажды ночью встала с Его тела, омылась в Ниле и направилась к лагерю Хора. Проснувшись, Сет собрался в погоню, но так напился, что заснул в грязи и вернулся домой в еще более омерзительном, чем когда-либо, виде (будто Геб действительно был Его отцом). До Него дошли слухи о похождениях Пуанит среди людей Хора, и теперь над Сетом смеялись даже немногие оставшиеся слуги. Пуанит рассказывала, что чирьи на Его заднице пострашней, чем язвы на лице. Отзываясь о Его мужской силе, она обзывала его слабаком и поминала Сета только презрительным именем Сему. Все это время она предпринимала всяческие попытки соблазнить Хора, заявляя даже, что готова лизать Ему ноги. Пальцы на ногах Бога, обещала она, будут более проворными в приближающемся сражении.
Сет поджег сухие лозы в роще, где рос Его паршивый виноград, и вобрал пламя в Свои легкие. Затем Он выдохнул огонь над Своим вином и таким образом достиг еще небывалого в Его жизни опьянения. Исполнившись силой этого хмеля, Он ощутил Себя готовым к войне и отправился на поиски Хора.
Там, в другом лагере, Осирис спрашивал Своего Сына, как Он спрашивал Его каждое утро: «Каково самое благородное деяние, которое Ты можешь совершить?»
«Месть, — отвечал Хор, — за зло, причиненное Моим Отцу и Матери».
Затем Осирис занимался с Хором упражнениями для укрепления Его ног. Хор, к примеру, пытался задушить животное, зажатое между Его бедер (пока что Ему удавалось лишь свернуть голову теленку).
В это утро Осирис задал новый вопрос: «Какое животное наиболее пригодно для сражения?»
«Лошадь», — сказал Хор.
«Почему не лев?» — спросил Осирис.
«Если бы мне была нужна помощь, Я выбрал бы льва, но Я думаю о животном, оседлав которое, Я мог бы преследовать Сета, когда Он пустится наутек».
«Ты готов, — сказал Осирис. — До этого у Меня оставалась тень сомнения относительно исхода поединка, однако теперь Я знаю, что Мой Сын станет Повелителем всех Живущих». И Он пообещал Ему коня, если возникнет необходимость в преследовании. Затем Осирис сказал Хору, чтобы тот ждал Сета на открытой равнине за стенами Мемфиса и попробовал увлечь Его в болото, где ни у одного из Них не будет под ногами опоры. В этом случае исход поединка решит сила Их рук. Ободренный и совершенно уверенный в Себе вышел Хор встречать Своего дядю. К тому же в последний момент Исида дала Ему высохший большой палец Сета, который Она использовала как руль, блуждая по болотам. Этот палец, сказала Она Своему сыну, поможет Ему выйти победителем из одного серьезного испытания, поэтому нужно дождаться момента и использовать его с умом.
При этом Мененхетет, как мне показалось, взглянул на меня с неудовольствием.
— Что тебя не устраивает в подготовке Хора? — спросил он.
— Я не нахожу в ней, — отвечал я, — божественного ума Осириса.
— Он отсутствует, — согласился Мененхетет. — Осирис, похоже, не питает мстительных чувств. Втайне, скажу я тебе, Он не любит Хора. Этот парень лишен обаяния.
Более того, в те дни Исида пребывает в дурном расположении духа. Она зло разговаривает с молодыми Богами. (Когда все почитают Тебя самой добродетельной из жен, радости заигрывания для тебя заказаны.) Считая Своего сына дубиной, тупой горой мышц, Она вынуждена изображать воодушевление по поводу предстоящего Ему благородного дела.
Хор, в Свою очередь, не подозревает о чувствах Своих родителей. Его жизнь настолько лишена всякого интереса, что Он знает только, что у Него нет особого желания становиться Повелителем всех Живущих. Когда положенные упражнения сделаны, Его сознание заполняет пустота.
Все же в лагере Хора ни слуга, ни воин не смеют говорить о возможности несчастья. Не подлежат обсуждению даже самые очевидные опасности. Хор, к примеру, совершенно не догадывается о чувствах, которые охватывают воина в настоящей битве. Он не знает, как страх может захлестнуть ум, когда встречаешься лицом к лицу со смертельным врагом. Он ни разу не видел глаз Своего противника! Кроме того, боевой дух в лагере полностью подорван Пуанит. Если при подготовке к сражению и есть что-либо хуже ложной уверенности, так это излишества плоти. Для Хора самым разумным было бы сосредоточить внимание на укреплении Своих ног. Вместо этого Его трясло от непривычного наслаждения при мысли, что вскоре Ему, возможно, будут лизать их пальцы.
Итак, Они встретились на поле, предложенном Осирисом, — там, где теперь сады у Храма Птаха, а тогда была всего лишь окраина безымянного болота, и сторонники Хора и те немногие слуги, что остались с Сетом, сошлись вместе, окружив двух воинов огромным кольцом. Тот, Осирис, Исида, Нефтида и четыре других Бога явились, чтобы быть судьями.
Все ждали в этом кругу, а Хор старался рассмотреть Сета, которого разделяло с Ним расстояние в двадцать шагов. Молчание опустилось на лощину, и длилось оно до того момента, когда Хор, не выдержав ожидания, вынул Свой меч — в напряженной тишине звук выходящего из ножен меча проскрежетал, словно змея переползла через груду ракушек; в ответ Сет хрипло выдохнул, будто сражение уже началось. Однако, когда Он выхватил Свой меч, тот вышел из ножен с коротким свистящим звуком хорошо наточенного клинка, и тогда Они двинулись навстречу друг другу, но медленно, — сам воздух был исполнен осторожности. — Здесь мой прадед протянул ко мне руку, будто для того, чтобы разделить со мной события этого сражения, и вновь я смог видеть то, что видел он.
— И вот Хор и Сет сошлись. Когда они скрестили мечи, преимущество было на стороне Хора. Его руки были сильнее — это стало очевидно обоим при первом же ударе, — и руки Его были проворны. Сета окружил отвратительный запах пота, выводившего дважды перебродившее вино. Понимая, что сила, которую Он получил от Своих лоз, скоро испарится, Он перешел в нападение, стараясь смутить Хора быстрыми передвижениями из стороны в сторону, однако от этих усилий Его атака вскоре захлебнулась. Сет отступил на шаг. Каждый старался больше двигаться, каждый хватал ртом воздух. Каждый гадал, так ли быстро ослаб Его противник, как и Он Сам. И так Они продолжали, делая движение локтем, слегка сгибая колено — не входя в соприкосновение друг с другом.
Хору стало казаться, что усталость Сета больше, чем Его. Однако были ли ответные движения Сета действительно так медлительны? Хор взмахнул Своим щитом. Неожиданно, мгновенно. И вот уже Сет потерял Свой меч. Кровь бросилась Ему в лицо, и Его кожа стала темно-красной, почти как несвежее мясо. Он отступил на шаг, потом еще, и в этот момент Хор сделал выпад, чтобы достать до Его сердца — неуклюжим движением. С таким старым воякой, как Сет, нельзя было покончить так просто. Он увернулся, присев, поймал Хора за ногу и резко повернул ее, чтобы свалить Его. Затем Сет ударил щитом по незащищенному лицу Хора. Удар разбил парню нос, и сквозь разорванные губы показались Его зубы. Меч выпал из Его руки. Сет ногой отбросил его прочь, а в это время Хор схватил щит Сета и метнул его в противника, но промахнулся. Теперь оба были безоружны.
Лицо Хора было похоже на месиво из плоти, которое можно видеть на поле сражения. И все же Он наступал, чтобы схватиться с Сетом врукопашную. Но Его более опытный противник отступил назад и снял свой панцирь, чтобы было удобнее бороться. Хор сделал то же. В следующее мгновение оба остались обнаженными. Поскольку у каждого были свои причины желать биться в болоте, вскоре Они перешли с поля в топь. Однако как только Они вступили в грязь, Сет обернулся к присутствующим и выставил на всеобщее обозрение мощь Своего члена. Он выдавался вперед, подобно толстой ветви, на которую мог бы взобраться человек. Даже сторонники Хора приветствовали Его криками одобрения, ибо подобный подъем в ходе сражения считался знаком высокого боевого духа. То было свидетельство истинной храбрости, так как Он, очевидно, желал этого боя.
В подтверждение своего согласия, Мененхетет раздвинул одежды и показал мне свой собственный член. Я словно получил удар щитом Сета. Ибо Мененхетет открыл моим глазам гордый набалдашник, венчавший древко. Я прикинулся, что ничего не замечаю, однако почувствовал такую усталость, будто сам участвовал в бою, мои легкие и печень содрогнулись — странное замечание, поскольку мой Ка (как и любой другой) не имел ничего похожего на печень или легкие, однако я тут же понял, что это у моих ног сотрясались мои канопы.
— Ты приблизился к пониманию Херет-Нечер, — пробормотал мой прадед и прикрыл свои бедра.
— Вообрази позор Хора, — сказал он. — Сначала Он предстал перед Богами с разбитым лицом, теперь же Его унизили во второй раз. Ибо Его нижние возможности были жалкими. «Взгляните на будущего Бога всех Живущих», — вскричал Сет и бросил в лицо Хору ком грязи. Ослепленный, чувствуя головокружение и дрожь в локтях и коленях, Хор запнулся о кочку и упал в болотную воду. В то же мгновение Сет погрузил Его голову и плечи в грязь. Теперь руки парня были заняты тем, чтобы удерживать нос над водой. Его слабые ноги были сзади, на кочке. Между Его ягодицами тараном прошел твердый член Сета, и — о-о-о-о, — сказал Мененхетет, — каков вход! Лава готова была вскипеть. Нил должен был вот-вот вспениться. Исида сделалась бледнее, чем Ее папирусная лодка, а Осирис вновь стал прозрачным. Хор взвыл, как смертный, а Сет гордо повторял Свои движения. Держа каждую из щек Его ягодиц в одной из Своих рук, Он обдал плечи юноши огнем Своего дыхания и приготовился овладеть входом. Никто из Богов не осмелился спросить — должен ли Хор быть расчленен! Ибо то были не просто мужеложеские забавы детства, когда один трус медленно влезает в другого по мере того, как сопротивление последнего слабеет. Здесь один из Великих Богов собирался войти в мужское чрево, где сокрыто время.
— Чрево?! — запнулся я.
— В Херет-Нечер, — сказал Мененхетет, — есть река испражнений, глубокая, как бездонная яма. Мертвые должны переплыть ее. Все Ка, кроме самых мудрых, самых подготовленных или самых храбрых, испустят дух в этой реке, жалобно призывая свою мать. Они забыли, как появились из нее. Мы рождаемся между источниками мочи и дерьма, и в воде мы умираем впервые, соскальзывая в смерть с отходом наших вод. Однако вторая смерть — в полных ямах Дуата. Ведь я сижу перед тобой и выпускаю ветры! Чувствуешь ли ты все запахи запора желудка, обжорства, серы, всего, что разъедает, вызывает брожение, всяческой заразы, гнили, разложения, тлена? Это потому, что мне пришлось плыть в реке испражнений и удалось выбраться из нее лишь большой ценой. Теперь дух человеческих испражнений — в дыхании моего Ка, иными словами, в моих чувствах и в непостоянстве моей учтивости. Нечего удивляться, что и в моем поведении можно заметить всяческие проявления неуравновешенности, да; все разнообразие прерванного счастья, любую несправедливость, причиненную достойному усилию, так же как и безрассудно растраченное семя нежной любви, не пустившее корней, что и говорить о сильнейшей похоти, которой некуда деваться, кроме как в витки кишок (многое из такой похоти обращается также в мочу) — хватит! У тебя нет дара для твоего путешествия в Херет-Нечер, если ты не понимаешь, что стыд и отбросы могут быть погребены в дерьме, но то же самое относится и ко многим глубоким и нежным чувствам. Как же после этого этот котел чувств может быть всего лишь погребальным покоем? Не есть ли это отчасти также и чрево всего, чему еще суждено явиться? Не часть ли это времени, по необходимости вновь рожденного в форме дерьма? Где еще можно найти такие неутоленные страсти, которые — истощенные, непроявленные или, судя по их вони, навязчивые — должны теперь трудиться вдвое больше, чтобы вызвать к жизни будущее?
Никогда еще он не был столь красноречив и не выглядел так изысканно. В сиянии, которое эти слова придали его коже, я больше не мог разглядеть никакой пыли в его порах. Свет играл в линиях его морщин. И все же чем прекраснее он выглядел, тем большее недоверие к нему я испытывал. Его слова произвели на меня слишком сильное впечатление. Теперь он разбудил во мне любовное томление какого-то нежнейшего свойства. Мой живот стал столь же чувствительным, как цветок, мои ягодицы, казалось, купались в меду — никогда ранее не был я столь податлив. Не в этом ли сила и удовольствие женщины? Что же осталось от моей гордости моим членом — столь же надежным, как и моя рука? Размякнуть от этих гимнов прихотливым путям дерьма! Допускалось, хоть и считалось грязной привычкой, засунуть свой ощутивший силу конец в задницу любого приятеля (или врага), достаточно слабого, чтобы принять его — своеобразный способ испытать себя, — но все-таки! непременным признаком благородного египтянина служило его отвращение к подобной мерзости. Запах грязи был слишком близок нашей жизни — наше белое полотно говорило о расстоянии, на котором мы держались от подобных предметов, чем белее, тем лучше. Поэтому и стены наших домов были белыми, и лица наших Богов, когда мы рисовали Их. Так и наши носы считались наиболее достойными, если их задирали должным образом. И вот является Мененхетет и стремится соблазнить мое внимание славными достоинствами столь отталкивающего предмета.
— Ты мертв, — сказал он, — и первым потрясением для тебя явится стремление с удовольствием воспринимать то, что раньше вызывало твое презрение. Я выжил лишь потому, что, переплывая Дуат, полностью превозмог чувство омерзения. — Теперь он выглядел таким кротким, что сквозь мое сладкое возбуждение проникла неожиданная нежность к Мененхетету — первая, которую я ощутил за все это время. Она принесла отдохновение. Мне нужен был кто-то, кто нравился бы мне, кроме меня самого! Но, словно моему прадеду не было нужды в моих добрых чувствах, он без предупреждения вернулся к описанию попытки Сета мужеложествовать с Хором.
— Удалось ли Ему это? — спросил Мененхетет. И ответил: — Не в тот раз и не там. Надо помнить, что у Хора еще был засохший большой палец Сета, который Исида привязала в жестких волосах на Его голове. Теперь, когда Его голова была внизу, а шишка Сета ерзала у Его заднего входа, Он знал, что если Ему не удастся вырваться, то Страну Мертвых просто вырежут из Его внутренностей. Поэтому Он протянул руку, вырвал клок волос, чтобы высвободить палец Сета, и взмахнул им в воздухе. У Сета пропал запал. Внезапно Его член стал таким же маленьким, как и Его отрубленный палец, и Хор в приступе (наконец-то!) божественной ярости оттого, что чуть было с Ним не произошло, схватил мошонку Сета с такой силой, что покой небес был нарушен навеки. Внезапный шум налетевшего ветра был так же силен, как и ярость, с которой Сет нанес ответный удар по бровям Хора, и лицо юноши тут же оказалось изуродовано, а Его глаза почти полностью вылезли наружу. Он стал похож на бегемота.
С этого момента Они вступили в сражение нового вида. Хотя превращения — обычное дело в Божественных битвах и все Боги стремятся быть искусными в Своем выборе, Они также должны быть готовы принять форму любого животного, которое Они, по своей воле или в силу обстоятельств, стали напоминать. Итак, когда Сет наполовину вырвал глаза Хора из Его глазниц и сделал Его похожим на бегемота, Хор был вынужден обернуться этой малознакомой Ему тварью.
Теперь Они стали биться в трясине — бегемот с бегемотом, с хрюканьем, пусканием слюней и отвратительным рычанием. Их конечности были столь короткими, что, когда кто-либо из Них захватывал в пасть ногу другого, зрелище становилось столь же неприглядным, как вид свиней, кормящих поросят в корыте.
И все же судьи не испытывали отвращения. Так и предполагалось — эта часть сражения должна была состоять из возни на болотах, ее цель была разрядить напряженность, скопившуюся в воздухе, осушить топи и промыть нильскую грязь. Если бы Они продолжали, это стало бы великим очищением, но Сет остановился. Слизь, покрывавшая Их тела, стала возбуждать Его. Его злоба гасла слишком быстро. Сет полагал, что Хор, будучи моложе, начнет терять терпение из-за того, что слизь мешает Ему при непосредственном соприкосновении, однако среди болотных испарений Хор лишь мрачнел от этой близости. Он хотел вонзить в Сета Свои зубы — без этого скольжения торсов, — Он упорно стремился к тому сияющему моменту, когда ярость усилий позволит отведать крови противника. Его нижние зубы вытянулись. Его ноздри сошлись вместе. Его шкура ощетинилась, противясь такому скользкому единоборству. Его нижние зубы уподобились бивням. Он превратился в дикого кабана.
Боги, наблюдавшие за битвой, наградили Его криками одобрения. Он осмелился избрать облик животного, больше всех похожего на Сета, выбор превращения был сделан блестяще, до того как к нему решил прибегнуть наконец сам Сет. Едва ли Хор мог бы поступить лучше. Был ли в Его жизни другой такой час, когда бы Он так походил на дикого кабана? Преследуя друг друга, Они с Сетом выскочили из болота и забегали по полю взад и вперед, врезаясь один другому в бока, яростно кусаясь, хрюкая и визжа, нанося друг другу раны, покуда всякий раз при грохоте Их столкновения кровь не стала бить ключом.
К удивлению большинства присутствующих, преимущество стало переходить к Хору. Бог, как и человек, никогда так не силен, как в час, когда Он сознает Свою храбрость. С Хора был снят гнет — Он больше не боялся сражения. Какое воодушевление охватило Его! Боль даже усиливала это пьянящее ощущение. Каждый раз, когда зубы Сета рвали Его шкуру, Он рычал в новом приливе ярости. Его разодранные глаза втянулись обратно в маленькие глазницы кабана и горели оттуда, как два драгоценных камня. Его разбитый нос походил на красный кровоточащий рот, а зубы, прорвавшие десны, блестели полукружьем шипов. Сет побежал. Под улюлюканье зрителей Он отступил на достаточное расстояние, чтобы выиграть время для последнего превращения. На поле Он вернулся уже в облике черного медведя. Такой выбор было трудно понять, поскольку Хор был наделен большим сходством с этим животным, однако раны Сета причиняли Ему такую боль, что Ему пришлось искать более надежное укрытие, и Он укутал Себя в мясо, складки шкуры и почти непроницаемую тушу медведя. В таком обличье Он стал обороняться.
Поединок медведей [21] продолжался день, а затем ночь, и пока Они закончили, прошло три дня и три ночи. Хор поймал Сета в мертвый захват и заставил Его пережить долгую и упорную пытку выпускания всей медвежьей силы. Чтобы вынести эту боль, Ему не оставалось ничего другого, как призывать на помощь воспоминания о бесконечной горечи всей Своей жизни, и это помогало Ему держаться. Это даже позволило Ему вынести воодушевление Хора, который прошел все стадии опьянения победой, не испытав только самой победы, и наконец настолько лишился всякой радости, что просто навалился всей Своей медвежьей тушей на медвежью тушу Сета, сомкнув Свои зубы на Его шее, и не разжал их, пока все острое наслаждение, которое Он испытал, отведав крови Своего врага, не угасло, и Хор наконец лег, уткнувшись Своей покрытой запекшейся кровью мордой во всклокоченную шерсть противника.
Наутро четвертого дня, когда судьи объявили Его победителем, Ему принесли веревки, и Он срывающимся голосом приказал Своим помощникам крепко привязать конечности Сета к столбам, и, когда они закончили, туго связанный Сет лежал на спине, глядя в небо. Медленно, подобно тому как меняется свет с течением дневных часов, Сет стал принимать облик лежащего на поле брани раненого человека, смерть которого близка, а Хора Его друзья подняли на плечи и отнесли к реке, где Они омыли Его раны и очистили Его разбитое лицо. Медленно, и Он тоже стал терять облик медведя. Затем Хор спал день и ночь, с радостью сознавая, что Сет не убежит, поскольку Его стерегут охранники, которым доверяла Исида.
— И, словно его слова могли быть моими словами, теперь мой прадед умолк. История его, однако, этим не окончилась. Хотя я не думаю, чтобы в ней была упущена хоть одна мысль.
ПЯТЬ
Хор крепко спал. То была ночь празднества, и Боги встречали каждое появление Исиды и Осириса приветственными возгласами. Впервые за много лет Бог Мертвых прикоснулся двумя пальцами к локтю Своей жены (давний жест, говорящий о чувственном желании посреди торжественной церемонии), однако у Исиды возникло предчувствие, имевшее мало общего с наслаждением. «Знаешь, — сказал Осирис, — а мальчик выглядел лучше, чем Я ожидал», а про Себя решил, что одним из достоинств этой победы стало то, что Он смог почувствовать любовь к Своему Сыну.
«Я опасаюсь, что Сет может убежать», — ответила Исида, и позже, когда Они пытались заснуть, Она все никак не могла успокоиться и вышла в ночь пройтись, пока Осирис пытался сосредоточиться на источнике Ее беспокойства. Он увидел лицо Своего первого сына, Анубиса, и вздохнул легко, как шевелится листок, слыша приближение легкого ветерка. Этим вздохом Осирис признавал, что Его сознание могло быть чистым, как серебро, и сияющим, как луна, однако Его Божественные способности никогда не смогут быть применены ни к чему, что имеет отношение к Сету. Он потерял эти силы в ночь, которую провел с Нефтидой. Невозможно причинить душевные страдания брату без того, чтобы не лишить спокойствия сокрытое.
И вот, когда Исида пришла на поле, где был привязан к столбам Сет, Она отослала охрану и в лунном свете присела около Него. Сет ничем не дал знать, что заметил Ее появление. Изнеможение, подобно свисающим лохмотьям, окутало Его существо. Поэтому нелегко было говорить Ему о Его преступлениях или омраченных ими годах жизни. Вместо этого Исида внезапно представила Себе молодое обнаженное тело Своей сестры Нефтиды рядом с телом Осириса и с удивлением ощутила прилив ярости. «Я страдаю, — сказала Себе Исида, — за всех тех, чья жизнь гибнет из-за неправедных совокуплений», — и Она не смогла ощутить никакой злобы против Своего брата, но лишь силу молчания, стоявшего между Ними. Затем Она услышала, как Сет сказал: «Сестра, разрежь Мои путы».
Она кивнула. На Нее снизошла кротость. В свете луны Исида разрезала веревки, связывавшие Сета, и Он медленно поднялся с земли и, глядя на Нее, сделал странный детский жест, как будто хотел засунуть Себе в рот большой палец. От Его пальцев полетели искры, и Она увидела, как возвращается Его сила. Затем Сет помахал Ей рукой и пошел прочь.
Так вот, Исида плохо представляла Себе, что Она сделала. Этим непредвиденным великодушием к Сету Она начала расплачиваться за то, что не принесла жертву, которую предложила Ей Маат. Итак, Она не могла вернуться к Осирису, но бродила в ночи, не заботясь о том, что с Ней может случиться. А наутро, разбуженный нехорошими мыслями о Своей Матери, Хор пересек поле и узнал, что Его дядя сбежал.
Бедный Хор. До этого сражения Его чувства по вкусу ничем не отличались от пищи крестьян, которые трудятся в пещерах: корни, гусеницы и копченые жуки питали Его сердце. Теперь же Он побывал на празднестве Своей победы. Его дух впервые зажегся праведным гневом. «Где Моя Мать?» — проревел Он голосом, напоминавшим худший из голосов Сета, и кто бы смог Его не услышать? Он безо всякого труда отыскал Ее. Те, кто видел, как Она проходила, отводили глаза. Он мог определить направление, в котором Она пошла, по любому затылку, и вскоре Он обнаружил Ее в лесу.
«Кто отпустил Моего врага?» — спросил Он.
Тогда Исида испугалась, но все же ответила: «Не говори таким тоном со Своей Матерью».
В Ее голосе Он услышал страх, который Она пыталась скрыть, и в тот же миг поднял Свой меч и отсек Ей голову. «Теперь, когда Я одержал победу, Я уже никогда не буду колебаться», — начал Он, но вдруг разразился слезами и зарыдал от горя, какого не ощущал ни разу в Своей жизни. Схватив голову матери, Хор побежал в пустыню.
В мгновение то, что осталось от Исиды, превратилось в статую из кремня. В таком виде, без головы, Ей предстояло оставаться.
Возможно, способность Осириса проявлять понимание никогда еще не подвергалась такому испытанию. В то время как Он был готов увидеть в поступке Своей жены некий благочестивый ответ на какое-то нарушение порядка вещей, нельзя сказать, чтобы Он мог простить Хора. Я не ошибался, думал Осирис, не доверяя Своему Сыну. Какой дикий нрав! Зачатый от озноба Моего тела, Он дик, как сорная трава. «Будущий Бог всех Живущих дик, как сорная трава», — повторил Осирис, а Он не был склонен к повторениям. Но Он не знал, что предпринять. Ужасным представлялся Ему вечный брак с безголовой статуей. Однако как отомстить за такую жену? И все же Он не мог оставить Хора безнаказанным. Это вызвало бы хаос. Поэтому Осирис распорядился догнать Хора.
Первым в погоню пустился Сет. Он отправился в дорогу как воин средних лет, едва оправившийся от Своих ран. Тем не менее к Нему вернулась уверенность. Ибо, когда Исида разрезала Его путы, у Него возникло такое чувство, что великая сила освободилась из Нее и была дана Ему, и Он молился о даровании возвышенной и благородной мощи. Сокрытому Он сказал: «Повелитель Невидимого, позволь Мне преумножить ту великую силу, что испустила из Себя Исида (предав Своего Сына). Пусть на том месте, где раньше было пять пальцев, точно пять рук, станет пять молний». Небеса ответили тихим голосом: «Положи оставшийся у Тебя большой палец Себе в рот», и Сет сделал так, как было Ему сказано, и бальзам пролился на Его раны, и из Его восьми свободных пальцев вылетели искры. Поэтому, отправляясь на поиски Хора, он был уверен в Себе.
Однако сражения не произошло. Сет наткнулся на юношу, убитого горем. Сет не упустил представившейся возможности. Он немедленно вырвал Хору глаза (конечно же, они были еще слабыми после полученных в сражении ран). Когда Хор забегал кругами (ибо слепота пришла к Нему водоворотом боли), удар молнии, более разрушительный, чем падение огромного камня, сотряс землю, и кроваво-красные глазницы на лице Хора словно сверкающая трава озарились ярко-зеленым светом. Сет испугался той силы, что даровала Ему Его молитва, и отказался от дальнейших попыток убить Хора. Вместо этого Он схватил голову Исиды и убежал. Хор, пытаясь преследовать Его, споткнулся о камень на краю леса и в темноте стал блуждать по пустыне.
К этому времени Сет был уже далеко. Получив в дар эту удачу, Он не освободился от благоговейного страха перед Своими новыми силами. Поэтому Он достал глаза Хора из мешка, в который Он их положил, и посадил их в землю, и на Его глазах они стали расти и превратились в лотос — растение, невиданное до тех пор (и вскоре этот лотос буйно разросся и превратился в царское растение Фараонов). Наблюдая за этим, Сет, однако, чувствовал искушение осквернить голову Своей сестры. Голос, сказавший, чтобы Он пососал Свой большой палец, теперь насмехался над Ним. «Ты слишком добр к Своим врагам, — сказал голос. — Не ослабляй то, что живет в основе Твоего нрава. Оскверни Ее! Замарай Ее плоть!» Сет ощутил благочестивую дрожь от заднего входа до пупка. Головка Его члена была подобна налитой сливе. Похоть была простейшим движением души, которое Он знал — запечатлеть свое семя на другом. Однако в страхе Он принудил Себя отвернуться и в конвульсиях заставил Себя извергнуться в заросли салата. «О, — прошептал голос. — Ты совершил ошибку».
Сет не слушал. Чего достигает тот, кто самоудовлетворяется? Охлаждает, подавляет. Он оставил эти безмолвные забрызганные овощи и вернулся в Мемфис, однако с каждым следующим днем Его желание объедаться салатом росло и стало таким же неотвязным, как и Его тяга к мясу.
Сразу же по возвращении Сет поднес голову Своей сестры Ее статуе. Исида не поверила в искренность Его подарка. Лишенная голоса и заточенная в камне, Она тем не менее чувствовала, что голова осквернена. У Тота, исполнявшего обязанности Ее врача, пока другие Боги отсутствовали, разыскивая Хора, эта голова также вызывала сомнения. Тот, с Его тонкими руками и лицом павиана, видимо, был наименее мужественным из всех Богов — Он был женат на Маат! — однако Он также был Главой Писцов и Повелителем Слов. Разумеется, именно Он должен был знать, как разговаривать со статуей. Оставаясь наедине с Исидой в течение многих часов, Он стал нежно гладить поверхность кремня. И Исида начала говорить с Ним. Для таких дел у Тота были самые замечательные уши. Положив на камень палец, Он знал, как получить ответ. (Дело было в особенностях тишины. Однако скольким даны такие уши, что могут отличать одну тишину от другой?).
У статуи Исиды не было глаз, чтобы плакать, слезы могли течь только из Ее груди. Иными словами, каждый сосок был влажным. На них и возлагал Свои руки Тот. Во время этих бдений Он хорошо изучил Ее формы, и, хотя Он ничего не знал о том, какая у Исиды шелковистая кожа (когда-то она была более гладкой, чем патина на мраморе), пальцы Тота с удовольствием касались грубой поверхности кремня. Подобно многим писцам и после Него, Тот не совсем удобно чувствовал Себя, касаясь изгибов женского тела. Раздражение сильнее возбуждало Его сознание. Всякий раз, когда зажигали благовония, Его легкие стремились вдохнуть самый резкий дым — небольшой урон плоти улучшал Его способность думать. Вот почему то в одном, то в другом месте на Его пальцах, там, где они дольше всего терлись о камень, появились волдыри.
Обнимая Ее, Тот часто прислонялся лбом к Ее бедру. Он раздумывал о том, что хотел спросить, и пытался составить вопрос так, чтобы Его сознание было настолько чистым, что мысль смогла бы проникнуть сквозь безгласные поры кремня. Тогда, рано или поздно, Исида отвечала. Однако не посредством слов. Вместо этого в Его сознании появлялись картины — вначале затуманенные, но иногда этот туман рассеивался, и Тот видел Ее ответ в безошибочно ясном образе.
Теперь, когда Он спросил, желает ли Она, чтобы голова была возвращена Ее телу, кремень не показал Его сознанию ничего, кроме грязной реки, вода которой была слишком мутной, чтобы Тот смог что-либо рассмотреть, покуда перед Ним не предстало весьма неприглядное зрелище задницы Сета в момент испражнения. Кремний высказал свое мнение относительно головы.
Подобная горячность смутила Тота. Однако Он попытался успокоить течение Своих мыслей. Он предложил: если Она, возможно, больше не желает иметь Свое собственное лицо, может быть, Она удовольствуется головой какой-нибудь птицы, животного, насекомого или цветка?
Ему пришлось ждать Ее ответа, но наконец Он получил одобрение на воображаемую прогулку по тропе в зарослях кустарника. Тот, слишком много времени проводивший сидя на одном месте, не привык к дальним пешим походам и теперь с изумлением наблюдал, как перед Его закрытыми глазами проносились странные животные и птицы. Он никогда не видал таких зеленых лугов и таких крутых гор. В поле Его зрения вползали огромные насекомые, Он видел, как под ветром волнуются стебли папируса. Потом Он увидел рога газели, затем кобру. Но вот появилось пасущееся стадо коров, и, по мере того как Он к ним приближался, перед Его глазами осталась только одна корова. Он перестал видеть что-либо, кроме коровьей головы, и эта голова была прекрасной и мягкой, а затем Тот впервые услыхал звук, исходящий из камня. Звук пережевываемой жвачки, полный благоухания травы, и, когда Он открыл глаза, кремень уже обращался плотью и перед Ним предстала Исида во всей красоте Своего тела, помолодевшая на много лет после Своего заключения в каменной темнице. Она уже не была безглавой, а имела красивую коровью голову с короткими и удобными рожками. И новое имя Исиды было Хатхор.
Тот не мог удержаться, чтобы не прикоснуться к Ней. Хотя за Ним и не водился грех сладострастия — подобным сухому перу Маат был Его маленький зуд, — теперь же Он обезумел, как кошка во время течки. И Хатхор в награду за Его долгие труды позволила Ему потереться о Свое тело. Однако прикосновение к настоящей плоти немедленно прорвало Его дамбы, и Он забрызгал семенем весь Ее бок. Она была добра и отерла Ему лицо, предложив поцелуй тяжелого, свисающего языка, а затем отправилась на поиски Своего Сына.
Розыски оказались недолгими. Эхо от воплей Хора разносилось по всей пустыне. Ослепший, смятенный, с кровоточащим сердцем, лежал Он у источника в роще и стонал голосом, который Ему Самому казался тихим, однако он был полон такого неподдельного страдания, что Его мать услышала его издалека, за многими холмами. А когда Она наконец добралась до того места, где лежало Его незрячее тело, Ее охватила такая жалость, точно Ее кровь прошла через Его горе.
Хор был окружен полем лотосов. Они расцвели из того первого лотоса, проросшего из Его глаз, и газель щипала их листья. Без колебаний Исида взяла молоко этой газели. Животное не убежало, когда Богиня приблизилась, поскольку у Исиды была голова Хатхор, а когда газель боялась коровы? Несомненно, газель вряд ли поняла, что ее подоили. Она решила, что эта странная корова хотела просто выказать почтение и не знала, бедная, как начать. Теперь же, поняв, что от нее ничего не хотели, кроме молока, газель (в душе никто не тщеславен так, как газель) ударила передними копытцами в грудь Хатхор, а затем в страхе от своей дерзости умчалась прочь. Хатхор подошла к Хору и облизала Его лицо, омыв газельим молоком те изуродованные глазницы, где ранее пребывало Его зрение. Она осторожно раздвинула Его набедренную повязку, чтобы ветерок, веявший от ключа, принес покой Его членам, так же как молоко исцелило раны в Его пустых глазницах, и действительно эта нежная прохлада на Его чреслах умиротворила саднящие пустоты над Его носом, где запеклась кровь. Принимая эти ласки, Хор почувствовал, как на том месте, где когда-то были Его глаза, начали прорастать семена. Он подумал, не выросли ли из Его бровей цветы, и поднял руку, чтобы тронуть их лепестки, но вместо этого сквозь каскады крови, слез и жемчужного молока различил Свои собственные руки и громко закричал: «Моя Мать простила Меня!» В следующее мгновение Он увидел грустные, сияющие глаза Хатхор и почувствовал запах земли и травы от Ее удивительного языка, облизывающего Его брови. После этого Он мог лишь промолвить: «Как Мне простить Себя?»
Она положила Ему на бровь палец, чтобы этим передать ответ: то, что Он ценил более всего, следовало преподнести Его Отцу. И Хор задумался: что Он мог бы отдать?
Задавая Себе этот вопрос, Хор взглянул на пустыню, и она была необычайно прекрасна. Скалы были цвета роз, а песок — казался золотым порошком. Там, где свет сиял на камнях, Он видел самоцветы. Получив столь щедрый дар зрения, Хор больше не размышлял. «О, Отец Мой, — сказал Он, стараясь произносить каждое слово с достоинством, — Я — Хор, Твой Сын, получил обратно Свои глаза для того, чтобы Мне было позволено преподнести их Тебе».
Вновь обретенное Хором зрение погрузилось во тьму, и эта потеря отдалась грохотом, подобным водопаду тяжелых камней, сорвавшихся в ущелье. Когда Он вновь открыл Свои глаза, Его зрение восстановилось, но каким разным было то, что Он видел. В Его левом глазу краски переливались всеми цветами. Однако Его правый глаз видел серую глубину каждого камня. Когда оба глаза смотрели одновременно, мир не был ни прекрасным, ни отвратительным, но хорошо уравновешенным. Так Он мог видеть Исиду во всем очаровании Ее тела и с разительно не соответствующей ему широкой коровьей головой.
«Пойдем обратно», — грустно сказала Она, и Они вернулись, держась за руки.
— Могу сказать тебе, — заметил Мененхетет, неожиданно изменив голос, — что, как только Они оказались в стенах Мемфиса, глазам Хора было уготовано новое испытание, а Его простодушию — еще большее. Осирис решил, что Хор и Сет должны предстать перед Ним.
ШЕСТЬ
— Страсть Осириса, — заметил Мененхетет, — покорять хаос. Вот почему в Херет-Нечер Он быстро уничтожает посредственность. Важно, чтобы в Стране Мертвых выживали Ка лишь самых лучших. Иначе тот человеческий род, который Небеса вбирают в себя, будет недостаточно богат храбростью, удовольствиями, красотой и мудростью. Безжалостный отбор оборачивается таким образом услугой доброго хозяйствования. Соответственно, Осирис никогда не проявляет милосердия в отношении тех, кто может предложить слишком мало. Однако Он всегда терпим, когда речь идет о достижении согласия между Богами. Поскольку Они бессмертны, затянувшийся спор может вспыхнуть, превратившись в великий хаос. Оттого Осирис поддерживает мир между Ними. Вероятно, поэтому Он так много простил, когда Хор и Сет предстали перед Его судом. — Теперь Мененхетет наклонил голову, будто желал, чтобы я снова поверил, что могу слушать его рассказ, не слыша его голоса.
«Вы Оба, — сказал Осирис Своему брату и Своему Сыну, — мужественно сражались и немало пострадали. Хор потерял зрение, позволявшее Ему смотреть на Свою жизнь, а Сет — глаз Своих чре-сел. Милостью настоящего суда, стремящегося к согласию среди Богов, Сету возвращены Его чресла, а Хору — глаза. Идите теперь Оба и празднуйте вместе. Те, кто бился насмерть, должны узнать своего противника как друга. Разделите доблесть Вашей битвы. Откройте силу мира. Идите с миром».
Боги ликовали. Хор взглянул на Сета глазом, способным видеть все богатство красок, и увидел страсть, которую можно обнаружить в красном цвете лица. Он подумал, что Его дядя великолепен. Он мог бы воспользоваться и Своим вторым глазом, но из страха, что тот откроет Ему столь неприглядные стороны Его дяди, что Он пожелает воспротивиться приказу Своего Отца, Хор удовольствовался уравновешенным зрением обоих глаз, а они увидели много страдания. Тогда Своим самым мягким и учтивым голосом Он пригласил Сета в Свой лагерь.
«Нет, племянник, — сказал Сет, — там Мы будем окружены людьми и никак не сможем поговорить наедине. Пойдем в Мой лагерь, Меня все оставили, и Ты избавишь Меня от общества молчания».
Под впечатлением этих грустных слов Хор ушел вместе с Сетом, и всю дорогу в лагерь Его дяди Они шли бок о бок, и Сет заколол одного из пойманных Им кабанов, и Они зажарили его мясо и ели до вечера, запивая вином, изготовленным из винограда, выросшего на крови растерзанных львами грабителей. Сидя у костра, Они неустанно превозносили друг друга, говоря о великом боевом искусстве, проявленном другим в сражении. Наконец Сет произнес речь в честь духа вина. «Некоторые, — сказал Он, — выгоняют сок в специальных давильнях, однако по Моему желанию Мои рабы всегда давят ягоды своими босыми ногами. Ибо никто не мечтает путешествовать так страстно, как раб, и это желание придает виноградным ягодам дух полета. — Он поднял Свой кубок. — Мое вино подготовит Тебя к тому, чего Ты еще никогда не делал», — и Хор рукоплескал Ему, и в последний раз подняв Свои кубки, Они осушили их и заснули у костра.
От этого забытья Сет проснулся с воспоминанием о блеске Своей мужской силы в первый день сражения, и Он погладил мошонку племянника и пощекотал Его крестец, но затем поклялся, что не станет продолжать. Ложная клятва. На этом пути не останавливаются. Сет вспомнил, как Его член был готов проникнуть в недра племянника, и сладчайший букет вони накачал Его мехи, Он исполнился ненасытной страсти.
Хор старался не просыпаться. Капли молока газели, которые Он проглотил, привели Его в состояние счастливейшей кротости и просветленности — как раз то состояние, в котором можно разрешить немного приласкать Себя. Он, конечно, готовился узнать, насколько глубоко мог войти в Него другой. Как прекрасно это могло бы уравновесить огни Его победы.
Сет тем временем дрожал от такой близости к плоти Сына Осириса. Он пронзительно вопил, словно кабан. Он обезумел от запаха, исходившего от щек юноши; поток проклятий, которые Он призывал на молоко Исиды и промежность Осириса, рвался из Его рта такими кошачьими криками мертвых грабителей, что Хор увидел перед Собой грустные глаза Исиды в голове Хатхор, освободил Свою прямую кишку и поймал семя в ладонь, когда Сет, в ослеплении восторга, вскрикнув, рухнул в сон и глубочайший храп.
Хор, одурманенный вином грабителей, выпитым после молока газели, немедленно забыл о том, что произошло. Слишком щедро омыла Исида Его глаза. Это молоко придало Ему все черты покорного дурака. Он бесцельно побрел из лагеря Сета, вытянув перед собой влажную руку, будто там были собраны жемчужины, а на Его лице играл лунный свет. Он не прошел и ста шагов, как встретил Свою Мать.
Исида прождала всю ночь на окраине лагеря Сета. Она знала слабость Своего мужа, когда дело доходило до понимания Его брата. Погружая лунный свет в Свои безмолвные молитвы, Она посылала слова власти в топи, чтобы они, как туман, окутывали Сета.
— Однако как мало, — сказал Мененхетет, — может сделать магия, если сердце мага отягощает страх! Это первое поразительное свойство чар, и, что самое худшее, силы не хватает именно тогда, когда мы находимся в самом отчаянном положении. В эту ночь Исида действовала с коровьей головой, еще не вполне Ей знакомой. Как же могла Она измерить силу, заложенную в проклятье, если, вместо того чтобы расширить нежную ноздрю, Ей приходилось теперь раздувать нос, огромный, как сама коровья морда? С такими незнакомыми орудиями вопрос был в том, смогла ли Она хоть на что-нибудь повлиять в ту ночь, по крайней мере до того момента, как Ей кое-что удалось. Однако в целом Она добилась успеха. Иначе как объяснить такую глупость, как извержение Сета. — Хрю-хрю — передразнил Мененхетет. — И то, что Он провалился в сон, не заметив, что Его семя осталось в руке врага. Можно ли в это поверить? Он грезил о том, как Его извержения обретут, капля за каплей, знание всех тайных поворотов в недрах Хора. Уверяю тебя, что в сумятице звуков Своего храпа Сет предвкушал оргии обладания в грядущие годы. Теперь Он был уверен, что Хор не сможет скрыть от Него никаких тайн, доверенных Ему Осирисом. Сладкие сны! — сказал Мененхетет. — Лишь взглянув на руку Хора, Исида воскликнула: «Семя Сета густое, как серебряное молоко», — ибо все то, что находилось на ладони Хора, теперь стало тяжелым и блестящим, как луна. Это жидкое серебро, не более (но и не менее!) чем сущность семени Сета, стало нашим первым шариком ртути. Исида, теперь уже полностью восстановившая Свою мудрость, подсказала Хору бросить этот сгусток ртути в болото, несмотря на то что каждая тростинка в нем окажется ядовитой. В результате жители нашего Египта, поедая мясо животных, которые пасутся в этих тростниках, стали столь же бесхребетными, как ртуть, и мы из великого народа превратились в людей, лишенных воли. Да, каждое извержение чресел наших Богов, которое не остается в теле другого Бога, порождает новую болезнь. Многое из того, что связано с Маат, покоится на этом непреложном правиле. Иначе бы Бога сеяли Свое семя повсюду.
Он перевел дыхание и улыбнулся: — Будь уверен, когда Хор бросил серебряное молоко в болото, оно унесло с собой кожу с Его ладони. Однако Исида дала Ему новую ладонь, втирая в саднящую плоть Его пальцев соки Своих бедер, и они оказались столь же целительными, как и молоко газели — хотя мы не будем останавливаться на подобных ласках. Собственно, я упомянул об этом только для того, чтобы сказать, что Хора так возбудил шелк Его новой кожи, что Он немедленно извергся в него, а такое извержение, как Ему тут же заметила Его Мать, вскоре окажется драгоценным.
Мененхетет кивнул, а я тем временем смотрел, как Исида вела Хора обратно в лагерь Сета. Пройдя мимо Его храпящего тела, полного грубых и плотских снов, Они забрели в сад, где теперь в большом количестве рос салат-латук. Хор заверил Ее, что во время пиршества, когда Они ели мясо дикого кабана, Сет часто запихивал кочаны этого салата Себе в глотку и, едва не задыхаясь, с выпученными глазами, с почти разошедшимися челюстями сокрушал зубами листья и проглатывал все целиком. «Никто, — сказал Хор, — не может есть салат-латук так, как делает это Сет». Теперь, по знаку Исиды, Он разбросал семя из Своей руки по всему полю, и оно упало, разлетевшись многими нитями, и прозвенели тонкие звуки, сложившись в удивительную музыку. Эти длинные струны влаги тронула жизнь живых или, иными словами, в них отозвались все потрясения грядущих войн, даже звуки рогов и труб, в которые еще никто не трубил. Музыкальный вздох догнал Исиду и Хора уже на краю поля, но теперь это был лишь тихий шорох лап несметного множества пауков, оставивших сад после вторжения в их паутину нитей, брошенных Хором. Как блистал свет луны! По пути домой Исида пела Хору колыбельные песни. — Очевидно, — сказал Мененхетет, — путь Его возмужания был неровным, однако этим утром произошли два события. Сет проснулся и сожрал еще массу салата, а Хор стал любовником Исиды.
Увидев, какой интерес вызвало у меня это замечание, мой прадед поднял руку. — Об этой связи я скажу несколько слов, но только после того, как мы закончим. Ибо сейчас достаточно знать то, что к утру Хор стал мудрым, а Сет ворочался в постели, обуреваемый гордостью человека, одержавшего победу накануне ночью. Он ощущал на Своих чреслах запах стыда задних щек Хора, что приятно щекотало Его самолюбие. Итак, Сет строил грандиозные планы. Еще до того, как в разгар полдня Ра поднялся во весь рост, Сет уже созвал всех Богов.
Собранные в спешке, Они сгорали от любопытства, и Они услышали речь, исполненную силы. Сет облачился в красные одежды, цвет которых был ярче Его кожи, в Его голосе ревел огонь. Он сказал: «В тот день, когда Хор и я сражались, победа должна была достаться Мне. Его голова была в грязи. Однако, воспользовавшись Моим потерянным пальцем, Он выскользнул из Моих рук — уловка, которой научила Его Мать. Его кровь подобна молоку Его Матери. С того момента это уже было не состязание, а одно воровство. Вы сами видели. Его Отец — тот, кто прикидывается Моим судьей, — приказал нам пойти и отпраздновать это событие. Что Мы и сделали. И теперь Я скажу Вам: Я — победитель. Ибо ночью Я славно покатался у Него на спине, и Я был велик, как дерево, которое вырастает из ореха. Поток, извергшийся из Моих чресел, вошел в презренное заднее отверстие юного Хора, стоящего здесь, рядом со Мной. Смею заметить, что Он блеял, как овца, и курлыкал, как голубь. Он принадлежал Мне. Поэтому Я говорю: не делайте Его Повелителем всех Живущих, иначе всякий раз, входя в Его недра, Я буду красть какой-нибудь секрет.
Лучше когда большие полномочия вручают сильным. Пусть Хор будет Моим помощником. У Него слабые бедра».
Сет ожидал, что Хор станет нападать, и был готов к этому. Однако Хор лишь закинул назад голову и расхохотался. Судьям Он сказал: «Я слушал со спокойным и счастливым сердцем. Мой Дядя — маленький, тощий человечек с громким голосом. Он каркает, как ворона. Он лжет. На самом деле это Я взвалил на Себя бремя путешествия по Его высохшим трещинам, и Я сделал это просто от скуки. Мои уважаемые судьи, попробуйте послушать целую ночь, как Мой Дядя выпускает ветры. Клянусь, по Мне, так лучше швырять копье в болото. Эти старики такие грязные!»
Сколь многому научился Хор за ночь, что провел с Исидой! Должно быть, масло Ее бедер содержало больше, чем молоко газели. У Сета не было выхода. Он выхватил Свой меч. Хор ловко увернулся, и, по знаку Осириса, придворные воины удержали Сета.
Ясным, чистым голосом Хор сказал: «Пусть Боги призовут Наше семя, испущенное прошлой ночью. И пусть это семя скажет, кто говорит правду». Сет согласился так же быстро, как и другие, и Тоту было приказано стать между спорящими. «Наложи Свою руку на ягодицы Хора, — приказал Осирис, — и вели голосу, что пребывает в семени Сета, чтобы тот назвал себя». В голосе Самого Осириса не было уверенности. Он сомневался в Своем Сыне.
«Я обращаюсь, — сказал Тот, — к этому семени Сета. Скажи Нам, где ты. Говори оттуда, где ты оказалось». Издалека, с болот, раздалось громкое и тяжкое кваканье ртути. В воздухе повисло зловоние погубленного тростника, и Боги завопили, что семя Сета — эта мерзость! — было, вероятно, излито в болото.
Затем Тот положил свою руку на чресла Сета, вернее, туда, куда осмелился, так как Сет весь трясся от ярости, однако Тот продолжал говорить те же слова, обращаясь к семени Хора. Проявится ли оно? Прямо из ягодиц Сета вылетел голос. То был сильный, сладко пахнущий ветер, и он сказал: «Я — обличье семени Хора». Этот ветер был исполнен свежести салатных листьев. Боги зашумели. Ибо теперь Они знали, что Хор побывал в Сете.
Этим бы дело не кончилось, и Сет, вероятно, задумал бы новую месть, но, по возвращении в лагерь, Он обнаружил, что забеременел. Бог может зачать дитя через рот или через задний вход, но, если мы знаем, что это был рот, то Сет этого не знал. Позорная беременность! Появилось существо — полумужчина, полуженщина, и вскоре умерло от удушья, пытаясь любить самое себя. Сет и сейчас остается
Повелителем Молнии и Богом Грома, но Он пребывает в замешательстве. Он тучный, почти неподвижный Бог, не уверенный — сказал ли Он правду или действительно был опозорен. Поэтому сейчас Он безумен. Познать спокойствие ума для Бога труднее, чем для человека. — Мененхетет вздохнул. Движениями, такими же неспешными и сосредоточенными, какими старая ведьма распускает ткань из множества узлов, он поднялся, подгоняя один сустав к другому многократно раскачиваясь вперед и назад, покуда не встал прямо. — Ты готов? — спросил он.
— Ты не рассказал о связи Исиды с Хором.
— И не собираюсь. Они остаются самыми сильными среди Них.
— Но мне ведь надо знать больше. Что, если мне придется встретиться с кем-то из Богов в Стране Мертвых?
— Ты с Ними не встретишься. Они живут на вершинах. Ты не узнаешь Бога, покуда не увидишь высокую гору. — Он вновь вздохнул. — Я скажу только, что у Исиды и Хора была долгая связь. Она еще продолжается. Я шепну тебе, что сожительство с Сыном поддерживает видимость Ее верности Осирису. И Он спокоен и благословил эту связь. Их действия не умаляют Его достоинства, но лишь укрепляют надежность Их семьи. И связь эта дала Хору много мудрости, столь необходимой Повелителю всех Живущих. Она также принесла Исиде больше удовлетворения, чем могла бы ожидать от совокупления с соколом Богиня с коровьей головой. Ибо для Себя Хор избрал облик этой жестокой птицы. Теперь Ему уже никогда не придется волноваться по поводу Своих слабых ног, и каждый Фараон почитает Его крылья. Следует сказать, что Бог Хор, вошедший в полную силу, вовсе не походит на прежнего юношу, и Он стал так же велик, как и Его Отец. Такова мера знания, полученного Им от Исиды.
Затем мой прадед наклонился ко мне: — Пришло время начать наше путешествие по Херет-Нечер, — сказал он. — Ты готов?
Я ощутил детский страх перед всякой силой, пребывающей за дверью этой гробницы. Однако мне оставалось лишь согласно кивнуть.
Когда мы вышли в ночь, Мененхетет хлопнул в ладоши. Без сомнения, он хотел ознаменовать конец одних чар и начало других. Я подождал, но необычайным было лишь зловоние его дыхания. Мы вновь очутились на нашей дорожке Города мертвых.
III КНИГА РЕБЕНКА
ОДИН
Наш путь вновь привел нас к пирамиде Хуфу. Мне было трудно притворяться спокойным. Мой страх всего того, чему еще предстояло случиться, теперь придавил меня, как каменная глыба, и вид громадной пирамиды не унял моего смятения. С каждым шагом Мененхетета я ощущал себя более несчастным — он быстро шел впереди, как человек, стремящийся избавиться от неприятного запаха, и я вспомнил грабителя, который бежал, когда я приблизился к двери своей гробницы. Мое дыхание вызывало у него отвращение точно так же, как мне было противно его — знак того, что этот негодяй пребывал в ином, чем я, царстве. Однако если это предположение справедливо, что должен был заключить я относительно себя и Мененхетета?
Мог ли он быть моей Хаибит? Подобная мысль будоражила сознание. Моей Тенью? Найдется ли более неподходящая пара, чем Хаибит и Ка? Ка мог оказаться последней жалкой возможностью продлить бытие, однако бремя большой памяти ему не под силу. Хаибит же знала все, что произошло с тобой. Поэтому была способна искажать то, что помнил Ка. Орудие зла!
Убеждение, что Мененхетет — моя Тень, так властно овладело мной, что я был готов спросить: «Ты — Хаибит Мененхетета Второго?» — но не сделал этого из страха, что он запутает меня еще больше каким-нибудь замечанием вроде: «Нет, ты — Ка Мененхетета Первого, а я — его Хаибит».
Поэтому я ничего не говорил, а только старался поспевать за его быстрыми шагами. Надо сказать, что вел он себя как мой проводник, его белое одеяние было обернуто вокруг тела — из брезгливого опасения соприкоснуться с попрошайками или летучими мышами. Однако все в его фигуре говорило о том, что он — слуга, который ведет своего гостя, и ничто не сможет помешать им идти своей дорогой. Как только мы вышли из Города мертвых, нам встретился человек, стоявший у ворот с протянутой рукой, рукой нищего — без пальцев. Не замедляя шага, Мененхетет резко ударил его по руке, дав понять, что не потерпит попытки приблизиться. Конечно, тот отпрянул, освобождая нам дорогу, и я понял, что он принял меня за какого-то вельможу.
Но ведь до этого момента я не задумывался о своих одеждах. Когда я впервые начал носить эти чистые белые накидки со складками, эту нагрудную пластину, усыпанную драгоценными камнями? Ко мне вернулось воспоминание о прогулке по берегам Нила и о множестве людей, склонявшихся предо мной. Словно для большей убедительности, картина была очень яркой, и удовольствие от этого воспоминания не отличалось от удовлетворения, которое доставило мне почтение нищего. Согретый подобными знаками внимания, я, однако, быстро пал духом, как только стал размышлять над высказываниями моего прадеда о Хоре и Сете, из которых я не мог не предположить, что Мененхетет при случае попытается — здесь приходилось называть вещи своими именами — использовать меня. Спокойная надменность старика, уверенного, что он способен на такой подвиг, вызывала недоумение. В замешательстве я спрашивал себя, не должен ли он казаться мне смешным? В конце концов, мускулы моих бедер свидетельствовали о гордости — у меня сзади все было цело. И сейчас, пока мы шли, я чувствовал уверенность в своих руках и ногах, и это успокоило меня. Возможно, мои силы в семь раз меньше, чем когда-то, однако я все же не мог себе представить, чтобы этот грязный старик стал первым, кто овладеет мною. Я вспоминал, как мои друзья и я сам считали себя девственниками по отношению к другим мужчинам до тех пор, пока кто-нибудь не набирался смелости, чтобы ухватить нас сзади. Конечно, когда в твое тело наконец-то кто-то вторгался, это действительно было превращением. Человек знатный мог лишь раз позволить себе быть использованным подобным образом, будто на самом деле мы лишь однажды можем предложить царский цветок. Мы были решительно настроены не разрешать никому, кто не нравился бы нам во всех отношениях, даже намека на то, чтобы попытаться соблазнить нас. Некоторые из нас сохраняли целомудрие многие годы. Однако это могло превратиться в порок. Можно было стать старой девой, прождавшей слишком долго и теперь представлявшей собой легкую добычу для первого попавшегося нахала. Равновесие Маат состоит в искусстве выбора.
Теперь я раздумывал, а сам-то я не один ли из тех, кто прождал слишком долго? Какой ужас, если Мененхетет Первый станет моим первым. Нет, это немыслимо, думал я, только не тот, кто шел впереди меня шаркающей стариковской походкой, с прикрытой от холода головой, хотя ночь была теплой. Однако он двигался не совсем как старик.
Мне было не по себе. Теперь мы находились у подножия пирамиды Хуфу, и, словно отсутствие у меня желания идти дальше было очевидным, Мененхетет остановился передохнуть и снова принялся говорить, хотя я едва ли был в состоянии его слушать. Его дыхание было настолько смешано с моим. Не знаю, что он вдохнул мне в горло, но мне показалось, что меня окутали испарения кипящей мочи. Точно я попал в пещеру, где полно летучих мышей — достойный проводник к разлагающимся отбросам Дуата. Однако, страдая от его зловония, я одновременно избавился от худших из этих запахов. Теперь его дыхание было переносимым — не намного противнее, чем вонь старого чеснока или старых зубов.
— Общий вход в Дуат, — сказал он, ежась в теплом лунном свете, — далеко за Первым Порогом — это долгое путешествие, и оно не для нас. Мы войдем через пещеру, которую можно отыскать в небе.
Я бы никогда не понял его последнего замечания, не будь перед нами Великой Пирамиды, ведь в лунном свете ее известняковые склоны сияли ярко, как мрамор, а их тени казались черным шелком. Я вспомнил погребальный покой Хуфу в центре этой Великой Пирамиды. Была ли это та самая пещера, ведущая в небо, через которую я однажды уже мог войти в Дуат и без посторонней помощи? Я свернул не в том месте? Впрочем, мне не хотелось задавать себе эти вопросы.
Тем временем Мененхетет продолжал говорить о таких незначительных вещах, что я почти не слушал его. Что-то о рабе-еврее, который у него был, и о странных обычаях этих евреев. — Они безумны, — сказал Мененхетет, — и счастливы, что остаются пастухами. Лучше всего они чувствуют себя, когда говорят сами с собой на холмах. Тем не менее я заметил, что дикие народы, как и звери, живут ближе к своим Богам, чем мы. Вот, например, — сказал он, и, по правде говоря, его голос нес покой моему ослабевшему телу, — я помню чудной язык этого раба-еврея. Сперва я думал, что это наречие слабоумных, поскольку, о чем бы он ни говорил, казалось, он не замечает никакой разницы между завтра и вчера. Однако у него, похоже, была сотня слов для одного понятия резать, и одно он использовал при резке тростника, другое — для мяса или птицы или для отдельных фруктов, не говоря уже о том, как срубить дерево или отрубить руку — совсем не глупо, если вспомнить, что все, что мы режем, отделяется от своего духа особенно резко. Хорошее слово хорошо унимает боль. Конечно же, мы не хотели бы, — сказал Мененхетет, — разить каждого своего врага с одним и тем же криком. И вот разнообразие этих слов привело меня к изучению языка этого пастуха, и я стал понимать загадки его речи. Евреи, открыл я, живут тем, что ожидает их непосредственно в следующий момент — и в их словах запечатлено это простое условие. «Я ем», — говорят они. Просто! Однако, когда они хотят сказать о том, чего в данный момент нет перед ними, тогда уже невозможно понять (если только не знаешь хитростей их языка) — рассуждают ли они о том, что в прошлом, или о том, что еще будет. Они так говорят, что кажется — это одно и то же. К примеру, они скажут: «Я ел», и не ясно, они уже поели или только собираются есть через некоторое время, до тех пор пока не прислушаешься так внимательно, что поймешь, что в действительности было сказано: «И я ел». Это означает, что они будут есть. Они знают, сколь своеобразным порой бывает время! А уж пытаться передать его особенности с помощью их неповоротливых языков! Ты только подумай! Как можно быть уверенным, что то, о чем мы говорим, намереваясь сделать завтра, на самом деле не случилось вчера, хотя это трудно точно вспомнить, поскольку все это происходило во сне. Поэтому не стоит, — сказал Мененхетет, мягко тронув меня за плечо, — так падать духом в предчувствии того, что должно произойти. Не исключено, что это с тобой уже случилось. Да, дражайший сын моей дорогой внучки Хатфертити, в твоем ужасе может быть больше достоинства, чем ты подозреваешь. Возможно, он связан с раскаянием из твоего прошлого, а не предупреждает тебя о каком-то грядущем непереносимом страдании.
И действительно я почувствовал облегчение. Его долгой речи удалось успокоить меня, и вновь я ощутил что-то вроде расположения к старику за это неожиданное проявление доброты.
Теперь, когда луна плыла над пиком Пирамиды Хуфу, легким движением Мененхетет поднял руку, и у меня перехватило дыхание от красоты белого света, который снизошел на нас с ее треугольного ската.
Мененхетет заговорил совсем тихо, словно любое колебание воздуха в его горле могло нарушить чистоту этого света: — Эта Божественная Пирамида, — прошептал он, — точная копия Первого Холма, который Атум вознес из Небесных Вод. Таким образом, это гробница, содержащая все остальные гробницы. Войдя в эту Пирамиду, ты спустишься в воды Дуата.
И, пока я вглядывался в огромный склон перед нами, гладкий, словно лист папируса в лунном свете, и простиравшийся перед моими глазами, подобно необъятным пространствам пустыни, я недоумевал — как мы сможем в нее войти? Похоже, стыки между громадными известняковыми глыбами были меньше расстояния между крепко сжатыми пальцами. Однако мне не пришлось долго ждать. Мененхетет прошел последнюю сотню шагов до основания, остановившись, закинул голову и издал крик, какой я никогда ранее не слыхал: то не была протяжная трель птицы или некий загадочный рык зверя, но голос, в основе своей столь же пронзительный, как писк летучей мыши, и каменная плита в нависшем над нами склоне, как дверь, повернулась в своем гнезде.
— Время, — сказал он мне и стал с неожиданным проворством взбираться по склону. Я последовал за ним, ожидая, что от этих мучительных усилий у меня перехватит дыхание, однако я не чувствовал никакого страха. Ведь и ребенок не испытывает того благоговения перед восходом солнца, какое переживает взрослый. Входил ли я в тот момент, когда смерть казалась мне самым естественным явлением? Я ощутил, что тотчас же, как мы вошли в Пирамиду через отверстие в стене, в воздухе произошла перемена. Если бы я был слеп, мои уши сказали бы мне, что я перехожу в иной предел. Я вслушивался в хрупкую тишину, подобную неслышному трепету крыл маленькой птички. В тяжести этой тишины пребывало молчание каждого храма, каждый затихший отзвук эха последнего вздоха жертвенного животного на алтаре. Я вновь узнал ту дымку, что поднимается от умирающей жертвы, капли крови которой приносят покой тому самому воздуху, что был возмущен убийством животного. Если мы ранили камень своим входом, то эхо наших шагов под этими сводами должно было успокоить всякое волнение.
Во тьме мы направились вниз по проходу, по какому-то коридору, низкие своды которого заставляли нас пригибаться, перед нами разбегались крысы и разлетались насекомые, а летучие мыши проносились так близко, что я почти мог слышать угрозы, исходившие от их мыслей.
Однако прекратилось и это беспорядочное движение. По мере того как мы продвигались вперед, приходило чувство спокойствия, тяжелое, как маслянистое набухание Нила во время разлива, и во мне возникло ожидание большого пространства, простиравшегося впереди, и действительно, пройдя еще десять шагов, мы вошли в высокий и узкий проход. По писку летучих мышей я предположил, что потолок должен быть шагах в тридцати над нашими головами, в проходе было темно. И тем не менее я чувствовал вокруг себя свет. Я не видел ничего, однако свет переполнял мое сознание настолько, что я смог вспомнить, как в один из дней моего детства я проплыл со своими родителями на лодке вниз по Нилу, под небом, залитым таким сияющим солнечным светом, что, казалось, мои мысли открыты солнцу, словно все мое существо пребывало в золотой лодке, плывущей в золотом свете. Мои отец и мать везли меня на прием к Фараону, и я так радовался ощущению жизни во всех своих членах, что моя память сохранила даже цвет шафрана надетого на меня платья. В то утро нам предстояло узреть виды, отвратительные для глаз и бьющие в нос, — на речном берегу гнил труп собаки, но день начался среди великолепия, и каждый толчок шеста лодочника восстанавливал мое спокойствие точно так же, как сейчас звуки наших шагов в этом каменном проходе перекрывали шуршание насекомых и летучих мышей.
В этот момент Мененхетет взял меня за руку, и я заметил, что дыхание моего прадеда благоуханно, воздух, который он выдыхал из своих легких, должно быть, исполнился пьянившим меня внутренним светом. Какая-то доля спокойствия того утра осталась в тепле его ладони, словно мы действительно были связаны верностью семейной плоти, но вскоре, из-за узости прохода, в котором идти бок о бок было неловко, ему пришлось убрать руку. Пока я продвигался в этой тьме, купаясь в свете за закрытыми глазами, казалось, я проходил долины жары и холода — воздух, собиравшийся в холодных углублениях, был подобен пустоте склепа, однако через следующие пять шагов я возвращался в благоухающую египетскую ночь, источавшую теплый аромат, который я впервые ощутил в дыхании своего прадеда, тот, что, казалось, исходил не столько от него, сколько от самого камня до тех пор, пока у меня не появилось ощущение, что мы не бредем по крутому узкому скату, а блуждаем от палатки к палатке на каком-то таинственном базаре, и в каждой такой палатке пребывает нечто совершенное. Надо было только сосредоточиться, и мудрость начинала вливаться в мысли так же естественно, как смешение благовонной травы с водой высвобождает ее сущность. Под воздействием этого пьянящего света и букета душистых запахов мне стало казаться, будто я передвигаюсь не с помощью своего тела, а скольжу в лодке по поверхности воды. Я все так же мог протянуть руку и коснуться все тех же стен по обеим сторонам прохода, однако чувствовал себя ближе к Нилу в тот запомнившийся мне золотой день из своего детства, или, скорее, пребывая в сильном замешательстве, как тот еврей, что не различал грядущего от всего, что могло ему пригрезиться, я чувствовал, что река протекает по полу пещеры, а стены — ее берега, и я снова был на Ниле, как и в тот сияющий солнечный день — я покоился на подушках из желтой материи более яркой, чем шафран моих одежд. Серебряное шитье на подушке снова втайне щекотало меня снизу, так что, пока меня не видели родители, я старался потереться нежной кожей своих нижних щек об эти усики серебряной нити — сладкое наслаждение, ибо мне было не более шести лет.
Мои родители разговаривали. То, о чем они говорили, не раз заставляло их губы кривиться (теперь я вспомнил, как часто они обманывали друг друга), и коварство их слов, должно быть, путешествовало с нами по извивам Нила, омытое золотым светом на коричневых водах реки, а мы плыли мимо зеленых и грязно-золотых берегов — даже золотая инкрустация на кедре изысканных сидений нашей лодки все еще плыла со мной в их предательских словах, и моя мать, как я помню, говорила о священном быке (и я слышал ее голос даже сейчас, стоя опершись руками о стену этого подземного прохода, так же близко от себя, как видел пальмовое дерево на берегу, до которого можно было дотянуться), и голос у нее был не обычным, но способным передать любое безотчетное влечение, низкий, как мужской голос, однако исполненный мягких и таинственных отзвуков. Ей стоило только произнести этим голосом, скажем, всего лишь «Посох и плетка Фараона Птахнемхотепа», и мой живот заполнял сумрак, густой, как тона темной розы.
Мой отец редко отвечал на то, что она говорила. Разговор между ними был делом нечастым. Теперь же они были вместе по в высшей степени важным, но разным причинам: каждый из них собирался посетить этого Птахнемхотепа, нашего Рамсеса Девятого в ответ на Его приглашение, таким образом мой отец совершал свое почти ежедневное путешествие, а для моей матери это была довольно редкая поездка, хотя, размышляя об этом сейчас, я не знал, почему она, принимая во внимание ее красоту, не навещала Фараона чаще. Однако грубой откровенности этой мысли — весьма далекой от понимания шестилетнего мальчика — оказалось достаточно, чтобы прогнать воспоминание. Мое сознание вернулось к нашему подъему по каменному проходу, и я ушел из того утра и уже не плыл в нем.
Тут Мененхетет подвел меня к углублению в одной из стен. Поскольку отчасти я все еще чувствовал себя в лодке, мне показалось, это не лишено сходства с заходом в гавань темной ночью. Ощущение света, наполнявшего мое тело, совершенно исчезло. Затем я вскрикнул. Передо мной на уровне пояса была вода. И в этой воде я мог разглядеть звезду — неужели пол обернулся для меня небом? Волнение сжало мне грудь, я точно летел в бездну, зная, что никогда не ударюсь о дно. Это захватывающее ощущение прошло, и я понял, что смотрю в большую чашу с водой, в которой отражается звезда. Небеса были вне этих пределов, все еще недосягаемы! Мененхетет лишь привел меня к месту в Пирамиде, где под острым углом с неба к нам спускался проход. Теперь, взглянув вверх, я смог увидеть сквозь его далекое отверстие звезду. Пока я смотрел на нее, звезда сдвинулась с центра. За тот промежуток времени, что я наблюдал за ней, она прошла по воде расстояние с ладонь. Как замечательно, что Мененхетет смог привести меня к ее отражению именно в тот момент, когда ее свет жил в середине чаши!
— Эта звезда не была видна в этом месте триста семьдесят два года, — сказал он мне теперь. — Этой ночью всем нам предстоит стать участниками чудес, — и почему-то эта благочестивая мысль воодушевила мои чресла, и вихрь счастливейшего предчувствия, возникнув у основания моего позвоночника, поднялся вверх, как клубы благовония. Не знаю, откуда ко мне пришло заклинание, но я вдруг произнес: «Фараон берет кровь Своих возлюбленных и Он тотчас орошает ею землю, и она дает всходы при свете солнца.
То, что растет из земли, — слышал я собственные слова, — есть благословенное растение папирус, и под руками людей он становится полем для писцов. И они насаждают свои послания на этом поле. Все растения папируса пребывают в шуме всех письмен, которые прокатятся по полю, подобно колесницам, и все же поле помнит берег реки, и каждая почка подобна губам рта, а каждый лист — медовому языку».
Я вновь увидел Нил, и с поверхности реки, лениво несущей свои воды, поднимались испарения.
Это заклинание, родившееся из ощущений, самых странных из тех, что мне довелось испытать, ибо я никогда ранее не знал этих слов, оказалось достаточно сильным, чтобы вернуть моему существу золотой свет Нила. Затем я сказал: «Папирус — растение, которое отвращает крокодилов» [22], — и на мгновение ощутил детскую радость, такое же веселье, как когда-то давным-давно, когда мне хотелось опрыскать цветы золотыми водами своей мочи. Радость, такую же светлую, как тот памятный день. Я увидел также трепет крылышек крохотной птички, выклевывавшей речных червей, поселившихся в пасти крокодила, да, увидел этого закованного в броню зверя, лежащего на болотистом берегу с распахнутой в добродушной лени пастью для того, чтобы птичка почистила ему зубы. Невероятная пара, однако от мельканий ее крыльев и сонных вздохов огромной ящерицы веяло домашним уютом. Какие-то лодочники на Ниле пели: «О, папирус — растение, которое отвращает крокодилов», и кивали головами, гребя вверх по течению. Наши гребцы, раздевшиеся из-за жары до набедренных повязок, прикрывавших складки их членов и мошонки, отталкивались длинными шестами, направляя наш ход вниз по течению, и в моей коже внизу вновь начался тот чудесный зуд, и я снова стал тереться о серебряную вышивку на подушке. «Грязь, — сказала в этот момент моя мать, — в моих ноздрях и порах», — и когда она повернулась, чтобы взглянуть на берег, где в облаке дорожной пыли по дневной жаре мчались колесница, лошадь и возничий, я увидел красивый изгиб ее ноздрей. И тогда у меня, шестилетнего ребенка, переполненного радостью от зрелища проносящейся колесницы, возникло отчетливое видение себя в возрасте двадцати одного года, будто я был не только ребенком, но мог видеть жизнь, которую мне еще предстояло прожить.
Пока я рассматривал звезду, парившую в зеркале воды, это чувство стало столь отчетливым, что прошлое вернулось ко мне, словно мне на самом деле было шесть лет, и в то же время я действительно мог видеть себя в двадцать один год, и я снова был с тем жрецом в доме его сестры, и смотрел на Нил из ее окна, и слышал плеск речной воды, бьющейся о берега, в то время как тело жреца настойчиво ударялось о ее плоть.
Стоя рядом с Мененхететом и глядя сквозь эту темноту вниз, на звезду, я был ошеломлен силой этих двух воспоминаний о себе — в шестилетнем возрасте и в возрасте двадцати одного года — и чувствовал дурноту. Именно тогда мой прадед вновь взял меня за руку—в моем животе виноградные лозы раскрыли листья, обвились вокруг моих конечностей, и вино перетекло из моей руки в костяшки и большой палец руки Мененхетета, а мое сознание вновь вернулось к той позолоченной лодке, которая несла мою мать, моего отца и меня самого вниз по Нилу, и я наконец понял, отчего наше египетское слово, обозначающее глаз, точно то же, что и слово любовь, и оба они соответствуют тому, которым определяют гробницу. Любовь ли, или глубина настроения, навеянного этой гробницей, однако чувство, исходившее из его пальцев, совершенно определенно несло меня по реке и было более сродни сиянию того далекого дня, чем непроницаемому мраку этой ниши в черном как смола проходе, в глубинах Пирамиды Хуфу.
Затем, обратившись к своей памяти, столь же просто, словно я сорвал с ветки плод, я таким образом обнаружил, что Мененхетет тоже находится на палубе, а это полностью противоречило тому, что я мог вспомнить. Мне, однако, лишь оставалось отогнать воспоминание, которое уже не было уверенностью, о том, что Мененхетет умер за год до моего рождения — ведь он был здесь, да, на лодке, и говорил с моей матерью. Если сперва я видел лодку и моих родителей, сидящих со мной, и с большей ясностью, чем рисунки на стенах храма, то теперь я также видел и Мененхетета. Он тоже сидел рядом со мной, и в его волосах светилось серебро зрелой мужественности, а линии лица еще не превратились в великое множество морщин, провалов и паутину, но вместо этого говорили о характере, привычном к победам, что вырабатывается у облеченных властью мужчин, которым уже за шестьдесят, но они все еще полны сил.
Однако, увидев его с нами, я пришел в некоторое замешательство и не мог понять, в какой части реки мы находимся. Я знал, что мы плыли, чтобы посетить Фараона, но я не понимал, отчего мы не поднимались вверх по реке, если имение моих родителей располагалось на немалом расстоянии от Дворца вниз по течению. Теперь же мы плыли вместе с течением, не подняв парусов и без помощи гребцов.
Лишь один из наших лодочников, которого мы звали Вонючее Тело, стоял на носу с длинным шестом, которым он отпихивал бревна, а Повернутая-назад-Голова — у руля (этого звали еще Пожиратель-Теней, потому что, когда бы мы ни плыли на юг вверх по течению, румпель всегда был в тени парусов). Но теперь нас несло вниз, в самый центр господствующего морского ветра, дующего вверх из Дельты — достаточно сильного, чтобы гнать нас вверх против течения безо всяких весел. И все же сегодня мы плыли вниз спокойно и лениво, Неха-Хау на корме, а Унем-Хаибит, Пожиратель-Теней — у руля, в то время как остальная команда — Дробитель-Костей, Белые-Зубы, Пожиратель-Крови и Тот-с-Носом, с огромным носом, — нежилась на бортах судна: для них это был легкий день.
Я думал о том, что, когда лодочники отдыхают, их лица уродливы. Однако, если им приходилось грести вверх, против течения, в самое неблагоприятное время (когда вода в реке прибывала и они трудились слишком тяжко, чтобы петь согласно), тогда звук их дыхания начинал походить на отчаянное рыдание, а на их лицах появлялось выражение, напоминавшее несущихся обезумевших лошадей, и они выражали такую силу чувств, столь мучительные усилия, что уже не могли быть совершенно уродливыми. Однако на суше их лица обычно казались распухшими. Никто не знал, отчего речники, попадая на берег, дрались больше, чем любой другой рабочий люд в Мемфисе — разве что они пили пива больше других, но так оно и было. У большинства из них лица выглядели так, будто их щеки жевал лев. А кроме этого был еще и кнут. Он постоянно добавлял новые шрамы к старым отметинам на их плечах. Временами он перехлестывал их шеи и доставал до лица. В результате половина речников была слепа на один глаз. (Ослепшие на оба глаза, переходили на другую работу.)
Сет-Кесу — отнюдь не зря прозванный Дробителем-Костей — был как раз тем, кто использовал кнут. При сильных ветрах иногда за его рукоятку брался мой прадед. Он мог заставить кончик кнута плясать, обвивать туловище человека и щелкать по пупку или, если гребец останавливался, чтобы почесаться, хлестнуть его в подмышку с такой точностью, что оттуда вылетало несколько волосков. К несчастью, у них была серьезная причина чесаться. Где было найти гребцов, у которых не было бы вшей?
Это чрезвычайно тревожило мою мать. К нательным насекомым она чувствовала такое отвращение, что могла лишиться самообладания при одном упоминании о них. И хотя вряд ли подобное отношение было необычным для молодых дам Мемфиса (поскольку многие из них из страха завшиветь брили себе головы и надевали парики при каждом выходе на люди), моя мать гордилась своими волосами. Исполненные жизни, ее темные волосы ниспадали волной, извиваясь с грациозностью змеи. Поэтому она предпочла оставить их длинными и жить в страхе перед волосяными вшами. Прошлой ночью как раз произошел разговор, затронувший этот предмет. Однако теперь, когда я стал припоминать те события, мне стало также ясным, отчего сейчас ко Дворцу Фараона мы не шли вверх, а скорее плыли вниз по течению. Моя мать, мой отец и я провели прошлую ночь с Мененхететом, жившим в верховьях реки, к югу от Мемфиса, в большом трехэтажном доме — сто шагов в ширину, столько же в глубину. Говорили, что у него пятьдесят комнат, и я зная, что на крыше его дома есть сад с навесами из парусины, и по вечерам, когда солнце заполняло реку несметным множеством танцующих красных рыбок, оттуда открывался захватывающий вид, а пустыня на востоке окрашивалась в цвета индиго, тогда как на западе, когда солнце опускалось за холмы, горы из песчаника становились алыми, и карминными, и оранжевыми, и пылающими золотом, подобно кроваво-красному огню в печи.
В тот момент прадед заговорил со мной — редкий случай. Я привык к тому, что родственники и слуги признавали во мне необычного ребенка, я даже сейчас смог ощутить то сладкое чувство неподдельного благоговения, которое я обычно вызывал в мужчинах и женщинах, с которыми я говорил, поскольку они всегда восхищались тем, каким взрослым я был для моих шести лет. Однако Мененхетет никогда не проявлял ко мне никакого интереса. Теперь же он положил мне руку на пояс и повлек вперед.
«Ты смотрел когда-нибудь на краски в баночках писцов?»
Я кивнул: «Они красные и черные. — Увидев свет в его глазах, я добавил: — Они похожи на небо вечером и небо ночью».
«Верно, — сказал он. — Это одна из причин, почему они черные и красные. Можешь ли ты назвать мне другую?»
«Наши пустыни красные, но, после того как спадет паводок, лучшая земля — черная».
«Отлично. Можешь ли предложить еще одно объяснение?»
«Больше ничего не приходит в голову».
Он вынул маленький нож, украшенный драгоценными камнями, и приложил его острие к моему пальцу. Выступила капелька крови. Я бы вскрикнул, но что-то в выражении его лица остановило меня. «Это первый цвет, который нужно запомнить, — сказал он мне, — подобно тому, как последний — черный». Больше он ничего не сказал, а потрепал меня по плечу и отошел, но позже я услышал, как, говоря о разных пустяках с Хатфертити, он упомянул мое имя. По низкому чувственному смеху моей матери я заключил, что он сказал добрые слова. Она всегда получала плотское удовольствие, когда обо мне отзывались хорошо, словно восхищались ее телом, и, если я попадался ей на глаза, от нее исходил мускусный запах сердечности. Под этим любящим взглядом мое тело, казалось, купается в цветах. Я научился копить эту любовь, словно это было дыхание благовоний, с помощью которых можно было вызвать приятные воспоминания. В детстве для меня не было ничего приятнее этой силы памяти. Закрепленный в моей памяти тем удовольствием, которое моя мать получала, глядя на меня, каждый вид, который я вспоминал, возникал во всем своем блеске. И засыпая на закате, я мог смотреть на красные холмы на другом берегу реки и мечтать о чудесах пустыни и серебряных водах оазиса.
Этой ночью, так как ветра почти не было, по углам крыши были зажжены факелы и около каждого из них стоял слуга с сосудом воды. Так мой прадед наслаждался светом огня, невзирая на постоянно присутствовавшую опасность того, что слуга мог уснуть, а ветер внезапно подняться. Каждые несколько лет какой-нибудь большой деревянный дом сгорал именно таким образом. Поэтому факелы были роскошью: чтобы сторожить их огонь, нужны были надежные слуги. Хотя, конечно, факелы давали свет гораздо более волнующий, чем наши свечи.
У одного из этих факелов танцевала женщина. Медленные, плавные движения ее тела напоминали сладострастную волну волос Хатфертити, а на систре с поющими струнами играл карлик, на котором ничего не было надето, кроме золотого мешочка на чреслах и нескольких браслетов на чахлых мышцах предплечий. Он играл с одержимостью крошечного человечка, и ее бедра извивались в такт производимым им звукам.
На самом деле небольшой оркестр Мененхетета своим появлением вызвал оживление среди гостей. Арфист, цимбалист, волынщик и барабанщик — все они были карликами ростом не выше меня, и все — чрезвычайно искусными музыкантами, кроме одного — того, кто играл на арфе, поскольку его руки были слишком короткими, и более длинные переборы таили для него опасность.
Будучи потомками пленников, захваченных во время давних войн с царями Арвада [23] и Эгерата, они все еще продолжали говорить на незнакомых нам языках, и их голоса, как и их маленькие лица, вызывали бурное одобрение, что бы они ни исполняли. Все это воспринималось гостями Мененхетета с преувеличенным вниманием, то были жрецы из лучших храмов и судьи, богатые торговцы и местная знать, люди, занимавшие прочное положение в южных землях неподалеку от Мемфиса — конечно же, люди преуспевающие, однако не настолько, чтобы не чувствовать себя польщенными приглашением в дом моего прадеда и удостоенными еще и такой чести, как посещение его сада на крыше, хотя в ту ночь я услышал разочарование в некоторых замечаниях, поскольку самые представительные из гостей были не столь знамениты, как ожидали, и лишь один мой отец был высокопоставленным царедворцем.
И тем не менее слухи о Мененхетете ходили от Дельты до Первого Порога. Даже моя нянька начинала похотливо хихикать при упоминании его имени, подтверждением тому были и сплетни, которые я слышал из уст гостей (меня они считали слишком маленьким, чтобы понимать их шутки) относительно того, какие женщины уже состояли в связи с Мененхететом, а каких он еще только собирался соблазнить. Должно быть, для жен то был не особо обещающий вечер (и не один из мужей испытал облегчение), поскольку он провел большую часть времени сидя рядом с моей матерью. Я держался поодаль. Иногда, когда они находились близко друг к другу, я мог чувствовать силу столь властную, что никогда не осмелился бы пройти между ними, будто, нарушив их настрой, можно было оказаться поверженным в прах.
В тот вечер Мененхетет не отходил от нее. Пока играла музыка, они сидели неподвижно. Моему отцу было трудно найти себе место. Когда он садился рядом с ними, его попытки завязать разговор не достигали успеха, а когда он, полагаясь на собственную приятную наружность, пытался очаровать жену одного или другого из присутствующих, то скоро прекращал свои ухаживания. Ибо при этом от Хатфертити к нему не приходило никаких чувств — она сидела бок о бок с Мененхететом в молчании, которое говорило об их внимании друг к другу. Пальцы Хатфертити сжимали пучок черных волос, которым она ритмично касалась черных локонов на своей голове. Этот пучок, отрезанный от хвоста священного быка, предотвращал появление седины, и моя мать совершала свои ритуальные движения настолько поглощенная собой, будто эти сосредоточенные ласки, расточаемые самой себе, были способны еще более увеличить ее и без того бесценные достоинства.
После того как музыка стихла, некоторые гости стали уходить. И тогда любой мог увидеть, как высоко ценили моего прадеда, поскольку он даже не говорил с ними, когда те приближались к его креслу, преклоняли колени и касались лбом пола. Один лишь Фараон, Визирь, Верховный Жрец или кто-либо из самых почитаемых военачальников нашего царства мог вести себя подобным образом. Безусловно, Мененхетет явил свое безразличие к уходу гостей с такой естественной углубленностью в свои собственные мысли, столь схожей с серьезностью Хатфертити, поглощенной поглаживанием своей головы кисточкой бычьего хвоста, что гости отправлялись по домам незаметно и тем не менее не оставались в обиде, а скорее чувствовали себя польщенными тем, что им было позволено стоять перед ним, будто теперь, в той скуке, которую он выказал в присутствии им же приглашенных, они могли слышать отголоски его великих подвигов. Стоя в молчании пред его молчанием, они смогли окунуться в истории о его коварстве и познаниях в магии, и, конечно же, эти чувства охватили их с такой силой, что заставили и меня ощутить себя переполненным жизнью, словно я одновременно существовал в двух обителях времени. Я не только стоял в углу сада на крыше рядом с рабами, стерегшими факелы, но и вернулся обратно в темную нишу в Пирамиде, где свет звезды отражался в воде, сумев узнать из своих детских воспоминаний, что мой проводник по Стране Мертвых, в бытность свою среди живых, был высокочтимым человеком. И узнав об этом, я был подхвачен волной чувства, перетекавшего ко мне в руку из его согнутых пальцев, и, наклонившись вперед, я, к своему великому изумлению, поцеловал его там, в темноте, в его увядшие губы.
Они раскрылись, подобно грязной кожуре абрикоса, только что сорванного с пыльного дерева, и я ощутил зрелую теплую плоть рта, столь многообещающе чувственную, что поцелуй, казалось, еще пребывал в воздухе, когда я отстранился и этим движением, должно быть, обратился в своем сознании к Мененхетету и своей матери, сидящим рядом на крыше в саду в молчании, исполненном желания.
Не знаю, сколько времени прошло, пока они оставались одни. Но теперь гостей уже не было, ушел также и мой отец, и, судя по всему, мою мать ни в малейшей степени не заботило куда, и даже я очутился так далеко, как можно было вообразить, ибо я забрел на другую сторону крыши и очарованный смотрел вниз на последних гостей, проходивших среди цветов по длинной дорожке раскинувшегося внизу сада. Взошла луна, и в ее свете вода в слегка подернутом ряской пруду стала такой сверкающей, что я почти мог видеть пойманную рыбу. Этим днем слуги Мененхетета прочесали своими сетями болота и топи в поисках самых сверкающих налимов-пестрянок, в чьем золоте и серебре сияли солнце и луна.
О садах моего прадеда много говорили в Мемфисе. За исключением угодий Фараона, возможно, не было других садов, превосходивших их своей красотой. Бассейн был славен работой ремесленников, выложивших узорчатые изразцы, выглядевшие как цветы, но составленные из редких камней — граната, аметиста, сердолика, бирюзы, ляпис-лазури, оникса и многих других. Я узнал об их ценности, когда слуги, стерегшие бассейн, уставились на меня глазами соколов: они отвечали за то, чтобы ни один из камней не выпал из своего гнезда и не был украден. За такую потерю им отрубали руку.
Действительно, на грядках с овощами за рядами цветов стояли белые деревянные шесты, на которых можно было обнаружить прибитыми не одну высохшую руку, у некоторых из них на фоне белизны столба обнажились белые кости. Они являли собой жуткое зрелище в начале этих полей пшеницы, ячменя, чечевицы, этих грядок лука, чеснока, огурцов и дынь, однако сами поля были тучными. В них царило веселье, какое-то божественное изобилие, словно жизненная сила этой радости поднималась из божественных животов и проходила сквозь землю.
В тот день я бесцельно брел мимо дорожек и беседок в уделах моего прадеда к заросшим папоротником и кишащим угрями болотам на краю его земель. Располагавшаяся там возвышенность теперь, во время разлива, превратилась в остров, и болота выглядели как озера, между которыми не было никакого прохода, так что, возвращаясь через виноградники, я срывал кисти, медленно шел меж апельсиновых деревьев и кустов инжира, мимо лимонных и оливковых деревьев, акаций и диких смоковниц, и ел гранат, и выплевывал косточки, все еще думая о высохшей окровавленной кисти, прибитой к столбу, и хотел снова плескаться в бассейне, и пролить свою влагу на золотую и серебряную рыбу — мысль, что они пили бы мое приношение, волновала меня. Или может быть, это волнение вызвали крики овец и коз, доносившиеся из хлевов, напоминавшие мне стон каменной петли в большой двери? Этот звук очень подходил дневному зною и брожению пищи, и он вызывал приятное ощущение в моих бедрах. Я жил среди запахов гниения, которые нес с собой медленный и тяжелый ветер от сараев с домашним скотом — неприятньш запах, и все же не совсем неприятный. Я чувствовал, как жара этого дня влечет меня вкусить полноту празднества под пальцами моих ног — словно Боги, пребывающие теперь в веселом расположении духа, устроили пиршество внизу, под землей. Даже ослиный крик и куриное квохтанье стали частью той осязаемой жизненной силы, что была разлита в воздухе. Позже, ночью, когда я наблюдал на крыше за своей матерью и Мененхететом, их взаимное притяжение уже не казалось мне столь таинственным. Так случилось, что в тот день бутоны, которые набирали силу в моем сердце и бедрах, одновременно раскрылись и я ощутил свое первое преображение, которое было подобно превращению Богов. Ибо в тот час, когда я брел вниз по дорожке среди цветов, такова была магия соцветий герани и фиалок, георгин, ирисов и чудесных цветов, чьих названий я не знал, распускавшихся во мне, подобно саду, что меня наконец захлестнуло их благоухание. В то время как я вдыхал их аромат, в моей плоти раскрывали свои лепестки другие цветы, и из центра моих бедер до пупка поднялся зеленый стебель. Пьянящий запах мускуса проник с дыханием в мое сердце, и сила земли волной единожды поднялась в моем животе и опала, как будто в моем теле оживало другое тело, и снова поднялась, и я вымок с головы до ног, и пребывал в какой-то реке, полноводной и белой, как растаявшие на жаре сливки, и не знал, где закончилось цветение этих цветов и где начался я.
Теперь, глядя поверх садов внизу и видя отсвет луны в бассейне, дорожки, ведущие к хижинам слуг и рабов, мерцание огня, расплавлявшего смолу в лавке строителя лодок, где по какой-то причине рабочие трудились этой ночью, наблюдая, как последние гости торопливо прошли по дорожкам и исчезли за поворотами искусно построенного лабиринта, я уже знал, что сейчас происходит между моей матерью и ее дедом, и я вздрогнул от безумного призывного крика обезьяны в клетке, почти человеческого крика, хоть то был крик горюющего умалишенного. Как сияла луна. В душном воздухе она казалась такой же тяжелой, как земля под моими ногами сегодня днем. Тонко крикнула газель.
Непонятный страх разрастался в душе Хатфертити, клубок каких-то опасений, причина которых ускользала от нее. Почти сразу же после того, как воздух сотряс вопль обезьяны, я почувствовал, как молния страха прилетела от моей матери ко мне, и сразу же после этого она стала кричать. Она не подозревала, что я находился рядом, и ужас, охвативший ее, был совершенно неподдельным — не думаю, чтобы мне приходилось раньше слышать вопль своей матери. Затем она принялась плакать, как ребенок. «Сними ее. Сними ее с меня!» — взмолилась она и схватила Мененхетета за руку, притягивая его пальцы к своей голове, со слезами ярости от безошибочного знания, что в гуще ее пышной прически копошится нечто.
Он мгновенно нашел вошь, тут же раздавил ее между ногтями больших пальцев, в то время как Хатфертити перебирала свои волосы, выкрикивая в отчаянном раздражении: «Больше нет? Ты не посмотришь?»
Он успокаивал ее, как испуганное животное, гладя ее волосы, как гриву, держа ее за подбородок, бормоча ничего не значащие слова, столь ласковые, что они могли бы служить бессвязным языком нежного общения человека с его лошадью или собакой, и она немного успокоилась, когда он увлек ее к свету факела, совершенно не обращая внимания на все еще стоявших при них слуг — по одному у каждого факела, неподвижных на протяжении всей ночи, — из чего вовсе не следовало, что Мененхетет стал бы не задумываясь делать что-либо в их присутствии, но теперь, при свете факела, он осмотрел кожу на ее голове и заверил Хатфертити, что она чиста. Наконец она успокоилась, и он привел ее обратно к их креслам.
«Ты уверен, что была только одна?» — спросила она.
Он улыбнулся. Греховность его улыбки была совершенной. Затем Мененхетет поцеловал ее, но так отрешенно, с таким томительным намеком, что она подалась к нему за еще одним поцелуем. «Не сейчас», — сказал он ей со своей легкой усмешкой, так что я не мог понять — говорил ли он о насекомых или о поцелуе. И я вновь почувствовал, как от нее ко мне перелетела молния ужаса. Но к тому времени я уже был напуган. Я не хотел продолжать слушать то, что они могли сказать. Я знал, что услышу нечто, что я мог слышать многочисленными ночами в голосе моей няньки, когда она была с одним из двух своих друзей: рабом из Нубии, работавшим на конюшне, и рабом-евреем из скобяной лавки, который точил ножи и мечи. По ночам тот или другой всегда были с ней в комнате, соседней с моей, и оттуда доносились звуки скотного двора и птичьи крики с болот и топей. Каждую ночь моя нянька и ее приятель хрюкали, как свиньи, или рычали, как львы, а иногда издавали такие высокие скулящие звуки, которые только могли извлечь из своих животов. Во всем уделе моего отца по ночам раздавались такие звуки — долгие вздохи одной пары, казалось, вызывают рычание другой, и лишь для того, чтобы заставить третью вскрикивать от наслаждения, побуждая этим животных лаять, визжать и скулить.
И вот моя мать встала, собираясь оставить Мененхетета, но вместо этого она взглянула ему в глаза, и отразившееся в их взглядах желание вновь соединило их. Они ничего не сказали, но сила притяжения, заставлявшая их смотреть друг другу в глаза на протяжении всего вечера, возникла вновь, словно каждый из них желал победить своей волей волю другого, и я почувствовал себя больным. Скорее, я был не столько болен, как попал в водоворот двух ветров, с завыванием пронесшихся в тот миг над всем моим детством, и я услышал, как он говорит ей что-то, хотя и не знал наверное — голос ли его вошел в мои уши или его мысль (ибо как некоторые бывают глухими, так обо мне стали говорить, что я — их полная противоположность, поскольку ко мне в сознание приходило даже то, что не было высказано вслух). Так вот, сказал ли он это или только подумал про себя, но я ясно услышал, как мой прадед произнес: «Завтра у Фараона для тебя откроется наилучшая возможность».
Моя мать ответила: «Что, если я найду то, чего желаю, а ты — нет?»
«Тогда ты должна остаться верной мне», — сказал мой прадед.
Я не осмелился взглянуть на них, да в этом и не было нужды, поскольку даже с закрытыми глазами я видел, как Мененхетет положил свою руку на плечо моей матери, заставив ее опуститься на колени перед своей короткой белой юбкой. Я ощущал силу их мыслей, подобных неуправляемым колесницам, на всем скаку сталкивающимся друг с другом, и вновь я смог заглянуть в его сознание. Вероятно, она тоже увидела это, поскольку вся ее сила оказалась сломленной, и она вскрикнула. Мой прадед произнес: «Член Сета у тебя во рту».
В тот момент я явственно ощутил яд, подобный мстительности, созревающей в нутре ветра, и я не знал, лишился ли я чувств, но пребывал в темноте, и мне не было ни шесть, ни двенадцать, ни двадцать один год, я даже не был мертв — или был? — но находился в нише, в стороне от прохода в большой Пирамиде, и член Мененхетета точно был у меня во рту. Мои челюсти застыли. Я чувствовал беспомощность в каждой мышце и ярость в сердцевине своей воли. Мне стоило лишь укусить, чтобы заставить и его вскрикнуть. В тот миг я знал, что равен своей матери и не могу отделить себя от нее, не могу сказать, что я — Мененхетет Второй, молодой и благородный воин, слишком рано умерший и не переживающий падения с высот собственной гордости, поскольку рот, сосавший его член, принадлежал не мне, но моей матери, со всеми метаниями ее мыслей и потоками чувств, и я познал член Сета, так же как и она познала его в саду, на крыше дома моего прадеда над берегами Нила, и его плоть была горяча, как плавильная яма в серных копях, и она обжигала плоть ее нёба. Мое сознание пребывало в ее мыслях так же, как и мой рот жил у нее во рту, и я почувствовал вкус проклятия, проникающего столь же глубоко, как яд семени Сета, а рука Мененхетета все еще держала мою руку, тогда как пальцы другой его руки сжимали мой затылок. Ушами моей матери я мог слышать внутренний голос моего прадеда, когда однажды он обратился к ней в то время, когда ее рот был набухшим, и с пульсирующим биением о ее лицо (мое лицо), подобным дрожи молнии среди убийственной тяжести нависшего неба, так явилось нечто из горечи бытия, некая пагубная сущность разложившегося тлена, Мененхетет излился в ее рот, и тем самым и в мой рот, из чресел мертвого Мененхетета в нише Пирамиды, где я стоял на коленях, и его извержение уподобилось удару молнии, и в свете ее вспышки я узнал, как он держал голову моей матери в саду на той крыше, и железо его последнего пульсирующего содрогания изливалось каплями соли на корень ее языка, и те мысли перешли из его головы в ее голову, и вот во тьме член был убран из моего рта, и во мне, в Стране Мертвых, родилось робкое счастливое предчувствие того, что ждало меня, как и Хатфертити, которая с натертыми губами, на которых вторжение вкуса его плоти заглушило благоухание притираний, несмотря на все это, ощущала счастье в своих членах и запах роз в прекраснейших складках своего тела, поскольку и она теперь ожидала многого от следующего утра. С этой мыслью, все еще стоя на коленях, словно одним вздохом моего сознания, я перенесся с ней в золотой свет нашего путешествия вниз по реке, во все то великолепие ожидания приема у нашего Фараона, Рамсеса Девятого, которым были пронизаны мои мечты о Нем во все утренние часы на сияющем Ниле.
ДВА
Точно так же, как мы можем вглядеться в глубину золотого кубка и уловить трепет мысли в последней капле, так и я понял, что последнее сокровище этого дня на реке будет обретено в личных покоях Фараона. Сидя на своей подушке с серебряной вышивкой, нежно ласкавшей мои ягодицы, я свернулся клубочком в принявшей меня мягкой руке Хатфертити и ощутил новый жаркий прилив в своих бедрах, пробудивший воспоминания минувшей ночи о моей матери и Мененхетете. Какое превращение! Прошлой ночью я почти вскрикивал вместе со своей матерью. Сегодня я сидел в лодке, укачиваемый зноем.
Разумеется, я получил неожиданное вознаграждение. Ибо Мененхетет продолжил любовную игру с моей матерью. Или, как мне тогда представлялось, он двигался с ней в каком-то действе, содержание которого ускользало от меня — была ли то схватка, или танец, или даже молитва, временами это выглядело как совокупление зверей с той разницей, что на их лицах не было того глупого выражения, которое появляется у животных в момент соединения.
Примерно в то время, когда они льнули друг к другу, издавая благородное урчание, похожее более на птичье курлыканье, чем на хрюканье свиней, сбитый с толку жарой и унижением, я выскользнул наружу, спустившись по ступенькам, отыскал комнату со своей кроватью и, не будучи в состоянии сдержать всхлипывания при мысли о моей обнаженной матери в объятиях прадеда, был впервые особым образом успокоен своей нянькой Эясеяб. Та часть моего тела, что росла между моих ног, оживлявшаяся до тех пор лишь желанием помочиться, в темноте была поименована ею Сладким Пальчиком, Эясеяб наложила на него свои сирийские губы и подарила мне ощущения, которые без нее остались бы мне неведомы. Даже в это утро, когда нас разделяла вода (Эясеяб была в следовавшей за нами лодке со слугами), глядя на нее, я подносил руку к носу, и она все еще пахла ее ртом — приятный смешанный запах лука, масла и рыбы (поскольку моя ладонь, конечно же, держала Сладкий Пальчик еще долго после того, как Эясеяб ушла), так что ее губы оставили притягательный след в моей памяти, равный тому, что сохранился в ней от мягкого плеска о корпус нашего судна волн от весел проходящих в противоположном направлении лодок, и, к удивлению остальных, я засмеялся, когда мой отец, стремясь проникнуть в настроение своей жены и ее деда, пусть даже таким безнадежным способом, как попытка укусить царившую тишину, вдруг произнес: «В этом году мы совершенно избавились от вони».
«А мне, признаться, этот запах кажется весьма привлекательным», — сказал Мененхетет после паузы, последовавшей за моим смехом.
«Ну, я нахожу его забавным, — сказала моя мать, — временами».
И мне вспомнилось, как они лизали друг друга. Разумеется, ничто не сравнится с нашей рекой, когда она начинает подниматься и вся старая тина на равнинах всплывает, отдавая свой последний запах, по мере того как вода идет все выше по спекшейся грязи и старому тростнику, а тучи насекомых пируют на смытой паводком старой листве — жуткая вонь стоит на протяжении недели, будто наша земля сбрасывает с себя свою самую грязную шкуру, каждая деревня, превратившаяся теперь в остров со своим собственным холмом, исторгает новую вонь от овец и скота, в течение нескольких недель сбившихся в плотную массу на возвышенностях так близко от своих хозяев-крестьян, что, кажется, они ночуют в одних и тех же лачугах, скотские условия, но по ночам, когда стояла полная луна и деревни выглядели как темные острова на серебряном озере, самая бедная лодчонка, в которой не хватило бы места и для двоих, наскоро связанная из перекрученных длинных стеблей тростника, обмазанных сверху дегтем, казалась в этом освещении столь же изящной, как парусники из папируса, на которых мой прадед, мой отец и их друзья отправлялись иногда на охоту.
Однако в то прекрасное утро, когда мой отец сделал это замечание, вонь прошла, и река уже больше не была зеленой от густого ила с полей, но стояла высоко и была красной от земли, которую вымыла с гор выше по течению, — обычно она бывала красно-золотой, ближе к коричневому, однако в это исключительное утро, когда солнце сияло так ярко, что отблеск реки походил на сто солнц, наложение золотого на красные воды зажигало каждую проходившую лодку так, что самая последняя развалина, нагруженная капустой, или бочонками с маслом, кувшинами с зерном, осевшая почти до самых бортов под грузом дробленого камня, блестела в этом освещении, как царская лодка, и я помнил одну баржу, сплавляющуюся вниз неподалеку от нас, на палубе которой лежали груды папируса, выглядевшего под солнечными лучами таким же белым, как полотно лучшей выделки. Теперь представьте себе слепящий свет, исходивший от золотого и серебряного корпуса судна Царя, которое гребцы гнали вверх по течению с группой чиновников на борту, направлявшихся с поручениями Фараона в города на юге. Они стояли на корме у огромного золотого алтаря, размерами больше чем пять коленопреклоненных мужчин, вставших рядом, несомненно, это был подарок Рамсеса Девятого одному из Его храмов, и приветствовали нас, увидев вымпелы на голове золотого сокола на носу лодки Мененхетета, а мы в свою очередь поклонились свернувшимся в клубок золотым кобрам на высоких покоях царского судна. На царской лодке (так как не дул ветер) было шестьдесят гребцов — по тридцать в ряд с каждой стороны, и ни один морской ветер не смог бы гнать их вверх по течению с той скоростью, с которой они шли. Судно имело одну мачту, огромный красный главный парус был свернут, так что она высилась прямо, как Сладкий Пальчик прошлой ночью, только была позолоченной: на этом корабле не было ничего, что бы не сияло золотом или серебром, разве что соломенная циновка на палубе, резные алые прорези для весел да перила. Охраняя сокровища на лодке, вдоль высокого берега реки на той же скорости двигался по дороге отряд колесниц, а с ними рысцой поспевали за гребцами, звякая своим снаряжением, пешие лучники, и еще я увидел отряд конных копьеносцев с цветными флагами, скакавших на вавилонских лошадях, и двухместные колесницы. Перья и ленты на головах лошадей были алыми, оранжевыми и желтыми, как шафран — такого же цвета, что и мои одежды, и в те же цвета были раскрашены овальные щиты на колесницах. Нагие дети, если не считать браслета или наручной повязки, бежали за ними так долго, как только были в силах. Я видел, как некоторые из них с благоговением рассматривали мои желтые одежды, а потом один мальчик моего возраста посмотрел на меня с берега, а я — на него, и он поклонился и поцеловал землю. Тем временем между нашей лодкой и стражей происходил обмен возгласами, проходя воины перекидывались словами с женщинами так же свободно и радостно, как катятся речные воды, слышались даже звуки рукоплесканий, как будто сегодня был праздник и было разрешено открыто выражать свои бурные чувства. Как раз перед тем как потерять их из виду за изгибом реки, мы подплыли к нескольким чернокожим на берегу, игравшим на тамбуринах с таким исступлением, что моя мать тихо сказала: «Это появление лодки Фараона их так возбудило». Среди охваченных безумным весельем чернокожих были две прекрасные молодые негритянки, которые завизжали от удовольствия, когда, проезжая мимо на колеснице, один из наемников из Медеса [24], с поразительно светлыми волосами, снял свой шлем и игриво раскланялся, и даже арфист на нашем корабле — угрюмый жрец в леопардовой шкуре (которой он очень гордился) — снизошел до того, что тронул струны своего инструмента, и негры присвистнули от чистоты звука. Красными, как грязь на берегах, были финики, поспевавшие на деревьях, и я подумал, что царское судно выглядело как золотая лодка Ра, проплывающая на веслах по небосводу, особенно когда оно скрылось за поворотом в сиянии солнца Это было самое грандиозное зрелище, какое мне довелось увидеть на реке, однако в следующие часы, когда мы подошли к окраинам Мемфиса, мне предстояло стать свидетелем чего-то еще более величественного.
То был обелиск из черного гранита длиною в шестьдесят шагов, такой же длинный, как заболоченный пруд в саду моего прадеда, этот обелиск сплавляли на самой длинной барже, какую я только видел, а тянули ее кожаными канатами толщиной в мужскую руку, привязанными к восемнадцати малым лодкам, построенным только для буксировки и потому столь узким, что на них нельзя было погрузить ничего — умещалось только два ряда гребцов по пятнадцать человек. Как же огромен должен был быть вес этого черного гранитного обелиска с золотой верхушкой! Я помню, как Дробитель-Костей и Пожиратель-Теней, увидев такую армию гребцов, встали в нашей лодке, как собаки, которых натаскали грызться до смерти, прикидывая, какое усилие пришлось бы приложить их семи душам и духам, чтобы на веслах тащить этот обелиск вверх по реке. Протяжный крик, рожденный этим напряжением, разносился по воде — крик, который не прекращался. Расстояние между восемнадцатью лодками было достаточно большим, чтобы каждый звук доходил до нас своим путем, и наложение этих звуков напоминало исступленный шум несметного числа птиц, потревоженных во время кормежки. И если уж говорить о птицах, то на самом деле и их голоса можно было различить в этих криках, поскольку скопление судов, несомненно, привлекало их. Коршуны, цапли и вороны, грифы-индейки и удоды кружили над баржей, будто кто-нибудь из гребцов в любой момент мог свалиться замертво, и его выбросило бы за борт, а позади большой баржи, тянущей обелиск низко над водой, носились зимородки, часто ныряя за добычей. Глубокий след за кормой чем-то привлекал рыбу — может быть, всего лишь необычным завихрением воды. Немногие суда, идущие вверх по Нилу, поднимали такую волну. Пока мы смотрели, одного зимородка затянуло в водоворот и выбросило наверх уже утонувшего. Коршун взмыл с мертвой добычей, его наводящие ужас крылья сверкали в ярком утреннем воздухе, словно взмах доброго меча.
На берегу, разложенная на циновках, сохла зубатка, а над ней на шестах, защищая улов от птиц, была натянута сеть, на конце одного шеста старался удержаться мальчик, пытаясь попасть палкой в более крупных ястребов. Заяц, лишенный разливом прикрытия пустыни, пробежал мимо, мальчик бросил в зайца палку, промахнулся и свалился со своего насеста, заставив Хатфертити весело рассмеяться.
Мы подплывали к храмам Балу и Астарты в предместьях Мемфиса, иноземным храмам, выстроенным сирийцами и прочими людьми с Востока, и я услышал, как мои родители говорят, что эти постройки не производят впечатления. Хотя их и воздвигли недавно, все они были всего лишь деревянными, и краска на них уже облетала. Их основания были измазаны речной грязью. Да и вообще их окружали беспорядочные строения чужеземного квартала с его жалкими маленькими домами, кривыми улочками, более узкими, чем дорожки Города мертвых, и состоящими из одной комнаты лачугами из необожженного кирпича — такими бедными, что зачастую у них была общая стена, и они опирались друг на друга. При виде этого зрелища недовольство примешалось к нашему настроению, будто даже вода отражала убожество этого места, и, когда мы проплывали мимо храмов, наш жрец в леопардовой накидке подчеркнуто презрительно плюнул за борт, а Мененхетет протянул руку и ущипнул его за щеку, будто издеваясь над торжественностью его отвращения. Жрец болезненно улыбнулся в ответ и тотчас же склонил свою бритую голову до пола. Мененхетет томно снял сандалию и предложил жрецу свою ногу для поцелуя, что снова вызвало пощипывание в моих ягодицах, потому что язык жреца — украдкой подумал я, — словно жало змеи, скользил между пальцами ступни Мененхетета.
«Поиграй на струнах», — сказал Мененхетет, убирая ногу, и жрец взял арфу и принялся петь песню о белой доске для красок, просившей, чтобы ее любили баночки с красной и черной тушью — глупая песня, вряд ли во вкусе моих родителей и прадеда, хотя мне она нравилась, так как я все еще думал о выражении лица жреца, когда тот наклонился над пальцами ноги прадеда — это было так похоже на счастливое урчание собаки над куском мяса. Мой отец, однако, выглядел раздраженным, словно наблюдать надругательства над гордостью этого жреца было не приятней, чем самодовольство, с которым Мененхетет принимал эти ласки. Если никто не мог любить его без унижения, каково тогда было положение моей матери, не говоря о том, что мой отец не терпел беспорядка, грязи или недостатка изысканности. Не зря он был Смотрителем коробки с красками для лица Царя. Вот почему, когда мы проплывали мимо ужасного чужеземного квартала столь вопиющего, что это зрелище могло испортить хорошее расположение духа такого человека, как мой отец, он сказал: «Это место не стоит даже того, чтобы его сожгли».
«Ну, — сказала Хатфертити, — к городу мог бы быть и более приятный подъезд. Неужели нельзя переместить этих людей подальше от берегов?»
«Там слишком болотистая местность», — ответил Мененхетет.
«А вверху, на холмах?» — спросила Хатфертити, указывая на обрыв где-то в получасе ходьбы от реки.
Это был холм, который я знал и любил. Некоторые слуги брали меня туда на долгую прогулку. Там, на этих обрывах, в каменных разломах были пчелиные гнезда. Мальчишки, жившие в лачугах здесь, у реки, часто взбирались до половины холма, не обращая внимания на пчел, собирали мед и спускались вниз. Мы со слугами смеялись над тем, как им приходилось терпеть пчелиные укусы, спускаясь вниз с медом. Однако, наблюдая за ними с безопасного расстояния, с двух сторон охраняемый слугами, я считал этих мальчиков просто замечательными. Поэтому я внимательно прислушивался к разговорам о том, чтобы переселить чужеземный квартал на гору.
«Это невозможно, — сказал Мененхетет. — Девятый именно там собирается построить новую крепость».
«Я все-таки не понимаю, — заметила Хатфертити, — почему нельзя переселить этих людей — эту крепость никогда не построят».
«Ты хорошо разбираешься в военных делах», — заметил мой прадед. Я всего лишь надеялся, что они не построят укрепление слишком быстро, и в один прекрасный день, когда я буду достаточно взрослым и достаточно храбрым, я смогу подняться на те холмы за медом, и я подумал, как мало я знаю о жизни таких мальчишек, бедных мальчиков, работающих в полях у реки на своих отцов, и эта картина повергла меня в такую дрожь, что мать привлекла меня на надушенные и чудесно нежные подушки своих грудей и живота и прошептала: «Дитя не смеет снова болеть», а мой отец помрачнел. Дело в том, что, когда я болел, ему приходилось обращать внимание на жалобы Хатфертити.
«Нет, с мальчиком все будет в порядке», — сказал мой отец.
Мой прадед взглянул на меня своими большими бледно-серыми глазами, которые в этом ярком свете походили на чистое небо, и спросил: «Какого цвета твоя кровь?»
Я знал, что он думает о нашем последнем разговоре, поэтому ответил: «Такая же красная, как была прошлой ночью».
Он кивнул: «А солнце?»
«Солнце золотое, но мы называем его желтым». «Он действительно умен», — выдохнула Хатфертити. «А небо, — сказал мой прадед, — синее». «Да, оно синее».
«Объясни тогда, если сможешь, происхождение остальных цветов, таких как коричневый, оранжевый, зеленый и алый».
«Оранжевый — это свадьба крови и солнца. Поэтому это цвет огня». Так мне говорила мать. Сейчас она добавила: «Зеленый — цвет травы».
Но мне ее вмешательство было неприятно. Я был готов объяснить сам. «Да, трава, — сказал я, — зеленая, так же как небо синее, а солнце желтое».
Мененхетет не улыбнулся. «Расскажи о происхождении коричневого цвета», — сказал он. Я кивнул. Я совершенно не чувствовал себя ребенком. Мысли Мененхетета столь очевидно пребывали в моих, что мне оставалось только набрать в грудь воздух, и я уже ощущал силу его ума.
«Коричневый, — сказал я, — подобен реке. Вначале Красный Нил был рекой крови на небесах».
«Теперь ребенок точно схватит лихорадку», — пробормотала Хатфертити.
«Чепуха», — сказал Мененхетет.
«Да минует ребенка болезнь», — сказал мой отец.
Я уже совсем перестал дрожать и ощущал, что мое тело светится. «А алый — это смесь крови и неба?» — спросил я Мененхетета.
«Разумеется, — ответил он. — Поэтому он еще и цвет безумия. — Он кивнул. — Оттого и плодородная земля коричневая — ведь все цвета возвращаются в нее. Так же, — добавил он в своей порочности, — как и твои какашки».
Я засмеялся от удовольствия.
«Но отчего происходит белый цвет?» — спросил я.
«Ребенок неглуп, — пробормотал он. Он взял меня за подбородок. — Ты еще слишком молод, чтобы понять природу белого цвета. Он — самый таинственный из всех. — При виде моего неудовольствия, он нахмурился. — Думай пока, — сказал он, — о белом как о цвете камня, ибо именно на нем отдыхают Боги».
«Поэтому храмы строят из известняка?»
«Несомненно, — сказал он и заметил моей матери: — Исключительная сообразительность. Это убеждает меня в том, что у нас — отличная кровь. — Он, однако, не смог удержаться от язвительного замечания: — Разумеется, если учесть присутствие в ней крови Рамессидов, остается только удивляться, что мы вообще что-то соображаем».
Мой отец был удручен. «Умоляю тебя. Не говори таких вещей», — пробормотал он, будто даже самая маленькая царапинка от этих звуков на его ухе могла оставить на его лице отметины, изобличающие его в неверности Фараону.
Медленный ход нашей лодки воодушевил торговцев из иноземного квартала, и десяток их приблизился к нам на всевозможных утлых посудинах: некоторые из этих суденышек были всего лишь деревянными ящиками, оплетенными стеблями папируса. Плот одного из торговцев представлял собой просто настил на двух бревнах, другие гребли на маленьких деревянных яликах. Они с трудом прокладывали себе дорогу вниз по течению, доверху нагруженные товаром на продажу, в некоторых, к примеру, были кувшины с маслом: ламповым, касторовым, кунжутовым. Один болван, продававший лен и ячмень, всерьез пытался заинтересовать мою мать своими предложениями. «Особо выгодная сделка!» — выкрикивал он, ужасно коверкая египетский и так настойчиво, что чуть не свалился в воду, так как Дробитель-Костей, держа в руках одно из длинных весел, помахивал им в воздухе перед его лицом (с такой легкостью, как будто приветствовал его рукой). Однако торговец зерном держался на своей лодчонке в безопасной близости от конца разящего весла, пока наконец, видя безразличие моей матери, он понял, что может часами кричать о достоинствах своего товара и так и не вызвать у нее интереса ко льну и ячменю. Тогда он почтительно поклонился и отвернул в сторону, освобождая место для другого. Они все подплыли ближе: лодки, груженные разными фруктами и специями, лодки со свежей глиной, молоком, хной, а одна с лепешками навоза, который так вонял, что Хатфертити вскрикнула в раздражении, и Дробитель-Костей почти свалился в воду от той ярости, с которой он положил свое весло, схватил шест и отпихнул это корыто подальше — в лодке с навозом он, естественно, проделал большую дыру, прямо в высушенных стеблях тростника. Подошла другая, с париками, и Хатфертити позволила ей приблизиться. Осмотрев с близкого расстояния несколько париков из настоящих волос — я знал, что она опасается набраться вшей и разглядывает их лишь для того, чтобы сравнить со своими париками, — а затем махнула рукой, чтобы лодка убиралась прочь. Подплыла лодчонка, хозяин которой предлагал двух свиней. Однако, взглянув в глаза Дробителя-Костей, он быстро дал задний ход. Свинью нам не следовало предлагать. В другой лодке были гуси, журавли, утки и куры. Мы не собирались их покупать. Приблизился ялик, с которого нам показали деревянные клетки с гиеной и газелью.
«Гиена — самец или самка? — спросил мой отец у Пожирателя-Теней, который повторил вопрос лодочнику, и, когда пришел ответ в виде кружка из большого и указательного пальцев, отец отрицательно покачал головой. — У Фараона уже есть самка гиены. Я подумал, если бы это был самец…»
«Птахнемхотепу удалось приручить Свою гиену?» — спросил мой прадед.
«Фараон творит чудеса, приручая животных, — ответил мой отец с глубочайшей почтительностью. — Я видел, как Он гулял с гиеной на поводке».
О моем прадеде говорили, что ему довелось сражаться бок о бок со львом, но он просто улыбнулся и посмотрел вверх на стаю перепелов, крылья которых хлопали с такой же быстротой, как трепещут язычки колибри.
Подплыла маленькая, ярко раскрашенная лодочка. Торговец в ней сам был и за гребца — молодой человек в белой набедренной повязке, тело которого было красиво раскрашено охрой. На него было приятно смотреть, и Дробитель-Костей, по знаку Мененхетета, позволил ему приблизиться. Он продавал различные притирания, но его сдобренные благовониями масла миндаля и кунжута были низкого качества. Поскольку моя мать не хотела вызвать разочарование на его привлекательном лице, словно подобная жестокость могла уменьшить красоту ее собственных черт, она остановилась наконец на какой-то азиатской помаде: необычной смеси, как уверял ее молодой торговец, который говорил, склонив голову и через нашего гребца объясняя, что эта мазь — его собственное изобретение, используемое им для своих волос. Поскольку они у него были такие же темные, как черные оливки, и блестящие, как масло из них, Хатфертити спросила через Пожирателя-Теней, является ли масло черных оливок основой его притирания, и когда тот ответил утвердительно, она смогла также исследовать запах. «Для аромата ты использовал финиковое масло», — заметила она.
«Принцесса мудра», — ответил он.
«Но это еще не все составляющие смеси?»
«Великая Принцесса, на дне кувшина лежит один волос черной собаки, злобной, как волк, и если этот волос не вынимать, то и сила ваших волос сохранится», — удалось ему произнести, преодолевая довольно сильное заикание, пока он пытался убедить Пожирателя-Теней. Я хихикал, потому что молодой торговец не смотрел на мою мать, а обращался к уродливому Пожирателю-Теней (у которого был огромный нос), как будто он был Великой Принцессой.
«Благодарю тебя за заботу о моих волосах, — сказала Хатфертити, — но твоя смесь еще и странно пахнет».
«Это пудра из конских копыт, составляющая основу притирания», — сказал юноша.
«Конские копыта», — сказал Пожиратель-Теней.
«Конские копыта», — повторила Хатфертити и после паузы весело рассмеялась.
«Копыта для корней твоих волос, Принцесса, и для здоровья кожи твоей головы».
Она купила масло, и мой отец отдал в качестве платы небольшое кольцо, стоившее пять медных утен. Молодой человек поклонился, понимая, что ему не пристало торговаться, и, отплывая, продолжал смотреть в нашу сторону с таким восхищением, как будто хотел остаться с нами навсегда.
Мой прадед хмыкнул. «Красавчик», — сказал он.
«Видно, что он — любимец своей матери», — сказал мой отец.
Мененхетет кивнул. На этот раз он смог согласиться с моим отцом: «Я бы посоветовал ему держаться подальше от армии».
Мой отец расхохотался. Эти резкие звуки не вязались с его приверженностью изысканности поведения, однако мысль о молодом торговце, которого непотребным образом используют в царских войсках, заставила его рассмеяться, и так внезапно.
«Не думаю, — сказала Хатфертити, — что я буду пользоваться его маслом для волос. Но для моей груди оно подойдет».
«Благодаря, — сказал Мененхетет, — всем этим конским копытам».
Мой отец вновь захохотал, и Мененхетет одарил его жарким и угрожающим взглядом.
После поворота мы оставили иноземный квартал. Теперь на берегах сверкали белые стены Мемфиса. Мы плыли мимо белокаменного великолепия Храма Птаха и его священных садов, однако на его дорожках мы заметили только нескольких жрецов в белом. Затем, за другим поворотом, показался Храм Хатхор.
Здесь, если бы исполнилось желание моей матери, впервые открылся бы вид на город. Эти храмы и сады говорили о великолепии нашего города. Извивающаяся змеей стена радовала глаз, как ожерелье из белого камня, а за ней открывался вид высоких колонн на двух стоящих в ряд холмах с садом между ними. Это было последнее красивое пространство, которое мы могли видеть. За следующим поворотом река расширялась, становясь похожей на озеро, и слева нашим взорам предстал весь Мемфис, гавань, каменная пристань для разгрузки товаров, доки, дамбы, плотины, каналы, амбары, и на каждой возвышенности густо населенные дома, да, это был наш белый город, совсем недавно красный от пыли в засушливое время года, а теперь немного грязноватый. Это едва ли имело значение. Пройдя последний изгиб реки мы словно вошли в ворота. И еще до того, как я смог разглядеть лица людей, трудившихся на причалах, или воинов, охраняющих рынок, еще торговавший, судя по крикам в лавках и шуму движения на улицах, я уже знал, что воздух на реке стал иным и был наполнен всевозможными посланиями. Как прекрасен был город в солнечном свете. Мерцала даже пыль каменоломен. Тысяча шадуфов неустанно поднимала и опускала на своих шестах бадьи с водой, доставляя ее в желоба, расположенные выше их, которые несли воду к другим шадуфам, к желобам еще выше, пока она не доходила до фонтанов на каждой площади города. Тысяча — или пять тысяч — рабов налегала на длинные шесты этих шадуфов, чтобы поднимать нашу воду? Глядя с нашей лодки через сверкающую поверхность горячей речной воды, я знал, что могу услышать скрип шадуфов вблизи и вдали, и солнце сверкало, как меч, каждый раз, когда вода переливалась в верхний желоб.
В водах городского порта мы подплыли к громадному водовороту между молом и причалами. Наши гребцы вынули весла из уключин и стали направлять судно коротким путем через канал за длинным мысом залива. Этот путь, к моему удовольствию, привел нас в ту часть города, которую я видел нечасто, и мы поплыли близко от храмов, возведенных — как воскликнула моя мать — «тысячу лет назад». Теперь они ушли в землю, во впадины старых влажных ям. Эти храмы были построены из камня и поэтому пережили разрушившиеся деревянные строения, которые когда-то теснились вокруг них, а те, что были сложены из кирпичей (сделанных из ила вперемешку с соломой), смыло в один или другой из наших ужасных ураганов с дождем, что случаются каждые пятьдесят лет. Моя мать рассказывала мне, как она видела один из таких ураганов, когда была маленькой, и как на бедных домах крыши из пальмовых веток разлетались, подобно старому мокрому тряпью. Таким образом дома вокруг тех старых храмов постоянно отстраивались на месте прежних до тех пор, пока высота новых построек не достигла половины высоты храмов, которые, оставаясь на месте, проседали во влажные впадины, темные серые камни, печальные, как бегемоты, свалившиеся в ямы. Вокруг них, на обоих берегах канала, стоял шум мастерских и наших окрестных рынков. Быстро, потому что наши гребцы трудились изо всех сил, мы пошли через облака всевозможных запахов: опилок, кожи, навоза, гниющего папируса, каменной пыли, разносившейся над каналом из мастерских каменщиков, миновали место, где ветер доносил до нас едва различимые запахи всевозможных отбеливателей, от которых у меня першило в носу, мы проплывали мастерские резчиков по дереву, те, где плели циновки, мимо сапожников, тачавших сандалии, мимо лавок по ремонту упряжи и колесниц, прошли кузницу и стойла для лошадей, ткачей, изготавливавших полотно, мимо бальзамировщиков, похоронных заведений и гробовщиков, мимо женщины за ткацким станком, работавшей под открытым небом напротив своей лавки, не дальше чем в полутора метрах от края канала, а рядом с ней кожевник выскребал шкуру леопарда, и кошмарный запах, исходивший от большой мертвой кошки, едва не вызвал рвоту у моей матери. Еще дальше мы подошли к заднему двору мебельной лавки, и я увидел, как двое мастеровых вынесли большой сундук из эбенового дерева, оправленный серебром — такой красивый, что он подошел бы Фараону. Когда мы приблизились, его укладывали на баржу, и Белые-Зубы, самый красивый из наших лодочников, спросил: «Это для Двух-Врат?», и рабочий на причале ответил: «Его отправляют на юг, в поместье Великого Мененхетета», что вызвало взрыв смеха на нашей позолоченной лодке, и даже гребцы осмелились присоединиться к нам, потому что в тот момент мы все, казалось, принадлежали к одной семье.
В конце этого короткого причала, когда мы снова вышли в гавань, воздух наполнился ароматом из лавок с благовониями, рынки в этой части города были больше, показалась школа для жрецов — длинное низкое строение с белыми деревянными столбами. Прямо за ним расположилась лавка париков, и я увидел там один на маленького мальчика — прекрасный синий парик — и собирался попросить мою мать купить его мне в подарок, но наши гребцы налегали на весла, и я почувствовал напряженность на нашей лодке и понял, что мои знатные родственники думают о том, что скоро они увидят Фараона.
В конце канала, там, где мы возвратились в реку, была торговая площадь, заполненная самыми разными жрецами и вельможами, воинами, лодочниками и иноземными торговцами, ремесленниками, крестьянами, рабами, разносчиками воды, проводниками караванов, погонщиками верблюдов и всякими женщинами, там было даже несколько благородных дам. Мне всегда доставляло удовольствие смотреть на этих людей с нашей лодки. Ведь я чувствовал себя в такой безопасности. Совсем другое дело было ходить среди них. Тогда Эясеяб очень боялась, потому что каждый пьяный воин или продавец начинал пялиться на ее бедра (и мне, шедшему рядом с ней и достававшему ей как раз до них, приходилось глядеть им в глаза). Однако на воде я мог быть более беспечным. Разрисованный разными красками полотняный навес каждой лавки и пивной был поднят, развеваясь и хлопая, как парус на ветру: на выходе из гавани я увидел, как у одной из них — она славилась своими жареными гусями — стояли люди ожидая, чтобы взять домой приготовленную птицу.
На дальней стороне торговой площади, неподалеку от улиц и с каналами позади, на открытом месте, защищенном с трех сторон недавно возведенными стенами, а с четвертой — шеренгой стражников со сцепленными руками, располагалась под открытым небом только что открытая мастерская, построенная по указу Фараона. Это вызвало в Мемфисе больше пересудов, чем какое-либо из Его решений за некоторое время — во всяком случае, так можно было заключить по количеству разговоров об этом в моей семье. Поскольку в этой мастерской часть серебряных слитков, которые Его корабли привозили из Тира, и даже немалое количество золота, доставленного караванами от Гранитных гор рядом с Красным морем, превращались придворными мастерами в амулеты, нагрудные украшения, золотые воротники, браслеты, скарабеев, уреи и даже в золотые и серебряные шабти [25], а драгоценности и такие иноземные сокровища, как благовонное дерево и камедь, кораллы и янтарь, полотно, изделия из стекла и вышивка, предназначались для тех немногих на площади, кто мог позволить себе подобные цены. Те же, кто не имел такой возможности, напирали тем не менее на стражников, чтобы посмотреть. До сих пор подобные украшения изготавливались в дворцовых мастерских, в рабочих комнатах Храма Птаха или в таких больших поместьях, как у Мененхетета. Толпа так страстно желала увидеть, как под руками царских мастеров возникают сокровища, что некоторые даже становились на четвереньки, чтобы заглянуть между ног стражи, и слышались стоны восхищения, когда иноземного торговца или какого-нибудь местного богатого чиновника пропускали сквозь линию охраны, потому что он сможет дотронуться до этих самых сокровищ. И каждую ночь, дабы предотвратить грабежи, изделия, инструменты и даже ценную пыль от работы по драгоценным металлам собирали в тонкую шерсть, закрывали в сундуки и под охраной уносили в царские хранилища. На следующее утро их снова возвращали на площадь.
В это время, словно блеск подобных ценностей с края площади высветил конец нашего путешествия, гребцы налегли на весла, в полную силу заработали Вонючее-Тело и Белые-Зубы, Пожиратель-Крови, Пожиратель-Теней, Голова-Назад и Тот-Носатый — все они навалились на весла, а Дробитель-Костей выкрикивал команды, задавая ритм. Наша тяжелая лодка набрала ход, когда на выходе из водоворота нас подхватило течение, ее нос поднялся над водой, и река запела от скорости наших усилий, когда мы обогнули последний выступ берега и, пройдя мимо торговой площади, увидели вытянувшиеся вдоль изгиба соседнего берега во всю свою длину, сложенные из полированного известняка стены Двух-Врат, вознесшиеся так же высоко, как три этажа дома Мененхетета. Вверху на крепостной стене стояли часовые.
Наша лодка еще даже не была привязана к причалу, как несколько носильщиков, отдыхавших в тени стен, уже подбежали к нам со своими стульями-носилками через большую открытую площадь к каменным ступеням, сходившим в реку. «Позволь служить тебе, Великий Повелитель», — обратился старший к Мененхетету. По сигналу, остальные стали на колени, поклонились и ударились головами о каменные плиты.
«Кому нужны ваши жалкие стулья? — сказал мой прадед. — У членов моей семьи молодые ноги».
«О, мой Повелитель, в каждом шаге, приближающем тебя к Его Присутствию, заключена великая тяжесть».
«Мне невыносима мысль о том, какие страдания причинит мое тело вашим скрюченным спинам», — отвечал Мененхетет.
«Великий Повелитель, когда в этом кресле восседает такой благородный человек, как ты, оно меньше весит. Взгляни: перед тем как ты сядешь на сиденье, я кладу на него свое лицо», — сказал старший носильщик, примеру которого немедленно последовали остальные, обняв сиденья своих носилок.
«А после того, как ты меня отнесешь, ты поцелуешь его?»
«Тогда я должен буду поцеловать его дважды», — сказал старший.
«За твое почтение, — сказал Мененхетет, — пронеси нас через Красные Врата и до конца двора». И моя мать, мой отец, мой прадед и я сели в отдельные кресла, нас подняли и понесли по мощенной белым камнем площади между рекой и стенами Дворца.
Однако приблизившись, мы увидели ужасающие зрелища. У стены стоял несчастный в ошейнике, прикрепленном цепью к столбу. Его руки были отрублены, видимо, не более чем несколько часов назад, и обрубки перевязаны полосками кожи, чтобы он не умер от кровотечения, однако кровь все еще капала на камни.
Наклонившись вперед из своего кресла, Мененхетет спросил: «Что ты украл?»
«Он, Великий-Бог-Девятый-пребывающий-среди-нас, милостиво позволил мне жить, несмотря на то что я украл слишком много», — ответил бедняга. Услышать, что он говорит, было нелегко. В расплату за старые преступления — возможно, причиной послужили лживые ответы судье — у него были отрезаны губы. Теперь нижняя часть его лица походила на оскаленные зубы черепа.
Рядом с ним стояла женщина, привязанная к другому столбу. В руках у нее был посиневший ребенок. Моя мать отвернулась, но прадед спросил: «Как ты убила своего ребенка?»
«Задушила».
«Еды было достаточно?»
«Еды было достаточно, но от его плача в доме нечем было дышать».
«Когда тебя отпустят?» «Через ночь».
«Да окажется твое наказание слишком тяжким».
Перед нами в стене были две громадные квадратные двери, одна примыкала к другой: красные гранитные ворота с вырезанным на них растением папируса, обозначавшим Северные Земли, а над белыми известняковыми — лотос, символ Южных Земель. Пропела труба. Громадная красная дверь стала отворяться. «Входит Великий Повелитель и Полководец Мененхетет. Входит почтенное семейство Мененхетета, — прокричал глашатай, а затем произнес нараспев: — Ныне, в Год Седьмой царствования Его Величества, Повелителя Юга и Севера, Прекрасного Ка Ра, Возлюбленного Амоном, Си-Ра — Сына-Ра Рамсес Девятый, Хор-могучий-бык-Который-живет-в-истине приветствует тебя здесь».
«Мы входим во славу нашего Фараона, милостивого Птахнемхотепа. Да пребудут с Ним Жизнь-Здоровье-Процветание, — произнес Мененхетет и обернулся к Дробителю-Костей, который на страже шел рядом с носилками. — Добавочная порция хлеба и пива для твоих людей и их весел», — сказал он, когда нас вносили на землю Дворца. Над нашими головами кружили гуси, а голуби вспархивали из-под наших ног. Три ястреба — я сосчитал их — наблюдали за нами, сидя, как на насесте, на невысокой стене Дворца.
ТРИ
Перед нами был самый длинный двор, какой я когда-либо видел. Если бы взрослый человек взял камень, метнул его изо всех сил, поднял и еще раз бросил, он не докинул бы камень и до его середины.
Место это не отличалось и красотой. Там не было ни прудов, ни статуй, а дорога, вымощенная камнями, по середине которой носильщики несли нас, была достаточно широкой лишь для четырех колесниц, которые встали бы на ней в ряд. Покрытая красной глиной открытая площадь со всех сторон простиралась до стен, и я вспомнил, как моя мать рассказывала, что на этой раскаленной земле Фараон принимал парад тысяч своих воинов. Потом, как раз когда я взглянул через площадь, на противоположной стороне отворились двери низкой казармы, и отряд шарданов [26] в тяжелых синих шапках вышел на учения. На другой стороне двора располагались склады оружия и иные складские и караульные помещения, там же над огнем висел громадный котел с супом, и запах бульона доносился до нас через немощеную площадь.
Казалось, появление Мененхетета вызвало оживление: я увидел, как у стен казарм стали устанавливать соломенные мишени для стрел, а лучники натягивали свои луки. Отряд колесниц начал отрабатывать перестройку линий. Из четырех рядов по семь колесниц они строились в два по четырнадцать, затем, развернувшись на ходу, в мгновение вытянулись в одну длинную и почти совершенно прямую линию из двадцати восьми колесниц, несущихся через площадь: и ни одно колесо ни разу не оказалось более нескольких пальцев впереди другого. Крик прорезал воздух, и они разом остановились, и пыль волной покатилась к стене у реки, и, видимо, их командиру повезло, что облако пыли не дошло до нас, так как Хатфертити озабоченно повернулась в кресле к моему прадеду и сказала: «Обещай, что мы не останемся здесь смотреть на них».
Он пожал плечами, но я увидел, как его взгляд нашел на парадной площади командовавшего теми колесницами, и в ответ тот поднял в приветствии обе руки и галопом помчался к нам, воин, скакавший рядом с ним, работал своим кожаным щитом, защищаясь от воображаемых стрел — сложные приемы, во время которых было очень трудно сохранять равновесие, в то время как начальник колесничих, обвязав поводья вокруг пояса, наклоняясь из стороны в сторону, поворачивал лошадей налево и направо. Откидываясь назад, натягивая вожжи, он замедлял их бег, наклоняясь вперед, переводил в галоп, делая другие движения, заставлял их кружиться на месте, останавливаться, поворачивать или срываться с места, и хотя невозможно было предсказать его следующее движение, все это выглядело очень ладно. Тем временем его руки оставались свободными, и он вынул лук и вложил в него стрелу. Когда начальник отряда промчался вокруг нас, показывая свое мастерство, мой отец шарахнулся в сторону.
«Болван!» — крикнул он. В ответ на это Хатфертити холодно рассмеялась. «А я нахожу его очаровательным», — сказала она.
«Если бы лошадь оступилась, он мог бы послать стрелу в нашу сторону», — сказал мой отец.
Начальник отряда, развернувшись вдалеке от нас, теперь не спеша приближался, он остановился, выпрыгнул из своей колесницы и коснулся лбом пыли на земле. Они с Мененхететом заговорили на странном языке — это загадочное наречие, как я вскоре понял, было языком шарданов, и через одну-две минуты после последней фразы, произнесенной на египетском: «Будет исполнено, начальник», военный поднял в приветствии руку, улыбнулся всем нам — а моей матери с особой почтительностью, — сел в колесницу и медленно отъехал, чтобы не поднимать пыли.
«Я сказал ему, что буду наблюдать за учениями позже», — пояснил мой прадед.
«Благодарю», — ответила Хатфертити.
Затем мы приблизились к малым воротам. Караульный молча пропустил нас. Мы попали в другой внутренний двор.
«Просто удивительно, как они используют поводья», — сказала Хатфертити.
«Но ведь именно наш дед изобрел этот прием», — сказал мой отец.
«Не может быть!» — воскликнула она.
«Конечно, — подтвердил Мененхетет. — В годы, предшествовавшие Битве при Кадеше [27]. Вот почему в тот день мы смогли победить».
Он произнес это с таким удовольствием, что моя мать не смогла удержаться, чтобы не сказать: «А я думала, что победителем при Кадеше был Рамсес Второй, а не твои колесничие».
«Битву всегда выигрывает Фараон», — ответил Мененхетет.
Теперь мы проходили через другой внутренний двор, вероятно, такой же огромный, как и первый, но мне было трудно судить об этом, так как стены из деревьев разделяли его на множество дворов и огороженных участков. Подернутые болотной ряской пруды были окружены садами. Слева возвышалось ярко раскрашенное деревянное здание, и я мог видеть, как на втором этаже по крытому балкону время от времени проходили женщины, и, когда они видели Хатфертити, до нас доносились отголоски их смеха, в котором звучало любопытство. Затем нас поднесли к белой деревянной стене, на которой были вырезаны огромные изображения сокола, скорпиона, пчелы, лотоса и зарослей папируса — настолько похожие на живые, что мне было страшно входить, я по-настоящему дрожал от близости скорпиона.
Мы сошли с кресел, и носильщики, после кивка Мененхетета, быстро поцеловали сиденья (на кожаном покрытии которых был изображен ни много ни мало—
— знак Страны Мертвых). После того как мой отец дал старшему носильщику медный утен, а стоявший у входа военный узнал нас — по облегчению, отразившемуся на его лице, я смог понять, что он ожидал прибытия своего знатного гостя половину утра, — сопровождаемые многочисленными поклонами слуг, мы прошли в утопающий в молодой зелени сад Фараона, носивший название Двор Чести. Там, на краю продолговатого пруда с позолоченными изразцами, росли деревья с плодами, которых я никогда раньше не видел.
«Когда эти деревья были молодыми, — прошептала мне мать, — их ноги поместили в горшки, поставили на корабли и везли сквозь многие шторма, покуда они не достигли нашей земли».
«Как выглядит то место, — спросил я, — где река достигает открытых вод?»
«Там больше птиц, — ответила она, — чем ты видел за всю свою жизнь».
Я стал думать о криках тех птиц над влажной землей и о том, как они, должно быть, отличаются от птиц в этом саду. Здесь у одного фламинго перья были оранжевые, розовые и золотые, черные ибисы и зуйки перескакивали с ветки на ветку, и их перья блестели, как хвост страуса. Я вспомнил, как, когда мне было два года и я еще не привык выражать свои мысли, я спросил мать, отчего мы столь многим нашим Богам надеваем головы птиц. (Задолго до того, как я научился читать, видя, как много священных палочек, которые наши писцы наносили на папирус, изображали птиц, я заключил, что эти иероглифы были дарованы нам самими Богами в качестве Собственных изображений.) Тогда моя мать улыбнулась. «Ребенок задает вопросы, которые успокаивают мои тревожные мысли, — сказала она. — Когда он говорит, я ощущаю прикосновение перышка». Как мне суждено было понять лишь позже, то было упоминанием о Маат — у нас есть поговорка, что самое большее, чего можно достичь в поисках истины, — это коснуться краешка пера. Затем, каким бы ни было спокойствие, которое принесла ей моя мысль, моя мать сказала: «Птицы наиболее почитаемы — они летают».
И действительно они летали, а в этой роще они рассекали воздух и устремлялись с ветки на ветку, и казалось, птицы в упоении набрасывались на свои отражения в золотых бортиках бассейна, по мелкому дну которого блики от их разноцветных теней скользили, подобно рыбкам, переливавшимся всеми цветами радуги, и все же даже в этом радостном гаме, с которым они порхали в тени заморских деревьев, я улавливал отдаленное эхо страха. Звуки, издаваемые этими птицами, были для меня более чужими, чем хрипы животных, занятых тяжелой работой, поскольку в последних я, по крайней мере, мог услыхать голос земли — наверное, я хотел сказать о том неслышном звуке, что соединяет ступни с землей. Птицы же всегда щебетали о неком беспокойстве, пребывающем в волнении их плоти, вечно страшащейся нашей тверди, нет, земля — не то место, где птица могла бы найти покой.
И тем не менее этот сад — особенно после слепящего солнечного блеска предыдущего двора — был рощей. Мой нос чувствовал все запахи суглинка, а также некоторые из тех, что я никогда ранее не обонял, влажные и таинственные, как тот холод, что я однажды обнаружил у входа в пещеру, и в этом воздухе я ощутил близкое присутствие Фараона. В конце нашего пути, почти скрытое листвой, стояло небольшое деревянное здание, раскрашенное всеми яркими красками цветов в саду, необычное сооружение, возведенное, вероятно, на столбах, однако похожее на дом, построенный по всем четырем сторонам площадки так, что оно образовало внутренний дворик, и, пройдя под этим строением, мы вошли в густую тень и вышли из нее на открытый его центр, залитый солнцем.
В своих мечтах я всегда представлял себе, что Фараон восседает на троне в конце огромного зала, и пришедшие на прием приближаются к нему ползком, на коленях, и, конечно, Мененхетет рассказывал нам, как во время празднеств Рамсес Второй устраивал многолюдные приемы на огромной площади старых Фив, однако пока я старался представить себе, какой могла быть эта площадь — неужели больше той, где мы видели учения колесничих? — мы вошли во внутренний двор, и я почувствовал Фараона или, точнее, почувствовал Его силу, когда солнце ослепило меня при нашем внезапном выходе на залитое им пространство. На мой затылок навалился груз, тяжелый, как солнце, и, помимо моей воли, я оказался распростертым на земле — так, как меня учили: с ягодицами, поднятыми вверх, и коленями и лицом, касающимися земли, — неужели аромат благовоний исходил от этой священной земли? — и не знал, повергла ли меня ниц сила Фараона, который сидел наверху, на балконе, или всего лишь рука моего отца, коленопреклоненного с одной от меня стороны, в то время как моя мать стояла на коленях с другой. Перед нами, согласно почестям его ранга, Мененхетет всего лишь опустился на одно колено.
Через мгновение, когда поднялся Мененхетет, мои отец и мать подняли головы, их колени все еще были на земле, руки простерты — поза естественная для отца (я мог чувствовать его счастье) и унизительная для матери (я ощущал ее отвращение), однако, к своему удивлению, я не желал двигаться, будто прижимаясь ртом и носом к грязи на земле, в то время как мои глаза были не более чем на палец от ее поверхности, я исполнился тяжелой умиротворенности того огромного круга, в котором мы вращаемся, прежде чем уснуть. Не смея взглянуть вверх, на Фараона, Который Своим присутствием заставил мой рот поцеловать землю, я все не мог понять, исходит ли тяжесть на моей спине от Его глаз, или от солнца в зените, или от них обоих (столь схожих между собой), поскольку с того самого дня, как я услышал имя Сын Солнца, мне говорили, что ни один человек на земле не находится ближе к Ра, чем наш Повелитель, Си-Ра Рамсес Девятый, со всеми Его великими титулами: Неферкара Сетепенра Рамсес Хаэмуас Мериамон (ибо Птахнемхотеп было всего лишь именем Его юности, которым Его могли называть старые друзья или высшие чиновники).
Затем — не знаю, был ли то приступ головокружения или блаженства, но, возникнув прямо из земли, поднялись и затрепетали в моих глазах цветные круги, и я почувствовал, как иная сила побуждает меня распрямиться настолько, чтобы мои глаза смогли обратить взгляд вверх, на балкон, на лицо Фараона.
Он восседал между двумя колоннами, опершись Своими локтями на золотые подлокотники, покрытые красными подушечками с вышивкой. Я не мог видеть Его тела, лишь золотой воротник, закрывавший Его грудь, а выше была Его великая Двойная Корона — высокая и изогнутая, как два паруса, полных ветра, с маленьким, усыпанным драгоценными камнями тельцем золотой змеи над Его правым глазом. Казалось, что смотришь не на человека, а на большой щит: высокая белая корона Фараона составляла верхнюю часть его окружности, а Его воротник — нижнюю. Или я мог бы так подумать, если бы не Его прекрасное лицо между ними. Глаза у Него были очень большие, а черные линии краски, которой они были обведены, делали их еще более выразительными. Как мне сказала моя мать, Его глаза знамениты способностью менять свой цвет: то светлые и ясные, как небо, они, однако, могли стать темными, словно в них отражается безлунная ночь. У Него был длинный грустный нос, совсем не похожий ни на один другой. Он был очень тонким, а ноздри узкими, как у кошки. Когда Он повернул голову, я смог увидеть, что форма Его носа была необычной, так как его изгиб, если глядеть с одной стороны, придавал Его утонченному орлиному лицу черты, схожие с прекрасным серповидным мечом, но с другой стороны он выглядел так же печально, как капля воды, готовая упасть с перевернутого листа. Под этим узким носом располагался прекрасный рот, полный и чудесно очерченный, живший в близкой связи с носом над ним — странный способ описания, но это заставило меня подумать о моей няньке Эясеяб, стоящей рядом со мной, поскольку мы совсем не походили друг на друга, и она была рабыней, однако мне никогда не было так покойно, как вместе с ней — толстой коротышкой Эясеяб. Глядя на Его рот и нос, я мог так же видеть свой нос, уткнувшийся в плотную юбку Эясеяб повыше бедра, и вспомнил запах земли, и рыбы, и речного берега, исходивший от нее. Это представлялось мне сродни той отзывчивости, с которой узкие ноздри Птахнемхотепа, казалось, трепещут в дыхании Его рта, и я почувствовал сильное желание поцеловать Его. Я хотел погрузить свой сладкий рот — все уверяли меня, что мой рот сладок, — в губы Сына-Ра, и это пришедшее ко мне желание позволило появиться следующему желанию, и я увидел себя вытягивающимся на цыпочках, чтобы поцеловать божественный палец между ног Фараона: побуждение, которое я едва ли смог бы впустить в свое сознание, покуда следующей моей мыслью не было желания сделать то же моему прадеду. Там, очарованный носом Фараона, обладавшим таким же колдовским воздействием на меня, как напудренный пупок моей матери, я увидел свое будущее, в нем я был в темном покое, внутри темной горы, молодым человеком, стоящим на коленях перед Ка моего прадеда, и я не знаю, было ли все, что я сейчас увидел, в возрасте шести лет, или лишь подарком моего собственного Ка, к которому наконец-то возвращались воспоминания одного дня моей жизни, или в действительности меня не было на площадке внутреннего двора Птахнемхотепа (в своем сердце я немедленно стал Его так называть, словно мы были старыми друзьями), и поэтому я был более жив здесь, чем в своем Ка, на коленях в гробнице Хуфу. Затем, словно пробудившись навстречу дню от ночного сна, полного кошмаров, я исполнился уверенности в том, что я жив и что мне шесть лет, когда, все еще стоя на коленях с протянутыми вперед руками, я вновь взглянул вверх на лицо Фараона, и Он заговорил чистым и звенящим голосом с совершенно безошибочно различимыми интонациями, собственно, голосом — я совершенно определенно расслышал это, — который, фраза за фразой, со-ответствовая голосу моего прадеда, когда он, сомневаясь в чьей-то искренности, спокойно подшучивал над собеседником.
«Мененхетет, — сказал Фараон, — неужели какая-то мелочь явилась для тебя поводом, чтобы принять Мое приглашение?»
«То, что имеет для меня величайшее значение, покажется малозначимым Вашему Величеству», — сказал Мененхетет голосом, который поплыл к Фараону, подобно листу, положенному на воду.
«Ты не делаешь ничего без серьезных на то причин. Это всего лишь скромное объяснение, — сказал наш Фараон и, довольный этим ответом, добавил: — Поднимись сюда, великий Мененхетет. Возьми свое семейство и присоединяйся ко Мне». — Он похлопал по подушке рядом с Собой.
Прислужник подвел нас к раскрашенной лестнице, откуда было десять ступенек до балкона. Птахнемхотеп обнял моего прадеда и поцеловал мою мать в щеку. Она поклонилась и поцеловала палец Его ноги, но сдержанно, как кошка, а мой отец торжественно — его действия и воспринимались как ритуал — преклонил колени и обнял другую ступню. «Назовите Мне имя сына Хатфертити», — сказал Птахнемхотеп.
«Его зовут Мененхетет Второй», — ответила Хатфертити.
«Мененхетет-Ка, — повторил Фараон. — Имя великана-людоеда для такого очаровательного лица. — Он внимательно посмотрел на меня и воскликнул: — Лишь красота Хатфертити могла произвести на свет столь совершенное лицо!»
«Что ж ты застыл на месте, сын мой», — сказал мой отец.
«Да, — сказал Птахнемхотеп мягко, — тебе следовало бы поцеловать Мою ступню».
И я стал на колени, и увидел, что ногти на пальцах Его ног выкрашены в синий цвет, и почувствовал, целуя Его ногу, что она умащена, и от нее, как и от моей матери, исходит запах темной красной розы, вернее, я думал, что запах источает Его нога, покуда не понял, что пол был натерт благовониями. Когда я целовал развилку между большим и соседним пальцем, мой нос оказался на мгновение сжат пальцами Фараона, и я ощутил вспышку боли, не столько боль, сколько белый свет в своем теле, и свет этот, должно быть, пришел от Фараона, и был он таким ярким, что я мгновенно почувствовал себя цветком, который оторвали от корней — интересно, видит ли цветок такой же белый свет? Словно вновь пребывая одновременно более чем в одном месте, я познал, каково это будет — излиться в женщину — моя плоть пребывала во славе белого света Бога, вышедшего мне навстречу.
Воодушевленный этой силой, пришедшей от жизни в двух домах, мой язык принялся лизать развилку между пальцами на ноге Фараона, и тогда я ощутил не только запах розы. Здесь также присутствовал едва уловимый запах земли, реки и рыбы, такой же, как и между бедер Эясеяб, и еще отдаленное напоминание о резком мужском запахе мочи, которой часто несло сверху, от колен Мененхетета. Я даже ощутил прилив той же мечтательности, что чувствовал, когда нюхал свои мокрые пальцы после того, как мазал слюной Сладкий Пальчик или свои бедра и пупок. Переживая плен всех этих запахов, я вновь познал силу присутствия Фараона и понял, будто раньше меня никто не наставлял, что из всех людей Фараон — действительно ближайший к Богам, однако я также знал, что Он — человек, запах которого слегка напоминает запах женщины, и Его запахи близки моим собственным.
Я взглянул вверх, склонил голову, отполз на коленях на два шага и медленно поднялся. Фараон не отвел от меня Своих глаз. «У тебя — необыкновенный мальчик, — сказал Он Хатфертити, — и у него сладкий рот. Однако его язык сулит ему позор. — Он перевел взгляд с меня на моего прадеда, и в его глазах отразилась вся тяжесть Его мыслей, словно помрачнело небо, когда солнце медленно закрыло облако, и сказал Мененхетету: — Тебе следовало бы укрепить в этом мальчике все силы, что пребывают ниже его рта».
«Этого должно было бы искать всем людям», — заметил мой прадед.
«А также Фараонам», — сказал Птахнемхотеп.
Мой прадед ответил совершенно неожиданной речью: «О, Ты, Который живет в ночи, но изливает на нас сияние днем. Который мудр, как земля и река. Ты, Повелитель Двух Великих Домов [28], близкий Сету и Хору, Ты, говорящий с живыми и мертвыми, спроси Своего слугу Мененхетета о любой мелочи, о которой он осмелится судить, но не проси его размышлять о том, нуждается ли Фараон в силе в тех таинственных областях, что лежат выше бедер и ниже пупка».
Он произнес все это с таким бесстрашием и с такой холодной доблестью, что отделил себя от смиренного звучания своей хвалы.
Однажды он показал мне, как плененный военачальник может отдать свой меч, испытывая при этом презрение к командующему, взявшему его в плен, — это был единственный раз, когда он играл со мной в такую игру, — и теперь я гадал, не выказал ли он словами своей речи презрение Фараону.
«Скажи мне, прекрасная Хатфертити, — произнес наш Рамсес Девятый, — говорит ли он обо Мне подобным образом в Мое отсутствие?»
«Он живет, — сказала моя мать, — ради того, чтобы увидеть Твою улыбку, обращенную к нему, и услышать слова Твоего одобрения».
«Скажи Мне, великий полководец, — продолжал Фараон, лишь поведя Своим красивым плечом при словах Хатфертити (чей ответ последовал слишком быстро), — говорил ли ты так же когда-то с Моим великим предком?»
Мененхетет поклонился: «Тогда мой голос был молодым. Сейчас у меня старый голос».
«А кроме того, этот предок был великим Фараоном», — сказал Птахнемхотеп.
«Различие, — ответил Мененхетет, — между Рамсесом Вторым и Рамсесом Девятым такое же, как и между Великими Богами». «О каких Великих Богах ты говоришь?» «Осмелюсь ли я произнести Их имена…» «Я разрешаю тебе».
«Рамсеса Второго называли Хор-могучий-бык-возлюбленный-Маат. Однако я бы отметил в нем сходство с Великим Богом Сетом. — Мененхетет сделал паузу, чтобы все оценили его прямоту, и добавил: — Тогда как Ты, великий Девятый из Рамсесов, даешь мне смелость вызвать присутствие Того, Кто не знает сравнений и Кто есть Осирис».
Мененхетет сделал блестящее замечание. Птахнемхотеп рассмеялся, и звуки его смеха были сочными и исполненными почти столь же глубокого удовольствия, как и та радость, что я иногда слышал в голосе своей матери, и в тот момент мне захотелось узнать, может ли Птахнемхотеп и стонать так же потрясающе выразительно, как Хатфертити.
«Обычно говорят о Птахе, а не об Осирисе, — сказал Он. — Я чрезвычайно рад, что ты здесь. — Кивком Он велел слугам принести подушки, и затем Он таким же образом пригласил нас сесть рядом с Ним, Он даже разделил часть Своей большой подушки с моим прадедом, которого, как только тот сел как положено, обнял и неохотно поцеловал в губы, но после, проведя кончиком языка по уголкам Своего прекрасного рта, Птахнемхотеп исследовал вкус, оставшийся на Его губах. Затем, склонившись к Хатфертити, Фараон сказал: — Пока слуги умащают нас, Я буду продолжать работу этого дня. Мне еще надо принять нескольких людей, но должен сказать, что они могут оказаться скучными. Может быть, ты предпочтешь, чтобы тебя проводили в твои комнаты?»
«Я хотела бы послушать, как докладывают Тебе о делах Двух Земель, вверенных Твоей мудрости».
«Для Меня будет удовольствием, если ты будешь рядом, — прошептал Он ей, и мой отец немедленно подал знак. Вошли несколько слуг с алебастровыми сосудами ароматной воды, которые они поставили у ног Птахнемхотепа, Мененхетета, моей матери и моих. Именно тогда Фараон указал моему отцу на пятую подушку. — Тебе нет нужды присматривать за евнухами, Нефхепохем», — сказал ему Фараон.
При упоминании его имени в глазах моего отца сверкнула искра. Из чего можно было заключить, что ему не всегда подносили подобный подарок — услышать свое имя полностью. «Милостивый и Великий Бог, — ответил он, — я живу Твоей божественной добротой, однако не могу отдыхать на предложенной мне подушке из страха, что евнухи допустят непростительную ошибку».
Хотя мой отец не часто рассказывал мне о себе, однажды — и это было незабываемо — я узнал, что его должность Смотрителя Коробки с красками для лица Царя и Карандаша может, в определенных обстоятельствах, быть столь же важной, как и пост Визиря. Ибо, когда бы ни настали в Двух Землях времена бедствий, поведение и облик Фараона, то есть Его тело, одежды, которые Он носит, и краски, наложенные на Его лицо, могут сыграть первостепенную роль в судьбе благополучия Египта. Любой жест Фараона в такой день может изменить ход сражения в отдаленных местах. Совершенство Его глаз, обведенных ярко-зеленой и черной краской, придавало значимость каждому наклону Его головы. Когда Фараон восседает на троне (всегда обращенном к реке), Ему достаточно лишь склонить царственную шею направо или налево, и в Верхнем или Нижнем Египте поднимается ветер. Точно так же стоит Ему лишь повернуть рукоятку Своего посоха, и пастухам в долинах, которых мы не видим, посылаются дары, а малейший трепет Его плетки заставляет надсмотрщиков на полях опускать кнуты на спины работающих. Его опахало из страусовых перьев обеспечивает жизнь цветам, большое ожерелье, закрывающее Его грудь, является золотым ухом Солнца, Его корона из перьев (когда Он решает надеть ее) делает пение птиц радостным или торжественным. Моя мать хмурилась, когда отец рассказывал мне эти назидательные истории. «Почему бы тебе не сказать мальчику, что лишь Цари древности могли нацепить хвост леопарда и переполошить всех зверей в лесных зарослях. У нашего Птахнемхотепа нет подобной силы».
Однако, даже будучи ребенком, я мог заметить, что мой отец, несмотря на свое желание соблюсти подобающее совершенство, был чрезвычайно практичным человеком. «У Фараона, — отвечал он, — была бы неограниченная сила, если бы на Него постоянно не нападали другие силы, которые также безграничны».
«Почему, — спросила она, — на Него нападают?»
«Из-за слабости Фараонов, Которые пришли прежде Него. — Он вновь взглянул на меня. — По этой причине сейчас, более чем когда-либо, крайне важно, чтобы каждое украшение, касающееся Его тела, было без малейшего изъяна, иначе Его сила станет еще меньше».
Я подумал, что в рассуждениях моего отца должна быть какая-то ошибка. Ведь он не находился в присутствии Фараона постоянно. Он часто бывал дома. Поэтому он вряд ли имел возможность проследить за всеми без исключения подробностями поддержания красоты Фараона. Размышляя об этом, я увидел, что мой отец стоит в стороне и на деле не вмешивается в работу вошедших евнухов, принесших с собой все дружелюбие щенков и всю грациозность танцующих девушек, и двое из них принялись (что-то напевая и улыбаясь нам) омывать ноги Птахнемхотепа с величайшей игривостью, словно им, как щенкам, действительно было дано нечто вроде права кусать и грызть Его лодыжки. Трое других прислуживали Мененхетету, моей матери и мне. Словно резвясь, сверкая зубами, они терли наши подошвы, их пальцы, как пескари, сновали между пальцами наших ног, своими тупыми ногтями они отскребали с наших пяток омертвевшую кожу.
Через некоторое время они кончили возиться с нашими ступнями и принялись растирать ноги. Они были красивы, и, вероятно, их отобрали из одной деревни в Нубии или Куше [29], потому что все они были примерно одного роста, одинаково глубокого черного цвета, их сходство усугублялось сияющими иглами из слоновой кости, которые протыкали их носы — каждая игла была проколота под определенным углом ко рту, будто все они появились на свет из одного и того же чрева с одинаковыми украшениями.
Они знали свою работу и вряд ли допустили бы оплошность — в присутствии моего отца или без него. Вскоре они стали растирать уже не только наши нога, но и шеи, и плечи, а евнух, прислуживавший Хатфертити, принялся втирать масло точными круговыми движениями вокруг ее пупка, на что она, не смущаясь, ответила звуками удовольствия, на удивление отчетливыми и громкими, словно эти властные звуки были непременной частью правил поведения благородной дамы.
«Мне надо приобрести у Тебя этого евнуха», — сказала она Птахнемхотепу, который согласно улыбнулся. «На самом деле, разве они не восхитительны?» — спросил Он и посмотрел на темные тела этих пяти рабов с такой же любовью, какую я видел в глазах моего прадеда, когда тот рассматривал подходящих для одной упряжки лошадей или одинаковых белых быков. И действительно, поскольку на рабах не было никакой одежды, можно было видеть не только их полные мускулистые ляжки, но и блестящий обрубок там, где когда-то были их мошонки, что делало их чрезвычайно похожими на меринов.
«Вы не можете себе представить, — заметил Птахнемхотеп, — какую радость эти ребята приносят в Мой гарем. Если бы Я был еще очень молодым человеком, Я бы страдал от ревности любовника при мысли о том, что могут дать их руки Моим маленьким царицам, однако, к счастью, Я достаточно разумен и рад тому, что евнух — благословение для Принца. Никакая женщина не сможет так хорошо унять тревогу мужчины или так же хорошо успокоить его растиранием, — Птахнемхотеп вздохнул. — Да, они могут усмирять даже животных».
«Похоже, — сказал Мененхетет, — что они приятнее, чем Боги».
«Во всяком случае, — сказал Птахнемхотеп, — они не такие злые».
Мененхетет многозначительно кивнул.
Хатфертити сказала: «Лишь в Твоем присутствии, Дважды-Великий-Дом, я могу слушать такие разговоры без дрожи». Однако ее слова были слишком льстивыми. Птахнемхотеп ответил: «Точно так, как раб может развеять скуку хозяина, насмехаясь над ним, и мы можем легкомысленно говорить о Богах». Но, похоже, теперь Им овладела скука.
Мой отец выбрал этот момент, чтобы сказать: «Находиться в присутствии Дважды-Великого-Дома — значит жить без страха», — однако говоря это, сам он вовсе не выглядел бесстрашным, потому что как раз в этот момент вошел слуга, который принес прохладительный напиток, и Птахнемхотеп раздраженно отмахнулся от него. «Ты и Хатфертити, — заметил Он моему отцу, — на самом деле говорите, как брат и сестра». И брови над Его огромными глазами слегка изогнулись в недоумении, как будто Он не мог понять, как могла такая Принцесса, как моя мать, столь совершенная во всех отношениях (за исключением того, что иногда она впадала в благочестие), не только выйти замуж, но быть еще и наполовину сестрой человеку такого низкого происхождения, как мой отец. Я даже вздрогнул от уверенности, что Фараон думает именно об этом, однако знал, что независимо от того, думал Он так или нет, я все равно буду так думать, поскольку моя мать сказала мне, что для нашей семьи — это самое постыдное обстоятельство.
И все же проявляя очевидное внимание к Своим гостям — как будто и Его собственное настроение могло испортиться, если беседа не примет более благоприятный оборот, — Фараон обернулся к моей матери и спросил: «Ты одобряешь синий цвет парика, который на Мне?» И Он задал этот вопрос с достаточной силой в голосе, чтобы высечь из нее ответную искру огня, на что она ответила: «Он не такой синий, как небо», после чего они оба рассмеялись. Мой отец тут же подал знак своему помощнику, Надзирателю за Царским Париком, который тотчас подошел с большим серебряным подносом, на котором лежали два черных парика — один прямой, другой с локонами, и два новых синих парика, один из которых также был завит. Меня воодушевило, что мать и Птахнемхотеп развеселились. Если тепло встречи Фараона улетучилось лишь от одного ее замечания, то теперь оно было полностью восстановлено тем, что она только что сказала, как будто для Него было естественным уравновешивать пасмурность, которой Он отвечал на оплошность поведения, немедленной готовностью выражать одобрение любому проявлению искусства поддержания разговора, и даже приемлемому—то есть чрезвычайно легкому — оскорблению, по крайней мере тогда, когда Его настроение, подобно супу, требовало некоторого помешивания.
Теперь Он взял парик с красивыми прямыми волосами и отстранил его от Себя, чтобы получше рассмотреть. «Ничто, — с грустью заметил Он, — даже близко не сравнится с синевой неба. Лучшие из красок выглядят безобразно по сравнению с тем оттенком, который Я хотел бы носить на Своей голове, но не могу найти».
«Возможно, ребенок может ответить на Твой вопрос», — тихо произнес Мененхетет.
«Ты, вероятно, так же умен, как и красив», — обратился ко мне Птахнемхотеп.
У меня в голове не было ничего, кроме сильнейшего побуждения сказать «да». Поэтому я кивнул.
«Ты знаешь источник синей краски?» — спросил Он.
Мне не нужно было далеко ходить за ответом. Он пришел ко мне от моего прадеда. У меня было такое чувство, словно мое сознание — это чаша с водой, и от малейшего движения мысли Мененхетета по ее поверхности расходятся круги.
«Ну как же, Божественный Двойной-Дом, синяя ягода — источник жидкой краски». После этого замечания мой язык ощутил пустоту, и я ждал, что может еще появиться.
«Прекрасно, — сказал Птахнемхотеп. — Теперь скажи Мне о светло-синей краске, но не жидкой, а в порошке. Где можно отыскать корень, из которого ее делают?»
«Добрый и Великий Бог, — сказал я, — не в корне, но в солях меди можно отыскать подобный порошок».
«Он говорит столь же хорошо, как и ты», — сказал Фараон.
«Он — мой второй дом», — сказал Мененхетет.
«Объясни Мне, маленький Мени, отчего Мой парик никогда не сможет явить ту же синеву, что и небо?»
«Цвет парика, Добрый и Великий Бог, происходит от земли, тогда как синева неба состоит из воздуха».
«Значит, Я никогда не найду того синего цвета, какого желаю?» — спросил Он. Его голос был исполнен дружеской насмешки, от которой меня потянуло к Нему. И даже ответив «Никогда», я не смущаясь продолжил, добавив: «Никогда, Великий Фараон, до тех пор, пока Ты не найдешь птицу с перьями столь же синими, что и воздух».
Мененхетет в изумлении хлопнул себя по бедру. «Мальчик слушает лишь наилучшие голоса», — сказал он.
«Он слышит более одного голоса, — сказал Птахнемхотеп и слегка хлестнул моего прадеда Своей плеткой. — Это прекрасно, что ты здесь, — сказал Он. — И ты», — добавил Он, коснувшись той же плеткой Хатфертити.
В ответ Она одарила Его своей лучшей улыбкой. «Никогда я не видела Тебя столь прекрасным», — сказала она Ему.
«Признаться, — сказал Птахнемхотеп, — Я, точно хорошо спе-ленутый мертвец. Мне скучно».
«Этого не может быть, — сказала Хатфертити, — ведь глаза Твои — как у льва, а Твой голос дружит с ветром».
«Мои ноздри различают все запахи, — сказал Он, — но чувствуют и затрудненность каждого Моего вдоха. — Он вздохнул. — Наедине с Собой, чтобы развлечься, Я подражаю птичьим голосам. — Он издал резкий крик птицы, защищающей свое гнездо. — Правда, забавно? — спросил Он. — Иногда Я думаю, что, только развлекая других, Я на мгновение могу забыть о запахе всего сущего. Послушай-ка, маленький мальчик, маленький Мени-Ка: хочешь услышать, как собака говорит на нашем языке, а не на своем?»
Я кивнул. Увидев неподдельную радость на моем лице, Птахнемхотеп добавил: «Даже твой прадед не может заставить собаку говорить».
Он особым образом хлопнул в ладоши и позвал: «Тет-тут!»
Я услышал, как под домом возится собака, затем медленно поднимается по ступенькам на балкон, шагами, исполненными такого достоинства, которое у животного выглядело так, словно двое слуг поднимались по лестнице на четырех привычных к этому ногах. Появилась серебристо-серая охотничья собака с чрезвычайно внимательной и серьезной мордой.
«Тет-тут, — спокойно сказал Фараон, — ты можешь сесть».
Собака спокойно повиновалась, не выказав никакого волнения.
«Я представлю всех вас, — сказал Птахнемхотеп. — После того как я произнесу ваше имя, сделайте Мне удовольствие, продолжайте думать о нем. — Затем Он по очереди указал собаке на каждого из нас. — Хорошо, Тет-тут, — сказал Птахнемхотеп. — Подойди к Хатфертити. — Когда собака сделала шаг вперед и заколебалась, Он повторил: — Да, Мой дорогой, иди к Госпоже Хатфертити».
Тет-тут посмотрел на мою мать и приблизился к ней. Прежде чем та успела похвалить его за предпринятое усилие, Птахнемхотеп сказал: «Иди к Мененхетету».
Пес попятился от Хатфертити, повернулся кругом и пошел прямиком к моему прадеду. На расстоянии двух шагов от него он стал на колени, положил длинную морду на пол и начал стонать.
«Ты боишься этого человека?» — спросил Фараон.
Тет-тут протяжно заскулил, и его вой был красноречив, как сама раненая плоть. Издаваемый им звук напоминал что-то вроде тью, тьюю.
«Ты слышишь? — спросил Птахнемхотеп. — Он говорит „да"». «Боюсь, мне не хватило отчетливости», — сказал Мененхетет. «Ту, ту, — сказал Птахнемхотеп. — Тет-тут, скажи „тууууу", а не „тью". Тууууу!»
Тет-тут перекатился на спину.
«Негодник, — сказал Птахнемхотеп. — Ступай к мальчику».
Собака огляделась.
«К мальчику. К Мени-Ка».
Теперь он подошел ко мне. Мы посмотрели друг другу в глаза, и я расплакался. Я совершенно не был готов к такому — я думал, что буду смеяться, — но, казалось, грусть вышла из сердца Тет-тут прямо в мое, точно так же, как воду переливают из кувшина, или нет, не совсем так, это скорее походило на то, как Эясеяб целовала меня в губы в один из своих несчастливых дней. Когда она меня так обнимала, мне казалось, что я участник всех грустных историй квартала, где живут слуги. Теперь же от собаки в меня перешла печаль столь же совершенная, как то горе, которое я ощущал, когда Эясеяб рассказывала мне про своих родственников, которые, работая в каменоломне, должны были нагружать огромные гранитные глыбы на полозья и втаскивать их веревками вверх по склону. Иногда во время работы их били кнутом до тех пор, пока они не валились с ног — и все из-за того, что предыдущей ночью надсмотрщик выпил больше, чем следовало, и теперь был зол оттого, что вынужден находиться на солнце. Поэтому ночью, когда Эясеяб рассказывала мне о своих родственниках, я жил в печали ее голоса. Голос у нее был усталым, отягченным ношей ее души, однако он не был несчастным, потому что он говорил о радости в ее мышцах, когда она ложилась отдыхать. Она горевала о мужчинах и женщинах своего семейства, которых знала в детстве, и говорила мне, что по ночам они навещают ее в глубине ее сердца, не во сне, где она могла бы испугаться их, но, скорее, она могла думать о них с наступлением вечера, несмотря на то что не виделась с ними на протяжении многих лет, и она верила, что, должно быть, они шлют ей послания, рассказывающие об их искривленных костях, потому что тогда в ее члены приходили боли, точно терзали струны, и этими болями они сообщали ей о своих жизнях, подобно тому как лук пускает стрелу.
Я не знаю, что вспомнил из ее историй или сколько горя перешло ко мне от собаки, но этой печали было больше, чем я мог понять. Тоска в глазах Тет-тут напоминала мне выражение лиц многих умных рабов. Хуже того. Похоже было, что собачьи глаза говорили о чем-то, чего пес хотел бы добиться, но что ему никогда не удастся.
И я плакал. Я едва мог поверить в силу того шума, который производил. Я пронзительно кричал. Собака смогла рассказать мне об ужасном испуге в каком-то отдаленном месте, и мне было так страшно, как никогда, словно хотя я мог и не жить как раб, но все же знал, что рано или поздно и мне придется узнать такую жизнь, которой я не хочу, быть не в силах идти туда, куда бы я пожелал, и это чувство было достаточно сильным, чтобы повергнуть меня в дрожь, от его силы темнело в глазах. Затем пришло ощущение, что я попеременно живу то в свете солнца, то во мраке, короткими промежутками, судорожно, будто я мигал. Притом что мои глаза оставались широко раскрытыми. Я видел одновременно два существования: себя в шестилетнем возрасте, обливающегося слезами, и себя в темноте, плачущего от стыда, в то время как я поедал петуха Мененхетета, и слезы были столь обильными, что из моих ноздрей изливались две реки прямо на чудо огромного члена старика. Да, в шесть лет я увидел себя униженным в Стране Мертвых в возрасте двадцати одного года, а потом Хатфертити подхватила меня, и тряхнула, и сдавила мне горло в объятии, и убрала меня с глаз Фараона.
ЧЕТЫРЕ
Мать несла меня так, что я мог чувствовать ее ярость. Мой живот лежал на ее плече, а голова свисала ниже ее груди. При каждом шаге земля поднималась мне навстречу, а затем опадала, словно я раскачивался вниз головой. Но я был настолько ошпарен страхом, что чувствовал себя точно маленький зверек, которого только что окунули в кипяток и жизнь которого с воплями покидает его, по мере того как сваривается его плоть. Когда мы остановились и она поставила меня на ноги, я на мгновение подумал, что умер — мы стояли в комнате столь прекрасной, что я сперва не мог понять, где мы: в доме, в саду или в пруду.
Меня окружали деревья. Они были нарисованы на каждой стене. Я стоял на полу из водянистой болотной травы, золотой болотной травы, и между ее нарисованными стеблями плавали нарисованные рыбы. Вверху, с нарисованного вечернего неба, сияли звезды, и в красном отсвете западной стены садилось солнце так же, как оно зашло прошлой ночью к западу от крыши дома моего прадеда, только теперь это происходило в виду Пирамид, и в этом свете они были красными, как мякоть граната, и располагались на нарисованном плато Гиза, между двух из четырех золотых деревьев, поддерживавших углы этой комнаты. Голуби и бабочки парили во влажном горячем воздухе, чибисы и зеленые чижи влетали и вылетали из рогов волов в болотных тростниках на стене; у моих ног распускались водяные лилии, а голубой лотос почти скрывал крысу, ворующую яйца крокодила. Посреди своих рыданий я стал смеяться — меня развеселило выражение крокодильей морды.
Теперь моя мать привлекла меня к себе и попросила посмотреть на нее, но я глядел на вырезанную из слоновой кости ножку кровати, на которой она сидела. Ножка эта напоминала ногу и копыто буйвола, или походила бы на них, если бы копыто не оставалось на полированном полу, вместо того чтобы погрузиться в него, хотя, продолжая рассматривать его, я заметил, что слой лака на поверхности нарисованной воды был таким толстым, что я мог видеть в нем свое отражение и отражение своей матери и, таким образом, даже и свет на воде.
Мы стояли, окруженные всеми этими птицами и животными, жившими на рисунках, и я мог даже видеть мух и скорпионов, которых художник поместил у корней травы, между стеблей которой плавали рыбы. Наконец я улыбнулся матери.
«Я готов вернуться», — сказал я.
Она посмотрела на меня и спросила: «Тебе нравится эта комната?» Я кивнул.
«Это моя любимая комната, — сказала она. — Когда я была маленькой, я часто играла здесь».
«Я думаю, мне понравилось бы играть здесь», — сказал я.
«В этой комнате я узнала, что должна была стать женой Фараона».
И я смог увидеть свою мать на троне рядом с Птахнемхотепом, и на них обоих были синие парики. Между ними играл мальчик, но лицо у него было не похоже на мое.
«Если бы ты вышла за Него замуж, — сказал я, — меня бы здесь не было».
Глубокие черные глаза матери долго смотрели в мои глаза. «И все же, ты был бы моим сыном», — сказала она. Затем она посадила меня к себе на колени, и я почувствовал, как медленно погружаюсь в плоть ее бедра — мягкое оседание, ощущение, не проходившее даже тогда, когда ее плоть подо мной уже не подавалась; отзвук этого тонкого чувства вышел из меня, как последнее воспоминание об этом вечере, и теперь я купался в блаженстве, уравновесившем ту опустошенность, что я почувствовал, глядя на морду собаки. Какое восхищение вызывал во мне красный отсвет Пирамид, отражавшихся в болотно-зеленой полировке пола.
«Да, предполагалось, что я выйду замуж за Фараона. Ты хотел бы, чтобы Он был твоим отцом? Ты поэтому начал плакать?»
Я солгал. «Я не знаю, почему собака так расстроила меня», — ответил я ей.
«Думаю, это оттого, что ты мог бы быть Принцем». «Я так не думаю».
«Предполагалось, что я буду первой женой Фараона». «Однако вместо этого ты вышла замуж за моего отца». «Да».
«Почему ты это сделала?»
Словно помня о моей способности входить в мысли других — я никогда не знал, когда мне это удастся, — сейчас Хатфертити, казалось, вообще ни о чем не думала.
«Да, ты вышла замуж за моего отца, и я его сын, и сейчас я счастлив, оттого что ты привела меня в эту комнату». На самом деле я не знал, что говорю, кроме того, что как-то ухитрился сказать то, что побудит ее рассказать мне больше, чем она хотела.
«Ты не сын своего отца, — сказала она, и на мгновение ее глаза заглянули в ее собственный страх, поэтому она добавила: — То есть сын, но не его сын. — И я понял, что она подумала о Мененхетете. — Это не имеет значения, — продолжала она, — чей ты сын, поскольку я призывала тебя. Я молилась, чтобы ты появился, и поистине мне уже никогда не быть столь ослепительно прекрасной, какой я была в тот час, когда все, что было во мне, призывало тебя. — Она взяла мое лицо в ладони, и руки ее были настолько живыми, что я ощутил, что лежу в постели между двумя прекрасными телами. — Ты пришел ко мне вместе с уверенностью, что я рожу Фараона, и я продолжала в это верить даже после того, как вышла замуж за твоего отца».
«Ты все еще веришь в это?»
«Не знаю. Ты никогда не был таким, как другие дети. Когда я наедине с тобой, я не ощущаю между нами большой разницы в возрасте. А когда мы не вместе, я часто размышляю о том, что ты сказал. Иногда я думаю, что твои мысли приходят к тебе из мыслей других людей. Действительно, ты умеешь заглядывать в чужие мысли. Тебе в высшей степени дана эта благородная способность. И все-таки я не думаю, что ты когда-либо станешь Фараоном. В своих снах я не вижу Двойной Короны на твоей голове».
«А какое будущее ты видишь для меня?»
Никогда я не был столь восприимчивым к каждому повороту течения ее мыслей, и поэтому я снова увидел черное пятнышко нательной вши, которая так ее испугала, и узнал ее страх. Ощутил его так же явственно, точно червь полз по моему собственному горлу.
Это, однако, был лишь один из двух домов моей матери. В другом, должно быть, пребывала кровь воинов, подобных моему прадеду, поэтому, когда она вновь взглянула на меня, ее глаза были так же пусты, как у воина, оценивающего захваченного пленника.
«Почему ты начал плакать? — спросила она. — Что, глаза собаки предсказали тебе жалкое будущее?»
«Они говорили мне о позоре», — сказал я и подумал о матери в объятиях Мененхетета в саду на крыше. Должно быть, я послал ей свои мысли, так как кровь прилила к ее щекам и она рассердилась.
«Не говори о позоре, — сказала она, — после того как ты поставил меня в неудобное положение перед Фараоном. — Я вновь ощутил ту вспышку ярости, с которой она подхватила меня и вынесла из комнаты. — Я не думаю, что ты станешь Фараоном по той же причине, что собака заставила тебя заплакать. У тебя храбрость собаки».
Мы часто разговаривали с ней таким образом — одна жестокость за другую. Мне нравились такие состязания. В них я был сильнее Хатфертити.
«О нет, — сказал я, — я заплакал не из-за недостатка храбрости, а просто из-за того, что страдал, видя, что мой отец не вызывает никакого уважения. Если, конечно, как ты говоришь, он мой отец».
Она дала мне пощечину. Слезы гнева покатились по моим щекам. Они, должно быть, прорезали ее взгляд подобно тому, как твердый камень оставляет борозду на мягком, потому что в ее глазах, лишенных всякого выражения, гладких, как черный камень, когда она злилась, теперь словно что-то треснуло, и я увидел жившую в ней грусть, ту же, что я узнал, заглянув в глаза собаки. Что-то от невысказанного страдания жизни моей матери отразилось в ее глазах. «Отчего, — спросил я, — ты не стала первой женой Фараона?»
И снова она мне не ответила. Вместо этого она сказала: «Я вышла замуж за твоего отца, потому что он был наполовину моим братом». И это был бессмысленный ответ, поскольку стоило только вспомнить, сколько царских браков (не говоря уже о половине таковых среди бедных) заключалось между братом и сестрой или между наполовину братом и сестрой. Это вообще не было ответом. Однако я все-таки смог увидеть в мыслях матери, как выглядел мой отец в молодости, и, к моему удивлению, тогда у него было сильное лицо, даже немного грубое — пусть не грубое, но молодое и самодовольное, и жестокое, какое могло бы понравиться многим женщинам. Сейчас он был другим. Лицо его стало угнетенным. Воздух, входивший в его ноздри, был более чистым, но менее здоровым, чем тогда, когда он был молод — всего-то семь или восемь лет назад! — и я подумал, не связаны ли эти перемены с теми произносимыми шепотом намеками, с которыми я жил годами, часто оказываясь свидетелем злого молчания матери, отца и прадеда. Между ними нередко ощущалась некая неловкость, как будто все они страдали от одной и той же плохо переваренной пищи. Позже, уговаривая мать сказать мне больше, вспугивая ее мысли и преследуя их, я наконец узнал о семейном позоре: дочь Мененхетета, мать моей матери Исетенра, была замужем за законным младшим братом Рамсеса Третьего, однако после смерти этого Принца и рождения (в том же месяце) моей матери Исетенра снова вышла замуж за очень богатого человека, происходившего из крестьянской семьи, жившей в худшем из кварталов Мемфиса. Мальчиком он работал чистильщиком отхожих мест. В этом и состоял стыд. Однако вскоре он возвысился до того, что стал хозяином веселого дома (поскольку о нем говорили, что в постели он почти равен Богу Гебу!), и из доходов от этого занятия сумел сколотить себе состояние. Моя бабка, Исетенра, вышла за него замуж, как мне было сказано, чтобы отомстить Мененхетету, который держал ее своей наложницей с двенадцатилетнего возраста, но полностью охладел к ней, когда она стала женой Принца. В отместку — на таком объяснении настаивала моя мать — Исетенра избрала своим мужем человека, чей успех нанес бы моему прадеду величайшее оскорбление. Об этом втором ее муже Мененхетет отзывался не иначе как о Фетхфути. Это было расхожее выражение для Собирателя Дерьма, и моя мать хихикала, говоря мне: «О, Мененхетет так ревновал! Он не выносил разговоров о том, что его дочь вышла замуж за человека, о чьих любовных похождениях в Мемфисе ходили легенды. Поэтому он ненавидел твоего отца с первого дня его рождения». «А ты?»
«Нет, мне он нравился. Он был моим маленьким братом, и я обожала его». Воспоминание естественным образом выскользнуло из ее головы и совершенно естественно проникло в мою, и я узнал, что она соблазнила моего отца, когда тому было шесть лет, а ей восемь. Однако, будто вновь почувствовав эту мою способность проникать в мысли других, моя мать сразу закрыла свое сознание — я почти мог видеть, как оно закрылось, — и все то, что я смог узнать дальше, не содержало больше вообще никаких мыслей, точнее, никаких, которые я мог проследить.
Однако это отчетливое видение обнаженного ребенка, который станет моей матерью, обнимающего обнаженное тело ребенка, который еще не стал моим отцом, оставило след на воспоминании о моей матери и Мененхетете прошлой ночью, и я впервые понял, отчего мы говорим о двух домах сознания. Но такая мысль была слишком велика для моего ума, и я скоро перестал ломать над ней голову и почувствовал приятную расслабленность, ласкающее ощущение удовольствия во всех своих членах, будто что-то ценное ускользнуло от меня, но должно было вскоре вернуться. Тогда я понял, что хочу отдохнуть в окружении этих разрисованных стен, в воздухе, исполненном ожидания, где дыхание вечера навсегда окрашено в цвета розы.
«Теперь мы можем вернуться?» — спросила мать.
«Ты иди, — сказал я. — А мне хочется поспать в этой комнате, где ты играла, когда была маленькой». События, никогда не происходившие на моих глазах, возникали вокруг меня, будто воспоминания, словно птицы из далеких краев могли вдруг опуститься в твое собственное гнездо. Я подумал о чуде губ Эясеяб на Сладком Пальчике, и облака медового чувства вновь возникли во мне.
«Хорошо, — сказала моя мать. — Я оставлю тебя здесь. Но ты не должен нигде бродить. Я буду с Фараоном и твоим прадедом там, где ты увидел слишком много в глазах собаки. — Она вздрогнула от воспоминания. — Как только ты устанешь от одиночества, я хочу, чтобы ты посидел с нами и внимательно послушал, что Он говорит на Своих приемах. Там рассматриваются многие вопросы управления нашим царством. — Она вздохнула. — Он выслушивает доклады о самых скучных и сложных делах и иногда разрешает их, хотя Он, мой милый, не из особо земных душ». Я заметил, что она говорит о Нем, будто, по крайней мере в этот день, состоит с Ним в браке, и вспомнил, как она сказала прадеду: «Что, если только один из нас возвратится с тем, чего хочет?» Теперь же, выходя, она улыбнулась мне ослепительной улыбкой, необычайно щедро одарив меня на прощанье теплом, и я остался один, вполне довольный, и лег на ложе с ножками из слоновой кости, походившими на ноги и копыта буйвола, а тем временем розовые тона вечера так ни разу и не изменились на протяжении всего дня. Через некоторое время я ощутил себя не во сне, а на плаву в том месте, где пребываешь столь близко ко сну, что два дома сознания, точно две лодки, ускользают одна от другой по глади вод. Тогда я понял, сколь многое из моего бытия может не принадлежать мне, однако не испытал никакой горечи, совершенно ничего такого, что заставило бы меня почему-то усомниться в том, что я на самом деле шестилетний ребенок. Да, я ощутил это с такой уверенностью, что почувствовал себя счастливым и заснул. Или, позвольте мне выразиться иначе, я перестал осознавать, где блуждаю. Мои лодки относило одну от другой, а я лежал там, в разрисованной комнате, погруженный в обман этого долгого вечера.
ПЯТЬ
Я пробудился в спокойствии столь глубоком, что мог бы представить себе птиц на гранитных ступенях причала перед Двумя Вратами и даже почувствовать, как одно цветное перышко нежно трепещет над другим там, вдали, за тремя огромными дворами, отделявшими меня от реки. Затем ко мне пришло совершенно необычное ощущение, которое, однако, не таило в себе опасности и не явилось для меня неожиданностью. А чувствовал я буквально следующее: тогда как моя мать сказала мне, чтобы я не бродил по Дворцу, я был способен, подобно двум разным людям, идти в двух разных направлениях. С одной стороны, мое сознание, совершенно очевидно, стремилось вообще покинуть Дворец и следовать за нашим гребцом Дробителем-Костей, который шел в пивную через торговую площадь Мемфиса, а с другой — в то же самое время я сидел в присутствии Фараона и слушал, как Он разбирает дела правления нашим царством. При этом мое тело даже не пошевельнулось. Я слушался матери и не сходил с кровати. Все это происходило в какой-то путанице чувств столь же приятной, как то ощущение, что люди старше меня находят, должно быть, в вине. Так я отправился в сознание гребца, которого мы называли Сеткесу, а он жил среди всей той ярости, что пребывала в его имени, звук которого для уха был схож с его значением. Мы звали его Дробителем-Костей, но это было приличное прозвище; настоящее же было Кость-в-Заднице — по словам других гребцов, он обладал членом таких размеров, который мог стереть в порошок кости таза.
Не знаю, почему я за ним последовал, но я жил ближе к нему, чем если бы сидел с ним рядом, у меня было ощущение, что я знаю его мысли, не во всех подробностях — я не мог слышать, как слова проходят через его голову, а может, некоторые и услышал, — но был способен ощущать гнев в его груди, грубой, как легкие льва, а кислота в его желудке разъедала мой желудок. Мне казалось, будто меня завернули в тряпку, пропитанную застарелыми плевками и блевотиной, а красные муравьи ползают по моей коже. Однако все эти ощущения могли быть просто потрясением, вызванным тем, что я осмелился настолько приблизиться к нему. Потом я почувствовал усталость, жестокую боль в каждом моем нерве, более мучительную и, несомненно, более тяжелую, чем изнеможение, какое я испытывал когда-либо раньше, и услышал, как Дробитель-Костей рычит людям, которые пили пиво рядом с ним: «Продержал он нас без сна на ногах — всю ночь готовили ему лодку, а сегодня тянули на веслах».
«Нет, не тянули, — возразил человек, в чьей руке покачивался кувшин с душистым пивом, запах которого был одновременно кислым, горьким и слишком сладким от добавок. — Вы же сегодня сплавлялись по реке».
«По реке не сплавляются, парень, только не в его лодке. Каждое завихрение течения представляет опасность».
«Просто сплавлялись», — сказал человек с душистым пивом.
«Убери свой гнилой глаз от моего лица», — сказал ему Дробитель-Костей. У говорившего, который был таких же размеров, как и Дробитель-Костей, имелся только один глаз, и тот полный гноя и воспаленный. Однако оглянувшись вокруг, даже в тусклом свете этой грязной пивной, где не было окон, а единственным проемом являлась дверь, я мог сосчитать лица, и большинство их было одноглазыми — быть может, пятнадцать из двадцати. Не знаю, видел ли я когда-нибудь так много одноглазых. Среди наших слуг и, конечно же, среди слуг Фараона, полуслепого мужчину или женщину держали лишь в том случае, если это был старый и преданный человек — кому хотелось каждый день смотреть на сморщенную глазницу? А здесь у меня возникло чувство, будто весь песок нашей пустыни, весь навоз наших животных, не говоря уже о безжалостном слепящем блеске солнечных лучей, ранили веки этих людей с самого первого часа их рождения. Мне было неприятно смотреть на пьяного, лежавшего ничком в углу пивной, его лоб утопал во всей застарелой дряни из хлебных объедков, прогнившего лука, пролитого пива и вина, плевков, блевотины и даже отбросов в том месте, где пивная лужа, проникнув глубоко внутрь, размочила земляной пол.
«Сплавляться — значит сплавляться», — сказал человек с гноящимся глазом.
«Только раскрой еще раз свой рот, — рявкнул ему Дробитель-Костей, — и я воткну тебе палец в другой глаз». Я находился достаточно близко, чтобы ощутить удовольствие в его мыслях — вся усталость у него прошла. Он дышал радостной яростью, наполнявшей его голову красным светом. Бордовая кайма глаза перед ним стала бледной, а затем алой, как кровь, а кожа того человека меняла цвет от темной до белесой, как рыбье брюхо, а затем снова стала темной, как ярость Дробителя-Костей (менялся не цвет кожи, но образы в его голове). Он смотрел на губы другого пьяницы — если бы тот сказал хоть одно слово, Дробитель-Костей набросился бы на него. Он уже чувствовал, как его палец выдавливает глаз пропойцы. Тот выскочил бы из глазницы, как мякоть персика, выдавленная из кожуры.
Но тут перед ним остановилась девушка, разносившая выпивку. «Эй, пусть это будет хороший день, Сеткесу, — сказала она. — Пей, пока не станешь счастливым».
«Принеси мне восемнадцать плошек вина», — сказал он и улыбнулся, и я смог почувствовать его опьянение — я знал, что туман в моей голове возник от его опьянения, потому что я пробовал вино, и оно сделало меня пьяным, хотя и не так, как Сеткесу; стены пивной готовы были свалиться на него, как только он встал бы на ноги. Более к своему, чем к моему удивлению, он посмотрел на служанку и сказал: «У тебя такое красивое белое платье. Как это ты держишь его таким чистым?»
«Не даю хватать себя грязными руками», — быстро сказала она и ускользнула.
«Давай назад, — заорал он. — Я хочу вина из Харги [30]».
«Сейчас вернусь».
«И ломоть вашего поганого хлеба». Потом передо мной мелькнуло простое белое платье, которое стаскивали с нее. Я увидел его большие руки, впившиеся в щеки ее ягодиц, раздвигающие их, увидел ее тело, широко раскрытое, как туша в лавке мясника, но только она не была ни ранена, ни покрыта кровью, а лишь свивала свои конечности с его, и на ее лице было выражение удовольствия. Потом он сидел на ее голове, сняв набедренную повязку, между ног у него была дубинка-член, которым он бил по ее грудям. Я знал, что вижу все это лишь в его голове, потому что служанка пошла к длинному столу, где стояли кувшины с вином, и теперь уже несла один назад, зажав локтем плоский ломоть хлеба. «Это вино из Буто», — сказала она.
«Вино из Буто воняет», — заявил он.
Он не сел на место, а стоял, раскачиваясь, и я вполне мог бы быть мышью, уцепившейся за заднюю сторону его шеи — да, я смотрел на все происходящее с мышиным любопытством, — потому что я тоже видел, как качаются стены. Взяв принесенное ею вино, он вытащил из горлышка затычку из затвердевшего воска, налил вина в свою плошку, проглотил его и налил другую. Выпитое пошло внутрь с привкусом крови.
«Здесь воняет», — сказал он.
«Заплати мне, Сет, — пробормотала она, — и воздух снаружи будет тебе приятен».
«Снаружи жарко, а здесь воняет. — Он был в ярости, но забыл отчего. Из набедренной повязки, из складки в покрытой волосами коже своей мошонки — его пальцы шарили под тканью по коротким волосам ровно столько времени, чтобы у девушки дрогнули губы (ни он, ни я не знали — действительно ли они дрогнули, или он только подумал, что они вздрогнули от прикосновения его пальца к себе), — из этой складки своей плоти он достал один из своих кусочков меди весом в четверть утена, более тяжелый, чем оба моих яичка, и помахал им перед ее носом жестом, позаимствованным, вероятно, у своего Хозяина Мененхетета: настолько изобретательной была эта смесь презрения к мерзости этой пивной и гордости за широту жеста, которым он вытащил медяшку. — Я когда-нибудь женюсь на тебе», — сказал Дробитель-Костей и, качаясь, пошел к выходу из пивной, коричневый земляной пол которой был того же цвета, что темно-коричневая поверхность Нила в конце дня. Чувствуя, как пол плывет ему навстречу, подобно медленному течению реки, он ощутил сильное желание самому излить воду, и размеры этого желания заставили меня и Сладкий Пальчик разделить с ним давление в его мошонке, и мне было больнее, чем когда дверью защемишь ногу. Я удивился, отчего он не взревел. Он, однако, развернулся, неповоротливый, как баржа на реке, и подошел к пьянице с единственным красным глазом.
«Вниз по большой реке не сплавляются, — сказал он и, рыгнув желчью от пряного пива, пальмового вина и последних плошек вина из Буто, добавил: — Есть течения, которые закручиваются в водовороты, и тебя может засосать в дыру». Он собирался добавить, что есть еще и подводные камни, которых не увидишь, когда вода стоит высоко, и, чтобы не напороться на них, надо помнить, где они расположены, а не то они проделают в лодке пробоину, но пьяница с одиноким глазом просиял, глупо посмотрел на него и покачал указательным пальцем. «Сплавляются», — сказал он, как будто в этом слове пребывала вся глубина мудрости.
Дробитель-Костей сдвинул набедренную повязку набок и окатил его мочой с головы до ног. Смех звучал в пивной до тех пор, пока Дробитель-Костей не закончил. Пьяница молча перенес унижение, затем ухмыльнулся, сел и заснул. Дробитель-Костей повернулся. На мгновение он был счастлив. С ломтем хлеба под мышкой, он направился к двери. Никто не сказал ни слова, пока он не оказался у самого выхода, но запах его мочи следовал за ним, сильный, как дух от соломы, на которую только что помочилась лошадь. Когда он выходил, в глубине пивной возник ропот; он все рос и набирался храбрости, подхваченный бедными торговцами, подмастерьями и остальным рабочим людом, пока они не принялись швырять в него недоеденными луковицами и корками хлеба (однако держась поодаль); и он вывалился наружу, удержав величественное равновесие своей изрядно одурманенной головы, в которой все крутилась мысль: а не вернуться ли и не разбить ли одну об другую пару голов? Последними словами, которые он услыхал через дверь, была чья-то отчетливо прозвучавшая угроза: «Твой Хозяин Мененхетет узнает об этом». Потом он очутился один на улице (лишь я следовал за его дыханием), и его легкие судорожно вбирали воздух с таким напряжением, будто он часами сидел на веслах, вдыхая страх и какое-то возбуждение от самого этого страха. Однажды по приказу Мененхетета его выпороли до полусмерти, и пережитые тогда ощущения были самыми незабываемыми в его жизни; и он вновь пришел в себя, и увидел, что находится на улице, и дети свистели при виде его, мужчины и женщины обходили его далеко стороной, и только один молодой парень, такой же большой, как и он, стоял посредине темной и узкой улочки, зажатой стенами в четыре этажа; они медленно сближались — если бы они соприкоснулись, драка была бы неизбежной — и, по мере того как они сходились все ближе, понимание этой опасности делало обоих все более осторожными. Они разошлись, и каждый стыдился того, что соприкосновения не произошло. Чувствуя усталость, Сет сел на землю на маленькой площади у шадуфа, где женщины набирали воду в деревянные ведра, запустил пальцы в свой ломоть хлеба, отломил кусок в три пальца толщиной и принялся жевать.
Мать всегда говорила мне, что мой рот полон маленьких жемчужин, и мне, конечно, никогда не доводилось пробовать такой хлеб.
Он царапал язык, как отруби, и не успел он откусить и трех раз, как у него на зубах хрустнуло цельное зерно величиной с горошину и отломило ему часть зуба или то, что оставалось от корня зуба, причинив ему такую острую боль, что она, точно копьем, пронзила его хмель. Он закричал от внезапных болей во рту, потому что от этой острой боли, подобно кругам на воде, они разошлись вспять, через все годы, когда ломались его зубы от мелкого песка, и камешков, и цельного зерна, и осколков от жернова. Он увидел свою мать, перетиравшую в муку пригоршню пшеницы, которую она рассыпала внутри выдолбленного горбыля, лежавшего у двери дома, в котором он вырос. Может быть, то был именно запах ломтя, который он теперь держал у своего носа, тот же запах прокисшей мочи исходил от этого пористого хлеба, и он перенесся в прошлое, вспомнил работу своего детства, когда он собирал всякое дерьмо, навоз, помет, любые испражнения — и ослов, и цыплят, и коз, и собак, и овец; их застарелая острота вновь ворвалась в его нос, всех этих шариков, лепешек и колбасок. Из всего собранного им мать делала кирпичики, высушивая их на солнце. На этом добре они пекли хлеб, когда не могли найти дров, а дров всегда не хватало. Теперь он ел, сопровождаемый всеми этими запахами; словно его нос уткнулся прямо в задний проход козы, и он вновь завизжал от боли, бьющейся в его только что образовавшемся обломке зуба, визгом столь же успокаивающим, как боль, затихающая в заживающей ране; и он поднялся, улыбаясь или пристально поглядывая (это уж в зависимости от перемен его настроения) на каждую женщину, проходившую по этой маленькой площади, на яйца, которые она несла, и живых цыплят, которых несли на продажу, на девушку с гусем, трепыхавшимся у нее под мышкой, на другую женщину со свертком вытканного ею полотна такой белизны, что, отражаясь в нем, лучи солнца резали ему глаза; и, спотыкаясь, он долго приходил в себя, неловко раскачиваясь на подгибавшихся ногах, шаг за шагом спускаясь по дороге, ведущей к большой рыночной площади; и солнце над его головой было так же жестоко, как спящее рядом тело, дышавшее перегаром. Он двигался с закрытыми глазами, и лучи солнца опаляли покрасневшие и воспаленные края его век. Некоторые говорили, что все Боги могут жить в одном Боге, и этот Бог — Солнце. Если так, то теперь Он был в гневе.
Все Боги пребывают в дерьме, сказал себе Дробитель-Костей, вдыхая застарелый запах навоза, который пребывал в хлебе, и решил уставиться на проходившую мимо миловидную женщину, одетую в прозрачные одежды. Ее длинные, выкрашенные в синий цвет волосы были намаслены, а внизу накручены на маленькие восковые шарики. На ней были браслеты и бусы, а немного повыше уха в волосах был укреплен цветок. Он смотрел, как она обошла его, пытаясь уловить хотя бы тень от волос на ее лобке, смотрел на поблекшую и замысловатую татуировку на ее подбородке, надеясь отыскать в ней знаки, отличающие шлюх, и тогда последовать за ней в веселый дом, но, пока он раздумывал, она уже прошла мимо, и я почувствовал шевеление в его паху, отличное от потребности помочиться, а скорее похожее на ощущение земли под большим камнем, когда этот камень поднимают.
«Сила и выпивка, — крикнул он ей вслед, — сила и выпивка! — И когда она не ответила, а очертания ягодиц, которые он смог разглядеть сквозь прозрачную ткань пониже спины, также почти исчезли, он принялся смеяться (отчего заболел его зуб) и крикнул: — Умному достаточно слова, а глупому ослу нужна палка, — выражение, позаимствованное у Мененхетета, употреблявшего его, когда он порол гребцов. Дробитель-Костей пользовался им, когда сам стегал кнутом гребцов; теперь его сознание было в вязком мареве этих пьяных мыслей из-за того, что слова «палка» и «слово» звучали одинаково. Раньше он никогда этого не замечал. Меду означало «слово», и меду же означало «палка». Рыгая, он вдруг почувствовал себя прекрасно. Ставить женщине палку — то же, что давать ей слово; да, язык действительно был как ящик, который он однажды видел — с другим ящиком внутри. В этот самый момент он ощутил свой член, а тот знал толк в темных местах. — Все Боги — в дерьме», — крикнул он и упал ничком.
Мимо проходили обнаженные мальчики и маленькие голые девочки. Все дети этого квартала шли мимо — на некоторых не было надето ничего, кроме браслета, свидетельствовавшего о том, что, хотя они и голые, но не совсем нищие; они обходили вокруг Дро-бителя-Костей, голова которого шла кругом. Он лежал на улице, и раздетый мальчик с густым пучком волос, закрывавшим его уши, остановился, внимательно посмотрел на Дробителя-Костей и, тихонько хихикая, попробовал пописать на его ноги. Вышло, однако, всего несколько капель. Дробитель-Костей дернулся, капли, выжатые мальчишкой, скатились на землю, и гребец снова погрузился в видения.
Его миновали нагруженные соломой ослики — он глядел на них с земли одним открытым глазом. Болшерогие буйволы, которых гнали обратно с базара, плотным потоком двигались через площадь и обходили его. Мимо шли рыбаки с корзинами рыбы и пекари с ковригами хлеба. Выпечка, мясо, фрукты, обувь, зерно, сандалии, лук и пшеница; бусы, благовония и масло, мед и циновки для отдыха, бронзовые бритвы, кирки, корзины с кукурузными зернами и связки уток; продавец с кожаными бутылями для вина — все это миновало его на своем пути с базара или на базар. Запахи фиников и специй, меда, миндаля и фисташек доносились из лавки за его спиной; потом на маленькой площади открылась еще одна лавка, и повар с двумя помощниками принялись за ужин. За углом улицы, что вела с этой небольшой площади, виднелась большая площадь, где располагались другие лавки с едой, куда мы заходили с Эясеяб, и я вспомнил запах жареных гусей и соуса, который они делали из подливы на сковородках. Однажды мы с ней провели там часть утра, наблюдая, как режут овощи — ей нравился повар! — а теперь я почти был близок к тому, чтобы помечтать вместе с Дробителем-Костей, охваченным радостными мыслями о том, как бы купить еду, приготовленную в одной из этих лавок, и взять ее домой. Вот это достаток, думал Дробитель-Костей, полностью отдавшись сну посреди улицы; и ему снились дорогой сапожник, предлагавший сандалии с загнутыми носами, и ювелир, делавший серьги и браслеты из африканских слитков. У этого ювелира было одно ожерелье из золота и серебра с ляпис-лазурью из Элама [31]. Дробитель-Костей слыхал, что Элам находится на краю света, а ему хотелось иметь это ожерелье. Лодка его сознания отплыла в Элам через пустыни Востока, а тем временем кузнецы и каменщики закрывали свои лавки, через маленькую площадь шли домой плотники, сапожник, гончар, парикмахер, красильщик, от него несло падалью, которую он отскребал от шкур. Мимо проходили рабы, торговцы и заморские купцы; на красивых носилках мимо него проносили красивых женщин. Двое мальчишек принялись драться за еще дымящийся навозный шар, оставленный на мостовой одной из лошадей, впряженных в колесницу, отвернувшую в последний момент, чтобы не раздавить голову Дробителя-Костей. Мальчики поставили на землю свои корзины, в которые собирали навоз, и стали бороться на мощеной улице, пока один из них не смог удерживать противника одной рукой достаточно долго, чтобы другой хватать лошадиные шары, и Дробитель-Костей дернулся, открыл глаза, увидел драки своего детства и, поднявшись на ноги, побрел, шатаясь и натыкаясь на костры вечернего рынка, мрачно глядя на всех негров и евреев, которые толклись на большой площади, и, по мере того как он продвигался вперед, я отходил прочь и отводил свои мысли от Дробителя-Костей почти таким же образом, как позже, когда я был достаточно взрослым, чтобы любить женщину, я через некоторое время выходил из нее, испытывая удовлетворение от того, что я ушел в ее тело так прекрасно, что под конец не знал, где кончается ее живот и начинается мой — терять себя таким образом — большое удовольствие. Я также вспомнил то ощущение, когда я выходил, да, медленно забирал свой член себе, чтобы вновь пребывать в себе, а не в ком-то другом — и вот теперь точно таким образом я отвел свои мысли от всех чувств Дробителя-Костей и возвратился в эту окрашенную в цвет розы комнату Фараона таким же счастливым, как после того, как я любил женщину. Именно тогда я осознал, что другой дом моего сознания, должно быть, переживал вместе с Фараоном то, что происходило во время приема, которым Он сейчас занимался, ибо я очнулся с ощущением большой внутренней близости к Нему. Чувства Фараона были столь изменчивы и близки ко всему, чему меня учили, что я ощутил себя гораздо ближе к Нему, чем к лодочнику. На самом деле понимая, что Фараон почти что приходится мне отцом, я с еще большим удовольствием присоединился к Нему — словно благополучно завершил прыжок.
И тем большим было разочарование. Ибо теперь я обнаружил, что Его внутренняя сущность оказалась гораздо менее приятной, чем то первое благоговейное изумление, которое я пережил, целуя палец Его ноги. Сейчас Он не чувствовал ничего, кроме спазмов в животе от несварения пищи — просто терпимую боль человека, привыкшего все утро или день не обращать внимания на жалобы своего тела. Это было первое Его чувство, которое передалось мне, и в одно мгновение оно научило меня тому, что значит быть взрослым человеком, у которого есть обязанности. В Его душе было так много горечи, словно внутри Него все имело вкус лимона! Теперь я знал опустошенное лицо Его невысказанных чувств, которое было столь же мрачным, как погода, когда небо становится темным от пыли. Во время таких бурь воздух бывает холодным, а ветер, который, как мы говорим, так же губителен, как само зло (что на самом деле и является его названием: Хамсин — Зло!), упорно дует, проносясь по пустыне, и завывает в узких улицах Мемфиса, оставляя наносы песка перед каждой дверью. Мысли Птахнемхотепа несли страдание, схожее с болью от песка, жалящего кожу, и я сам ощутил страдание (после сладкого и естественного слияния моих мыслей с Его), поняв, что Его обязанности словно мертвец, которого тащишь на спине. В Его сердце не осталось тепла, лишь ожидание момента, когда Он сможет найти отдохновение в вечернем покое. Я ощущал, как, подобно отзвуку уже умолкнувшего эха, который продолжает жить в чьих-то грезах, последняя чувственная красота Его сердца, казалось, испаряется в той торжественности, с которой Он слушал человека, имя которого мои родители произносили так же часто, как и Его собственное — Верховного Жреца Хемуша из Главного Храма Амона в Фивах (который в эти тревожные дни был также и нашим Визирем). И все же, располагая столь обширной властью, этот Хемуш предпочел говорить, обращаясь к сидящему на балконе Фараону с места, отведенного для Советников внизу.
Фараону приходилось заставлять Себя слушать, что Он и делал. Он чувствовал, что присутствующие на Его приеме будут обижены, если Он не проявит к их словам самого заинтересованного внимания. Поэтому Птахнемхотеп слушал каждое слово, произносимое Хемушем. В этом состояла причина Его боли. Я, подобно птице, угнездившейся теперь в уголке Его Двойной Короны, ощущал давление, которое оказывал голос Верховного Жреца на тонкий слух Фараона.
Хемуш обладал голосом, способным выражать учтивость, звук его был медленным и глубоким, как эхо под сводами храма. Ведь лишь такой глубокий и звучный голос мог возносить самые важные молитвы. Во взвешенности голоса Хемуша заключалась сила, способная подавить любое желание, противоречащее его собственному. Более того, взгляд не мог надолго оторваться от сияющей выпуклости его бритого черепа и по той же причине не в силах был избежать торжественной сосредоточенности его больших черных глаз под черными бровями.
Птахнемхотеп сидел, сплетя пальцы рук, покоившихся на красном шелке перил балкона, глядя вниз на Сановников и Жрецов, Советников и Царских Смотрителей, пришедших на прием. Под Ним, соответствующими их положению рядами, располагались десять или двенадцать человек: стоявших коленопреклоненными или уткнувшихся лицами в грязь, как это сделал ранее я. На балконе вокруг Фараона сидели присутствующие на приеме Хатфертити, Мененхетет и Нефхепохем, которые также слушали Хемуша. Он говорил так, словно с каждым произносимым им весомым звуком в чьем-то дворе появлялась новая статуя.
«О, восходящее Солнце, Которое освещает мир Своей красотой, — обратился Хемуш к Птахнемхотепу, — Ты прогоняешь тьму прочь из Египта.
Твои лучи проникают во все земли.
Нет ни одного уголка, где бы не сияла Твоя красота.
Твои слова правят судьбами всех земель.
Ты слышишь все сказанное.
Глаз Твой сверкает ярче любой звезды в небесах».
«Во имя, — думал Птахнемхотеп, прислушиваясь к звукам движения в Своем желудке и кишках, — во имя той реки из пищи и питья, что течет во Мне, отчего Я должен слушать хвалу, впервые вознесенную Фараону Мернептаху более восьмидесяти лет назад?» Однако Он склонил голову к Хемушу, будто эти слова предназначались одному Ему.
Теперь Советники, простертые в пыли, встали на колени, а те, кто стоял, опустились на колени. Лишь Хемуш остался стоять. Он говорил, а другие вторили ему.
«Ты — подобие Ра, — громко прокричали они. —
Каждое слово, исходящее из Твоих уст, подобно словам Хора при восходе солнца и словам Хора на закате.
Твои губы взвешивают слова точнее совершеннейших весов Маат.
Кто сравнится с Тобой совершенством?»
Я чувствовал, как в Птахнемхотепе поднимается удовлетворение, сладкое, как сам мед, однако затем, словно вкус этот был слишком уж приятным, Он подумал: «Я откликаюсь на слова, составленные для другого Царя. Я не сильнее Тет-тут, который перекатывается на спину, лишь его начинают хвалить». Едва заметно Он холодно улыбнулся присутствующим. Его голова ощущала тяжесть Двойной Короны.
«Ни один памятник не строится, — вторили Советники, — без Твоего согласия. Ты — глава всему.
Если Ты повелишь Небесным Водам: Низвергнитесь на гору, — Воды потекут по Твоему слову.
Ибо Ты есть Ра.
Ты — великий жук Хепер.
Язык Твой — святилище истины,
Бог восседает на Твоих устах.
Ты вечен».
Хемуш преклонил колени, затем коснулся лбом земли. То же сделали и остальные Советники. Моим родителям и Мененхете-ту, поскольку они сидели в царских креслах, нужно было лишь склонить головы.
Я мог чувствовать силу, что поднималась в теле Птахнемхотепа во время торжественного чтения этих последних слов, которую Он черпал из преданности тех, кто находился внизу. Однако я ощутил также и горечь на Его языке.
«Последние из произнесенных тобой восхвалений, — сказал Он Хемушу, — содержательны и мудры, и даже могут быть сочтены уместными, поскольку высечены на камне, установленном Моим предком, Могучим-быком-Возлюбленным-Истиной, Великим Рамсесом Вторым. Он приказал выбить эти слова на столбе у дороги, что ведет к копям Этбая».
Хемуш ответил: «Глаза Твои читают все надписи, О Великий-Возлюбленный-Истиной».
«В прошлом году в это же время ты обратился ко Мне с этими же текстами, написанными для Мернептаха и Рамсеса Второго. Тогда Я похвалил тебя за твой выбор».
Хемуш ответил: «Твои предки — Великие Боги, и Ты, Великие-Два-Дома, будешь восседать на месте, достойном в своей вознесенности восхвалений, предназначавшихся Твоим великим предкам».
Птахнемхотеп приложил кончик Своего указательного пальца к Своему длинному и утонченному носу, и я почувствовал Его прерывистое дыхание. «Подносить Мне слова, написанные для великих предков, — значит лишь удостаивать Меня чести и силы, — сказал Он, — в том случае, если подарок окажется соразмерен коробке». Со Своего балкона Он взирал на Хемуша, однако темные глаза Верховного Жреца под черными бровями не мигая выдержали Его взгляд; несомненно в ответ он пристально смотрел на Фараона.
«На протяжении многих лет, — произнес Хемуш, — я размышлял над языком молитв, однако я не знаю, понимает ли мое сердце равновесие Твоих слов, о, Великие-Два-Дома».
«Кажется, мы обратились к имени Маат, — ответил Птахнемхотеп. — Соответствует ли Ее равновесию то, что похвалы храбрецу возлагаются на голову человека благоразумного? Мой предок Рамсес Второй, возможно, не был бы счастлив узнать, что великолепие Его подвигов уподобляется взвешенности Моих суждений. Хемуш, сегодня День Свиньи».
«Мне это известно, Великий Повелитель».
«Если мы не выскажем правды друг другу в День Свиньи, мы не придем к справедливым решениям в остальные дни».
В сердце Фараона прозвучала речь. Слова, бойкие, как воины на параде, прошли через Его грудь, но ни одно из них не было произнесено вслух. Лишь я мог слышать Его мысли. «Другие Цари возглавляли Свои войска в десятилетнем возрасте, но когда Мне было столько же, Хемуш, ты вел Меня в танце, который мы исполняли обнаженными и в конце которого мы упали в объятия друг друга, обливаясь потом, и боролись до тех пор, пока не помню уже, сколько твоего тела не побывало у Меня под носом. Рамсес Второй приручил льва и выиграл Битву при Кадеше, а Египет был прославлен от Сирии до Пунта [32] — Мне же еще предстоит вести войско в бой. Пока что Я лишь выслушиваю полководцев, которые проигрывают Мои сражения. Когда Рамсесу Второму было пятьдесят, в Мемфисе или Фивах не осталось ни одной красавицы, которая не познала бы на своих губах Его пыл, у Меня же есть гарем, который Я не навещаю, однако оттуда доносится смех. Половина колесничих не смеют взглянуть Мне в глаза. Сегодня День Свиньи, самый ценный обычай которого — говорить правду. Поэтому Я хотел бы просить тебя, Хемуш, не подтрунивать надо Мной, вспоминая о подвигах Великого Рамсеса, которого уже нет с живыми девяносто лет, но давай поговорим о Моих истинных достоинствах, которыми являются взвешенность суждений, ум и сила духа, позволяющая спокойно принимать худшие из дурных известий. Давай спросим, ценны ли они для Фараона?»
Страсти, кипевшие в Его сердце, пришлось, однако, стегать снова и снова, пока они не пришли в полное повиновение. Вслух же Он сказал Хемушу: «Позволь мне принять твои добрые пожелания в той форме, как они выражены в великой хвале поэтов моим предшественникам — Рамсесу Второму и Мернептаху. Будем считать, что ты сделал хороший выбор. Он доставил Мне удовольствие. Мне бы также хотелось сообщить тебе, что здесь присутствует, дабы праздновать со Мной День Свиньи, Великий Полководец Мененхетет, бывший в свое время предводителем Войск Амона, Ра, Птаха и Сета, и, — сказал Птахнемхотеп, ласково улыбнувшись Хемушу, — он последний из переживших Битву при Кадеше, а посему, как должно предположить, очень мудрый человек, прекрасно знающий Египет».
«Насколько мне известно, — заметил Мененхетет с легкой улыбкой, глядя на присутствующих властным взглядом мужественного шестидесятилетнего человека, — я единственный свидетель, чьи глаза все еще помнят эту битву».
Теперь снова стало заметно, как Советники принялись перешептываться. Битва при Кадете, самая величайшая из всех битв, на самом деле произошла сто пятьдесят лет назад, в начале правления Рамсеса Второго, и этот Фараон носил Свою Двойную Корону на протяжении шестидесяти пяти лет, до Мернептаха, за которым последовали Аменмесес, Сиптах, Сети Второй и, на несколько лет, Сирийский узурпатор; мне передавались мысли Птахнемхотепа, который развлекался, наблюдая, как Его Советники подсчитывают: да, были Сетнахт, Рамсес Третий, Рамсес Четвертый, Рамсес Пятый, Рамсес Шестой, Рамсес Седьмой, Рамсес Восьмой и Сам Птахнемхотеп, наш Рамсес Девятый, всего тринадцать Фараонов за те сто пятьдесят лет, что прошли со времени Битвы при Кадете.
Советники подняли свои лбы и приветствовали Мененхетета. «Хорошо, — сказал Себе Птахнемхотеп, — теперь они раздумывают, сделаю ли Я его своим Визирем вместо Хемуша».
Он едва успел закончить эту мысль, как меня вернули ко мне самому на мое ложе в окрашенной в цвет розы комнате. Хатфертити гладила меня по щеке. «Пойдем, — сказала она, — пора возвращаться во внутренний дворик. — Она улыбнулась. — Я хочу, чтобы ты увидел тот благоговейный страх, с которым они смотрят на твоего прадеда».
«Я не знал, — сказал я из тенет того сна, что был как целая жизнь, нет, две жизни или, может, три, если считать и мою? — я не знал, что Мененхетет родился сто восемьдесят лет назад».
Чтобы убедиться, что она не ослышалась, Хатфертити посмотрела на меня. Затем она с почтением коснулась моего лба. «Пойдем, — сказала она, когда вновь овладела своим голосом. — Думаю, пришло время сказать тебе еще немного правды. Видишь ли, возможно, твой прадед рождался четыре раза».
ШЕСТЬ
Когда я не нашелся, что на это ответить, она мягко улыбнулась. «Не бойся, — сказала она, — твоя мудрость та же, что у пятнадцатилетнего мальчика, а иногда ты понимаешь такое, что не способен постичь взрослый, но все это наводит меня на мысль, что ты наделен этими силами оттого, что был зачат во время великого события. —
Она замолчала, словно звуки таких слов могли потревожить спокойствие воздуха, а затем добавила: — Скажем, почти великого события».
«Почти?» — спросил я.
«Поскольку оно не совсем произошло».
Говоря это, она нарисовала кончиками пальцев круг у меня на лбу, и я увидел, как в сердцевине ее мыслей появилось лицо Мененхетета, черты которого были искажены так, что походили на тряпку, из которой выжата последняя капля влаги — облик моего прадеда был устрашающим, но я знал, что она имеет в виду. В день моего зачатия Мененхетет был близок к смерти.
Однако она заговорила о другом. «Мне было известно, — сказала она, — что иногда ты проникаешь в сознание тех, кто находится с тобой, но я не знала, что ты можешь слышать голоса из другого покоя».
«Я не мог до этого часа», — сказал я.
«После того, как я оставила тебя здесь?»
«Да, — сказал я, — мне кажется, это из-за комнаты. Потому что… — я сам не понял, почему добавил: — Из-за того, что эта комната такая чудесная», — но затем я стал понимать, что имел в виду под этими словами; собственно, я начал осознавать, что могу осмыслить то, что узнаю, только в тот момент, когда мой голос произнесет слова вслух. Ибо тогда я мог чувствовать изменение, которое произвел мой голос в пространстве предо мною, и таким образом и судить об истинности или ошибочности того, что только что было сказано. Итак, я узнал, что красота этой комнаты сообщала ей свойства, сходные с прекрасным натянутым луком, отчего мои мысли и отлетели столь далеко.
«Да, вероятно, пришло время, — сказала моя мать, — поведать тебе тайны, которые я хотела сохранить до тех пор, пока ты не станешь старше. Однако если ты можешь слышать других на таком расстоянии, как я могу надеяться спрятать свои мысли? Я не в состоянии это сделать».
«Ты можешь, — сказал я. — Иногда ты предпочитаешь поступать именно так».
«И мне это дорого стоит, — пробормотала моя мать и поднесла кончики пальцев к глазам столь очаровательным жестом, что мы оба рассмеялись, так как знали о возникшем перед ней образе морщин, которые появятся в уголках ее глаз, если она постарается выжать из моего сознания свои мысли. — Ах ты прелесть!» — прошептала она и поцеловала меня — осторожно, чтобы не стереть с губ краску. Ее рот был сладок и ароматен, как горячий воздух, в котором слышится сонное жужжание пчел; возможно, я слишком быстро пробудился от моего странного сна, но прикосновение ее губ погрузило меня в томительное оцепенение. Затем я ощутил виток, некий шелковый и сладостный поворот под моим пупком, и я уже жил в памяти моей матери о том дне и ночи, когда Мененхетет, а затем мой отец любили ее. Да, оба мужчины, именно в этой комнате, один — на протяжении всей второй половины дня (несмотря на то что стены были окрашены в красный цвет вечера), а другой — в тех же стенах приглушенных красных тонов позже, при свете свечи, и, хотя полные губы Эясеяб на Сладком Пальчике оставили много намеков на грядущие часы чувственных наслаждений, все же, как бы я мог представить то, что происходило в роскошной постели Хатфертити, если бы меня не воспламенил сладкий поцелуй медового рта моей матери? Так я узнал, что день моего зачатия был, должно быть, одним из самых замечательных в ее жизни. Затем, словно то томление, в которое она погрузила меня, уменьшило ее способность защищать собственные мысли, я узнал также, что в день моего зачатия, в конце того дня, Мененхетет любил мою мать способом, который использовал ранее всего три раза. Моя мать сразу же постаралась изгнать эти картины из своего сознания так же быстро, как они возникли, но я уловил смысл этого мимолетного образа, зримого для меня столь же ясно, как белизна стебля у корня травы, выдернутой из земли, да, столь же близко знакомого моему уху, как свистящий звук, издаваемый стеблем, безвозвратно покидающим свою жизнь в земле, первый блик света на белом корне, словно удар ножа в бок — так же мгновенна боль травы, так и я проник в самый сокровенный секрет моего семейства. Ибо сознание моей матери раскрыло его без единого слова, хотя, конечно, ее губы дрожали, когда эти признания изливались из ее сознания. Я узнал — в одно мгновение! — что мой прадед обладал способностью избегать смерти способом, возможно, недоступным никому другому. Потому что во время объятий он умел перенести свое сердце через последний гребень и, умирая, вдохнуть свою последнюю мысль во чрево женщины, начав таким образом новую жизнь, действительное продолжение себя; его тело умирало, но не память о его жизни. Вскоре после рождения он начинал проявлять поразительные способности. Поэтому я понял, отчего моя мать более не могла скрывать от меня это знание. Я тоже обнаружил эти способности!
Какое смятение произвела во мне эта исповедь! Я чувствовал себя так, будто на молнии ужаса одним махом перепрыгнул через всю протяженность одной жизни — в другую. Какой водоворот замешательства! Когда Хатфертити, посредством этих скованных доселе образов, стала открывать, как любил ее в тот час Мененхетет, пена и беспорядок ее сознания устремились, подобно бурному прибою, в мое сознание, и мысли мои не знали, как оставаться на плаву посреди этого ревущего в ней водоворота. Да и что я мог знать о том, как любят!
Разумеется, я попал в водоворот двух смятений — одно охватило меня самого, а второе — переживала моя мать, она колебалась, говорить ли мне еще больше; я же пытался осмыслить то, что мне только что сказали. Ибо если Мененхетет мог умереть, но при этом стать собой еще раз, то, размышлял я, значит ли это, что я — если так можно сказать — его, Мененхетета Первого, пятое явление? Или я должен был стать Мененхететом Вторым, его настоящим сыном, а не продолжением его самого? И должна ли в обоих случаях перейти ко мне его способность стать отцом самому себе?
В моем сердце открылась беспредельность: мне было дано взглянуть на скрытые во мне притязания более яростные, нежели языки пламени горящего масла. И тогда я понял горе, от которого я заплакал, когда заглянул в глаза собаки. Ибо Тет-тут, должно быть, увидел меня умершим в двадцать один год. Затем я подумал о своем несчастном Ка у стены, в центре Великой Пирамиды — той самой Пирамиды, которую сейчас я мог видеть нарисованной на розовой стене этой комнаты! — кто тот молодой человек, стоящий там на коленях, чей рот открыт силе чужой воли? В сумятице этих мыслей я посмотрел на свою мать. Почему Мененхетет не вошел в свою смерть в тот момент, когда был готов к этому?
Я почувствовал, как в ее сознании открываются двери. Вновь я увидел в центре потока образов искаженное мукой лицо Мененхетета, и меня протащило сквозь мельничные жернова ее мыслей, появившихся в тот момент, когда она ощутила смерть, заполняющую его сердце. Она была готова поймать его ребенка с ликованием столь же неистовым, как сам рокот бытия, преисполненного сиянием видения его смерти, переходящей в жизнь, которую она выносила бы для него, своего великого любовника Мененхетета, которому вскоре суждено стать ее ребенком. Однако в тот момент он не извергся в нее, а вместо этого полумертвый пролежал на ее теле много долгих минут.
Когда позже он выходил из нее, то сказал с улыбкой: «Не знаю, отчего я передумал. — Он даже приложил палец к ее подбородку и пробормотал: — В другой раз». И покинул тело своей внучки, покинул то место, куда он был готов послать свою смерть, и, размышляя об этом, я едва ли мог узнать, насколько я был схож с ним. Я знал только, что я кровно связан со своим прадедом сотнями нитей, которые не мог назвать, прежде всего своими способностями, и тут я вспомнил, как моя мать сказала: «Нефхепохем твой отец и в то же время он тебе не отец». Итак, у меня был намек на тяжкие труды ее тела в тот долгий день, когда я был зачат. Ибо она, очевидно, была настолько уверена в том, что ребенок будет у нее от Мененхетета, что то, чем она сама могла этому способствовать, уже плавало в ее крови. Однако это, должно быть, мой отец заронил в нее семя в тот вечер. Предо мной возникло видение ночи, исполненной лихорадочных желаний, когда мои мать и отец перемещались с кровати на пол и обратно на кровать, в то время как тело моего отца наносило звучные удары по ее коже с такой яростью и такой дикой страстью — так он ненавидел ее и так боготворил, — что вся она пылала похотью, исходившей прямо из всего плавящегося пренебрежения к нему. Отсутствие у моего отца всех качеств, которыми должен обладать храбрый и благородный человек, лишь разжигало ее страсть к нему из-за его потаенных запахов. Для нее он в лучшем случае был чем-то между собакой и конем — всегда под рукой, чтобы развлечься и отправить обратно в его стойло, — как, собственно, она и поступала с ним с тех пор, как ему исполнилось шесть лет, а ей — восемь; использовала его таким, каким он и был — младшим братом. Она едва могла переносить его самомнение, его тщеславие, его слабости, его немногочисленные звериные достоинства. Однако когда брат находился в комнате, волосы между ее ног шевелились. Я узнавал о своих матери и отце больше, чем она хотела бы, чтобы я когда-либо узнал, — я почувствовал это теперь по тому, как Хатфертити пыталась закрыть свое сознание от моего. Но я принуждал ее, словно для меня это был единственный способ соблазнить ее, обнажить каждую ее мысль. И так я проник еще в одну тайну, которую она, видимо, не хотела, чтобы я обнаружил, и по спазму в моей груди — да, с замиранием и тошнотой от понимания этого — мог сказать, что то, что я вот-вот должен узнать, прежде всего ужасно, а еще — я ревную. Хоть это и случилось со мной впервые, тем не менее я ревновал. Ибо я понял, что мой отец был так неотразимо привлекателен для моей матери из-за своего отца — Собирателя-Дерьма. Теперь я понял, точно вырезал это на камне моего сердца, что моя мать выросла в тени страстного желания своей матери обладать Фетхфути — этого неукротимого желания! — и хотя мне не был знаком облик Фетхфути, все-таки мое воображение настаивало на том, что им бьи один из тех мальчишек, которых я встретил во сне в этот день, когда жил в глазах Дробителя-Костей, — и я вновь увидел тех ребят на дороге, дерущихся за шары навоза. Таким же образом я мог наблюдать за Фетхфути, сражающимся с другими мальчишками за каждый кусок навоза, который ему удавалось отыскать в городе, до тех пор, пока он не смог взойти на кучу дерьма, как на трон, и командовать в своих веселых домах шлюхами, слонявшимися перед ним в своих прозрачных одеждах и длинных синих париках — не знаю, были ли это мои мысли или мысли моей матери, но я бы наверняка испытал отвращение, если бы в то же время не чувствовал близость какого-то давнего трепета, как будто мне снова было два года, и я все еще учился, как не мараться своими испражнениями (притом что соблазн был велик).
Принесло ли эту боль обнаруженное мной страстное влечение моей матери к Фетхфути? В тот миг я ясно осознал, что утратил связь с ней. Сознание Хатфертити закрылось.
Затем она взяла меня за руку. «Пора вернуться к Фараону», — сказала она, и очень быстро, словно мы только что зашли в эту окрашенную в тона розы комнату, чтобы лишь взглянуть на нее, мы вышли и пересекли двор тем же путем, которым она пронесла меня час или два назад, плачущего и повисшего на ее плече вверх ногами.
СЕМЬ
Тому, о чем я только что узнал, суждено было произвести на меня неизгладимое впечатление, однако это открытие было настолько странным, что я вполне мог подумать, что просто пробудился ото сна. Возможно, поэтому мое замешательство стало проясняться, когда мы вернулись на балкон к Фараону. Там все очень мало отличалось от того, что происходило до моего ухода. Так как теперь Мененхетет сидел с другой стороны от Птахнемхотепа, то и мое представление о том, где я думал его увидеть, также изменилось. Я не заметил там ничего неожиданного.
Внизу, на дворе, Советник говорил о работе в каменоломнях. По выражению лица моего отца я смог понять, что эти дела не относятся к особо важным. Я часто слышал, как моя мать говорила, что у моего отца никогда нет ни одной собственной мысли, поэтому его лицо может выражать мысли любого другого человека. Я знал, что не понимаю, что она имеет в виду, до того дня, когда она сказала ему, что внешние формы его поведения превосходны, потому что ему никогда не мешали те привычки, с которыми он родился, вместо этого он подражал лучшим образцам поведения, которые видел. Это было правдивым описанием моего отца. Движение запястья какого-то вельможи быстро становилось — в том случае, если отец считал его подобающим вельможе, — его собственным поворотом запястья. Так он повторял легкое прикосновение Птахнемхотепа к крылу Своего носа, когда Тот размышлял, какое бы тонкое замечание сделать, и более того, отец мог даже подражать насмешке, с которой мой прадед наклонял голову, когда хотел показать, что не согласен с тем, что услышал.
Я не хочу сказать, что мой отец вел себя глупо. Сегодня он, без сомнения, чувствовал себя неловко, стараясь услужить Фараону в присутствии моей матери, однако в обстоятельствах более спокойных тем, кто не очень хорошо его знал, он мог показаться знатным вельможей. На его белых полотняных одеждах не было и пятнышка, а уголь, которым он подводил глаза, редко стирался. Его драгоценные украшения были без изъяна. Поскольку камни и бусины постоянно выпадали, когда ослабевали удерживающие их зажимы, даже моя мать не могла предстать в таком безупречном виде, как мой отец.
При Дворе его умение вести себя — точнее, его прекрасный набор принятых форм поведения — исправно служило ему. Поскольку в моей семье много говорили об этом, я знал, что Фараону необходимо иметь при себе человека, который мог бы дать ясно понять — всего лишь переменой выражения своего лица, — подходящим ли языком предлагалось Его вниманию некое дело. Какая досада появлялась на лице отца, если несчастный чиновник, докладывавший с площадки внизу, хрипел из-за раздражения в горле, заикался или не мог удержаться от повторения приводимых им фактов. Поэтому нетрудно было понять, что отец был очень удобен Птахнемхотепу. Разумеется, выражения отцовского лица настойчиво напоминали мне об изысканной чувствительности Фараона — да и как могло быть иначе, если лицо моего отца выражало боль при каждом неподобающем звуке и таким образом заставляло меня ощущать, насколько чуткими были уши Фараона. Любой внезапный сбой настроения заставлял Его внутренне сжиматься, словно при виде бессмысленного разрушения стен красивого здания. Теперь я знал, отчего Он продолжал слушать Хемуша, несмотря на то что все сказанное было отвратительно Ему. Торжественный голос Хемуша, возможно, оказывал на сознание Фараона столь же гнетущее воздействие, как если бы Его ноздри медленно залепляли глиной, однако Хемуш ни разу не изменил его ровного звучания, поэтому независимо от того, насколько болезненным было содержание сказанного, его голос не мог раздражать ухо Фараона.
Однако совсем по-другому обстояло дело с тем человеком, который говорил сейчас. По одобрительному выражению глаз отца я мог видеть, что Птахнемхотеп не без симпатии относится к этому чиновнику или вверенному ему делу. То, что Фараон в этом случае был также уверен в Своей способности дать добрый совет, можно было сказать по легкому, но одновременно высокомерному прикосновению пальца моего отца к своему носу. Его искусство состояло в том, чтобы замечать любое изменение в настроении Фараона и отражать его для Двора. Поэтому он так же быстро отзывался на каждую прихоть Птахнемхотепа, как я на готовность моей матери впустить меня в свои мысли; напряженный изгиб брови моего отца подсказал мне, что чиновник внизу, пусть и в скромных пределах ценимый Птахнемхотепом, хотя и не задевал чувств Фараона, в то же время обладал голосом, тревожившим Его уши.
С другой стороны, лицо моего отца было исполнено терпения, что помогло мне понять многое в Фараоне. В голосе говорившего звучали голоса поколений тех, кто работал в каменоломнях — людей с неизменно мощными спинами и ногами. Его голосовые связки свидетельствовали о том, что их хозяин — человек рассудительный и знающий, что говорит. Поэтому в главном его речь была приятна и имела вкус хлеба, супа и силы семейной плоти. При этом она, разумеется, звучала как камни, гремящие друг о друга. В результате его мозги работали вяло — мысли не приходили в его голову быстро. Его язык, подобно сломанной и изуродованной ноге, никогда не знал, когда он споткнется; его уму постоянно не хватало дыхания, иногда он вдруг сбивался с шага и отказывался двигаться. Для уха Фараона эти заминки были столь же неприятны, как стук палки, разбивающей кувшин.
Отчасти затруднение состояло в том, что человек из каменоломен не умел читать. Поэтому он выучил на память имена людей в группах рабочих, число их увечий, суммы их заработка, цифры отчетов об их питании — он все точно запомнил, но докладывал медленно. Кроме того, это устное перечисление едва ли требовалось. Рядом с ним стоял писец со свитком папируса и кивал, подтверждая каждую цифру, которую называл управляющий каменоломнями.
Я подумал: отчего писец сам не зачитает то, что было записано на папирусе, но, судя по тому вниманию, которое Птахнемхотеп оказывал управляющему, было очевидно, что его осанка и способность запомнить все расчеты многое говорят о его честности.
Сознание моей матери, когда я попытался вновь проникнуть в него, оказалось закрыто для меня или, лучше сказать, закрыто для всего того, что я захотел бы спросить. Обладая даром — равным моему? — знать то, что содержалось в моих мыслях, она предпочла все свое внимание сосредоточить на бедняге-чиновнике из каменоломен. Поэтому, когда я перенесся в ее мысли, мне не предложили ничего лучше достоверного рассказа о трудностях добычи камня. Она слушала цифры, которые докладывал управляющий, и пыталась понять, чем занимаются его люди. И все же к тому времени, когда все это перешло из ее головы в мою, у меня поджались все пальцы на ногах. Тем не менее с помощью этого способа обучения, в обход прямого пути, я стал понимать, отчего Фараон слушает так внимательно, и, приложив большое усилие, которое того стоило, я превозмог свою скуку и пришел к выводу, что этого грубого чиновника, Рутсеха, уважают точно так же, как уважали его отца и его деда. Все они были Смотрителями огромных каменоломен к востоку от Мемфиса, где вскоре после Восхождения Рамсеса Девятого на Трон начали строить дорогу через пустыню, к великому морю, называемому Красным, к Красному морю. Поскольку теперь шел Седьмой Год Правления, я решил, что дороге столько же лет, сколько и мне — по крайней мере, если сосчитать и те месяцы, что я прожил внутри своей матери. Таким образом, это подхлестнуло мой интерес. Теперь я начал понимать, что трудности строительства этой дороги заслуживают моего внимания. Птахнемхотеп хотел, чтобы на всем своем протяжении она оставалась Царской, то есть достаточно широкой, чтобы на ней могли разминуться две Царские колесницы, что означало ширину в восемь лошадиных корпусов. Хотя подобная ширина никак не могла считаться большой для Мемфиса, где главная улица, носившая имя Рамсеса Второго, от рыночной площади до Храма Птаха, была шириной в двадцать лошадей, и все же и при этой сравнительно небольшой ширине строительство Дороги Рамсеса Девятого могло столкнуться с трудностями, поскольку она шла через горы. Из-за крутых откосов огромные камни, которые можно было бы использовать для памятников, падали в ущелья внизу.
В одном месте, сказал Резчик-Камней, они потеряли неделю, пытаясь поднять огромный камень на высоту, достаточную, чтобы подложить под него салазки. Резчик-Камней признался, что подложенные наконец салазки были раздавлены его весом, наклонились, и камень скатился к ущелью. После долгих раздумий они решили столкнуть его вниз. Ни один звук, прибавил он, не был так исполнен громами Богов, как эхо от падения этого камня.
«Это была великая потеря, мой Фараон, — заключил Рутсех, — однако я не мог найти другого выхода. Сто восемнадцать человек работали именно в этом месте в течение семи дней и не могли продолжать работы, не убрав тот камень. Во время этой задержки было израсходовано десять мешков зерна, два больших сосуда с маслом, три сосуда с медом, двадцать два маленьких мешка с луком, пятьсот сорок один ломоть хлеба, четыре сосуда с вином из Буто…» Когда он произносил каждую цифру, его лоб покрывался морщинами, как будто каждый мешок он обнюхивал, определяя, не проникла ли в него гниль, взвешивал и проверял качество его содержимого. Мой отец кивнул, показывая, что Птахнемхотеп уважает честность Резчика-Камней в признании подобных ошибок.
«Тебе делает честь то, — сказал затем Фараон, — что ты докладываешь о недостатках в решении стоящих перед тобой задач с той же готовностью, с какой ты говоришь об удачах. Достоинства твоего характера столь же безупречны в Моих глазах, как благороден аромат сосен в самом дорогом Моему сердцу саду».
«Теперь Он… — мысль перешла ко мне из сознания моей матери, как будто она сказала это вслух, — теперь Он наверняка начнет хвастаться своими заморскими соснами».
«В первый год Моего Правления, — сказал Птахнемхотеп, — Я приказал, чтобы двадцать одна молодая сосенка была привезена из-за моря, с гор Сирии, и посажена в том особом для Меня саду. В нем сейчас пребывают, все еще живые, четырнадцать из них, хотя и говорили, что все они погибнут за одно время года. Это деревья гор и холодного воздуха, однако они, как и ты, Рутсех, обладают духом честного достоинства, который говорит о ясных утренниках и тяжелой работе, да, Я позволю тебе ощутить аромат их добродетели, когда дорога будет готова».
«Для меня это большая честь», — сказал Резчик-Камней, глядя себе под ноги. Казалось, он не на шутку смущен тем, что прервали его чтение по памяти. В его мозгу факты, которые он запомнил, должны были выходить вперед один за другим, как быки, каждый нагруженный взвешенной поклажей и погоняемый кнутом достаточно часто, чтобы он не мог остановиться.
«Да, — сказал Птахнемхотеп, — достойно признавать свои ошибки. С другими чиновниками, — Он окинул взглядом двор, — Я должен до всего доходить Сам. Послушаешь их доклады — так все в порядке, и впредь ничего плохого никогда не случится. На самом же деле порядка нет ни в чем. Да», — сказал Птахнемхотеп.
Резчик-Камней снова поклонился.
«Тем не менее, — сказал наш Фараон, — строительство дороги продвигается медленно, увечья многочисленны, а потери в рабочей силе удручающи».
«Да, мой Повелитель, многие из моих людей ослепли».
«Происходит ли это от пыли или от осколков камней?»
«Второе, Великие-Два-Дома».
«Помнится, когда ты отчитывался передо Мной в предыдущий раз, в месяц Фармути, мы говорили о способе добычи камней. Тогда Я велел тебе для изготовления угля использовать кедровые щепки».
«Я повиновался Тебе, мой Повелитель».
Не знаю — смог ли бы я понять, о чем идет речь, но, пребывая в мыслях моей матери, я увидел массивную каменную плиту, в которой был выдолблен узкий желоб, а в нем уложены раскаленные угли. Когда плита вбирала в себя жар углей, на нее лили воду. Я слышал шипение пара и видел, как смывается мокрый пепел. В углублении оставалось великое множество трещин, таких же многочисленных, как трещины в глине, что остаются после разлива, когда солнце печет землю. Я увидел, как люди долбят эти трещины медными долотами и деревянными молотками. После того как они заканчивали эту работу, канал шириной в руку человека углублялся на толщину пальца. Это было около половины утренней работы на двоих. Они продолжали заниматься этим до тех пор, пока скала не раскалывалась, для чего иногда приходилось углубляться на несколько локтей.
Меня уже научили производить вычисления с помощью этих локтей, и я знал, что размер впервые был взят по расстоянию от кончика среднего пальца Рамсеса Второго до Его локтя. Я постоянно твердил всем, что мой рост более двух локтей — два локтя, одна ладонь и два пальца; немало для ребенка моего возраста, ведь правда? — и занимался этим, покуда мать не велела мне прекратить. «Два локтя, — сказала она, — ничто по сравнению с мужчиной в четыре локтя». Ей даже приходилось видеть великанов ростом в пять локтей. После ее слов меня эта мера длины уже не занимала. Однако теперь этот разговор между Фараоном и Резчиком-Камней напомнил моей матери о происхождении «локтя», и она стала думать о великом Фараоне, высоком и прекрасном, гораздо более похожем на Бога, чем Птахнемхотеп. Я знал, что Им мог быть только Рамсес Второй, и никто иной, но моя мать видела Его живым, словно Он стоял перед нами, с простертой рукой, и жрецы возносили молитвы, пока Царский Писец делал замеры Царской Бечевкой. Видение было подношением моей матери мне, она показывала, как впервые был измерен локоть, однако она была настолько полна удовольствия — предзакатное солнце, освещавшее балкон, сияло теперь на ее бедрах, — что она сама отмеряла локоть и сама держала Царскую Бечевку. И вот могучий член Рамсеса Второго оказался равным половине длины, но поскольку она видела Его равным Самому Себе напротив зеркала, то два члена, конец к концу, являли собой совершенную Царскую единицу измерения, если считать от основания одних чресел — по всей длине — до основания их отражения. Затем моя мать оставила размышления о «локтях». Она только что обнаружила, что мое сознание вновь присутствует в ее мыслях. Я же в свою очередь понял, отчего она никогда не могла производить простейшие действия с числами. Она не была уверена, радоваться ли ей нашей близости или приходить в ужас от скорости, с которой я обучался, но она улыбнулась мне очень нежно (обманчивая улыбка) и вновь открыла для меня свое сознание так же легко, как могла бы открыть мне свои объятия, и я бросился прямо в расставленную ею для развлечения ловушку, так как теперь она сочла своим материнским долгом показать мне грустные мысли. И мне пришлось созерцать всех несчастных каменотесов, которые слепли от пыли, вылетавшей от ударов камней друг о друга при обработке поверхности вынимаемого большого камня. Я увидел некоторых с покрасневшими глазами и других с кровью, сочащейся из открытых ран над бровями, один приплясывал от боли — осколок камня торчал у него из глаза, — я наблюдал жуткую вереницу образов до тех пор, покуда не понял, что мать собрала их для меня, и я увидел череду увечий в каменоломне за целый год.
Теперь моя мать, словно во искупление своих непристойных мыслей о длине «локтя» Рамсеса Второго, вновь принялась слушать Птахнемхотепа. Он хотел сравнить время, которое потребуется, чтобы проделать в камне канал, когда для углей используются кедровые щепки, со временем работы со щепками из финиковой пальмы, смоковницы, тамариска и акации. Поэтому он подробно расспрашивал Рутсеха.
Рутсех заверил Фараона, что поставил троих из своих лучших людей на резку с использованием кедровых щепок. И все же для того, чтобы они вырезали камень на два локтя в длину и четыре в глубину, приходилось работать четырнадцать дней. Это было всего на один день меньше, чем вырезать тот же кусок с использованием щепок из смоковницы, уголь из которой уже был признан лучшим, чем из акации, финиковой пальмы или тамариска.
«Если твои лучшие люди, — сказал Птахнемхотеп, — лишь на один день опережают остальных, то угли из кедра вряд ли годятся более, чем угли из смоковницы».
Рутсех коснулся земли лбом.
«Однако в твоих первых отчетах говорилось, — сказал Птахнемхотеп, — что трещины от жара кедровых углей на полпальца глубже, чем от самых горячих углей смоковницы».
«Это и сейчас так, Великие-Два-Дома».
«Тогда отчего работа не идет быстрее?»
Словно доверительность обсуждения этих дел позволила забыть, с кем он говорит, Резчик пожал плечами. Это был жест одного рабочего, разговаривающего с другим — лишь мгновенный изъян в том бескрайнем уважении, которое он выказывал Фараону, однако, судя по силе отвращения на лице моего отца, Каменотес мог с таким же успехом позволить некоему нескромному звуку с треском вырваться из своих ягодиц.
Вероятно, Надсмотрщик правильно понял выражение отцовского лица, так как он быстро коснулся лбом земли и с грустью сказал: «Мой Фараон, я думал, что работа пойдет быстрее».
Затем воцарилось молчание. Губы Птахнемхотепа сжались, но Он не сказал ни слова. В наступившем молчании я почувствовал запах кедровых щепок и понял, что нахожусь в мыслях Резчика-Камней — не знаю, через свою мать или самостоятельно, но я был в его мыслях, хотя их у него почти не было; скорее, можно сказать, что он переходил от запаха к запаху, когда не пережевывал те цифры, что собирался представить Фараону. Тогда его голова напоминала шадуф, который одним сильным движением поднимает ведро воды, выливает его и повторяет действие. Теперь, когда память о дыме все еще пребывала в его ноздрях, он сказал: «Великие-Два-Дома, с кедром дело шло быстрее, но люди допускали больше ошибок. — Резчик-Камней вздохнул. — Работая с кедром, они получали больше увечий. Люди говорили, что он проклят».
«И что ты на это отвечал?»
«Я сек их кнутом».
«Сейчас ты здесь, передо Мной. Ты можешь говорить правду. Твой Фараон слеп и глух, если никто не говорит Ему правду». «Я выскажу ее, Великие Два Дома».
«Говори. Даже лгуны поступают хорошо, говоря правду в День Свиньи».
«Великие-Два-Дома, я сек своих людей с таким усердием, что стал бояться болей в своем сердце».
«Отчего ты чувствовал такое смущение?»
«Оттого, мой Фараон, что я не мог не согласиться со своими людьми. Запах у этого дыма был странный».
Птахнемхотеп кивнул: «Кедр происходит с берегов у Библа, где на таком дереве упокоился гроб Осириса».
«Да, мой Повелитель», — сказал Резчик-Камней.
«Если кедр однажды был пристанищем Великого Бога Осириса, щепки этого дерева никак не могут быть прокляты».
«Да, мой Повелитель, — Резчик-Камней замолчал. — Сегодня День Свиньи, Великие-Два-Дома», — сказал он наконец.
«Говори правду».
«Мои люди нечасто говорят о Боге Осирисе. Для нас лучше ходить в Храм Амона». Резчик-Камней снова коснулся лбом пыли.
«Разве ты не знаешь, — сказал Птахнемхотеп, — что Осирис — тот Бог, который будет судить тебя в Стране Мертвых?»
Резчик-Камней покачал головой. «Я всего лишь Надсмотрщик. Путешествовать через Страну Мертвых не для меня».
«Но ты Царский Надсмотрщик. Ты можешь путешествовать со своим Фараоном. — Птахнемхотеп повернулся к моему отцу. — Много ли найдется Царских Смотрителей, которые не понимают ценности занимаемой ими должности?»
«Немного, Великий Птахнемхотеп», — сказал отец.
«Один — это уже слишком, — сказал Фараон и вновь обратил Свое внимание к Рутсеху. — Честь, которую Я предлагаю, — сказал Он, — не зажигает огня благодарности в твоих глазах».
«Великие-Два-Дома, я знаю, что мне не суждено совершить путешествие по Стране Мертвых».
«Это из-за того, что тебе не по средствам быть похороненным достойным образом? — спросил Птахнемхотеп. — Не отчаивайся. Люди беднее тебя становились богатыми у Меня на службе».
«Когда я умру, я буду мертвым. Великий Бог».
«Откуда ты знаешь?» — спросил Птахнемхотеп.
«Я слышу это в звуке, издаваемом камнем, когда он ударяет о другой камень».
Птахнемхотеп сказал: «Это интересное замечание». Он внезапно зевнул.
Все придворные немедленно зевнули.
«Мы не будем использовать кедровые щепки, — сказал Фараон. — Жара от них больше, трещины глубже, более того, на этом дереве благословение Осириса, но для простого ума его пламя кажется странным».
«Дело пойдет ровнее, Великие-Два-Дома, — сказал Рутсех, — если мои люди будут работать с дымом, к которому они привыкли».
Птахнемхотеп кивнул. Рутсех был отпущен легким движением Его руки.
Вошли другие чиновники, а их сменили следующие. Я не мог внимательно следить за всем, что они говорили, а вскоре вообще утратил способность сосредоточиться. Моя мать хмурилась, когда я чесал пупок или тер пальцы ног о плиты пола, однако ничем не могла помочь мне. Ее сознание стало таким же пустым, как и мое, и скользило, подобно тростниковой лодке. Мне уже хотелось опять очутиться в той розовой комнате, откуда я снова смог бы войти в сознание моего Фараона. Здесь, всего в пяти локтях от Его трона, я не мог ни следить за Его словами, ни знать Его мысли. Мне в голову приходили воспоминания о застолье, удовольствие от которого мои родные разделят с Птахнемхотепом этим вечером, как бы странно это ни звучало, однако я не столько чувствовал, что предвкушаю Ночь Свиньи, а скорее мне казалось, что она уже прошла и мне нужно лишь вспомнить то, что я, должно быть, уже забыл. Движение вперед в одной жизни было очень похоже на воспоминание о другой. Думая об этом, а потом не думая вообще ни о чем, я прислушивался к тому, что говорили, а чиновники приходили и уходили, обсуждая много различных дел.
Конечно, я не мог следить за всем, о чем говорили. Один чиновник отчитывался о состоянии плотин вокруг Бусириса в Дельте, другой докладывал о работах на дамбах. Третий — об осушении озер и трудности сушки и соления угрей, вылавливаемых со дна. Я медленно поплыл обратно к чудесам того золотого утра, бывшего так давно и в то же время всего лишь этим утром, когда я видел несколько рыбацких лодок с уловом, развешанным на веревках, привязанных к мачте, корме и носу. Они потрошили рыбу и развешивали ее, как одежду, для просушки. Мы прошли вблизи от одного такого кораблика, и запах, исходивший от него, был одновременно и чистым, и зловонным, будто кровь реки, или по-другому — кровь рыбы, отмывалась на солнце, и это унесло меня так далеко от Фараона и Его серьезных забот, что я не слушал отчета о работах в копях или указаний Фараона о том, как использовать рог газели в качестве втулки крепления каменного сверла, поскольку он был лучше слоновой кости — я и в это не мог вникать — и, следуя дремотному высокомерию моей матери, я без уважения отнесся к Командующему Войск, лицо которого было покрыто шрамами и открытыми язвами. Этот высокий человек свирепого вида мог, однако, сообщить лишь о поражениях и говорил о городах на границе Нижнего Египта, сожженных во время набегов сирийцев.
«Неужели Я никогда не услышу сообщения о победе?» — спросил Фараон, и Командующего стала бить дрожь лихорадки, подхваченной им в походах, — не думаю, чтобы он испытывал такой уж большой страх, скорее, сильный озноб, но он не мог скрыть дрожи.
Затем Птахнемхотеп долго разбирался в спорах владельцев берегов оросительного канала двух соседних поместий — о количестве воды, забираемой из канала. Это скоро обернулось новым препирательством между теми же знатными людьми — теперь по поводу перемещения межевых камней. Царскими чиновниками были представлены отчеты, обвинявшие торговцев в том, что они подмешали песок в проданную Дворцу муку, а один чиновник зачитал имена судов, пропавших в море. Сведений от них не поступало на протяжении трех лет.
Я развлекся, попытавшись снова приблизиться к сознанию матери. Не знаю, были ли это мои или ее мысли, но я принялся размышлять о странностях огня и раздумывать о том, живут ли в пламени голоса всего, что сжигается, то есть не только горящего материала, но и мысли Богов, живших в этой земле. В этот момент я почувствовал, что Фараон смотрит на меня, открыл глаза и понял, что прохожу через Его мысли. Ибо то, что стояло в наших глазах, принадлежало каждому из нас, и в этом смысле мы были равны, были братьями.
Я понял, что действительно спал — чиновники ушли, на площадку внутреннего двора под балконом опустился вечер, и Фараон улыбался. «Пойдем, маленький Принц, — сказал Он, — пришло время застолья», — и Он взял меня за руку, и я почувствовал усталость Его крови от всей долгой работы этого дня.
ВОСЕМЬ
Пока мы шли садами в покои, где нам предстояло обедать с Фараоном, моя мать стала думать о разговоре, который ей не хотелось вспоминать. Но однажды начав, она не могла ничего поделать, кроме того, как восстановить все его подробности. Да и как могла она поступить иначе? Несколько дней назад мой отец, зная, что такая новость будет разъедать ее сердце, сообщил матери, что Фараон сказал ему, что Мененхетет ест помет летучих мышей. На что мать ответила: «Он употребляет его как лекарство», но мой отец возразил ей: «Нет, это не так. Он принимает его, поскольку ему нравится его вкус. Сведения точны — Фараону сказал об этом Хемуш. Это было давно, однако Он никак не может выкинуть это из Своей головы. Я думаю, именно по этой причине Мененхетета не приглашали ко Двору так долго».
«Меня тоже не приглашали», — не сдержавшись, сказала она.
«Вряд ли Он мог бы подумать о тебе, — сказал отец, — не вспомнив при этом о Мененхетете».
А совсем недавно отец стал говорить о том, что Птахнемхотеп интересуется свиньями. Он вспоминал о них постоянно. «Известно ли вам, — говорил Он, — что, если благородный человек коснется свиньи, он должен немедленно войти в реку во всех одеждах, независимо от того, насколько они хороши. И все для того, чтобы смыть возможную заразу».
«Никогда, Добрый и Великий Бог, — сказал Нефхепохем, — я не касался этого животного. Я слыхал, что те, кто пьет молоко свиньи, могут заболеть проказой».
«Не знаю такого человека, который бы попробовал его пить, — сказал Птахнемхотеп. И добавил: — Разумеется, подобные соображения вряд ли остановили бы твоего родственника, Мененхетета». Эти слова мой отец особо подчеркнул, передавая разговор матери.
Два дня спустя Птахнемхотеп вновь высказал удивление по поводу свиньи. «Я разговаривал с Хемушем, — сказал Он Нефхепохему. — Как Я и подозревал, это действительно так. Свинопасам запрещается входить в любой храм под страхом отрезания носа. „Как ты узнаешь их, — спросил я Хемуша, — если они переоденутся?" „Мы узнаем", — отвечал он Мне. Вот это жрец. Для Верховного Жреца это блестящее замечание».
При этом Птахнемхотеп снял Свой парик, передал его Нефхепохему и наклонил голову, чтобы принять другой, исследовал полированную поверхность Своего бронзового зеркала (по крайней мере — так все это представлялось моей матери), а затем сказал моему отцу: «В этом году Я собираюсь устроить Празднество Свиньи. — Взглянув на лицо моего отца, Он добавил: — Да, мы будем есть свинину, ты и Я, точно так же, как все остальные египтяне, которые готовят ее себе на рынках на огне и с жадностью пожирают вкусные куски. И вот что… — Он помолчал. — У меня здесь давно не было твоей семьи. Давай устроим небольшой ужин той ночью. Скажи Мененхетету, — здесь Птахнемхотеп улыбнулся Своей очаровательной улыбкой, — чтобы он принес одну из своих летучих мышей».
«Для меня было бы большим счастьем, если бы Ты, Великий Бог, сказал ему об этом Сам».
Птахнемхотеп улыбнулся. «Там будут необычные развлечения. В Ночь Свиньи Я хочу приятно удивить твою жену и ребенка».
Я не знал, чего ждать. Когда мои родители или мой прадед устраивали празднество, у нас бывало много музыкантов, которые не только играли на арфах и лирах, но им были знакомы гитары, цитры и лютни, а после пира начинались удивительные развлечения. Появлялись шуты, акробаты и борцы. Умелые рабы метали ножи в раскрашенные деревянные щиты, а однажды прадед даже пригласил гостей спуститься к реке, и там, на его пристани, люди с его лодки, разодетые в цветные ленты и головные уборы с перьями, используя весла как шесты, старались столкнуть друг друга в воду; я слышал, как гости перешептывались о том, что это опасное развлечение. В пылу борьбы мог утонуть хороший гребец. Той ночью никто не погиб, и прадед приказал бросать на пламя факелов соли, так что мы стояли среди зеленых и алых огней, окруженные розовыми языками пламени, а шум эхом катился по воде за нашими спинами. То был большой праздник.
Сегодняшняя ночь не станет такой же. Мать сказала, что за обедом нас будет только пятеро. И все же мысль, которую она передала мне, была ясной: наш Фараон, устраивавший много пышных приемов, счел более привлекательным провести вечер в нашем маленьком избранном обществе, чтобы во время этого обеда мы имели возможность не спеша предаться изысканной утонченности и блеску Его беседы. Я уже мог слышать, как в последующие дни она будет говорить своим друзьям нечто в этом роде. Однако по свету ее глаз, сиявших от предвкушения чудес, я знал, что она не лгала. Празднество Свиньи, несмотря на все то, что ей сказал отец, обещало быть чудесным.
Таким оно и было. Этой ночью, почти сразу же после того, как мы начали, я понял, что мне предстоит узнать вкус пищи, которую я никогда ранее не пробовал, и услышать разговоры о незнакомых мне предметах. Действительно, я вскоре узнал кое-что о тайнах пурпура, содержащегося в улитке, а также о том, как вкладывать письмо в руку мертвеца; намекнули и о достоинствах каннибализма. И еще многое. И снова еще многое.
По мере того как обед продолжался и в мой желудок отправлялось одно странное блюдо за другим, мои чувства проносились сквозь ароматные языки пламени, и огонь охватил мои мысли. То, что сказала мне мать относительно часа моего зачатия, вполне могло стать зерном, прораставшим в тиши моего сердца. Мои щеки стали красными, разговор моих родителей — кого я должен был считать отцом: Мененхетета или Нефхепохема? — извивался в моем животе, подобно перегревшимся на солнце змеям, и я чувствовал то дикое веселье, свойственное лишь детству, когда каждое мгновение может принести новое неожиданное удовольствие или так же легко обернуться несчастьем. Поскольку я не мог разразиться таким оглушительным криком, как мне хотелось бы, это подавляемое желание бродило во мне волнами лихорадки, и моменты, когда я почти не притрагивался к еде, сменялись трепетом, когда я пытался прийти в себя, собрав свои чувства, при каждом новом оттенке вкуса увлекавшие мои мысли в другом направлении.
Мы полулежали у низкого стола из черного дерева, на котором стояли золотые блюда настолько тонкие, что они весили меньше, чем белоснежные алебастровые чаши моей матери, а комната пылала, как лес в огне, освещенная таким количеством больших свечей, что посреди ночи у нас возникало чувство присутствия солнца; тем временем мы находились в покое, стены которого были украшены деревянной обшивкой с рисунком волокна, напоминавшим шкуру леопарда, и я заметил, что Фараон сменил Свое одеяние на другое, из белого полотна в складках, оставлявшее Его грудь открытой и закрывавшее лишь одно Его плечо. Украшений на Нем было меньше, чем на любом из нас; собственно, на Нем их вообще не было, за исключением бычьего хвоста, прикрепленного сзади к Его юбке. Время от времени, он ловил его и сжимал в руке, чтобы постучать кончиком хвоста по столу, как бы показывая тем самым Свой живой интерес, вызванный каким-то высказыванием моей матери или Мененхетета, а один раз, развеселившись, в большом возбуждении, с которым Он это делал, ударил им по столу несколько раз и с возгласом отбросил его назад — поскольку, похоже, приступ лихорадочного смеха охватил Его с не меньшей силой, чем меня, — и ухитрился попасть хвостом быка прямо в центр большого опахала из перьев страуса, стоявшего на подставке за Его спиной, и оно покачнулось и упало бы, если бы его не подхватил слуга.
За спинами каждого из нас их было по двое, пять или больше — прислуживали Фараону, и их бормотание: «Жизнь-Здоровье-Процветание» при каждом действии — наполняли ли они кубок, ставили ли новую чашу или подкладывали еще того же кушанья — стало таким же постоянным и успокаивающим звуком, как треск сверчков в саду моей семьи. Вновь я чувствовал, что все благополучно, как дома, где, как я узнал, мне можно спать до тех пор, пока не прекращается звонкий стрекот насекомых, потому что их вторжение в тишину являлось тем не менее знаком, что ничто не стало хуже, чем было предыдущей ночью, и посему сила сна, парящая в темноте, вновь могла снизойти на меня. Так что я находил удовольствие в непрестанном чмоканье губ Его слуг, которые, казалось, хотели бы раствориться в богатстве оттенков вкуса.
Вначале подали улиток размерами не больше, чем я видел ранее, однако в таком ароматном соусе из лука, чеснока и еще какой-то зелени, что я смог ощутить благоухание сосен Фараона. Я чувствовал, как свежесть травы медленно поднимается вверх по моему носу и лихорадит внутренность моей головы, образуя в ней пустоты, однако этого и следовало ожидать: мать говорила мне, что все такие травы называются востеканием, в то время как поджаривающийся лук мог быть назван вытеканием, поскольку запах перетекал из комнаты в комнату; а красный перец для некоторых был истеканием пряности, а для других — втеканием.
Мне понравились улитки. Мы ели их надетыми на маленькие заостренные палочки из слоновой кости с небольшим рубином в форме головного убора Фараона на другом конце; пять маленьких надрезов на драгоценной палочке создавали два глаза, две ноздри и изогнутую линию рта, что до какой-то степени походило на лицо Птахнемхотепа, если бы оно было очень узким, — я понял, что это была шутка, шуточная маска Фараона. Видя мое удивление, Он сказал: «Ими пользуются только во время Празднества Свиньи. Этой ночью ты можешь смеяться надо Мной. Сегодня твоя ночь».
«Моя ночь?» — хватило мне смелости переспросить.
«В Ночь Празднества Свиньи на первом месте самый младший из Принцев. Говори, когда того пожелаешь, дорогое дитя».
Я хихикнул. Обед только начался, однако востекание прояснило мою голову до такой степени, что я почувствовал себя столь же старым и мудрым, как мой прадед; я ощущал между своими ушами большую, пустую и мудрую голову, и, орудуя прелестной палочкой, как зубочисткой, входившей в раковину и пронзавшей плоть улитки, я почувствовал себя воином, вступающим в пещеру, где горят огни и мясо зверя ожидает молниеносного удара моего копья.
«Вам нравятся эти улитки?» — спросил Птахнемхотеп, и мои родители, невзирая на то что это Ночь Свиньи, немедленно и одновременно заверили Великого Бога, что им никогда не доводилось лакомиться столь сочным мясом обитательниц раковин. На что Птахнемхотеп сказал, что на улиток в овальном пруду Длинного Сада в конце улицы Прогулок Рамсеса Второго с одной стороны падала густая тень финиковых пальм, однако ночью пруд открыт луне, чтобы улитки купались в ее свете. Возможно, поэтому они так удивительно вкусны.
«Да, они так хороши, что я даже подумал, что Твои слуги могут их украсть», — заметил мой прадед как раз в тот момент, когда в его чашу накладывали добавочную порцию.
Птахнемхотеп покачал головой. «Применяемые наказания суровы. Однажды служанка взяла несколько штук, и Мой отец приказал отрезать ей за это один сосок».
Любой другой ночью моя мать, вероятно, промолчала бы, но сейчас она судорожно выдохнула: «Разумеется, Ты ведь не сделаешь такого?»
«Мне отвратительна сама мысль об этом, но полагаю, Я был бы вынужден применить такое наказание».
«За одну улитку?» — настаивала Хатфертити.
«Тогда Я был ребенком, — сказал Птахнемхотеп, — однако до сих пор не забыл, как Мой отец раскрыл ладонь, чтобы показать Мне, в чем заключалось наказание. Она была молодой девушкой, и ее сосок был не больше ногтя Моего мизинца. Я был готов зареветь от горя, но Мой отец просто стряхнул его щелчком в пруд. Позже Он сказал Мне, что столь жестокие меры поддержания порядка требуются для того, чтобы рассеять во Дворце даже тень воровства. В противном случае улитки могли бы заболеть. Как видите, сегодня это крепкие маленькие существа, а уж приправленные маслом с луком и востеканием!.. Иногда Мне кажется, что Я никогда ими не наемся, но ведь в Ночь Свиньи Я просто бедняк». Он весело рассмеялся, отчего Его красиво изогнутые губы на мгновение ожили, словно промелькнула скачущая лошадь. Или то был ястреб, камнем падающий на жертву? Животное и птица, оба пронеслись через мою голову на востекании. Я попытался взглянуть на мою мать, но отвел глаза, не в силах видеть, каким дерзким взглядом она ответила на Его взгляд. Если этой ночью Птахнемхотеп не надел никаких украшений, то в мыслях моей матери такого даже близко не было. Притом что на ней было простое свободное одеяние шафранового цвета без складок, оно было закреплено лишь на одном плече, так что ее правая грудь, большая по размеру и более красивая, осталась открытой, и она покрасила сосок в красный цвет, розово-красный, редкой алой краской, думаю, из корня марены, чтобы его цвет соответствовал алой узкой полоске ткани, повязанной вокруг ее горла, как у базарных девок, к тому же на каждом ее изысканно соблазнительном пальце было надето кольцо, а вокруг головы вилась отлитая в форме змеи с двумя зелеными камнями вместо глаз легкая золотая корона. Как красиво выделялась она над ее черными волосами и темными, умащенными плечами! Теперь она обратила взгляд своих темных глаз на Фараона.
Казалось, Птахнемхотеп доволен взглядом, которым она Его столь щедро одарила. «Мен-Ка, Мой малыш, — сказал Он мне, — знаешь ли ты о первой обязанности хозяина?»
«Откуда может Мен-Ка это знать», — запротестовала моя мать, но я заметил, что она воспользовалась именем, которым назвал меня Фараон, несмотря на то что моим ласкательным именем до сих пор всегда было Мени.
«Мен-Ка, — сказал Птахнемхотеп, — обязанность хозяина — занимать своих гостей. Поэтому Я хотел бы развлечь тебя объяснением каждого поданного нам блюда. — Он указал на пустые раковины в моей чаше. — Как, например, эти маленькие дворцы».
Я спокойно кивнул. Я не знал, что Он имеет в виду, но сейчас была Ночь Свиньи, и все вокруг имело свой смысл.
«Ты — восхитительно смышленый мальчик, — сказал Он. — Теперь слушай Меня внимательно, или Я отрежу тебе нос». При этом замечании мой отец засмеялся. Это был первый звук, который кто-либо из нас услышал от него за весь вечер.
«Да, — сказал Фараон, — Я отрежу твой нос и отдам его мужу твоей матери».
Мой отец деланно громко рассмеялся.
«Тебе нравится пурпурный цвет?» — спросил меня Птахнемхотеп.
Я снова кивнул.
«Это цвет, который носят цари Сирии, цари хеттов и некоторые еврейские цари, а также многие владыки ассирийцев. В Египте их страстная приверженность этому цвету представляется нам лишенной смысла. Есть даже один город, за который они постоянно воюют. И все потому, что действительно хорошая пурпурная краска изготовляется только там. Ты веришь в это?»
Я кивнул.
«Город этот Тир, знаменитый своими колючими улитками. Внутренняя сторона их раковин пурпурная, и когда их растирают в порошок, получается великолепная краска. Поэтому в Тире все собирают улиток. Маленькие девочки, мужчины в два раза моложе твоего прадеда, а это, безусловно, очень преклонный возраст, карлики и великаны — все собирают улиток. Они приносят их домой, разбивают и совершенно не обращают внимания на их мясо».
«Отчего?» — спросил я.
«Я не знаю. Может быть, им приелся его вкус. Я подозреваю, что причина в том, что извлекать мясо из каждой раковины слишком долго, а краска стоит гораздо дороже. Видишь ли, они там, в Тире, слишком богаты и алчны, чтобы тратить на это время. Они попросту давят раковины между камнями, потом моют их, затем снова давят, покуда не начинает вытекать пурпур. Этот пурпур собирают в специальные чаны, и в нем еще остаются маленькие и тонкие кусочки улиток».
Моя мать позволила вырваться одному из звуков, которыми она выражала отвращение.
«Да, это отталкивающе, — сказал Фараон. — Однако они добывают пурпур, вызывающий исступленный восторг в глазах восточных Владык. Они называют его царским пурпуром. Это цвет царей, говорят они на Востоке, однако мы мудрее и знаем, что это цвет безумцев. — Фараон радостно расхохотался и громко хлопнул по столу бычьим хвостом. — Внесите следующее блюдо!» — приказал Он.
Его глаза засияли при виде удивления, отразившегося на моем лице, когда лишь один слуга вернулся с двумя металлическими прутами не длиннее моей ладони, не шире двух моих пальцев и не толще одного. Птахнемхотеп положил их раздельно на прекрасную алебастровую чашу.
«Взгляни на это, — сказал Птахнемхотеп. — Это черная-медь-с-небес». Он передал чашу моему прадеду.
Чувство достоинства у Мененхетета было поистине совершенным, и оно не позволило ему выказать удивления. Он спокойно передал чашу мне.
«Пусть мальчик первым получит ее», — сказал он.
«Ты не знаешь, какое удовольствие упускаешь», — заметил Птахнемхотеп.
Я, в свою очередь, гадал, как дотронуться до этой черной-меди-с-небес. Теплая она или холодная? Мои пальцы с трепетом коснулись поверхности одного прута, и я быстро убрал руку — ощущение было таким же, как от любого другого металла, например, от красной меди. Я приподнял прут и положил его обратно. Он был тяжелее медного, и каким-то образом я понял, что он тверже. Я перекатил его на чаше.
«Попробуй оба прута», — сказал Мененхетет.
«Почему ты говоришь ему это?» — спросил Птахнемхотеп.
«Если бы все, что мой Фараон хотел показать нам, заключалось в одном пруте, Он бы не приказал принести два».
Птахнемхотеп одобрительно кивнул, и я решился взять в каждую руку один из кусков. Затем я понюхал первый прут. У него был холодный запах, пришедший издалека. Поднеся другой к своей щеке, я снова ощутил тот же поток холода, проникающий в мои ноздри вместе с воздухом. Какая-то неведомая мне раньше жизнь начала биться в металле. Точно я вслушивался в трепет сердца в каждом куске. Эта жизнь гнездилась на концах этих маленьких прутов, я ощутил ее, когда поднес их к моим ноздрям, а затем я вскрикнул от страха и восторга, ибо услыхал, как говорят Боги. Должно быть, Ими была произнесена Их молчаливая команда, так как два куска чер-ной-меди-с-небес потянули мои руки друг к другу, а затем, щелкнув, куски встретились. Они соединились и были теперь приклеены друг к другу, хотя я не видел ничего, что удерживало бы их вместе.
Мой отец взял их на мгновение из моих рук, а затем был вынужден передать полученный им дар Мененхетету. Хатфертити, наблюдавшая все это, вскрикнула от восхищения. «Ты — волшебник», — пробормотала она Птахнемхотепу.
«Я ничего не сделал, — сказал Он. — Чудо содержится в самом металле».
«Однако откуда взялась черная-медь-с-небес?» — спросила она.
«Пастух увидел, как с неба падает огненный шар. Он остался лежать в пустыне, подобно мертвой лошади. Шар был слишком тяжелым, чтобы сдвинуть его с места, однако пастух смог отколоть несколько неровных кусков. Из них были сделаны эти прутья. Кто знает, что говорит в них?»
«Можешь ли Ты заставить их силу замолчать?» — спросил Мененхетет.
«На время. Для придания формы во время ковки эти куски пришлось разогреть. Тогда они не проявляли своих свойств. Однако когда бесформенный кусок черной-меди-с-небес от того же огненного шара был положен рядом с нашим прутом и прижат к нему, кто знает, тогда, вероятно, подобно членам одной семьи, они возносили молитвы об одном и том же. Могу сказать, что прут приобрел от грубого куска такую жизненную силу, что теперь может оживлять другие куски, которые прошли ковку».
Они продолжали говорить об этих особенностях черной-меди-с-небес. Птахнемхотеп рассказал, как капля воды на пруте высыхает, оставляя оранжево-красное пятно. Вода, однако, не превращалась в кровь. Скорее поверхность черной меди становилась бледно-красным медным порошком, который можно соскрести с прута. Кто истолкует желание Богов, чтобы это было так?
Я перестал слушать. Каждый день своей жизни я слышал о Богах и видел Их повсюду — например, в кошачьем хвосте, поскольку только кошка может слушать своим хвостом. Я видел Бога в глазе лошади, когда она проносилась мимо, и тот же Бог был в каждом жучке, потому что их движения были быстрее моих мыслей. Несомненно, Бог пребывал в каждой корове. Где еще можно было подойти так близко к познанию столь властного спокойствия? Боги были в цветах, в деревьях. Богов всегда можно было найти в статуях, ибо их сила могла покоиться в камне. Бог был даже в диком кабане. Я мог почувствовать Бога Сета и ощущать должное почтение к Его ярости, когда обонял запах дикого кабана в его клетке. Однако эти Боги не представлялись мне такими же страшными, как черная-медь-с-небес, которая прошла мимо моего носа. Я приблизился к Богу — или к двум Богам? — жившему между вспышкой молнии и тишиной, предшествующей громовому раскату, и мне было не по себе. Мой живот все еще содрогался от прикосновения одного куска металла к другому, однако я ощутил голод.
В это время слуги вернулись с маленькими пурпурными плодами, по одному для каждого из нас. То есть я думал, что это фрукты, однако когда маленькую золотую чашу, в которой они лежали, поставили на стол, я увидел, что это капуста, пурпурная капуста — а я и не знал, что такая бывает, — и пахла она очень кисло.
«Будьте осторожны с уксусом, — сказал Птахнемхотеп. — Он настолько кислый, что может заставить ваш рот скривиться, однако вполне хорош для того, чтобы очистить мысли от востекания. — Он поднес Свою капусту ко рту и откусил от нее, как от граната. — Кошмарная еда», — заметил Он.
«Зачем Ты приказал подать ее?» — спросила Хатфертити.
«Свиньи тучнеют на капусте. Мне кажется, нам следует познакомиться с привычками нашего друга, с которым нам предстоит скоро встретиться. — И Он игриво передвинул листья на своей тарелке. — На самом деле, — сказал Он, — это прекрасный уксус и приготовлен он из Моего лучшего вина. Я люблю хороший уксус, а вы?»
«Да», — ответил мой отец.
«Нет», — сказала Хатфертити.
«У тебя нет особых причин любить его, — заметил Птахнемхотеп. — Уксус подходит тем, кто полон жалости к самому себе». «Отчего же?» — спросила моя мать.
«Его вкус говорит о его разочарованиях. Представь себе какое-нибудь плохое вино, которое никто не пьет. Оно вынуждено сидеть в своем кувшине до тех пор, пока скука не сделает его кислым. Какой гнев Я ощущаю в таком уксусе!»
«У Тебя прекрасный вкус», — заметил мой прадед.
«Исключительный вкус. У Меня дар ценителя еды, нет, не любителя еды, а дар ее опробования. Эй, унесите эту капусту! Она выглядит непромытой».
«Сегодня Ты в особом расположении духа», — сказала Хатфертити.
«Я такой раз в году».
«Раз в году», — с готовностью повторил мой отец.
«Вам понравился уксус?» — спросил Птахнемхотеп.
«Он крепкий, но отвечает Твоему описанию», — сказал мой отец.
Мне не понравилась капуста, и я не стал пробовать ее; а следующее блюдо понравилось мне еще меньше, поскольку это был сырой перепел. Кожу сняли и птицу натерли приправами, а затем кожу надели снова, как тунику, но, когда я попробовал ее — может быть, это произошло от соли, чесночной соли с яростным втеканием от другой специи, — холодная жизнь, еще не удаленная из птицы приготовлением, смогла влететь в одну мою ноздрю и вылететь из другой. Мне пришлось закрыть глаза. Тогда мне привиделись двадцать перепелов, похожих на двадцать черных точек в облаке, превратившихся в двадцать белых точек в пещере, а теперь они снова стали черными. Я засмеялся от мысли, что мой нос хочет пописать, а затем чихнул.
Следующей подали рыбью икру, разложенную на блюде вместе со странным яйцом, скорлупа которого была не пестрой, а белой, и моя мать воскликнула: «Это яйцо вавилонской птицы?»
«Совершенно верно», — сказал Птахнемхотеп.
«От птицы, которая не летает?» — спросил мой отец.
«Да. От вавилонской птицы, которая не любит воду и не летает».
«Что же она делает?» — спросила моя мать.
«От нее много шума, она глупа, грязна и была бы никчемной, если бы не ее яйца».
«Они так же хороши, как и утиные?»
«Лишь в том случае, если ты из Вавилона, — сказал Птахнемхотеп, и все рассмеялись. Затем Он рассказал нам, как по Его приказу эти существа были привезены на судне. — Ручная птица, — )тродол-жал повторять Он, — однако, от них на лодке стоял такой гвалт — кудахтанье, важничанье, крики, — что гребцы подумали, будто птицы призывают своих вавилонских Богов. Поэтому вся команда была готова перебить свой груз при первом признаке бури. К счастью, большого ветра не поднималось. Теперь в углу Моего сада обитают эти птицы, прижившиеся на египетской земле. Они размножаются. Вскоре Я смогу прислать вам несколько штук. На самом деле, шепну Я вам, Мне нравятся эти грязные маленькие квохтушки. Я нахожу, что их яйца хороши для Моих мыслей».
Я, однако, пребывал в мрачном настроении. Жар от больших свечей, битва специй у меня в носу, в моей груди и животе, и грустный соленый вкус икры наполнили меня печалью. Я не знал, что делать с яйцом из Вавилона. Оно было сырым и желтым в середине, а не зеленым, и вкус у него был такой же, как у сыра, мокрых стен, серы и теста; я даже подумал, что оно пахнет немного, как ка-ка иногда по утрам, и так же как мне иногда мог нравиться такой запах, если он происходил от меня, так мне понравилось и яйцо. Оно было таким же желтым, как масло, изготовленное на кухне самого Фараона, которое слуги разносили теперь на маленьких сладких пирожках из лучшей пшеничной муки.
Все же сочетание рыбьих и птичьих яиц, очевидно, подействовало на мою мать, поскольку она принялась рассказывать Птахнемхо-тепу о дне, когда я родился, будто меня здесь не было, вспоминая, как она задерживала мое появление на свет, сводя колени, и говорила это, наклоняясь к Фараону и приближая к нему свою обнаженную грудь. «Я ни за что не родила бы его до наступления счастливого часа. Я не хотела, чтобы Мени, мой Мен-Ка, увидел день, покуда солнце не поднялось в зенит и не стало желтым, как это яйцо». Но когда Фараон едва кивнул, казалось, все еще пребывая в окружающей Его скуке (смерть всегда находится неподалеку от того, кто чахнет от скуки), моя мать оттолкнула свое блюдо с молоками и воскликнула: «Ведь Ты не хочешь сказать мне, что все эти красные икринки могли бы стать рыбой?»
«Все, — сказал мой отец. — Рыбы в море всегда хватает».
Наступило молчание, выражавшее не столько упрек моей матери, сколько понимание серьезности замечания отца. У нас было восемь или десять выражений, таких как «Одна нитка сохраняет семь стежков», «Правильное мышление — муж правильных поступков» или — «Рыбы в море хватает», как только что заметил мой отец. На такие замечания никогда не отвечали — так было и сейчас, когда все умолкли, однако то не было проявлением какой бы то ни было враждебности в отношении моего отца. Словно все знали, что тот, должно быть, прекратил разговор не без причины. Поскольку он думал только о желаниях Фараона и знал их, когда они лишь начинали возникать, каждый, включая и Самого Фараона, решил, что наш Добрый Бог должен иметь некое намерение прервать беседу. Так и было.
«Пришло время, — сказал Птахнемхотеп, — для реп и репи», — и под общий смех Он встал и покинул комнату. Я знал, что мои родители были повержены в замешательство. Репи — слово, означающее, как меня учили, вежливое объявление о необходимости помочиться. Однако, реп, по крайней мере в том смысле, в котором его употребил Птахнемхотеп, могло означать только отвратительного зверя, выдыхающего жаркий ветер во всех направлениях. Собственно, реп являлось самым неприличным словом для ка-ка, а оба они, реп и репи, употребленные вместе, были столь ужасны, что никому, даже Самому Фараону, не пришло бы в голову употребить это выражение в другую ночь, за исключением Празднества Свиньи. Я думаю, что таким образом Он хотел напомнить нам о том, что мы не только могли говорить о вещах, которые считались непристойными в любую другую ночь, но от нас этого, в сущности, ожидали.
Когда Птахнемхотеп вышел, мы сразу же ощутили настороженность по отношению к слугам: поскольку почувствовали, как ожили их уши. Хатфертити красноречиво умолкла, а Мененхетет и Нефхепохем завели разговор о том, какую палку для метания лучше брать с собой на болото, когда охотишься на уток. Их разговор, однако, угасал. И я услышал, как моя мать шепнула отцу:
«А в другие ночи Он никогда не бывает таким?»
Отец, закончив беседу с Мененхететом, взглянул на нее и отрицательно покачал головой.
В это время было позволено войти темнокожему бородатому сирийцу в тяжелых, дурно пахнувших шерстяных одеждах. Он с глубокой почтительностью поклонился каждому из нас и наполнил наши кубки из тяжелого бочонка, который он держал в руках, его тело при этом воняло тем же пивом, что он нам наливал. Наполнив наши кубки, он сразу же ушел, но я мог видеть, что слуги сочли запах его соленого пива, старого масла для натирания тела, пота и влажной шерсти одинаково ужасными. Тем не менее, к удивлению моих родителей, пиво оказалось исключительно хорошим — по крайней мере, так они заявили, поскольку мне его не дали даже попробовать. Затем вернулся Птахнемхотеп и, будто в Его уходе не было ничего особенного, рассказал нам чудесную историю пивовара.
«Однажды ночью Я приказал Смотрителю Царской Кухни принести Мне лучшее в Мемфисе пиво, и на следующий день он валялся у Меня в ногах, вынужденный признаться в том, что лучший пивовар в нашем городе — некий грязный человек по имени Равах, тот самый, которого вы сейчас видели, и что он заявил, что не будет поставлять пиво Двум-Вратам, иначе как сопровождая его ко Двору. „Неужели ты не высек этого болвана?" — спросил Я. „Я сделал это, — ответил Мне Смотритель, — а Равах вылил пиво на землю. Я мог бы забить его насмерть, — продолжал он, — но тогда не было бы пива, которое он соглашался приносить только сам". Что ж, это заинтересовало Меня. Я приказал Смотрителю привести болвана. Пришлось держать его на расстоянии из-за вони, которую он распространяет, но какое пиво! Равах заявляет, что таким особенным делает напиток его бочка, и Я должен признать, что оно становится все лучше с каждым разом. Он говорит, что, поскольку Я делю с ним его пиво, трещины в древесном волокне его бочки делают дух его пива крепким как никогда раньше. Он зовет свое пойло Приносящим-Радость, и оно хорошее».
«Он говорит о Тебе, Божественные Два Дома, что Ты делишь с ним его пиво?» — спросила моя мать.
«Да. Равах говорит, что сила этого варева неразборчива и что она должна быть разделена всеми. В этом сердцевина ее действия. И, знаешь ли, Я верю ему. Я попиваю это зелье и чувствую Себя ближе к Моему народу. Я никогда не ощущал ничего подобного, потягивая Умащение-Сердца, — Он кивнул на один из сосудов с вином, — или, — Он указал на другой, — Сохраненное-в-подва-лах-этого-Хранилища. Нет, — с грустью сказал Птахнемхотеп, — тогда Я чувствую Себя близким лишь к жрецам».
«Не знаю, как Ты можешь так говорить, — сказала Ему моя мать тоном близкого человека, словно она наконец освоилась с новыми правилами поведения, приличествующими Ночи Свиньи, и теперь могла пожурить Его так же естественно, как если бы они были женаты лет десять или больше. — Ты известен Своим тонким выбором вин. — Здесь она улыбнулась, словно в смущении от того, что она собирается открыть, каким ласковым прозвищем она называет моего отца. — Отчего у нашего доброго друга Нефа глаза тусклые, как мутная вода, когда он говорит со мной? А вот когда он говорит с Тобой, — она на мгновение умолкла, словно набираясь храбрости, — глаза у него как алмазы».
Она икнула, не прикрыв рта, чего никогда не позволила бы себе в другие ночи, и сказала: «Ты можешь обожать улиток, а я в восторге от Ночи Свиньи. Дело в том, что я думаю, в каждом из нас достаточно от свиньи, чтобы раз в году устроить по этому поводу праздник. Разумеется, — улыбнулась она своей очаровательной улыбкой, — этой ночью нас охватывает обуздывающий нас страх. Мы боимся, что не представляем из себя ничего, кроме свиней, тогда как Ты остаешься при этом и Богом, о, Твое-Величество-Два-Дома-Свиньи».
Я ощутил невероятный шум в ушах, однако никто не издал и звука. Настороженность слуг уподобилась молчанию рыб, после того как одну из них вытащили из моря. Мой отец забыл закрыть рот, и я впервые в жизни увидел его язык целиком — у него был громадный язык! Даже Мененхетет встрепенулся, не поверив своим ушам. «Тебе не следует так говорить», — резко сказал он Хатфертити.
Птахнемхотеп, однако, приветствовал ее слова, благосклонно подняв кубок с остатками Своего пива. «Меня называли Двумя-Львами, Двумя-Деревьями, а однажды даже Двумя-Божественны-ми-Бегемотами. Я ношу имена Сына Хора и Сына Сета, а также Принца Исиды и Осириса, Меня даже звали наследником Тота и Анубиса, но никогда, дорогие гости, ни у кого не хватило выдумки назвать Мой Двойной Дом Свинарником Севера и Свинарником Юга. Мне остается только спросить: где же свинья? Можете принести ее нам», — бросил Он через плечо слугам и улыбнулся моей матери почти такой же очаровательной улыбкой, какую раньше она подарила Ему. Однако на каждой Его щеке появилось по красному пятнышку — размером не более следов от жестокого щипка пальцев. Они были столь же ярко-красными, как кровь, кипящая под кожей, и ярость прокатилась в воздухе. Мне показалось, что пространство между ними застилает красноватая дымка, непохожая на воздух между другими присутствующими. Способность моей матери и Мененхетета смотреть в глаза друг другу из самых глубин своей крови была с равной силой явлена теперь, когда моя мать устремила свой взгляд на лицо Фараона. Тем временем жар от больших свечей в покое стал сильнее, пламя поднялось, а моя мать и Птахнемхотеп сидели неподвижно.
Затем она отвела взгляд. «Даже в Ночь Свиньи женщине не позволено глядеть в глаза Доброго Божества».
«Смотри в них, — вскричал Птахнемхотеп. — В эту Ночь Божество отсутствует».
Мне же Он предстал в тот момент Богом настолько, как ни разу за весь этот день. Когда моя мать не ответила, Он издал грубый, лающий победный звук. «Какая прекрасная ночь, — сказал Он и поднес кончик бычьего хвоста к носу. — Первым хвост быка, — добавил Он, — носил Мой великий предок Хуфу, научивший людей Египта поднимать тяжесть огромного камня. На Пирамиды!» — И Он постучал кончиком хвоста по столу, словно вбирая в себя силу тех камней. Я подумал, что никогда еще не видел Его таким оживленным.
И никогда столь привлекательным для моей матери. Я снова почувствовал ревность. Подобно любовнику, карабкающемуся по стене, мои мысли поднимались по темным волосам моей матери, и моя ревность прошла через ее упорное нежелание впустить меня — однако потом она уже едва ли могла сдерживать меня. Она бросила все свои силы на то, чтобы защитить себя от желания Фараона войти.
У нее была причина не позволять Ему проникнуть в то, что она думала. Сокровенные, как я и предполагал, ее истинные мысли, однако, застали меня врасплох — я не был готов так быстро ощутить их плотское дыхание и в один миг узнал, отчего она произнесла это — я все еще не мог поверить в возможность этих звенящих в моей памяти звуков: Два-Дома-Свиньи! — но в то мгновение слова, вылетевшие на высокой волне последнего глотка Приносящего-Радость, смогли вырваться только из-за внезапного волнения у нее между ног. Мое сознание пребывало в ее сознании, мое тело — в ее теле, а мои ноги — между ее ног, поэтому я узнал, что в потоке своих мыслей она обнаружила образ грубого плотского общения с Равахом. Так я снова открыл то, что уже знал: не только слуги, подобно Эясеяб, но и благородные дамы вроде моей матери могли брать в рот Сладкий Пальчик. Не считая того, что у Раваха был не Сладкий Пальчик — глазами моей матери я увидел шишковатую дубинку, подобно предплечью густо оплетенную венами, и такую же красную, как пятнышки на щеках Птахнемхотепа. Она все еще представляла свой рот на члене Раваха, ее ноздри втягивали волосы его лобка, а голова шла кругом от запаха застарелого пота, старого пива и сирийской шерсти, когда через ее сознание прошли слова Птахнемхотепа о капусте — «непромытая!» — и она вздрогнула от этого воспоминания и увидела детородные органы других мужчин, прежде всего Дробителя-Костей, сегодня утром на лодке, когда на миг в разошедшихся складках его набедренной повязки ей открылся его пах, и я знал, что в ее великом воспоминании о Фетхфути Равах был не более чем ручкой от кубка, как в детстве каждое воспоминание о том, что его зовут Сборщик-Дерьма, действовало на нее, как щекотка. Как она любила сидеть у него на коленях, стараясь уловить хотя бы слабый запах, напоминавший о его старом занятии — сады были корнем и дыханием удовольствий детства. Был момент, когда она прошла череду непотребных объятий, когда ее брали через каждое отверстие в ее теле, рев чувств, кровавых, как свежее мясо, и поэтому она выкрикнула эти слова (в ярости на Птахнемхотепа за то, что Тот позволил пиву Раваха коснуться ее языка), тогда, да, действительно, она сказала, или так я услышал ее слова сейчас: «Великий Двойной Свинарник».
Да, мне многое еще предстояло узнать о своей матери. Если я смог почувствовать удовольствие Фараона от того, что Хатфертити опустила глаза, попытавшись выдержать Его взгляд, я также узнал и Его ярость, вспыхнувшую от произнесенных ею слов, о которой сейчас, должно быть, узнала и она, так как теперь, будто единственным Его желанием было наслаждаться приятным разговором и успокаивать Свой гнев, отдаваясь новым удовольствиям, она спросила своим самым очаровательным голосом: «Ты только шутил, говоря о том, что вино менее ценно, чем пиво?»
«О нет, оно не менее ценно, чем пиво, — сказал Птахнемхотеп, — но оно более жреческое. Я Сам, видишь ли, слишком во многом жрец».
«Вовсе нет», — сказала моя мать.
«Твоя доброта исполнена неги, — сказал Птахнемхотеп. Он протянул руку и коснулся кончиком безымянного пальца соска ее голой груди. — А вот и развлечение», — весело сказал Он.
ДЕВЯТЬ
Вошла красивая девушка с трехструнной лютней в руках, ее наготу прикрывал лишь пояс вокруг бедер. Она запела любовную песню.
Как прекрасен мой принц, Как прекрасна его судьба.Птахнемхотеп не обратил на нее внимания, разве что стал постукивать по столу в такт музыке. Вслед за девушкой появился костлявый эфиоп с флейтой, превосходившей длиной мой рост, и стал подыгрывать ей. Пока девушка пела, три другие принялись танцевать. Как и певица с лютней, они были нагие, за исключением пояса, скрывавшего волосы в треугольнике их бедер, я не мог отвести взгляда от их пупков и красоты обнаженных грудей. Как сияли их черные глаза, в которых драгоценными камнями вспыхивали отражения больших свечей. Девушка с лютней пела:
Умасти мою голову сладкими маслами и благовониями, Положи цветы на мои члены, Поцелуй тело своей сестры, Ибо она живет в твоем сердце, И пусть падут стены.«И пусть падут стены, — пропела, вторя ей, Хатфертити и нежно коснулась рукой ягодицы ближайшей к ней служанки, пока девушка раскладывала цветочные лепестки вокруг чаши моей матери. — Ты милая», — сказала ей моя мать, и девушка достала из корзинки, которую носила у бедра, и протянула ей шарик воска, источавшего восхитительный запах — это был смешанный аромат роз и лотосов.
Я стал догадываться, что на всех нас наденут гирлянды из цветов лотоса, а розовые лепестки окружат наши новые алебастровые чаши — большие, блестящие и молочно-белые, я понял также, что все это: девушки, цветы, песни и нежности слуг — «Ты так прекрасна», — прошептала одна из служанок моей матери, когда та гладила ее бедро, а та, что прислуживала мне, шепнула: «Ты еще слишком маленький и не знаешь, куда я могу тебя поцеловать!» — да, все эти приятные разговоры (которые я не раз слыхал во время праздничных застолий) не были чем-то необычным, однако этой ночью они взвинтили настроение до сильной лихорадки как раз в тот момент, когда двое черных евнухов в набедренных повязках внесли свинью. Только в Ночь Свиньи их набедренные повязки были усыпаны драгоценными камнями, которые могли украшать лишь нижние одежды Фараона. Слуги-мужчины внесли тушу на большом черном блюде и поставили в центре стола посреди вихря быстрых движений танцующих девушек, в котором часто повторялись ритмичные удары обнаженных ступней о пол, и волнообразные движения животов, и искрящиеся переливы созвучий трехструнной лиры, посреди стремительного разнообразия звуков, подобного перебранке птиц в саду Фараона, я вдруг услышал, как повсюду разносятся крики животных, но прежде всего вой собаки.
Вот и явилась свинья. Я не был готов к подобному зрелищу. Кабан казался живым и злобным, похожим на человека. Я видел диких кабанов в клетках, они были уродливы и покрыты жесткой щетиной с налипшей грязью и навозом. Их рыла напоминали мне о руках воров, кисти которых были отрублены, или могли бы напомнить, если бы не два отверстия ноздрей — тупые и упрямые, как любые две дырки, какие можно сделать в грязи двумя пальцами. Однако у этого кабана щетина была выстрижена; нет, теперь я увидел, что он освежеван, а его отлично запеченная корочка розового цвета. Два его клыка были обернуты тонкими золотыми листками; его копыта вычищены и покрыты серебряными листками, его пятачок выскребли и выкрасили в розовый цвет, в ноздри вставили бутоны белых цветов, в рот — гранат, и слуги поворачивали блюдо так, чтобы показать всем нам этого украшенного зверя со всех сторон, я увидел завиток его хвоста, однако не успел проявить свою сообразительность, сказав, что этот завиток напоминает мне улитку, поскольку передо мной явился новый нежданный подарок: маленький свиток папируса был воткнут в хорошо вычищенное заднее отверстие кабана.
«Он предназначен тебе, вытащили его», — сказал Птахнемхотеп Хатфертити. Под звуки ласковой волны хихиканья прислуги, преисполненной радости оттого, что им довелось быть свидетелями редчайшего зрелища, Хатфертити поцеловала свою левую руку и быстрым движением пальцев вытащила папирус.
«Что в нем сказано?» — спросил Птахнемхотеп.
«Обещаю прочесть еще до того, как закончится обед», — игриво ответила Хатфертити, будто давая папирусу время вздохнуть.
«Нет, читай сейчас», — сказал наш Фараон.
Итак, она сломала печать из благоухающего воска, развернула папирус, коротко вздохнув от восхищения, когда ей в чашу упал рубиновый скарабей, затем приложила его к своему соску для удачи перед тем, как опустить на стол. Она прочла вслух: «Всего лишь раб в Ночь Свиньи, но да будет тебе дано стремление освободить Меня», — выслушав эти слова, мой отец и Мененхетет рассмеялись. Птахнемхотеп и Хатфертити промолчали. Они обменивались взглядами, исполненными такой взаимной нежности, что мне захотелось сесть между ними. Казалось, не будет конца тем увлекательным разговорам, которые они могли бы вести. Все это время мой отец смотрел на них с гордостью, со счастливым, даже детским выражением лица, словно эти знаки внимания, оказываемые его жене, удостаивали его чести, не вполне им заслуженной, тогда как мой прадед сохранял на лице застывшую улыбку до тех пор, покуда уголки его рта не стали походить на два столбика по краям забора, и довольствовался тем, что крутил большое круглое черное блюдо, на котором покоился кабан, будто в животном пребывали еще какие-то послания, которые следовало прочесть.
Это дало и мне возможность исследовать наше зажаренное чудовище, которое выглядело как новорожденный розовый бегемот, или какой-то распухший карлик, или теперь, когда его повернули головой ко мне, совершенно как человек, жрец, подумал я про себя. И еще я принялся хихикать, так как, хотя кабан и был мертвый, его глаз рядом со мной был открыт и почти прозрачен. Казалось, что вглядываешься в полутемный, облицованный белым камнем зал, а потом еще хуже — где-то там, в этом мрачном зале, зашевелился зверь. Возможно, то был свет свечей, отраженный от бледно-зеленых мертвых глаз, а может, застывшее напряженное удовольствие, с которым челюсти кабана сомкнулись на гранате, или даже прожорливый прикус этой пасти, точно это раскрашенное рыло могло вдыхать не только худшие, но и самые сильные запахи — в любом случае нечто в этом подавляющем спокойствии и алчности мертвого кабана заставило меня подумать о Верховном Жреце Хемуше. Я испытывал совершенно необычные ощущения, это не вызывало и тени сомнений.
«Разрежьте эту тварь и подайте ее Нам», — сказал Птахнемхотеп.
Сперва я почти не мог глотать. Мое горло застыло от благоговейного ужаса. Однако и на лицах других присутствующих отразились разные ощущения. У моего отца, после того как он откусил первый кусок, в глазах появился нелепый блеск — будто он был застигнут между удовольствием и разоблачением — однажды я видел у него такое же выражение, когда мы с матерью вошли в его комнату, потому что в тот момент его руки были на служанке, одна спереди, а другая сзади, и обе ниже ее пупка. В свою очередь, теперь лицо моей матери выражало беспокойство, словно она опасалась зловещих последствий всех тех приятных вкусовых ощущений, какие она сейчас испытывала. Затем я расхрабрился настолько, что взглянул на своего Фараона, и Его лицо выдало некое разочарование, казалось, Он ожидал гораздо большего от мяса, вкус которого ощущал на Своем языке. Музыка громко играла, и Он приказал ей умолкнуть. Танцовщицы ушли, исполнительница на лютне — тоже, как и черный раб с длинной флейтой.
Выражение лица моего прадеда было совершенно иным. Он медленно жевал своими крепкими зубами, крепкими даже для шестидесятилетнего — я не осмеливался и думать о ста восьмидесяти годах! — и, как обычно, все, что он делал, было размеренно, и ел он сильными, привычными движениями челюстей, что производило на меня такое же умиротворяющее воздействие, как и качание моей колыбели, и потому вернуло назад ту доброту, что соседствует во сне с самыми ужасными ночными видениями. Поэтому меня успокоило то, как он ест, будто никакая сила не могла сдвинуть центр его сердца. Ободренный его спокойствием, я откусил немного от своего куска свинины и чуть не поперхнулся. Мясо было жирным и мягким и удивительным образом знакомым по вкусу, у себя во рту я ощутил нечто сродни тайной близости языка Эясеяб. Свинья знала меня лучше, чем я знал свинью!
Я сразу же захотел еще — еще этого низкопробного и жирного мяса, и вспомнил с легким содроганием, как я чувствовал себя однажды, попробовав отвратительное лекарство, все составляющие которого держались в тайне — самый гнусный вкус и запах из всех мне известных, от которого меня бесконечно долго рвало. Однако в спокойствии, которое за этим последовало, я ощутил запах, который пребывал в моих ноздрях, мягкий, теплый и потаенный, даже грязноватый, но он был похож на вкус свиньи теперь у меня во рту, и потому я почувствовал себя причастным Богам влажного зерна, пропавшего ячменя, гниющего камыша; и даже аромат роз, что увяли, пребывал рядом со мной, когда я ел свинью, и я подумал, не является ли свинья животным не настолько живым, как другие, или, по крайней мере, живущим ближе к смерти, или, если уж говорить, что я действительно думал — не увязла ли она в собственном дерьме.
«Жуй медленнее», — сказала мне моя мать.
Теперь, когда мой нос вдыхал все эти запахи, я наблюдал за Фараоном и любовался утонченностью, с которой Он ел, и, на примере Его движений, учился пользоваться своими руками. Его пальцы порхали над едой так быстро, как язычки птиц, а когда Он решал взять кусочек мяса, который лежал перед Ним, движения Его пальцев были точными и слаженными. «Полагаю, — сказал Он, — мы насытились этой тварью». Один из слуг сделал знак. «Да, — объявил Птахнемхотеп, — у нее чрезвычайно противоречивый вкус: Хор находит свинину отвратительной, а Сет, разумеется, обожает ее. Я чувствую себя раздираемым на две части подобным несогласием между нашими Богами».
Появились черные слуги, чтобы убрать наши алебастровые чаши и то, что осталось от свиньи, меня озадачило проворство их пальцев, их забавные движения. Именно тогда я вспомнил, как разозлились наши сирийские слуги, когда мой отец приобрел шестерых черных рабов, обученных прислуживать за столом. Это означало — даже тогда я был способен понять всю важность того, что произошло, — что мои мать и отец достигли степени процветания, соответствующей семье, ближайшей к Фараону, некоторым высшим чиновникам и двум или трем выдающимся военачальникам. Мы могли позволить себе иметь сирийцев, чтобы подавать еду, и негров, чтобы уносить ее.
Из наставлений матери, я, разумеется, знал, что с правой рукой следует обращаться как с храмом. (На самом деле, надув губы, она заметила, что я никогда не увижу изображения благородного египтянина, правая рука которого пересекает туловище — такое годилось только для рабочих и участников кулачных боев.) Нет, правую руку сохраняли для ношения оружия и прикосновения к еде, поэтому ее следовало мыть в масле лотоса перед каждым приемом пищи, тогда как левая рука могла исполнять те обязанности, при которых нам не нужны свидетели, в особенности подтирать себя — дело, в котором я не должен мешкать. Так что теперь мне было понятно, что разделение, которое мы произвели между слугами, приносящими и уносящими еду, было связано с правой и левой рукой. Я знал, что наши негры не проявляли особой радости по поводу своей половины обязанностей. Я часто слышал их споры с сирийцами, хотя все это не выходило за пределы ворчания, поскольку рано или поздно Смотритель Кухни пожимал плечами и говорил: «Таковы распоряжения Хозяина». И все же я всегда думал, что негры отличаются необычайной глубиной дурного настроения, которое они могут проявлять, а порой даже приходил к заключению, что самый бедный черный слуга обладал большей, чем кто бы то ни было, способностью призывать на голову своих врагов отвратительное умение своих Богов подшутить над человеком — кроме Мененхетета, Хемуша или моей матери (пребывая в худшем из своих настроений, она была равной обоим).
Однако этой ночью негры были на удивление веселыми и вскоре принялись хихикать. В первый момент я не понял причины их веселья, но тут же все стало ясно. Фараон доедал последние остатки своей свинины, пользуясь левой рукой. Как же ухмылялись негры.
«Они любят свинину! — вскричал Он, когда те покинули покой. — В землях к югу от нас они любят свинину. — И Он рассмеялся и добавил: — «Да, как они говорят, чем чернее шкура, тем вкуснее свинина, — и Он обвел взглядом сидящих за столом. — Расскажите Мне истории о черных людях, — потребовал Он вдруг. — Меня они очень занимают. Их обычаи поучительны». Он подчеркнул сказанное ударом Своего бычьего хвоста, как будто затем, чтобы дать нам понять, что несомненно пришло время Его развлекать, и я был готов к этому, поскольку мать уже сказала мне, что, когда Фараон пожелает, чтобы Его занимали, нам следует быть наготове с нашими историями. Они должны сверкать, как мечи, или быть такими же прекрасными, как цветы в саду.
«Я слыхал, — сказал мой отец, — что, когда черные вожди достигают соглашения об обмене собственностью, один из них плюет в рот другому, кланяется, открывает рот и в свою очередь принимает плевок. Таким образом они скрепляют сделку».
«Можете вы себе представить, — спросил Фараон, — Меня и Хемуша за подобным занятием?»
Он определенно пребывал в весьма своеобразном расположении духа — подавленном и в то же время чрезвычайно взвинченном. Хотя никто не произнес и слова, воздух был наполнен разговором, у меня, по крайней мере, было такое ощущение. Мои мысли влеклись к Его мыслям, и никогда еще я не входил в Его сознание с такой легкостью. Однако у Него на уме было всего одно слово. Яд!
Он посмотрел на нас и покачал головой. «Давайте, — сказал Он, — поговорим о яде. — Он улыбнулся моему прадеду. — Расскажи Мне, ученый Мененхетет, о его природе».
Мой прадед осторожно улыбнулся. «Это непреходящая чистота», — сказал он к удивлению всех нас. До сих пор он успешно противостоял немногочисленным попыткам втянуть его в разговор.
«Мне нравится то, — сказал наш Фараон, — как ты вносишь ясность в сложные предметы. Непреходящая чистота. Можно ли таким же образом описать любовь?»
«Я мог бы, — сказал Мененхетет, — я часто думал, что, вероятно, любовь и яд происходят из одного и того же источника».
«Ты сделал злое замечание», — сказала Хатфертити.
«Вовсе нет, — сказал Птахнемхотеп. — В плотской любви есть что-то ядовитое».
«Свинья привела Тебя, Великий и Милостивый Бог, в дурное расположение духа», — сказала моя мать.
«О нет, не дурное, — сказал Птахнемхотеп, — ядовитое! — Он еще раз ударил хвостом — один резкий и глухой удар как награда за точность Его шутки. — Да, — сказал Он, — яд — это все то, чем мы не являемся».
«Замечательно, — пробормотал Мененхетет, — я должен сказать, что у Тебя замечательный ум».
«Лестный отзыв, — сказал Фараон. — Настоящая лесть старой собаки. Слушай Меня, ты, древний человек, ты знал их всех, знал Моих предков лучше, чем кто бы то ни было, так что скажи нам: был ли среди них хоть один, кто по уму превосходил бы твоего смиренного Птахнемхотепа?»
«Ни у кого из них он не был быстрее», — сказал Мененхетет.
«Но сильнее умом?»
«Мой Царь Верхнего Египта и Мой Царь Нижнего Египта — сильнейший умом», — процедил Мененхетет сквозь сжатые в узкую полоску губы.
«О, давайте поговорим о чем-нибудь другом, — сказал наш Милостивый Бог. — Давайте, — Он огляделся, — поговорим о лунной-крови».
«Но это ужасно», — воскликнула моя Мать.
«Вы слышали, как на эти вещи смотрят черные люди?» — спросил Он.
Было очевидно, что Хатфертити не хочет говорить об этом. «Мне кажется, дети мало что знают о взглядах и привычках людей, живущих в землях к югу от нас», — сказала она, кивнув в мою сторону.
Притом что Эясеяб спала в моей комнате раздетой не одну ночь, для меня мало что осталось неизвестным о явлении лунной-крови.
Раз в месяц, с тем же постоянством, как наступало полнолуние, в течение нескольких дней она ложилась в постель с повязкой вокруг бедер, распространяя запах, который, как бы часто она ни купалась, заставлял меня думать, когда я внезапно просыпался, что ночью река изменила свое русло и протекает теперь рядом с нашей комнатой. Запах этот был мне не столько неприятен, сколько он вызывал мое любопытство. Потому что дети нашей прислуги по секрету шепотом сообщили мне, что все женщины на протяжении четырнадцати дней прибывающей луны и четырнадцати дней убывающей (в то или иное время) находятся во власти лунной-крови, а у некоторых женщин эти дни случаются даже с неизменными промежутками и всегда в один и тот же день.
Я спросил, случается ли такое и с моей матерью, и мой товарищ по играм, сын кузнеца из наших конюшен, повел себя так, будто ему грозила большая опасность: он упал на колени и поцеловал палец на моей ноге — неприятное ощущение, поскольку от жара огня в горне его отца его губы были потрескавшимися и шероховатыми, как кожа ящерицы. Потом он сказал мне, что моя мать — родственница Богини и поэтому не может иметь лунной-крови. Я кивнул, как будто мы оба знали это наверняка, однако в действительности я был озадачен, поскольку всегда обнимал мать за бедра, зарываясь носом повыше ее коленей, все выше и выше ее коленей, по мере того как я рос, и я никогда не знал большего счастья, чем в такие моменты. Разумеется, от моей матери пахло лучшими маслами из лепестков лотоса, однако у нее были и другие запахи, и время от времени слабый, как запах уснувшей рыбы, присутствовал намек на состояние Эясеяб в пятнадцатую ночь луны, когда я чувствовал, будто живу в тех землях, которых никогда не видел, к югу от наших земель, где родились все черные люди и где деревья высотой в половину Великой Пирамиды Хуфу и с такой развесистой кроной, что закрывают небо, однако они растут на такой жаре, что с ними рядом невозможно дышать, — так я чувствовал себя в пятнадцатую ночь луны, если Эясеяб мучила боль, и я недоумевал, каким образом лунный свет может так ранить женщин.
Очевидно, что разговор, от которого мать пыталась оградить меня, вряд ли оказался бы новым для моих ушей, и Птахнемхотеп не просто решил не обращать внимания на ее протест, но улыбнулся мне. «Замечательных детей никогда не надо защищать от того, что мы говорим, — сказал Он и добавил: — Не правда ли?», на что я ответил кивком, словно это была наша общая мысль. И я действительно был согласен. У меня всегда было такое ощущение, что случится что-то ужасное, если я не смогу услышать каждое слово на любом празднестве.
«У Меня был черный раб, — сказал Птахнемхотеп, — который говорил Мне, что в деревне его деда они не позволяли женщинам, полным лунной-крови, приближаться к скоту. Не могу вам даже рассказать, сколь опасными представлялись им женщины в такое время. Если они прикасались к оружию своих мужей, те были уверены, что погибнут в следующем сражении».
«Они — дикари», — сказала моя мать.
«Я не совсем в этом уверен, — сказал Птахнемхотеп. — У них можно многому поучиться».
«Даже их храмы сделаны из грязи. Они не умеют резать камень. Как не знают и письма, — сказала моя мать. — Ты когда-нибудь замечал, как ведет себя раб, когда писец сидит за своими красками? Он хнычет, как обезьяна, и покрывается потом».
«Да, — сказал Птахнемхотеп. — Однако им известно то, чего не знаем мы. — Он помолчал. — Если Я пожелаю отправить послание из Мемфиса в Фивы, как скоро Мне его туда доставят?»
«Ну, на лошадях, — сказал мой отец, — если есть свежие лошади и ездоки отдохнули и не спят в дороге, это можно сделать за два дня и две ночи».
«Более вероятно, за три дня, — сказал Фараон. — Однако дело не в этом. Дальше на юг, за Кушем и Нубией, такое послание может быть передано через лесные чащи с вершины одной великой горы до пика следующей и вниз, сквозь густые заросли в долинах и через реки — все это описывали Мне — да, через пространство, равное семи дням плавания по течению и на веслах вниз по Нилу от Фив до Мемфиса, что занимает два-три дня верхом, да, послание, отправленное черными людьми, преодолевает такое расстояние за время не большее, чем требуется нашему солнцу, чтобы пройти с высоты над нашей головой в середине дня до его захода на западе вечером. Вот как быстро могут черные люди отправить послание, которому не понадобится ни дорог, ни троп. Я бы не назвал это дикостью».
«Как они это делают?» — спросила моя мать.
«С помощью своих барабанов, — ответил Птахнемхотеп. — Они не умеют писать, так же как не знают и тайн и навыков наших храмов».
«А также наших гробниц», — сказал Мененхетет.
«Да, и хитрого устройства наших гробниц. Но черные люди знают, как разговаривать с помощью своих барабанов, и знают это очень хорошо. Они быстро отправляют послания».
«Они — дикари, — сказала моя мать. — У нас это получается лучше. Мы выдергиваем молчаливую мысль из воздуха».
«Да, — сказал мой отец. — Наш Божественный-Два-Дома слышит много подобных мыслей».
«Полученные Мной послания обычно неверны, — ответил Птахнемхотеп. Он принялся смеяться с силой, достаточной, чтобы хлопал Его бычий хвост, однако как только Он перестал, на Его лице отразились любопытство и жестокость. — Вот, например, только что мясник с рынка Птаха, напившись, убил свою жену — Я ясно вижу это. Ожидая, когда его схватят соседи, он молит Меня о снисхождении. Я слышу его, но предпочитаю оставить без внимания его просьбу. Он виноват, и он зверь. Грубость его мысли отвращает Меня».
«И все же Ты услышал его?» — настаивала Хатфертити.
«Завтра, если Я прикажу узнать, что случилось, то окажется, что убийство действительно произошло, но не рядом с рынком Птаха. Скорее, это случилось в бедном квартале, за стеной, отгораживающей от него улицу Амона. Я узнаю, что убийца — каменщик, а не мясник, и убил он не свою жену, а брата. Или, возможно, убитой окажется его мать. На самом деле Я слышу мысли Своего народа, но в каком количестве и с каким оглушительньгм шумом! Если бы Я только отверз Свои уши! — Вместо этого Он продолжал моргать с выражением боли, как будто все органы Его чувств, и прежде всего уши, получили звуковой удар. — Нет, Я не часто решаю прислушаться, используя все лучшее, что есть во Мне. Это слишком утомительно. В конечном счете мысли не летают, подобно стрелам, но порхают, как перышки, подлетая то с одной стороны, то с другой. Поэтому Я уважаю черных и их барабаны. Они ясно говорят друг с другом на большом расстоянии».
Моя мать сказала: «У меня также есть история о том, как отправить послание. Это история женщины, бывшей замужем за египетским армейским командиром, но теперь ее нет в живых. Он жив и хочет передать ей несколько слов. — В голосе моей матери я уловил желание обольстить. — Для этого требуется нечто большее, нежели барабаны», — сказала она.
Она была необычайно довольна собой, как будто наконец узнала, как заставить Птахнемхотепа — несмотря на Его мрачное настроение — следовать туда, куда она клонит.
«Продолжай», — сказал Он.
«Военачальник влюблен в очаровательную женщину. Однако он чувствует себя проклятым. Его мертвая жена не желает простить ему измену. В ночи в объятиях своей новой возлюбленной он не может заставить свой член стоять».
«Несчастный проклятый бедняга», — сказал Птахнемхотеп.
«Я полагаю, то же произойдет и со мной», — сказал мой отец.
«Никогда, старина Неф», — сказала моя мать.
«Ну продолжай же», — сказал Птахнемхотеп.
«Подобно большинству военных, он не переносит жрецов, — сказала мать. — Однако он в отчаянии. И вот этот военный идет к Верховному Жрецу».
«Ты знаешь этого военного?»
«Я не могу об этом говорить».
Птахнемхотеп рассмеялся с искренним удовольствием: «Если бы ты была Царицей, Я бы не знал, чему верить».
«Ты бы никогда не скучал», — сказала мать.
«А также не смог бы должным образом вести Свои дела».
«Я бы старалась быть хорошей Царицей всего лишь по одной причине, — сказала Хатфертити, — чтобы народ Египта не страдал».
«У тебя очаровательная жена», — сказал Фараон моему отцу.
«Она благословенна в Твоем присутствии», — ответил Неф-хепохем.
«Хатфертити, — спросил наш Фараон, — что посоветовал военному Верховный Жрец?»
«Он сказал, чтобы тот написал письмо почившей жене и вложил его в руку какого-нибудь хорошего человека, который только что умер».
«Ну и что произошло?»
«Письмо было отослано именно таким образом, и мертвая женщина прекратила преследовать своего мужа. Его член вновь окреп».
«Лишь с большим трудом может живая женщина простить мужчину, — заметил Птахнемхотеп. — Я склонен думать, что мертвая вообще не способна на это. Скажи Мне, что написал военный. Должно быть, это было замечательное письмо».
«Я не знаю, что было в письме».
«Мне этого недостаточно, — сказал Птахнемхотеп. — А что бы написал ты?» — спросил Он Нефхепохема.
Теперь меня изумил мой отец. «Я бы написал своей мертвой жене, что мне ее очень не хватает, — сказал он. — Затем я бы заявил, что когда люблю других женщин, то чувствую себя ближе к ней. Ибо тогда я не думаю о другой женщине, — написал бы я, — но только о тебе. Поэтому восстанови мою силу. Позволь ей проявиться, чтобы я мог быть подле тебя».
«Я думаю, нам эта речь может понравиться больше, чем умершей», — сказал мой прадед.
«Отчего же? А что бы сказал ей ты?» — спросила Хатфертити.
«Я бы говорил с ней как с подчиненным. Видите ли, мертвые не имеют той же силы, что и мы. По сравнению с нами, они — одна часть из семи. Поэтому их проклятия можно отогнать от себя. Нам надо лишь сосредоточиться на этой одной из семи частей. Именно поэтому мало кто из нас с нетерпением ждет смерти. Соответственно, в своем письме я перечислил бы амулеты, которые собираюсь применить против нее, и молитвы, приобретенные для меня в Храме. Этого было бы достаточно, чтобы напугать ее».
«Холодное отношение к мертвой супруге», — сказал Птахнемхотеп.
«Думаю, никто из нас не должен позволять кому бы то ни было ослаблять свой член», — сказал Мененхетет. После этого замечания все помолчали.
«Ты не спрашиваешь, что написала бы я», — сказала Хатфертити.
«Я боюсь спросить», — сказал Птахнемхотеп.
«Я скажу Тебе потом, — ответила моя мать. — Момент упущен. — Она умолкла и посмотрела на меня, и впервые я ощутил острие ее жестокости. — Спроси моего сына, — сказала она. — Он все время слушал».
«Я бы, — начал я, — я мог бы написать… — Я не знал, как закончить. Нечто сродни тому же горю, что я ощутил, заглянув в глаза собаки, вновь вошло в мое сердце, и наконец я смог выговорить: — Это, возможно, самая ужасная история, какую я когда-либо слышал». И я, нет, я не зарыдал, я твердо решил никогда больше не плакать громко в присутствии слуг, я просто сидел, опустив голову, и по моему лицу катились слезы.
Ибо я услыхал мысль моей матери. Я услыхал, какое бы она написала письмо. «Если ты не восстановишь мою силу, я убью нашего ребенка», — вот что бы она написала.
Пока я плакал, разговор оборвался, но их молчание вздымалось и опадало. В этой неопределенности, сильно пораненной жестокостью письма, которое написала бы моя мать, я попытался вновь проникнуть в ее сознание в надежде, что на этот раз она обойдется со мной мягче, но вместо этого у меня возникло странное чувство, будто я гляжу на всех, находящихся в покое, глазами Фараона. Таким образом я видел свою мать, отца, Мененхетета и даже самого себя с места Фараона. Это казалось естественным, хотя и чрезвычайно необычным, и я понял, что, пытаясь проскользнуть в голову моей матери, я попал — и очевидно успешно! — в мысли Фараона. Это могло произойти лишь благодаря попыткам самой моей матери — в тот же самый миг! — войти в сознание Птахнемхотепа. И у нее это получилось! Глядя на всех Его глазами, нетрудно было понять, что сила моей матери была вовсе не меньше моей.
В следующее мгновение это необычное, приятное и естественное ощущение ушло. Подобно вельможе, притронувшемуся к свинье, я глубоко погрузился в реку страданий Фараона. Это, собственно, не были страдания. Он был охвачен чувством, для описания которого я едва ли знал слова — нечто сродни ощущению, которого я боялся, пробуждаясь: предчувствия, что наступающий день обязательно принесет какое-то ужасное событие. Итак, я почувствовал, что, подобно мясу свиньи, что как воск лежит в груди Фараона — еда даже не спустилась в Его живот, какой-то гнет в этом покое давит на Него, какое-то горе, которое случится до всего того, что должно еще произойти, как будто Он действительно мог не допускать до Себя все неприятности лишь до тех пор, пока Его не покинула сила. Чувствуя себя так, словно я вошел в пещеру, в которой оттенок каждого цвета был темным, как пурпурная краска, добываемая из улиток Тира, я также обрел ни с чем не сравнимый опыт изучения своей матери, отца и прадеда глазами Фараона, и моя семья была не такой, какой я ее знал, разумеется, выражения их лиц виделись Ему не такими, какими видел их я. На лице моего отца была написана изощренная хитрость, которую я никогда бы в нем не предположил, а Мененхетет обнаружил упорство, беспощадное, как сила камня, сокрушающего плоть. Конечно, независимо от того, как мало мой прадед говорил за столом, человек, которого видел Птахнемхотеп, был таинственнее камня — на деле то был валун, который может разбиться при падении с высоты и явить скрытый в его центре драгоценный камень, — или то оказался бы живой скорпион? Именно с таким трепетным восхищением и равным ему опасением глядел Птахнемхотеп на Мененхетета.
Что касается матери, то, если бы не история, которую она только что рассказала, я бы не узнал ее. Она выглядела более прекрасной и более убийственно жестокой, чем моя мать. Что же до меня, глядя на себя Его глазами, я был поражен не правильностью черт своего лица, но тем, что предстал самым смышленым маленьким животным, какое мне доводилось видеть, и жизни во мне было больше, чем я мог предположить. И все же на моем лице лежала печать такой грусти и такого ужаса! Этого я не ожидал. Я также не был готов к любви, которую ощутил в сердце Фараона, когда Он глядел на меня. Как и к тому, что любовь эта вдруг погасла под страшным давлением мяса свиньи в Его животе, и я, при этом повороте Его внимания, был возвращен в себя так же внезапно, как себя покинул.
Птахнемхотеп заговорил. Подобно чуткому гребцу, быстро оценивающему опасность, Он принялся рассуждать о делах, которые способны были отвлечь меня от описанного потрясения. Слуги стали одну за другой уносить большие свечи, и у Фараона было время, чтобы сказать о многом в промежутке, когда исчезало пламя одной свечи и медленно оплывала другая. По мере того как мы погружались во тьму, я ощутил, что покой стал похож на пещеру.
Он начал с замечания, что в истории, рассказанной моей матерью, есть отзвуки жизни всего нашего великого царства и она заставила Его задуматься об ушедших временах. Ибо притом что моя мать, сказал Он, говорила лишь о тех, кто живет среди нас или умер не так давно, Он тем временем обнаружил в ее рассказе чувства столь сильные, особенно со стороны умершей жены, что они напомнили Ему о великих предках, построивших Пирамиды.
Я с трудом мог поверить в то, что это голос Птахнемхотепа. Он говорил с торжественной размеренностью Хемуша, медленно, голосом, который мог вызвать во мне нетерпение, если бы чары этих долгих звучных рассуждений не успокаивали мои разбушевавшиеся чувства. Через некоторое время я даже стал считать, сколько голосов выходило из горла нашего Фараона этим вечером — некоторые были пронзительными, некоторые — низкими, другие — грубыми или быстрыми. Я услышал отражения — не более чем в своеобразном звучании слова, искажающем его произношение, — присущие Дробителю-Костей или Раваху, и еще намеки на голоса из многих провинций, — и я смог убедиться, насколько подобающей была способность нашего Доброго Бога, как всякого Бога, обладать более чем одним человеческим голосом. И все равно я и не подозревал, что Он может говорить и как Хемуш. Именно тогда я понял, что Птахнемхотеп не мог слышать голос, который Ему не нравился, чтобы не ощутить властного желания изгнать все его отзвуки. И вот мы услышали оттенки голоса Верховного Жреца, воспроизведенные столь умело, что Хемуш, где бы он сейчас ни был, должен был почувствовать, как нарушили его величественный покой, и быть притянутым, подобно куску черной-меди-с-небес, к своему подобию, созданному Фараоном.
Этим голосом Птахнемхотеп стал рассказывать. «О Моем предке Хуфу, — начал Он, — сказано, что Его глаз покоился на каждом камне Великой Пирамиды, который устанавливали на место. Известно также, что Он распустил Свой гарем и оставил лишь одну жену. Ей, Нечер-Хенет, Он был предан так же, как и самому себе. Ибо Он считал, что в верности заключается Его сила. Отдавая Свое тело одной женщине и никому другому, Хуфу обретал добродетель двух благородных душ, каждая из которых состояла из семи частей. Поэтому Они не просто добавляли свои силы — одну к другой, но умножали их. Соответственно, Хуфу обладал семижды семью проявлениями силы.
Такова, — сказал Птахнемхотеп, — сила, от которой мы отказались. В нас нет стремления построить одну Великую Пирамиду. Мы проводим жизнь за сотней разных дел. Мы даже решили, что сделали мудрый выбор. Ибо может ли быть больший риск, чем всецело верить кому-то? Хуфу мог быть в семь раз на семь сильнее любого другого Фараона, однако таким же могучим был и Его страх лишиться Своей силы. По этой причине Он не мог оставить Свой Дворец, не опасаясь, что Ра войдет в тело Его жены и похитит Его силу. Хуфу даже построил гробницу в самом центре Пирамиды, чтобы свет Ра никогда не смог проникнуть к Нему. К тому же на случай, если Его убьют при посещении места работ, Он оставил Своей страже негласный приказ о том, что Нечер-Хенет надлежит забить камнями насмерть. Он настолько перестал верить в ее верность, что начал подозревать Своих военачальников. Наконец Он издал Свой приказ. Никто в Мемфисе не имел права предаваться любви без Его разрешения. Народ был вынужден подчиниться. Какой простолюдин мог доверять своим соседям, когда каждый звук был слышен на улице, и какой благоразумный человек вверил бы свою судьбу преданности своих слуг? Все — богатые и бедные — были вынуждены соблюдать воздержание. Этот всемогущий Властитель, гробница Которого больше горы, мог повелевать чреслами мужчин и чревами женщин. — Птахнемхотеп вежливо кашлянул в ладонь. — И вот, даже лежа на смертном одре, Хуфу верил, что никогда не умрет, поскольку теперь Он полностью был Богом».
Птахнемхотеп умолк и посмотрел по очереди на каждого из нас, удостоив даже меня внимания Своего долгого взгляда, будто и мое участие было столь же важным для Него, как и внимание остальных. «Я искал мудрости, — сказал Он, — и пришел к выводу, что Фараон, будучи отчасти человеком, а отчасти Богом, никогда не должен излишне отклоняться в одну из сторон, иначе безумие станет Его единственным выбором. Хуфу заблудился, взы-скуя полноты божественных сил. Я же, возможно, стремлюсь к слишком немногим из этих даров».
Теперь Фараон замолчал. Его губы шевельнулись, как будто Он хотел сказать нам еще что-то, Он поколебался и действительно умолк. Я знал, что в нашем вечере наступает перемена. Все, что было странным, но вместе с тем стройным, исполненным небольшими страхами и непривычными удовольствиями, теперь будет нарушено. Волны набегали на мои мысли со всех сторон. И действительно, в следующий момент, не предваренный объявлением слуги, вошел Хемуш.
ДЕСЯТЬ
Если бы я не видел его раньше, я бы все равно понял, что он, должно быть, не только Визирь, но также и Верховный Жрец. Потому что он вошел так уверенно, словно был великим иноземным Принцем. Я — наравне с Фараоном наделенный дыханием, которое, возможно, дается лишь птицам, я хочу сказать, что наши крылья, будь они у нас, вздрагивали бы от легчайшего ветерка, — знал, что плохое настроение моего Повелителя так же надежно, как дверные петли.
Верховный Жрец миновал меня, как Царская лодка. Точно я был жалким папирусным плотом, качавшимся на поднятых ею волнах. Он не был крупным человеком, но его огромная голова с обритым черепом, умащенным маслом, сразу приковала мое внимание своим блеском. На нем была короткая юбка, не прикрывавшая его тяжелые бедра, а плечи покрывала непривычно широкая накидка, какие, как я вскоре узнал — так как первым приветствием моей матери Верховному Жрецу был вопрос о ней, — жрецы древности надевали в редких случаях. Это заставило меня испытать еще больший благоговейный страх перед ним.
«Возможно, для тебя еще осталось мясо зверя», — сказал наш Фараон.
«Я уже отужинал, — ответил Хемуш своим медленным, низким голосом. Затем он добавил: — Я не соблюдаю Ночь Свиньи».
Птахнемхотеп сказал: «Давайте помолимся, чтобы никакие Боги не были оскорблены подобным уклонением».
«Я не рассматриваю свое воздержание как оскорбление какому-либо Богу. — Его поведение предполагало способность уничтожить кощунство правильными движениями своего голоса, и, как будто для того, чтобы показать свое неудовольствие, он не сел, когда Фараон указал ему на место за столом, но вместо этого сказал своим низким голосом: — Я хотел бы просить внимания Твоего Уха».
«Сегодня — Ночь Свиньи. Ты можешь говорить перед всеми нами».
Хемуш вновь промолчал.
«Наш маленький праздник изменил свое течение, — сказал Фараон, — из-за твоего настоятельного желания прийти. Однако ты не желаешь сесть с нами. Таким образом ты хочешь Мне что-то сказать, и это скверно. Я наслаждался праздничным вечером. Часто ли ты видишь Меня веселым? Нет, в этом ты можешь со Мной согласиться. А от этого страдают люди Египта, не так ли? Ибо люди могут играть лишь тогда, когда веселы Боги. Ты знаешь это?»
Хемуш кивнул, но было видно, что его терпение на исходе.
«Скажи Мне, Царь Библа убил египетских посланников, которых задержал?»
«Нет, — сказал Верховный Жрец, — я пришел говорить не о Царе Библа».
«И не о Принце Элама, приказавшем посадить в тюрьму вождя, назначение которого отвечало нашим интересам?» «Нет, не о нем», — сказал Хемуш.
«Тогда Я спрошу тебя, Хемуш: какие новые и несчастливые события требуют Нашего внимания?»
«Только что ко мне приходил Главный Писец из управления Визиря в Мемфисе с посланием от Главного Писца в Фивах. Оно прибыло с гонцом этим вечером. В нем мне сообщается, что два дня назад ремесленники, обрабатывающие металл, и плотники фиванско-го Города мертвых прекратили работу».
«Два дня назад. Почему тогда это не могло подождать до утра?»
Тогда как другие от этого упрека пали бы на колени или даже семь раз коснулись головой пола, Хемуш всего лишь поджал губы. «Божественные-Два-Дома, — сказал он, — я пришел к Тебе этой ночью, поскольку положение затруднительное, а завтра я очень занят Нам следует обсудить его сейчас».
«Да, — сказал Птахнемхотеп, — ты выбрал единственно возможный момент». Ему был приятен издевательский взгляд, которым моя мать поддержала Его замечание.
«Можно сказать, — заявил Хемуш, — что к этим рабочим относились заботливо. На протяжении двух месяцев им не давали никакой тяжелой работы. Однако за эти семьдесят дней легкого труда им было выписано обычное количество еды. И все же, несмотря на нашу щедрость, они перестали работать».
«Хемуш, им действительно выдавали еду или просто засчитывали?»
«Оплата была начислена, но произошла задержка. Боюсь, что на протяжении всего Фаменота на неделю опаздывали с доставкой зерна. Весь Фармути масло и пиво доставляли, но, к сожалению, не зерно. — Он помолчал. — К тому же — нехватка бобов. Затем пришлось выдавать лишь полнормы рыбы. И они перестали работать».
«Как могли твои чиновники допустить такие низкие нормы?» — спросил Птахнемхотеп.
Теперь, похоже, у Хемуша действительно обнаружились серьезные причины остаться наедине с Фараоном. «Начальником ремесленников, обрабатывающих металл, и плотников в Городе мертвых в Фивах, — сказал он, — является Намшем. Он был выбран Тобой. Если Ты припоминаешь, Великие-Два-Дома, я просил Тебя не назначать наших мелких чиновников. Добрые чувства Твоей Божественной натуры позволяют Тебе видеть одаренность в наших людях быстрее, чем их лживость. Намшем задолжал более чем достаточному числу игроков и сводников. И вот он продал пятьдесят мешков зерна, принадлежавших рабочим Города мертвых, и многое другое. Когда на этой неделе они не получили положенного количества еды, они прекратили работу».
«Выдели им еду, — сказал Птахнемхотеп, — из запасов своего храма».
Хемуш покачал головой. «Боюсь, — сказал он наконец, — это немудрое решение».
«В прошлом году из Царской Сокровищницы в Храм Амона пошло сто восемьдесят пять тысяч мешков зерна, — ответил Птахнемхотеп. — Отчего ты жалеешь пятьдесят мешков для этих рабочих?»
«Им хорошо платят, — сказал Хемуш. — А моим жрецам — нет». Птахнемхотеп посмотрел на моего прадеда и повторил: «А моим жрецам — нет!» Затем Он принялся говорить с такой насмешкой в голосе, которая заставила бы побледнеть любого человека, менее выдержанного, чем Хемуш. «Известно ли тебе, — сказал Он, — что за тридцать один год Своего правления Мой Отец передал храмам более ста тысяч рабов, полмиллиона голов скота и более миллиона наделов земли. Не говоря уже о Его мелких подарках. Миллион амулетов, талисманов и скарабеев. Двадцать миллионов букетов цветов. Шесть миллионов хлебов! Просматривая Его записи — Я бы не поверил в это, если бы не знал, что Я Сам из года в год выплачиваю почти столько же Хемушу и его храмам, а наша Царская Сокровищница далеко не так богата, как прежде. Вероятно, те праздники, которые мы празднуем, не поднимают уровень реки на нужную высоту. То слишком много, то слишком мало, но обычно — слишком мало. Или Я недостаточно близок к Амону, или ты, Хемуш, недостаточно хорошо произносишь молитвы. В любом случае нам определенно не хватает зерна. И все равно Я не понимаю, как ты можешь жалеть эти пятьдесят мешков. За тридцать лет Мой Отец передал храмам полмиллиона рыб и два миллиона кувшинов благовоний, меда и масла. Великим Фараоном был Мой Отец, Рамсес Третий, однако недостаточно Великим, чтобы сказать „нет" требованиям Храма к Сокровищнице. А Я всего лишь Его тень. И тем не менее Я говорю тебе, Хемуш: дай рабочим Города мертвых их долю зерна. Наведи там порядок. Если Я допустил ошибку с Намшемом, не гордись этим».
«Я должен поступить так, как Ты велишь, — сказал Хемуш, — но обязан заметить, что Твой дар лишь побудит этих людей бросить работу снова и по менее значимой причине».
«Наведи там порядок», — повторил Птахнемхотеп.
Лицо Хемуша осталось непроницаемым. Он ответил: «Это была еще одна возможность, Божественные-Два-Дома, пребывать в утонченности Твоего сердца. Однако перед тем, как я уйду, я все же прошу выслушать меня наедине. Есть еще одно дело, о котором я не могу говорить ни в чьем присутствии».
«Как Я уже сказал, сегодня Ночь Свиньи. Посему говори перед всеми».
Однако, не повинуясь Фараону, Хемуш склонился и прошептал что-то Ему на ухо. Затем они посмотрели друг другу в глаза. Я почувствовал, как в равновесии моего духа что-то нарушилось. Птахнемхотеп сказал: «Да, возможно, я пройдусь с тобой по саду», — и, быстро улыбнувшись нам, поскольку Ему приходится так неожиданно удалиться, вышел вместе со Своим Верховным Жрецом и Визирем.
ОДИННАДЦАТЬ
Пока Он отсутствовал, мои родители не разговаривали. Мененхетет также не произнес ни звука. На меня нашло оцепенение, исполненное вкуса свинины.
Я объелся, был несколько смущен тем, что только что произошло, и почти засыпал. Как это бывает с ушибом, боль от которого наконец переходит в нежность, я был готов простить свою мать. Возможно, то был золотой свет последней свечи, отражавшийся в моем золотом кубке, но вскоре я увлекся манящей прелестью мысли о том, что свет в этом покое однажды пребывал в жилище меда, так как моя мать сказала мне, что воск для этих свечей брали из ульев Фараона. При их свете я снова взглянул на родителей, особенно на красоту своей матери, и подумал, что никогда не видел столько скрытых в ней лиц, сколько мельком увидел сегодня. Погруженное в их мысли, мое сердце, казалось, было в тот момент подобревшим с годами, как у пятидесятилетнего, и я был настолько полон высокомерия (впервые в жизни я чувствовал такое превосходство!), что не смог удержаться от улыбки, припомнив, как мало из всего того умения вести себя, что показала сегодня ночью моя мать, она проявляла дома. Будучи наедине с нами, в разговорах с отцом, она не выказывала ни уважения, ни терпения. И каким было ее собственное настроение, таким становилось и настроение в нашем доме. Ее дурные настроения, как я говорю, такие же, как у любого черного слуги, обычно заставляли меня почувствовать, что день стал непереносимо жарким. Я всегда верил, что она обладает силой влиять на погоду в нашем доме; после долгого пылающего дня ее дурное настроение, если оно было действительно мерзким, вполне могло испортить закат, и я помню удушающие вечера, когда последние облака над западными холмами окрашивались в черный цвет.
Однако в присутствии Мененхетета проявлялась другая сторона натуры моей матери. Тогда она могла казаться скромной, словно восемнадцатилетняя девушка, и я чувствовал себя не столько ее сыном, сколько младшим братом, и мы оба были там, чтобы почитать Мененхетета, по крайней мере я так думал до тех пор, пока не увидел их вместе прошлой ночью, и это беглое впечатление в соединении с той смелостью, что я наблюдал сегодня ночью, заставило меня с некоторым страхом подумать: «Она отдала все, чтобы вырастить меня. Однако теперь она хочет большего для себя».
Я также понимал, что наш Фараон отсутствует слишком долго. Мое смущенное семейство чувствовало себя неловко. И как раз перед тем как вид Его пустого места несомненно испортил бы удовольствие от вечера, Он вернулся. Однако в странном состоянии. Я ощутил в нем присутствие сильной подавленности, однако держался Он оживленно и был возбужден даже больше, чем раньше.
Он сразу же сделал слугам знак рукой, и четыре сирийца внесли предназначенные для нас подарки.
Серебряный подголовник был поднесен моему отцу, а Мененхетет получил маленькую куклу, вырезанную из слоновой кости, человечка в нижних одеждах из прекрасного полотна. Стоило нажать на бедра этого подарка, что вскоре и сделал мой прадед, как поднимался бледно-желтый член, увидав который мой отец непроизвольно захихикал, поскольку кончик его был выкрашен в красный цвет.
Моей матери был подарен кузнечик из цветного стекла, его голова с двумя маленькими рубинами вместо глаз снималась. Теперь в покое разлился восхитительный аромат.
«Не открывай его, — сказал Птахнемхотеп, — ибо вскоре мы покинем этот покой. Сохрани его, молю тебя, чтобы усладить воздух следующего. Ах да, милый мальчик», — сказал Он и сделал жест рукой, будто чуть не забыл обо мне, хотя, конечно же, это было не так, и слуги внесли прекрасный маленький ящичек, в котором покоились два куска черной-меди-с-небес. Я был так рад, что сразу забыл обо всем, играя со своими палочками, и их способность притягивать друг друга казалась мне более таинственной, чем раньше; на самом деле, особенно когда я закрывал глаза, я уже не был уверен в том — где верх, а где низ, так странно притягивались друг к другу мои руки. Потом Птахнемхотеп посмотрел на моего прадеда и сказал: «Объясни Мне это чудо».
«Раньше я не видел ничего подобного, — сказал Мененхетет. — Это не похоже на кусок янтаря, который притягивает к себе несколько обрезков ткани. Это и не взаимное очарование глаз. Это притяжение имеет вес».
«Можешь ли ты предположить, — спросил наш Фараон, — что в одном куске металла содержится желание обладать другим?»
«Я бы сказал, что это более чем желание и похоже на влечение в природе вещей».
Я мог слышать любопытство в словах Птахнемхотепа, когда Он спросил: «И где тебе видится это влечение? В реке? На небе?»
«Я дерзну сказать, что это влечение пребывает в течении времени», — пробормотал мой прадед.
«Не знаю, что ты имеешь в виду. С той же легкостью можно было бы говорить об узле или судороге. Быть может, дорогой доктор, ты говоришь о воспалении времени?»
Я хотел крикнуть Фараону: «Не смейся над моим прадедом, не то все мы пострадаем», — но не посмел.
Молчание Мененхетета, однако, было столь властным, сколь велика сила молчания камня. Лишь когда мы все посмотрели на него, он заговорил: «Я спрашиваю себя, не есть ли такое притяжение — зов прошлого, обращенный в будущее?»
Птахнемхотеп очень мягко коснулся хвостом стола. «Отлично, — сказал Он, — превосходно. Каждый из нас должен знать один глаз Хора. Между нами говоря, мы должны отыскать истину. Ибо Я бы сказал, что все-что-еще-должно-случиться может лежать бременем на том-что-прошло». Он кивнул. Затем выдохнул и встал. Мы поднялись. Наше пиршество было окончено.
Слуги повели нас из покоя, предназначенного для вкушения пищи, вверх по нескольким гладким каменным ступеням, мимо множества фонтанов и пальм к крытому внутреннему дворику, где стояли диваны для отдыха. Сначала мы увидели до блеска отполированные столбы из белого известняка, выглядевшие столь же благородно, как колонны фасада любого храма, а за ними располагались строения Дворца, множество дворов, садов и стен и даже виднелась река. Я так внимательно вглядывался во все, что можно было рассмотреть вдали, что едва не заметил, как слуги, один за другим, стали вносить маленькие закрытые клетки, установленные на подставках, а Фараон кивал, когда каждую из них ставили на ее место. Я уже достаточно узнал Птахнемхотепа, чтобы понимать, что вскоре явится нечто чудесное, что можно увидеть лишь в Его присутствии.
Когда был потушен последний факел, каждый из восьми черных слуг встал рядом с одной из покрытых клеток. В темноте мы не могли видеть лиц друг друга. Затем Птахнемхотеп щелкнул языком, и при этом звуке накидки были сняты.
Темнота засветилась. Понемногу мы разглядели то, что Он нам приготовил. Каждая клетка была покрыта прозрачным полотном. Изнутри за каждым покрывалом возникли маленькие светящиеся звездочки, которые беспорядочно метались взад-вперед — несметное множество огоньков в каждой клетке. От удовольствия у нас перехватило дыхание, затем мы захлопали в ладоши. Как несказанно трудно было поймать эти многие сотни светлячков! Какими мягкими казались черты моей матери в этом свете, и ах как велико было богатство ее любви! Мы сидели в темноте, освещаемой золотыми звездочками.
ДВЕНАДЦАТЬ
«При свете этих светлячков, — произнесла моя мать, — мы хотели бы услышать Твое желание?»
«Но у Меня его нет», — сказал Птахнемхотеп.
«В нашей семье, — сказала моя мать, — мы стремимся отвечать удовольствием на удовольствие. Что бы Ты хотел получить от нас? Оно — Твое». Я не мог вынести бесстыдства ее взгляда, когда она посмотрела па Него.
«Я могу представить Себе много радостей, — сказал Птахнемхотеп, но тут же засмеялся, как бы отвергая ее предложение. — Пожалуй, Я удовольствуюсь, высказав одно желание. Должен заметить, Я размышлял о нем долгие годы. — Словно подумав и утвердившись в истинности Своих слов, Он кивнул и продолжил: — Свет от этих малюток напоминает Мне огни лагеря войск древности. — Мой отец, очарованный прелестью этой мысли, не смог сдержать возглас восхищения. — Да, — продолжил Фараон, — я попросил бы Полководца Мененхетета, доводящегося тебе родным дедом, мысли которого о времени произвели на Меня столь сильное впечатление, рассказать нам историю Битвы при Кадете».
«Не знаю, — медленно сказал Мененхетет, — когда я говорил об этом дне в последний раз».
«Я могу только сказать, — молвил Птахнемхотеп, — что часто вижу эту битву. Подвиги Моего предка Рамсеса Второго предстают предо Мной во снах. Итак, говорю Я, если ты готов отплатить удовольствием за удовольствие, расскажи Мне о Битве при Кадеше».
Мой прадед помолчал и поклонился: «Как говорит Хатфертити, таков обычай нашей семьи». Выглядел он при этом не более счастливым, чем грозовая туча.
Когда он не произнес больше ни слова, прозвучал голос моей матери. «Расскажи о битве», — сказала она, и в ее тоне была досада, словно Мененхетет мог многое испортить, если не будет осторожным.
После этого воцарилось молчание, вызванное потоком враждебности в мыслях моего прадеда. На его лице явилось еще не прозвучавшее возмущение неба перед бурей, и я почувствовал, как сила этого недоброго чувства передалась непосредственно моей матери. Какими бы уродливыми ни представлялись мне его мысли, такой горечи я не ожидал. «Выродка, который вкушает за ужином помет летучих мышей, пригласили, чтобы он выболтал несколько секретов», — таковы были те невысказанные слова, что перешли от моего прадеда к моей матери.
«Знай, что Мне доставляет удовольствие видеть тебя в Моем доме», — произнес Птахнемхотеп в наступившей тишине.
Мененхетет снова поклонился.
«Я могу говорить, — сказал он, — четырьмя голосами. Я могу обращаться к Тебе как молодой крестьянин, ставший колесничим и возвысившийся до положения Командующего-Всеми-Войсками, начальника Отрядов Амона, Ра, Птаха и Сета во время правления Рамсеса Второго; я могу поведать Тебе, как в своей второй жизни я был самым молодым Верховным Жрецом в Фивах в годы старости того же Рамсеса Второго. Точно так же, я могу рассказать о третьем Мененхетете, ставшем самым богатым из богачей. Родившийся в правление Мернептаха, он жил во времена Сиптаха, Сети Второго и других Фараонов, таких как Сетнахт. Теперь, если Ты пожелаешь, я могу говорить от имени того, кем являюсь здесь — Твоего Мененхетета, знатного человека, Полководца, а позже — знаменитого врача. Я могу, если Ты захочешь услышать об этом, рассказать о заговоре против Твоего отца или о коротком и бесславном пребывании на троне Рамсеса Четвертого, Рамсеса Пятого, Рамсеса Шестого, Рамсеса Седьмого и Рамсеса Восьмого, мы всех их потеряли за двадцать пять лет, да продлится правление Твоего Величества дольше всех Их, вместе взятых».
Мне часто говорили, что высшим знаком достоинства, который мог себе позволить человек, является возможность в полный голос говорить о значимости его звания и о своих свершениях. Однако речь моего прадеда была такой короткой, что показалась грубой, а последовавшие за ней слова привели нас в еще большее замешательство. Они шли вразрез со всеми обычаями обращения к Фараону. Теперь он сказал: «Дважды-Божественный-Дом, Ты говоришь о том, что счастлив видеть меня. Сегодня, однако, Ночь Свиньи. Посему я осмелюсь сказать, что до этого дня Ты не приглашал меня к Своему Двору на протяжении семи лет Своего Правления. Сейчас же Ты сообщаешь, что высшим удовольствием для Тебя явился бы рассказ о подвигах Твоего предка Рамсеса Второго в Битве при Кадеше. Я чувствую горечь невысказанного на языке за своими зубами. Семь лет я ждал, имея в своем сердце больше, чем любой человек в Твоем Царстве. Однако мой Правитель ни разу не призвал меня».
Хатфертити поперхнулась словами, застрявшими у нее в горле.
Однако звук голоса Фараона был чист, как будто Он наконец видел перед Собой человека, мысли которого были созвучны Его собственным.
«Говори еще», — приказал Он.
«Добрый и Великий Бог, мои слова могут вызвать Твою ненависть».
«Я желаю слышать их».
«Из тех при Твоем Дворе, кто смеется надо мной, Ты — первый». «Это не так».
«Это не так сегодня вечером».
«Да, действительно, Я не смеюсь над тобой в этот вечер. Я смеялся над тобой в другие вечера».
«Отголоски, — сказал Мененхетет, — этого хорошего настроения докатились до меня».
Птахнемхотеп кивнул. «Я не знаю никого при Моем Дворе, — сказал Он, — кто бы не испытывал к тебе определенного уважения. Они, безусловно, тебя боятся. И тем не менее ты даешь повод для множества злых насмешек. Есть ли у тебя какие-то соображения о причинах подобных разговоров?»
«Я хотел бы, чтобы причины изрек Твой голос».
«Полагают, что тайные привычки нашего достопочтенного Мененхетета неприятны».
«Они отталкивающи, — ответил мой прадед. — Я известен как выродок, поедающий помет летучих мышей».
«Ну вот, — сказала моя мать, — он произнес это вслух».
«Летучие мыши, — сказал Мененхетет, — это грязные создания, истеричные, как обезьяны, беспокойные, как паразиты».
«Кто может не согласиться с этим? — сказал наш Фараон. — Вероятно, легче говорить о тебе с издевкой, чем понять твою привычку».
Они посмотрели друг на друга, как мужчины, чье молчание говорило слишком многое.
«Делаешь ли ты это, — спросил Фараон, — занимаясь магией?»
Мененхетет кивнул: «Я желал использовать то, что постиг в других существованиях».
«И это тебе удалось?»
«Были времена, когда я не мог отказаться от поиска ответов на интересовавшие меня вопросы. Поэтому я оставил попытки не внимать голосу, говорившему мне об откровениях, которые содержатся в невыразимом отвращении, вызываемом летучими мышами».
«И ты пошел к своей цели?»
«На протяжении нескольких недель много лет назад я исследовал этот вопрос, это так. Один раз, затем второй я съел эту омерзительную смесь. Сейчас мне оскорбительно говорить об этом, но тогда мне это представлялось необходимым, и мне пришел ответ, которого я искал. Он был менее значим, чем я предполагал, и на этом можно было бы закончить, если бы доверенный слуга, помогавший мне в подготовке церемонии, не счел возможным рассказать о ней своему приятелю. Никому нельзя доверять полностью. К концу следующего дня весь Мемфис лихорадило от этой сплетни. Не думаю, что среди знати остался хоть один юнец, который бы не слыхал об этом. И я, желавший употребить то, что узнал…»
«Для чего?»
«Чтобы преумножить, — сказал Мененхетет, — жизненную силу наших скудеющих земель. — Когда наш Фараон взглянул на него с некоторым удивлением, мой прадед поднял руку, словно на какой-то момент он стал нашим Повелителем. — Я не говорю, — сказал он, — о молитвах, призывающих нашу реку подниматься до нужного уровня. Это дело жрецов. Я говорю о вещах, о которых не хочу распространяться. Понадобилось бы знание моих четырех жизней, чтобы начать понимать некоторые церемонии. — Заметив при этих своих словах неудовольствие в движении губ Птахнемхотепа, в их изгибе жестокость лезвия меча, — тут я понял раз и навсегда, что самое верное средство вызвать у нашего Фараона желание мучить других — раздразнить Его любопытство и помешать Ему удовлетворить его, — мой прадед достаточно круто изменил свой тон на доверительный, чтобы сказать: — Человек, вовлеченный в представляющиеся странными церемонии и изрекающий слова власти, обнаруживает, что должен обращаться к какому-то одному Богу чаще, чем к другим. Этому Богу отправляется не только большая часть его ритуалов, но и его мысли. Посему я стремился стать посредником Осириса, поскольку Он говорил со мной в Стране Мертвых. Я полагаю, лишь Он может укрепить жизненную силу наших неурожайных земель».
Теперь его слова лишили всех дара речи, а достоинство, с которым сидел мой прадед, было сравнимо со спокойствием статуи.
Кто, как не Птахнемхотеп, мог войти в такое молчание? «Я, — произнес Он, — тот Фараон, кто более других напоминает тебе Осириса?»
«Да, — ответил мой прадед. — Я бы сказал, что это так». Он наблюдал за светом в глазах нашего Фараона (ибо этот свет был заметен даже в мягком сиянии светлячков).
«Это интересно. Пожалуйста, продолжай. Я хотел бы услышать о вреде, нанесенном тебе Моим Двором».
«Я не хотел бы жаловаться в Твоем присутствии, но должен заметить, что то маленькое предательство моего слуги имело далеко идущие последствия. Желаемый результат ритуалов, которые я выполнял, был уничтожен издевками Твоих придворных. К своему невыносимому стыду, я вынужден сказать, что знаю многое, но мало что могу».
«Магу, — сказал Птахнемхотеп, — следует уметь противостоять потоку подобных насмешек».
«Боги прислушиваются к злым мыслям. Они должны это делать. Ни один из нас не чужд магии, когда мы говорим с Богами во сне».
«И все же, как ты сказал, лишь один недостойный слуга является причиной этих ужасных разговоров».
«Я бы не стал утверждать этого, — сказал Мененхетет. — Я делал многое, что не одобрили бы благочестивые люди и те, кто вовсе не благочестив. Однако в глазах людей два нечистых ужина делают равноценным все остальное. Весьма прискорбно! Я бы мог многому научить».
«Да, Я верю этому. Вероятно, на тебя много клеветали. И все же у Меня остаются сомнения. Неужели, — спросил Птахнемхотеп, — лишь эти истории с летучими мышами прилипли к тебе, или — Я буду откровенен настолько, насколько позволяет эта ночь, — сама природа извержений владела твоими мыслями? Я слыхал, что, когда ты врачевал, твои методы лечения представлялись в высшей степени необычными».
«Я вел, — ответил Мененхетет, — согласно моим собственным представлениям о подобных вещах, правильную жизнь. Я не боюсь говорить о чем бы то ни было и тогда, когда говорю с Фараоном, столь мудрым в Своем понимании, каким являешься Ты. Нет, — сказал он, — нет, я не испытываю никакого стыда, рассказывая об этих таинственных ритуалах. Это другие не могут вынести подобных рассказов».
«Я знаю, что не могу, — сказала ему Хатфертити. — Вечер будет испорчен». В ее голосе прозвучала такая сила, что мой прадед устремил на нее взгляд, исполненный всей силы его глаз, и поединок их воль закончился тем, что она больше не могла смотреть ему в глаза. Это был его час.
«Продолжай, если ты готов», — сказал Птахнемхотеп.
«Хорошо, — сказал Мененхетет, склонив свою голову к Хатфертити. — Мы не знаем, — сказал он, — каким образом эти мысли проникли в Египет, но долгое время мы составляли наши лекарства из отправлений обезьян, шариков змеи, катышков овец, конского навоза, коровьих лепешек, птичьего помета и даже содержимого наших собственных сот. — Он помолчал. — Настало время, когда мне пришлось задуматься над свойствами пищи, которую мы едим. Мы не только черпаем в ней силу, но то, что мы не можем или не хотим использовать, выбрасывается прочь. Извержения полны того, что нам слишком отвратительно, но в них содержится и то, что мы не можем позволить принять в себя, — все то, что слишком богато, слишком храбро или слишком гордо для нас. Раз сегодня Ночь Свиньи, то я скажу, что больше честности, щедрости и верности у Тебя на службе можно найти в дерьме Твоих придворных, знатных дам и Твоего Верховного Жреца, чем в том, что выходит со словами из их уст. Ибо любая пища, покровительствующая ханжеству, немедленно поглощается Твоими друзьями-придворными, но всякая добродетель, которую ты хотел бы, чтобы они сохраняли для Тебя, выходит не задерживаясь».
«Хорошо сказано, — произнес Птахнемхотеп. — Все это совсем не чуждо Моим ушам. — Голос Его был очень слаб, видимо, Он разделил с моим прадедом часть его горечи. И все же в этом чудесном мерцании светлячков Он возразил ему Своим вопросом. — Можешь ли ты, — спросил Он, — не принимать во внимание мудрость простых людей? Для них чистое полотно, несомненно, знак высокого положения. Тот, кто безукоризненно чист, может избивать палкой того, кто грязен. Мы даже сравниваем того, кого не уважаем, с навозом. И все же твои рассуждения все равно занимают Меня. Мне трудно оспорить их прямо сейчас. Они столь необычны. Если наши извержения уносят из нас не только худшее, но также и лучшее, как можем мы найти хоть что-то стоящее в кишках человека, отличающегося благородством? По твоему рассуждению, из него прежде всего должен выходить злейший яд. В этом случае не справедливо ли и обратное? Не выносит ли золото задница бедняка? Почему в Египте здравый смысл не заставляет всех помчаться к самым зловонным выгребным ямам самых грязных бродяг? Подумай, какие сокровища храбрости и щедрости можно найти в отправлениях этих мерзавцев!» Теперь Хатфертити залилась смехом.
Моего прадеда это, однако, не смутило. «Да, — сказал он, — подобно госпоже Хатфертити, мы смеемся над дерьмом — однако мы всегда смеемся, когда внезапно нам открывается истина и так же внезапно скрывается от нас. Боги пощекотали нас правдой. И вот мы смеемся».
«Ты не ответил на вопрос, мой прадед», — внезапно вырвалось у меня.
«Тебе интересно?» — спросил Фараон.
Я с готовностью кивнул. Комната зазвенела от хохота, и мне стало любопытно, какую истину я приоткрыл им на мгновение?
«Да, — сказал Птахнемхотеп, когда все успокоились, — Я тоже хочу услышать ответ».
«Я бы согласился, — ответил Мененхетет, — что благородный человек отвергает в своей пище всякое нечистое искушение. В этом случае, разумеется, его отправления не могут предложить ничего, кроме злейшего яда, и это было бы справедливо всегда, если бы некоторые благородные люди не жили с ужасным стыдом в душе. Когда им предоставляется возможность испытать свое счастье, они не осмеливаются использовать ее. В конечном счете человек не может радоваться любому испытанию, посылаемому ему жизнью, или самые храбрые из нас были бы вскоре мертвы. Однако, как следствие этого, нам остается признать, что каждый раз, когда мы избегаем трудного выбора, лучшее, что есть в благородном человеке, предпочитает покинуть его посредством ягодиц».
Птахнемхотеп вновь посмотрел на моего прадеда. «Я все же не понимаю, — сказал Он, и в Его голосе насмешка над предметом разговора прозвучала так же явственно, как и неподдельный интерес, отчет же Мои Советники не домогаются дерьма всяческой мрази? Что может в этом случае, если следовать твоим словам, быть более укрепляющим для таких людей, чем купание в самой омерзительной жиже?»
«Твоим Советникам лучше знать. У бедных и обездоленных есть сила налагать проклятие на свои отбросы. Иначе им не принадлежало бы даже их дерьмо».
«Это последнее замечание, — сказал Птахнемхотеп, — произвело на Меня самое сильное впечатление».
«Это было так хорошо сказано, мой Повелитель», — сказала Хатфертити.
Ее голос стал хриплым, и я гадал, что было тому причиной: разговор, вино, пиво, свинья или все вместе. Она, безусловно, стала менее почтительна к моему прадеду и более похотлива, когда смотрела на Фараона. Несколько раз я пытался проникнуть в ее голову, но мало что смог разобрать, кроме буйства обнаженных тел, столь же сальных, как у борцов в яме. Затем я узнал в этом клубке лицо Раваха, и там были и Птахнемхотеп, и мой отец, и прадед, и моя мать — обнаженная и с раскрытым ртом.
ТРИНАДЦАТЬ
Даже в бледном сиянии светлячков я мог видеть, что Птахнемхотеп неспокоен. Если сначала я думал, что причина Его волнения та же, что и у меня, и оба мы не можем простить моей матери ее неистовые наклонности, то вскоре я понял, что то же воздействие произвел на Него, должно быть, и разговор с моим прадедом. В любом случае сознание моего Фараона было теперь занято ягодицами. В Его мыслях Он был окружен ими. Затем они превратились в одну большую пару ягодиц, обернувшуюся лицом Хемуша.
В этот момент мой Фараон встал и, к всеобщему изумлению, кивнул моему прадеду. «Пойдем, — сказал Он, — я покажу тебе одну комнату». На мгновение мне даже показалось, что Он пригласит и меня. Его взгляд снова погрузился в мои глаза, и казалось, в нем была огромная любовь — или в тот момент я верил в это, — но потом Он вышел вместе с моим прадедом, и, к великому негодованию моей матери по поводу столь внезапного ухода, они удалились.
Как только они прошли между столбами, она встала и начала ходить кругами, подобно пантере, привязанной к столбу. Однажды я видел такое животное в садах моего прадеда; когда ему бросали кусок мяса, зверь мгновенно хватал его в воздухе. Так и моя мать была готова вцепиться в моего отца в тот самый момент, как он произнес: «Я говорю не для того, чтобы упрекать тебя…»
«Не говори», — сказала она.
«Я должен сказать тебе».
«Ребенок спит?» — спросила моя мать.
Я жалобно всхлипнул, как будто со сна, что не совсем было притворством, потому что всегда, когда они ссорились, на меня наваливалась грусть, больше меня самого.
«Ты не видишь, — сказал мой отец, — как женщины бросаются Ему под ноги каждый день. Его раздражают подобные знаки чрезмерного внимания».
«Я не бросаюсь. Я предлагаю себя. И делаю это, чтобы порадовать тебя. Ибо, если я достигну своей цели, что даст тебе больше удовольствия до конца твоих дней, чем знание, что каждый раз, когда ты извергаешься в меня, Он также пребывает там? — Она прекратила ходить взад-вперед. — Надеюсь, это смягчает твое маленькое сердце? Ну скажи, неужели тебе не хочется на одну ночь отдать меня Фараону?»
«Пожалуйста, замолчи. В воздухе разносится эхо».
«Всем известно, что я просто невероятно верна тебе». — Моя мать грубо рассмеялась.
Отец зашептал: «Я хотел бы, чтобы ты помнила о своем благородном происхождении. Я не узнаю женщину, которую вижу этой ночью. Ты так грубо смеешься».
«Ты на самом деле хотел сказать: делай что хочешь, но до этого, пожалуйста, веди себя как госпожа».
«Не думаю, что я именно это хотел сказать».
«Именно это. И ты сказал это очень хорошо. Ты говоришь так же хорошо, как говорила я, когда мы только поженились. Видишь ли, старый дружище Неф, ты украл мое умение вести себя и оставил мне свое — те привычки, что переданы тебе твоим отцом, этим жутким человеком. Если на твой вкус я слишком груба, это оттого, что я, Принцесса, сделала ошибку в юности, привязавшись к тебе».
После подобной речи мой отец замолчал; собственно, он всегда умолкал после их ссор. Ссоры эти всегда заканчивались победой матери, которая вела себя как Царица, однако в своем поражении мой отец был так хитер, что я часто думал: не стал ли он таким образом незаменимым для моей матери? Могла ли она так чувствовать свою власть с кем-то другим?
И все же этой ночью мой отец удивил меня. Он вернулся к ссоре, когда она была уже проиграна. «Полагаю, ты глупа, — взорвался он. — Ты все делаешь неправильно. Согласись, по крайней мере, с тем, что я Его хорошо знаю. Он Милостивый и Великий Бог, но живет Он во многих тяготах. Поэтому Его не привлекают женщины, столь довольные собой. Такие женщины слишком обременительны в Его глазах».
«Ты ошибаешься. У Него нет Царицы, а Он хочет ее иметь. У Него нет даже привлекательной наложницы. В Своем сердце — а я жила в Его сердце этой ночью — Он неопытен. Нет Богини, что была бы Ему подножием, что целовала бы Его бедра и умащала бы Его меч. Он — Фараон без Посоха…» «Замолчи!»
«…и без Плетки. Я была бы Ему подстилкой и рулем. Его драгоценностью и Его рабой. Я больше ничего не желаю слышать от тебя о моем поведении, ты — сын Собирателя-Дерьма».
«Ты дура, — сказал отец. — Ты так Его желаешь, что оттолкнешь Его. А потом Он посмотрит на меня и подумает: Я испытывал страх перед женщиной Моего Смотрителя. Он никогда не простит мне этого».
«Он будет мой, — сказала моя мать, — еще до того, как закончится эта ночь».
«Это плохо кончится, — сказал отец. — Если я потеряю свое место, на нас будут смотреть как на слуг Мененхетета, не более того».
Она ничего не ответила, но рядом с ее огромным страхом я почувствовал живущую в ней огромную алчность, и мне не захотелось находиться с ними дольше. Поскольку в моих мыслях я не мог отыскать ни Птахнемхотепа, ни моего прадеда и не имел ни малейшего представления, куда они пошли, я соскользнул на несколько первых ступеней в сон, и мои глаза еще даже не закрылись, как в своих странствиях я встретился не с кем иным, как с Верховным Жрецом Хемушем, он приблизился, и его лицо было большим и круглым, как луна. От него исходил запах благовония, которое кладут в пелены умерших. Хотя, открыв глаза, я все еще мог видеть своих родителей, их не было в моих сновидениях. Вместо них перед моими глазами появился Фараон и стал рядом с Хемушем.
«Расскажи нам о заклинаниях», — сказал мне Верховный Жрец.
Отчетливое ощущение, сходное со слабым надавливанием пальца на лоб, заставило меня поднять глаза на большое круглое лицо Хемуша, и я сказал: «Для наложения заклятия необходимо обойти стены. Надо обвести вокруг недруга окружность».
«Слушай ребенка, — сказал Птахнемхотеп. — Ты узнаешь от него многое, Хемуш».
Не знаю, отчего то, что я сказал, оказалось достойным похвалы, но как только она пришла ко мне, я произнес вслух следующую мысль. «Обойдя стены, — сказал я, — следует искать способа в них войти». Я не знал, что имею в виду, понимая одновременно, что сам, безусловно, нахожусь под воздействием каких-то чар. Потому что благодаря им Хемуш исчез, и я увидел Птахнемхотепа и своего прадеда в странной комнате и прислушался к их разговору.
Разумеется, я не мог быть уверен, что мой Повелитель и Мененхетет молчали все то время, пока ссорились мои родители, и стали разговаривать только сейчас, или в том, что всему, что я вскоре услышу, суждено пропасть для меня навсегда, если бы не присущая мне сила, позволявшая возвращать их голоса обратно.
Я точно знал, что все еще могу видеть светлячков в клетках и родителей, которые возлежали на разных диванах, облокотившись на мягкие подушки, и чувство разлада между ними было столь же неколебимо, как стена. Я оставался лежать на своем широком кресле, однако едва мог удержать возле себя столбы этого внутреннего дворика, потому что гораздо более отчетливо видел другую комнату, и она походила на место, где нарисованные рыбы плыли по полу под моими ногами. Здесь же на стенах были изображены поля во время посева и лица многих крестьян, ведущих свой скот. Я даже увидел забрызганные грязью копыта этих животных, и посреди них, с бычьим хвостом в левой руке и золотым посохом в правой, стоял Птахнемхотеп в золотых сандалиях на поле влажной от ила земли, но я знал, что ил нарисованный, потому что Его ноги оставались безукоризненно чистыми.
«Ты говорил, — сказал Он Мененхетету, — с такой ясностью, что я решил привести тебя сюда. Поскольку ни один знатный человек, кроме тебя, не входил сюда, ты будешь первым свидетелем того, что я придумал. Подойди, я покажу тебе». И Он взял моего прадеда за локоть, что являлось знаком исключительного внимания, и подвел к возвышению, на котором стоял золотой трон. Рядом с ним был золотой желоб, а сверху — золотой шадуф. Затем Птахнемхотеп приподнял золотое сиденье трона, открыв под ним сиденье из эбенового дерева с отверстием посредине.
«Ты не одинок в своих мыслях, — сказал Он Мененхетету, — как ты предполагал. Ты не мог этого знать, но эта Моя привычка — каждое утро размышлять, сидя на Золотой Вазе. На протяжении многих лет Я думал о тех несчастьях, что пали на Мои Две Земли. Да, об отсутствии дождя или о наших благотворных разливах (по крайней мере, в те редкие годы, когда им случается быть благотворными!). Я размышлял о нашей долине со столь глубоким слоем черной почвы, столь несравненной по своему плодородию и столь узкой — об этой узенькой ленточке обработанной земли между пустыней на Востоке и пустыней на Западе. И иногда Я думал о том, что наш Египет несколько напоминает разлом между двумя огромными ягодицами. Ты знаешь, эта забавная мысль позволила Мне относиться с некоторым благоговением к обычаю Золотой Вазы. Как тебе известно, все говорят, что Мне недостает благочестия, чтобы быть хорошим Фараоном, но мудрый правитель не стремится к ложному уважению. Каждое утро, когда Смотритель брал этот маленький золотой горшок с его содержимым — Моим содержимым — и выносил его в Мой сад с травами, Я с радостью наблюдал, что Боги знают, как распорядиться многими делами через посредство одного Фараона. Таким образом, Им предстояло употребить Мои отправления так же обдуманно и с пользой, как и Мои мысли, Мои слова, изысканность Моих движений или Мои указы. Когда ты говорил, Мне стало ясно, что ты разделяешь — и это было чрезвычайно теплое и приятное чувство — Мои мысли, всегда казавшиеся Мне столь странными, столь близкими к недопустимым (даже притом, что Я — Фараон). Я укрепился во всем, во что уже верил. Видишь ли, каждое утро Я говорил Себе: все, чего недостает во Мне для служения интересам Двух Земель, будь то целеустремленность, благочестие, прирожденная храбрость и воинский дух — ибо, увы, Я человек осторожный — все это тем не менее присутствует в Моих извержениях. Поэтому Мои садовники могли выращивать самые изумительные травы, и овощи, и цветы, и специи, чтобы сделать более совершенными тех жрецов, военачальников и надсмотрщиков, которых я считал наиболее преданными Жизни-Здоровью-Процветанию нашего Египта. На протяжении многих лет это была самая ободряющая Меня мысль. Я составил списки именно тех мужчин и женщин, которые заслуживают того, чтобы получать такие плоды и растения. Даже сегодня Я приказал писцу отослать восемь помидоров Рутсеху, достойному резчику камней. Представь теперь Мой ужас, когда в прошлом году Я узнал, что Смотритель Золотой Вазы оказался вором. Под пыткой он признался, что продавал все колдунам. Мой сад получал его отправления взамен Моих!
Теперь в Египте наступили такие годы, когда никому нельзя доверять. Мы не говорим об этом, но краж из гробниц сейчас больше, чем когда-либо раньше, — Я просматривал записи. Подсчеты запасов зерна ведутся продажными чиновниками. Часто воровство на высоких постах. Это, само по себе, уже очень плохо. Однако Смотритель Золотой Вазы крал у Меня лично. И это, более чем нападения на наши границы, убедило Меня в слабости наших Двух Земель. Я не обрел уважения наших Богов. По крайней мере, не в такой степени, как другие Фараоны. Они могли говорить с Ними лучше, чем я. — Он умолк, и когда Мененхетет ничего не сказал, Он заговорил снова:
— Именно тогда Я решил вверить Себя старому ремесленнику Птаху, Моему тезке. Если нельзя доверять ни одному Смотрителю, то да будет так — лишь воды, поднимаемые шадуфом, управляться с которым буду Я Сам, будут уносить Мои извержения. Из предосторожности трубы в саду Я приказал выложить разным работникам, отрезок за отрезком, а желоб разместить здесь. Никто не видел устройства в целом. Теперь воды стекают в Мой сад прямо за этой стеной, и, знаешь ли, все работает. Мои земельные участки, борозда за бороздой, получают себе ручейки от этой маленькой речки. Когда появляется необходимость в новом потоке, Я выливаю очередное ведро, — что Он и сделал, и из отверстия в троне вырвалась муха, возбудив своим жужжанием воздух между ними. — Все это требует, как ты понимаешь, облагораживания воздуха, и те слепые негры, что все здесь чистят, просто ошеломлены таким количеством благоухающего воздуха. Они знают, что в этой комнате не принимают гостей. Однако никогда Мои травы и овощи не были лучше. Этой ночью их подавали всем нам. Ты мог почувствовать: эти лук и капуста околдовывают».
«Несомненно», — сказал Мененхетет.
«Скажи Мне: слышал ли ты когда-нибудь о протоке, какую создал Я?» «Ни разу».
«Я так и знал, что она есть только у Меня. Иначе Я не испытывал бы такого страха, когда решился на эту перемену. Я хочу спросить: одобряешь ли ты то, что Я сделал?»
«Я не знаю».
«Ответ достойный Хемуша».
«Я должен сказать, что боюсь злой судьбы. Она может ослабить все сущее. — Мой прадед поклонился. — Когда Рамсес Второй назначил меня на службу к Его Великой Царице Нефертари, Она показала мне прекрасное зеркало. Это было первое настоящее зеркало, в которое я когда-либо глядел, и я сказал: „Это изменит все сущее". Так и случилось. Сегодня Египет слаб. Мне кажется, подобный слив взболтает содержимое слишком многих горшков».
«Нет, тебе не нравится то, что Я сделал, — Птахнемхотеп вздохнул. — Что ж, ты имел храбрость сказать Мне это. Однако Мне хотелось бы, чтобы тебе это понравилось. Я чувствую Себя пленником, настолько Я связан привычками Моих предков. Иногда Я думаю, что все зло наших Двух Земель началось с тех привычек, что связывают Меня. Затем Я говорю Себе: вероятно, Я недостоин быть Фараоном».
Мой прадед мягко ответил: «Ты ждешь от меня, что Я скажу, что достоин?»
«Ты прав. Я тот, кто не думает хорошо об этом Фараоне. Но ведь в иные ночи Я не верю, что Боги на самом деле являются Моими предками. В такие ночи Я не ощущаю Себя близким к Ним, а также не чувствую, что Мой Народ любит Меня. А ты?»
«Ты призвал меня, — ответил мой прадед, — после семи лет пренебрежения и хочешь, чтобы Я любил Тебя. Не знаю, могу ли Я. Нужно служить Фараону, чтобы выказывать искреннюю преданность. Нужно, чтобы Он верил тебе».
«А Я никому не верю?»
«Не могу сказать».
Птахнемхотеп коснулся пальцем крыла Своего носа. «Я вижу, — сказал Он, — что Моя откровенность должна сравняться с твоей. Я не собирался, но теперь буду говорить с тобой. Я должен с кем-то поговорить. Ибо все эти годы Я не давал Своему языку волю, и Мое сердце похоже на покой, который никогда не открывали. Я боюсь, что за этой дверью все уже готово зачахнуть».
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ
Теперь, как и обещал, Фараон говорил долго, или его речь показалась мне долгой из-за смены чар, под воздействием которых Я пребывал. Мои родители молчали, лишь неустанно плясали светлячки, и ритм их танца так очевидно вторил голосу Фараона, что Я действительно мог видеть Его и моего прадеда необычайно ясно.
«Я не выношу Хемуша, — сказал Фараон. — Ты можешь спросить: отчего тогда Я оставил гостей и пошел с ним? Что он мог сказать Мне, чтобы поднять Меня с кресла и увести от тебя и твоего семейства? Увы, Я не могу пока об этом говорить. Скажем, это дело касается только Хемуша и Меня, это отголоски нашей юношеской дружбы — с той лишь разницей, что мы никогда не любили друг друга. Теперь же, замечу, стало еще хуже. Я не переношу жрецов. Они обитают в Моих мыслях. Они подобны муравьям на самой пище Моих мыслей. А он Мой Верховный Жрец. Когда Я бываю в Фивах, он упрекает Меня за то, что Я посещаю Храм Амона недостаточно часто; к тому же он имеет наглость бранить Меня за непосещение здешнего Храма Птаха. „Неужели ты не понимаешь, — говорил Я ему, — что Я провел часть своего детства в Хет-Ка-Птах, прямо здесь, в Мемфисе. Позволь Мне тебе напомнить, Хемуш, — сказал Я ему, — что, будучи ребенком, Я привлек внимание Царя, Моего Отца, и это вызвало такую зависть в гареме, что Моя мать испугалась, что одна из маленьких цариц покончит со Мной. Разве ты это не помнишь, Хемуш?" — спросил Я его, и, разумеется, он помнил. Ведь именно его мать была той маленькой царицей, которой так боялась Моя мать. В те дни среди принцев, родившихся в гареме, не было никого, у кого было бы меньше надежд на будущее, чем у Меня. Все те Мои наполовину братья намного Меня обходили, и все были уверены, что Я стану жрецом. Тогда никто не знал, что Мои родственники так быстро умрут, ведь правда? — Затем Он ударил Себя по бедру бычьим хвостом. — Я сказал тебе слишком много», — промолвил Он.
«Да, — ответил мой прадед. — Завтра Ты не простишь мне все то, что сказал этой ночью».
«Я прощу. Тебе следовало бы поверить Мне. Сам Я решил верить тебе, Мой друг».
«Ты уверен в том, что я — Твой друг?» — спросил Мененхетет.
«По крайней мере, ты — враг Моего врага». Птахнемхотеп коротко рассмеялся.
Мой прадед поклонился.
«Я хочу поговорить больше, чем ты можешь себе представить, — сказал Фараон. — Я сильно разгневан на Хемуша. Я желаю покончить с его влиянием на Меня. Я не понимаю его. Этой ночью, когда мы были вдвоем, он говорил дольше, чем когда-либо в Моем присутствии. Я не верил Своим ушам! И это невозмутимый Хемуш. И был ли когда-либо Верховный Жрец, исполненный такого же спокойствия, как Хемуш? Однако этой ночью он был исполнен брюзжания. Он вовсе не так безразличен к Празднеству Свиньи, как пытался показать. В любую другую ночь он может вести себя так, будто держит свои пальцы в меду Маат или как будто только он знает сладость вечного спокойствия. Однако этой ночью Я, вероятно, расшевелил его больше, чем думал. Он действительно вел себя так, как если бы соблюдал требования Ночи Свиньи. — Птахнемхотеп улыбнулся. — Оставшись наедине со Мной, он высказал ряд жалоб. Справедливых замечаний. Я только приветствую это. Царям лгут все, так что для Меня правда — воздух и свежая кровь. Для Меня Ночь Свиньи подобна Ночи Полей Тростника. Я начинаю быстрее понимать то, что у других на уме. И это позволяет Мне править, исходя из справедливости, а не тщеславия. Если же Я правлю по справедливости, то, уважают Они Меня или нет, Богам все равно приходится оказывать Мне поддержку. Так должно быть. Посему Я побуждал Хемуша говорить. К Моему изумлению, он пожаловался, что его обязанности слишком многочисленны, что было самым необычным его заявлением. Я не встречал ни одного другого человека, который брал бы на себя столько обязанностей. Хемуш понимает значение почтения: обязанность приносит власть. Поэтому Я не поверил Своим ушам, когда он сказал, что не может продолжать оставаться Моим Визирем.
Невероятно, когда умер последний Визирь, Хемуш использовал все средства, чтобы быть назначенным на должность исполняющего обязанности Визиря. Он обещал, что будет находиться на ней до тех пор, пока Я не смогу найти действительно достойную замену. Разумеется, он понимал, что при Дворе уже почти не осталось способных людей. Притом что Я не очень люблю его, Я остановил Свой выбор на нем. Он делал свою работу. Теперь он жалуется, что его обязанности слишком тяжелы. Имея в виду, слишком тяжелы, если ему не будет дан и полный титул Визиря. И Я решил подразнить его. „Действительно, — сказал Я ему. — Я полагаю, Тебе пора перестать стараться быть одновременно Верховным Жрецом и Визирем".
И ты знаешь, когда Я сказал это, он просто кивнул. Затем он перечислил свои обязанности, как будто Мне они неизвестны. В продолжение своей речи он только что не хныкал. Мне не нравится то, что он делает. Я не понимаю, насколько он умен. Каждый второй день в году он не позволяет себе произнести слова, если не может произнести его медленно. Он не знает мелких чувств. Он держится так, будто отодвигает тебя в сторону — как бегемот! Если Я даю ему отпор, он просто добавляет его к своему весу — тем лучше для его внушительного вида. Действительно имеешь дело с бегемотом! — Затем Птахнемхотеп остановился и так странно взглянул на моего прадеда, что Я не знал, скривила ли его рот насмешка или страдание, но затем понял, что Он снова говорит, точь-в-точь как Хемуш и с присущими ему движениями голоса, тем самым голосом, что звучит слишком размеренно, чтобы его можно было перебить. — Каждое утро, — начал Он, — после вознесения молитв на рассвете, я должен снять печати с тяжелых дверей Суда, чтобы мог открыться отдел Царских владений. Без меня не может начаться ни один день правления. Посему не бывает ни одного утра, когда бы я не читал каждый отчет, поступающий от представителей Короны в каждом из сорока двух номов. Даже самый мелкий чиновник обязан писать мне трижды в году: в первый день Жатвы, Урожая и Разлива. Поэтому у меня есть возможность обнаружить в их отчетах большое количество вранья, которое позабыли эти самые чиновники, потому что они противоречат сами себе или говорят правду сегодня, тогда как лгали вчера. Благодаря чтению донесений я всегда начеку и вижу в зародыше даже самый легкий намек на неповиновение и могу унюхать измену в малейшем нежелании исполнять приказы. Поэтому ни в одном из номов не может возникнуть и малейшее движение без того, чтобы я о нем не знал. В качестве Военного Министра я каждый день проверяю расположение наших войск в пределах Двух Земель и за их границами. Как Министр по Делам жречества я присматриваю за писцами, учитывающими количество даров, приносимых храмам. Будучи Министром Хозяйственных Дел, я должен знать, когда отдать приказ начать рубку деревьев и когда — строительство каналов. Как Министр Права я просматриваю решения всех судей во всех судах, и не только выполняю эти обязанности ежедневно, но в каждое время года объезжаю номы и встречаюсь с Твоими чиновниками, чтобы знать, можно ли им доверять. И это всего лишь несколько из множества моих дел в качестве исполняющего обязанности Твоего Визиря. Как Верховный Жрец ко всему прочему я должен каждый день встречаться с Хранителем Храмовой Сокровищницы, Писцом, ведущим учет пожертвований, Смотрителем Собственности Храмов Амона, Писцом, отвечающим за учет Зерна, Смотрителями Лугов, Скота, Складов, Художниками и Ювелирами, не говоря уже о моих более важных обязанностях — ведь какой из самых священных ритуалов в Храме Амона в Кар-наке может быть отправлен без моего присутствия? На рассвете, а потом в середине дня я служу в качестве Твоего доверенного лица, так как сам Ты так редко показываешься в Фивах. Затем мне приходится делать это еще раз вечером. В Храме я вынужден служить и как Верховный Жрец, и как Фараон. Сколько может произойти ошибок, если там не будет меня, чтобы учить жрецов чистоте голоса, правильным жестам, божественному порядку слов и последовательности молитв.
Однако исполняя все эти обязанности, я обнаруживаю, и это причиняет мне настоящую боль, что, наставляя Тебя, я каждый день терплю неудачу, ибо в те редкие дни, когда Ты бываешь в Фивах рядом со мной, вознося свои молитвы, я замечаю, что Ты меня не слушаешь. Тебе также безразлично то, что в Мемфисе Твой день проходит в наслаждении игрой музыкантов или чтении отрывков из дорогих Твоему сердцу поэм о любви, тогда как непреложные обычаи и свершения великих предков остаются без внимания. Как и то, что Ты позволяешь Себе проводить дни за разговорами со Своим поваром, рвать цветы в Своем саду или распивать вино вместе с начальниками Царской Охраны. Или, к большей радости Двух Земель, Ты изредка развлекаешь заезжего Принца. Тебе безразлично, что в Мемфисе о Тебе ходят слухи как о Фараоне, Который не может дождаться ночи, но навещает Свой гарем днем, чтобы посмотреть, как танцуют Его маленькие царицы, и — как я слыхал — это едва ли не все, что Ты там делаешь. Однако ничто из этого не имело бы значения, если бы Ты слушал меня и знал бы мои слова, потому что тогда Ты мог бы править как Властитель Земли — Ты Сам! — и укреплять Египет Волей Твоих предков. Я вижу большую нагрудную пластину на моем Фараоне, и Корону Белой Земли, и Корону Красной, покоящимися на Его голове, однако в этих одеждах сидит не кто иной, как Ты, а Твой голос слаб!»
«Он не сказал этих последних слов!» — воскликнул мой прадед.
В ответ на то, что Его прервали, голос Верховного Жреца оставил горло моего Фараона, и Он заговорил собственным голосом. «Нет, он сказал это. Такого я не ожидал. Его ум был так слаб, его чувства такими напыщенными. Мне было даже жаль его. Вообрази, он посмел сказать „Твой голос слаб!"».
«Как, — спросил мой прадед, — Ты ответил?»
«Я сказал ему, что он — вол, рожденный для тягот, и что судьба Египта более зависит от нежности Моего прикосновения к цветку, чем от отчетов тысяч его писцов. И все же, пока Я говорил, Я не верил Себе. Мои Боги совершенно определенно покинули Меня. Хемуш отчитал Меня, затем оскорбил, но, можно с уверенностью сказать, стены его храма не обрушились.
К Своему ужасу, после этого Я принялся слишком много говорить. Это из-за того прискорбного происшествия между нами, когда мы были мальчиками. Я сказал ему: „Возможно, Я всего лишь одиннадцатый сын Своего Отца, но в Его глазах, Хемуш, Моя мать обладала одним прекрасным достоинством, она была предана Ему на протяжении всех тех ужасных лет в гареме, когда Его маленькие царицы, включая наверняка и твою мать, пытались убить Его. Вот почему Я попал в ряд престолонаследников. Разумеется, само по себе это не слишком приближает Меня к Амону, не правда ли? Однако вот что Я тебе скажу, Хемуш, Я — Фараон, и все твои обязанности существуют всего лишь для того, чтобы позволять Мне ежедневно размышлять о нуждах Двух Земель ровно столько часов, сколько Мне требуется". Однако все то время, что Я выговаривал ему, Меня не покидало чувство, что его упреки обоснованны. Мой голос был слишком слаб! Можешь заявить, хотелось Мне крикнуть ему, что Я плохой Царь. Скажи, что Моя третья нога так же слаба, как мальчик Хор. Осмелься даже сказать, что Я смотрю на Своих маленьких цариц, но редко присоединяюсь к ним. Но не говори Мне, что Мой голос слаб. Ибо Я могу говорить всеми голосами Египта, и уж точно твоим. Затем Я в гневе поднялся и громко сказал ему: „Пусть твои обязанности Визиря перейдут к другому. Служи лишь как Мой Верховный Жрец". Он был очень взволнован тем, что Я сказал, особенно когда Я добавил: „Мененхетет как раз подойдет на пост Моего Визиря". Он был в ужасе, уверяю тебя, и вскоре ушел».
«Ты говорил обо мне как о Своем Визире?» — спросил мой прадед. «Да».
«И Ты был уверен в каждом Своем слове?» «Не знаю. В тот момент сказанное имело для Меня огромное значение».
«Ибо если Ты не имел это в виду, — сказал прадед, — нас всех можно считать покойниками». Он пожал плечами, будто способность легко жить с подобными мыслями составляла основу его гордости.
«Мне кажется, я знаю, о чем ты говоришь. И все же Мне хотелось бы услышать это от тебя».
«Не стану отрицать, — сказал Мененхетет, — я думал о том, чтобы стать Твоим Визирем. Если мудрость, обретенная за четыре жизни, не может служить далеко простирающейся цели, то какой тогда от нее прок? Поэтому я пришел сюда в надежде, что мы сможем поговорить о серьезных делах. Однако я не могу сказать, что чувствовал себя уверенно. На протяжении недель я слышал, что Ты сместишь Хемуша с поста Визиря, заменив его Своим Главным Писцом Нёс-Амоном».
«Ты веришь этим слухам?»
«Он — ливиец, — сказал мой прадед, — однако Нес-Амон был с Тобой на протяжении долгих лет. Ты возвысил его до положения Принца. Он способный человек».
«Я обсуждал с ним это назначение. У ливийца нет твоих знаний».
«И все же, — сказал мой прадед, — Ты можешь положиться на его преданность. Если бы я был Твоим Визирем, не проходило бы и дня, чтобы кто-нибудь не шепнул Тебе, что мне больше нельзя верить».
«Подобные решения я оставляю за Собой. Мои оценки людей — если Мне предоставляется возможность их выслушать — безошибочны. Разумеется, мало кто решается говорить с Фараоном. Ты говоришь. Конечно, я только что решил рассказать тебе правду. До этой ночи Я был готов избрать Нес-Амона Моим следующим Визирем. Он действительно способный человек. Однако в сердце каждого слуги есть ненадежное место. Я должен признаться тебе, что Хемуш, когда он шептал Мне на ухо, говорил не о проведенном вместе детстве, вовсе нет! Он сказал, что до него дошли слухи о том, что Нес-Амон готов двинуться на Дворец. Нес-Амон пользуется большим влиянием у Моих колесничих».
«Когда, сказал Хемуш, это может произойти?»
«Он сказал Мне, что весьма вероятно, что это случится сегодня ночью. Я рассмеялся. „У тебя нет нюха на военные дела, — сказал Я ему. — Ни одно войско не захочет выступить при полной луне, и особенно в Ночь Свиньи — все будет проиграно. — Я убедил его. Я сказал: — Если бы Мой Дворец был открыт для тебя, Хемуш, ты все равно не осмелился бы занять его. Только не в эту ночь. Положись на это. Нес-Амон чувствует себя не более уверенно, чем ты". Думаю, Хемуш согласился. Во всяком случае, его волнение относительно Нес-Амона почти прошло, и тогда он принялся попрекать Меня размерами своих обязанностей. Мне кажется, он пытался напугать Меня, показав размах своего влияния в Двух Землях. Однако Я не знаю, как он осмелился так говорить со Мной в конце. Он страшно рисковал. Он понимает, как Я и без того удручен сложившимся положением. Зачем удваивать опасность потерять свой пост, оскорбляя Меня?»
«Я думаю, Хемуш хочет, чтобы Ты сместил его, — сказал мой прадед. — Многие сейчас преданы ему, однако не настолько, чтобы осмелиться выступить против Тебя. Ты — Фараон. Однако в случае, если Ты лишишь его власти, те, кто верно ему служат, также лишатся всего. Вот тогда-то им придется идти с ним».
«Что бы ты Мне посоветовал?»
«Я бы заверил Нес-Амона в том, что он наверняка заменит Хемуша, и я бы убеждал Хемуша в том, что Ты вскоре сделаешь его полным Визирем. В нужный момент назначь Визиря над ними обоими. Оставь Фивы и Верхний Египет Хемушу, а Мемфис и Нижний Египет — Нес-Амону. Каждый из них мог бы именоваться Ви-зирем-при-Верховном Визире».
«Ты стал бы Верховным Визирем?»
«Это потребовало бы от меня всех моих способностей».
«Могу Себе представить, — Птахнемхотеп кашлянул, и этот кашель был столь же печален, как само отчаяние. — Я не знаю, что делать, — сказал Он. — Твои враги никогда не признают в тебе большего достоинства, чем содержится в помете летучих мышей».
«Этого я боюсь меньше всего, — сказал Мененхетет. — Человека, о котором сложилось отвратительное мнение и которому недавно была вручена ужасающая своими размерами власть, чрезвычайно уважают. Все надеются, что он не будет поступать как тиран».
«Тогда чего ты опасаешься?»
«Того, что Ты все потеряешь этой ночью. Я бы поднял свою охрану, чтобы занять позиции на стенах».
«Я не верю Моим военным. Та половина из них, что не близка Нес-Амону, может быть предана Хемушу. — Теперь Птахнемхотеп сладко улыбнулся Мененхетету. — Мое положение следующее — Мне противен Хемуш, Я больше не верю Нес-Амону, а тебя Я вовсе не знаю. Однако в этот момент Я счастлив. Я верю в то, что Фараон, если Он достаточно мудр, чтобы думать только о том, что находится перед Ним, будь то Его Посох, Его Плетка или не более чем цветок в Его руке, есть наивысшая сила в Двух Землях. Никакое войско не сможет выступить против Него, покуда в Его мыслях нет страха. Веришь ли ты этому?»
«Я не знаю».
«Я скажу тебе. У Меня нет необходимой Фараону мудрости. Однако Я испытываю к тебе расположение. Если ты будешь достаточно мудр, чтобы не предать Меня, и скажешь Мне все, что Я захочу узнать, тогда Я не смогу не преумножить Свою силу и мудрость. Разумеется, трудно не предположить, что ты предашь Меня».
«Бывают ночи, — сказал Мененхетет, — когда я желаю обмануть Самого Повелителя Осириса».
Птахнемхотеп рассмеялся с неподдельной веселостью. «Я хочу, чтобы ты рассказал Мне, — сказал Он, — о Моем предке, Рамсесе
Втором. Он тот, чья сила Мне понадобится в грядущие часы и годы. Я хочу знать, что произошло во время Битвы при Кадеше, и все, что за ней последовало».
«Рассказ, который Ты желаешь услышать, может заполнить все те мгновения, что еще остались в этой ночи».
«Я не ложусь до утра. — Он заколебался. — Будешь ли ты говорить о Битве при Кадеше?»
«Когда я думаю об этом, мне хочется стать Твоим Визирем».
«Возможно, после того как Я выслушаю тебя, у Меня не будет другого выхода».
Мой прадед рассмеялся. «Когда я правдиво расскажу мою историю, Ты узнаешь так много, что я не буду Тебе больше нужен. Ты станешь Фараоном более великим, чем все остальные, и Хранителем Тайн. Кто лучше меня знал Великого Фараона, Рамсеса Второго?»
«Ты вынуждаешь Меня чувствовать признательность до того, как ты начал свой рассказ».
В улыбке моего прадеда раскрылась сила его лица и молодость шестидесяти лет его четвертой жизни. «История моей первой жизни наверняка займет нас в оставшуюся часть ночи. В этом я гораздо более уверен, чем в том, что стану Визирем. Однако раз это — как я чувствую каждым своим вздохом — ночь, когда многое приходит к концу и многое готово измениться, тогда пойдем обратно во внутренний дворик. Я расскажу историю гораздо лучше той, что какой-либо отец когда-либо рассказывал своему сыну, но мне хотелось бы изложить ее при свете светлячков. Ты понял их суть. Они пробуждают в памяти старые воспоминания о лагерных кострах, после того как стих рев дня. И я хотел бы, чтобы и моя внучка послушала ее. И мой правнук. Сейчас они самые близкие моей плоти люди за все четыре моих жизни».
IV КНИГА КОЛЕСНИЧЕГО
ОДИН
Моя мать встретила Птахнемхотепа с таким облегчением, что вполне можно было предположить, что Он только что избежал нападения морских змей. Она даже захлопала в ладоши от удовольствия, когда узнала, что мой прадед согласился рассказать о своих подвигах на службе у Рамсеса Второго, хотя не думаю, что она обрадовалась бы этому, узнав, как долго может продлиться это повествование. Но поскольку она этого не знала, то поудобнее уселась на диване и, как девочка, положила подбородок на свою ладонь.
«Я расскажу Тебе эту историю, — начал мой прадед, — словно мы не знаем друг друга и не говорили о многом этой ночью. И тогда все в ней будет отражать простоту моих мыслей в моей первой жизни, и мы сможем увидеть все происходившее со мной столь же неискушенными глазами».
«Такой рассказ, — ответил Птахнемхотеп, — явился бы приношением равным самой твоей мудрости».
«В той жизни мудрость была более похожа на силу, — начал мой прадед. — Я родился в одной из самых бедных семей, однако стал Первым Колесничим Рамсеса Второго и даже пережил рядом с Ним худшие часы Битвы при Кадеше». Он замолчал и осмотрелся вокруг. Казалось, ему трудно приступить к столь долгому повествованию, подобному тяжкому камню, который он еще не готов взвалить на себя, и он счел своим долгом сказать: «Конечно, эти деяния запечатлены на стенах храма Рамсеса Мериамона в Нубии, в усыпальнице Рамессидов в Фивах и в Карнаке [33]. А также в Абидосе, хотя не все, что там написано правильно, и безусловно — не написание моего имени. Голос Рамсеса Второго звенел в ушах, и поэтому Его писцы вырезали мое имя на камне, как Менни, а не Мени».
«Да, — сказал Птахнемхотеп, — Я посетил храм Великого Рамсеса в Нубии и был у стены, где сказано, что хетты отрезали Фараона от Его Войска. Там говорится, что тебя объял страх. Если Я закрою глаза, Я все еще вижу надпись. Света на ней достаточно, и тени резкие. Ты сказал: „Надо спасать наши жизни". Затем, ниже, написано, что Рамсес Мериамон ответил: „Мужайся, Менни, укрепи свое сердце. Я пройду сквозь них, как ястреб, разящий свою добычу. Я повергну их в пыль". Я читал эти слова на исходе дня, и Мне все еще видятся желобки букв».
«Это те слова, что написаны там», — сказал Мененхетет.
«Ты действительно испугался?» — спросил Птахнемхотеп. Когда мой прадед не ответил сразу, Он спросил еще: «На самом деле голос Второго был исполнен такой храбрости?»
«Мне было страшно, — сказал Мененхетет, — но я бы сказал, что был момент, когда и Рамсес Мериамон познал страх. Однако Он первый собрался с духом. И это придало мужества и мне».
«Ты говоришь, что был храбрее, чем написано. А Он — менее храбр. Возможно ли это?»
«Я никогда бы не сказал, что Он не был храбр. Второй был самым храбрым мужем, которого я когда-либо встречал. Однако все было не так, как высечено на стене храма. Был момент, когда Он знал страх».
«Расскажи нам об этом».
«Нет, Великие-Два-Дома. Еще не пришло время. Мой рассказ должен быть длинным, как вытянувшаяся змея. Если я покажу ее голову, Ты ничего не узнаешь о ее теле. Ты увидишь одну лишь улыбку змеи. Пока что я скажу, что в какой-то момент мы оба познали страх. Да что там, даже лев Фараона испугался».
«Значит, лев был на самом деле? — сказал Птахнемхотеп. — У Него действительно был тот ручной зверь, который изображен на некоторых стенах?»
«Да, лев сражался бок о бок с Рамсесом Вторым. И этот зверь творил чудеса. — Мой прадед пожал плечами. — Однако, если Ты хочешь знать правду обо всем, что случилось со мной, говорю Тебе, что должен рассказать свою историю не более искусно, чем мог бы правдиво поведать ее в своей первой жизни».
«Что ж, пусть будет так медленно, как ты пожелаешь», — сказал Фараон, подтвердив Свои слова изысканным движением руки.
Итак, мой прадед вновь был готов начать свой рассказ, и, желая понять, что он имел в виду под тем, что будет рассказывать медленно, я увидел, что молчание составляет большую часть того, что он собирается предложить. Какое-то время он не говорил, приступал к повествованию и вдруг останавливался, вздыхая в промежутке. «Перед тем, как начать, я должен, — сказал он наконец, — вернуться к тому, что было раньше — так и путешествие начинается с приготовлений в предшествующую ночь. Поэтому я расскажу вам о своем детстве в той жизни, которую прожил первой, притом, что я не могу сказать, что у меня действительно было детство; его у меня не было, по крайней мере, не было в том смысле, в каком оно есть у этого прелестного мальчика, моего правнука, который полусонный сидит перед нами. Его детство полно чудес, однако у меня, подобно столь многим из окружавших меня людей, в его возрасте мыслей было не больше, чем у любого животного, за исключением одной, которая не давала мне забыть, что я — не такой, как другие, и никогда таким не буду. Это я знал еще до того, как родился. Потому что в ночь, когда я был зачат, моя мать видела Амона».
«Только мать человека, которому предстоит стать Фараоном, может увидеть Амона в такую ночь, — сказал Птахнемхотеп. — Похоже — мы братья. Моя мать тоже видела Амона».
Мененхетет преодолел сомнение прежде, чем сказал: «Я говорю тебе то, что сказала мне моя мать, не более. Мои родители были бедными людьми в беднейшей деревне, и в ночь, когда это произошло, они лежали на соломе в своей хижине, мой отец рядом с моей матерью. В темноте их хижины разлился золотой свет, а воздух исполнился запаха, который был слаще всех благовоний в Доме Уединенных. Амон прошептал моей матери, что у нее родится великий сын, который станет повелителем мира. — Мененхетет вздохнул. — Как видишь, я достиг меньшего».
«Ты веришь ее рассказу?» — спросил Птахнемхотеп.
«Если бы Ты знал мою мать, Ты бы поверил ей. Она жила с землей в руках. Она не знала никаких историй. Она рассказала мне об этом лишь однажды, и этого было достаточно. Когда я вырос, мы никогда не разговаривали, если было нечего сказать. Поэтому мы никогда не забывали сказанного. Наш ум был подобен камню, и каждое слово было вырезано на нем».
«Благодаря одному этому замечанию, — сказал Птахнемхотеп, — теперь Я лучше понимаю Своих крестьян. Поэтому Мне понятно твое желание дать нам возможность задуматься над твоим рассказом. Я бы даже сказал, что готов слушать, отдавшись покою, как мог бы следить за течением несущей свои воды реки».
«Твое Ухо, — сказал Мененхетет, — уловило мои следующие слова. Ибо я собирался говорить о нашем Ниле. Он всегда был в моих мыслях, и я ощущал его течение при каждом моем дыхании. Должен сказать, что родился я, когда разлив достиг высшей отметки, а закончиться моей первой жизни было суждено в ночь, когда река только что сошла с высшей точки. Последним звуком, который я слышал, был шум ее вод».
Мененхетет дышал с трудом, словно до сих пор ему было тяжело вспоминать об этом. «Так вот, те, кто живет в городах, забыли о тяготах засухи и разливов. Здесь, в Мемфисе, мы можем иногда почувствовать дыхание жары перед тем, как река начинает подниматься, однако неудобства не столь велики. Наши прекрасные сады орошаются на протяжении всего года, окружая нас своей зеленью. Мы отделены от пустыни. Однако в земле, откуда я родом, на полпути между Мемфисом и Фивами, пустыня похожа на… — Он умолк… — Никакое-жилище-не-может-вместить-это».
Я заметил, что голос моего прадеда, из которого совершенно исчез обычный для него намек на насмешку, теперь изменился еще больше и стал по-настоящему торжественным. К тому же выражение «никакое-жилище-не-может-вместить-это» употребляли наши работники в поле, когда не осмеливались впрямую говорить о призраке, о чем я случайно узнал потому, что моя мать, сказала мне об этом всего два дня назад, смеясь над предрассудками деревенских жителей.
И тут я также заметил, что после перемены, происшедшей в его поведении, мой прадед теперь гораздо меньше похож на нашего повелителя, а больше — на достойного человека из народа, даже на деревенского старосту из тех, кого он мог бы отчитать, и я также подметил, что он употребляет лишь те слова, что подошли бы простым людям. «Перед тем, как рассказать, — сказал он, — о моем возвышении на военной службе, начавшемся для меня в возрасте пятнадцати лет, когда меня вырвали из моей деревни, как тростник вырывают из берега, я должен рассказать Тебе, как мы жили и о том нашем знании реки — как она поднимается и опадает. Это — все, что мы знали, и в этом заключалась вся наша жизнь. Я рос по этим законам. Здесь, в городах, мы говорим о том, поднимется ли вода в разлив на достаточную для хорошего урожая высоту. Мы празднуем наши самые большие праздники, приуроченные к подъему реки, мы восхваляем ее, мы считаем, что знаем ее, однако, другое дело — родиться под ее звуки и бояться реки, когда она поднимается.
Итак, позволь мне попытаться рассказать Тебе о ней, и я буду говорить так, будто Ты никогда не видел ее, потому что, на самом деле, познать ее ярость — все равно что спать, положив руку на брюхо льва».
Я заметил, как моя мать быстро взглянула на отца, как бы говоря: «Надеюсь, ему хватит ума развлечь нашего Фараона».
Однако Птахнемхотеп согласно кивнул. «Да, дай Мне именно так услышать о нашем великом потоке. Я обнаруживаю, что, когда ты говоришь о вещах Мне знакомых, Я узнаю их заново и они интересны Мне по-иному».
Мененхетет кивнул. «Когда я был мальчиком, воздух в моем краю, когда Нил стоял низко, становился таким же сухим, как во время лесного пожара. Тебе следует представить, как сух этот воздух. Здесь или в Фивах мы не знаем ничего подобного, однако в моей земле, которая находится посредине, после уборки урожая поля высыхают очень быстро. И почти сразу же земля становится старой и покрывается морщинами. Узенькая трещина, которая утром была слишком мала, чтобы просунуть туда большой палец ноги, той же ночью становится достаточно широкой, чтобы сломать ногу корове. Мы жили в своих хижинах и наблюдали, как наши трещины становятся шире, и по мере того, как они расширялись, они надвигались на нас с полей. Каждый день песок все больше заполнял их. Пустыня придвигалась все ближе к нашим опаленным лугам. И, наконец, наступал день, когда песок окружал нас, и листья свисали с деревьев, как мертвые пальцы. Самый слабый ветер нес тонкую пыль над нашими домами и нашими столами, и мы вдыхали ее из нашей соломы, когда спали. Бродя по стерне в поисках остатков зерна, наш скот ходил, свесив языки. Можно было слышать, как животные кричат: „Я хочу пить, о, я страдаю от жажды!" Но мы хотели пить еще больше. Мы все, даже дети, работали в канавах, стараясь вычистить дно наших узких каналов до разлива, прочищая стоки, выравнивая их края для наших тележек, восстанавливая стены наших водоемов — самый последний из нас работал, пока река стояла низко. А по ночам, когда мы отдыхали, слишком устав, чтобы играть, можно было бродить от одного тростникового острова до другого. В иле, покрывавшем дно наших каналов, попадались всякие мертвые грызуны; а сверху и снизу по реке разносились звуки из соседних деревень, занятых той же работой — все мы наполняли илом салазки, которые наши волы оттаскивали к стокам. Там мы смешивали его с соломой и получившимися кирпичами выкладывали берег. Скажу вам, по земле тогда разносилась ужасная вонь! Все высыхало, распространяя отвратительный запах кожи стариков. В этом разложении ощущается едкость мочи! И его зловоние никогда не выветривается. Эти тяжелые запахи били прямо в нос и жили под нашими глазами вместе с пылью и жарой. Говорили, что, вдохнув такое, можно потерять зрение, и я знал, что мои глаза сморщатся. Я все еще помню кости одной мертвой рыбы на песчаном откосе у берега — каждую ночь живший поблизости крокодил, должно быть, опалял их своим дыханием, потому что с каждым днем от рыбы оставалось все меньше — меньше высохшей кожи у головы и молочных камней глаз, однако запах костей был так силен, что можно было поклясться в том, что эта рыба прошла по всему речному дну, чтобы ее запах вобрал так много. День за днем я приходил, чтобы обойти вокруг нее. В гниющих костях этой рыбы пребывало больше зла, чем во всем, с чем я когда-либо встречался, и мне казалось, что, вместе с речной грязью, в них должна быть и луна. Каждый день скелет становился все более похож на высохшее растение, пока сами кости не высохли в сочленениях, и то, что оставалось от рыбы, развеялось по ветру.
Именно тогда мы почувствовали в воздухе первое влажное дыхание. Ветер поднялся вверх по реке из Дельты, миновал Мемфис и пришел к нам. По грязной зелени Нила, что походила на густеющий на огне суп, пошла рябь, и мы говорили, что это крокодил, такой же длинный, как сама река, шевелится внизу. Его шкуры не было видно, но поверхность воды пришла в движение. И все, что умерло в этой сухой жаре, лежало в пене наверху. На наших глазах река начинала гноиться. Трупы животных, мертвая рыба и сухие растения всплывали на тяжелую шкуру нового зеленого Нила, а воздух становился жарким и влажным. Потом новый Нил переливался через заграждения и языками втекал в середину канала, а река заливала островки тростника. Наше небо было так же полно птиц, как поле — цветов. Они летели вниз по течению вместе с подъемом воды, оставляя очередной остров тростника, и, по мере того как он уходил под воду, перелетали ниже, на острова, еще не покрытые этими ранними водами, потом дальше, они летели над нашими головами, и шум их крыльев был сильнее рева любого потока, несметное множество птиц. Каждое утро вода поднималась выше, чем в предыдущей день, и старшие в деревне принимались сравнивать нынешний ее уровень с прошлыми зарубками на своих палках. Хотя с верховий всегда приходили известия, что в этом году вода в наших местах поднимется выше или ниже, некоторые из стариков заявляли, что могут предсказать ее уровень по цвету реки. По мере того как она подымалась, ее поверхность разбивалась на множество беспокойных волн, и по ночам можно было слышать шум стремнины, будто голос этих новых вод исходил не из одного горла, а из глоток целого войска, и, когда их цвет менялся с зеленого на красный, который мы видим каждый год в Мемфисе, мы обычно говорили, что вода разогрета огнями Дуата. И финики на пальмах становились красными, когда красная вода текла мимо.
Теперь у нас не было другой работы, кроме защиты своих канав, поэтому мы могли сидеть на своих насыпях и смотреть туда, где вода внизу закручивается в водовороты, с такими глубокими воронками, что можно засунуть в такую дыру руку и не замочить ее, так мы говорили друг другу, но никогда не осмеливались действительно протянуть руку из страха, что этот один из миллиона и одного ртов реки засосет нас в себя.
Затем наступала неделя, когда река переливалась через более низкие берега и растекалась по нашим полям, и в первый день земля вздыхала, подобно тому, как кроткая корова испускает свой последний вздох под ножом в час жертвоприношения. Еще будучи мальчиком, я мог ощущать, как содрогалась земля, когда на нее вступала вода и застилала ей свет. Теперь наша великая единая река превращалась в тысячу маленьких речек, — поля становились озерами, а луга — илистыми лагунами. Ночью красная вода теряла солнце и становилась похожа на Поля Тростника и была серебряной в лунном свете. Наши деревни, выстроенные на берегу так близко друг от друга, что, казалось, камень, брошенный из одной долетит до другой, теперь были отделены друг от друга, подобно темным островам на тех серебряных полях, и единственными дорогами становились наши дамбы. Мы ходили по их гребням, и любовались водоемами, образовавшимися внизу (которые мы называли своими комнатами — наша комната-на-верхнем-поле, наша комна-та-в-нижней-долине), ибо мы знали, как воспользоваться любым углублением в земле, имевшим форму чаши, и возводили вокруг насыпи, оставляя входы для прибывающей воды, а теперь, когда эти лунки заполнялись, закрывали проходы. Крысы разгуливали по дамбам вместе с нами, совсем как утки, кувыркавшиеся в лужах. Впереди, по сторонам прибывающей воды, на полях, прилегавших к пустыне, скорпионы искали сухого места, от нее бежали и кролики, и рыси, и волки — в разные годы я увидал их всех, бегущих от ширящихся речных берегов. Каждый год в наши дома заползали змеи, и не было ни одной хижины, в которой влага не проступала бы на земляном полу, и можно было слышать голоса ослов и прочего скота, всю ночь жующего корм, который мы наваливали вокруг наших стен, прогоняя таким образом тарантулов. Иногда вода переливалась через более низкие дамбы, и мы могли посещать другие деревни, лишь пользуясь плотами из папируса, а порой наши запруды даже омывали наши деревни, в то время как журавли кормились в кишащей жизнью прибрежной грязи, потому что насекомые покидали свои гнезда по мере того, как вода подымалась все выше. Потом всегда наступало одно жаркое утро, еще более влажное, тяжкое и жаркое, чем все, что прошли до него, когда вода на полях успокаивалась, вздымалась, словно вздыхая, оставляла полоску ила, снова вздымалась вздыхая и с новым вздохом больше уже не переходила за эту полоску, но просто касалась ее, и рябь успокаивалась, ветер прекращался, и Нил больше не поднимался. В этот день наш крик слышался из грязи на краю тех полей, и в такие жаркие утра со стороны холмов на горизонте к нам возвращался свет. Вода была невозмутимой, как сон луны, когда солнце стоит высоко». — Мененхетет вздохнул.
«Так прошло мое детство, и я не помню никакой другой жизни, кроме этой работы у речных берегов, не знаю также, часто ли я думал о том, что сказала мне моя мать об Амоне. Я не видел в себе ничего, что отличало бы меня от других мальчишек, за исключением того, что я был сильнее их, а это давало большие преимущества. Я помню, когда однажды утром в нашу деревню прибыло несколько чиновников, чтобы произвести набор в царское войско, во мне не было страха. Я давно ждал этой службы и желал ее. Мне все наскучило, и я был готов. Река, помнится, была на второй неделе спада, и на солнце вода на наших полях превратилась в золотое озеро. Насколько я понимаю, представители властей выбрали этот день как самый подходящий, чтобы застать нас врасплох, поскольку при разливе нам было совсем непросто убежать и спрятаться в холмах. Я, разумеется, вовсе не волновался. По правде говоря, я действительно подумал об Амоне в тот миг, когда увидел чиновников. Для меня армия была подобна правой руке Бога.
Я и не подозревал об этом, — сказал мой прадед, — но я ожидал начала своего возвышения. Я смеялся над нашим деревенским старостой, который дрожал между двумя судебными исполнителями, каждый из которых держал в руке увесистую палку. Когда выкликали наши имена, мы должны были поднимать руку и говорить „Хо!", показывая свое присутствие, но дважды ответа не последовало. Двое парней убежали. По знаку военного, присланного Фараоном, двое исполнителей принялись бить старосту, пока он не остался лежать стеная на земле, а многие из нас украдкой хихикали. Этот староста довольно часто наказывал нас, так что мы не возражали против того, чтобы посмотреть на его собственные страдания. Затем чиновники осмотрели восемнадцать присутствовавших, взглянули на зубы, ощупали руки, помяли бедра, осмотрели детородные органы — и отобрали пятнадцать самых сильных. Под взглядами наших матерей, а большинство из них, должен признаться, плакали, нас увели по дамбе, усадили в лодки, и мы пошли на веслах на юг, вверх по течению, и шли весь тот день, покуда не подплыли к излучине, где располагались большая крепость и склад. Там, вместе с новобранцами из других деревень, нас заперли, и в ту ночь пекари из нашего барака выдали нам круглый и твердый черный хлеб. — Он улыбнулся своим воспоминаниям. — Я был бедным парнем и привык к жесткой выпечке, но тот хлеб был старше мертвых». — Его челюсти двигались, будто он снова пережевывал то подобие хлеба.
«В крепость прибыли другие новобранцы, — сказал Мененхетет, — и нас стали учить, как ходить строем, как бороться и владеть мечом. У меня, Добрый и Великий Бог, был самый сильный удар сверху, и во время этих занятий я разбил пять щитов. Они много учили нас искусству обращения со щитом, потому что тогда щиты были больше размерами, гораздо больше тех, которыми мы пользуемся сегодня, и закрывали человека от глаз до колен. И все-таки они плохо защищали, чтоб не сказать больше. Дело в том, что, в отличие от Твоих маленьких щитов с множеством металлических пластин, наши, оправленные в большую деревянную раму с натянутой на нее кожей, были такими тяжелыми, что на них накладывался лишь один металлический диск, не более нашего лица, установленный так, чтобы защищать руку в том месте, где она держала щит.
Один за другим мы должны были выходить из рядов и становиться против лучника, и, с расстояния в пятьдесят больших шагов, он выпускал в нас стрелу, а нам надо было, поскольку целиться ему было удобно, поймать ее на металлическую пластину так, чтобы она отскочила в сторону. Нас учили делать это, стоя боком и развернувшись к нему грудью, чтобы даже в случае, если стрела пробила кожу, она не обязательно поразила бы наше тело. И, разумеется, кожа на щите была достаточно прочной, чтобы некоторые стрелы не могли ее пробить. Однако, это было увлекательным занятием — держать такой щит и ловить на него стрелы, от которых ты не мог увернуться. Под конец учений против нас пятидесяти выстраивалось сто лучников, и мы должны были наступать под градом их стрел. Могу вас заверить, в то утро мне пришлось изрядно потрудиться. Все знали, что я овладел искусством обращения со своим щитом, поэтому многие лучники с удовольствием целились именно в меня».
«Много людей было потеряно во время этих занятий?» — спросил Птахнемхотеп.
«Было много царапин, несколько ранений, а двое умерли, но мы ловко увертывались от стрел, и эти учения помогли сделать из нас хороших воинов. Кроме того, на нас были стеганые накидки, достаточно толстые, чтобы остановить большинство стрел, хотя и не такие, как носят теперь. Учения тогда были тяжелее, потому что мы постоянно готовились к походу в земли, которые, как нам говорили, нам вскоре предстоит завоевать, мы же были так невежественны, что не знали, что речь шла о землях, которые мы уже завоевали за сто лет до этого, а теперь они взбунтовались. Однако подготовка была отменной. Мы были пехотой, а нашим оружием — кинжал да копье, однако нас учили также владеть луком и мечом. Поскольку я был первым во всех состязаниях, прежде всего — в борьбе, а также лучше всех владел кинжалом, дротиком, мечом, щитом и луком, мне даже было позволено принять участие в особой игре, в результате которой из наших рядов выбирали одного, который становился колесничим. В те дни лишь сыновья из благородных семейств могли поступить на такую службу».
«А были ли наши колесницы тогда совсем другими?» — спросил Птахнемхотеп.
«Они были прекрасными, как и теперь. В отличие от щитов, теперешние колесницы не отличаются от тех, что я знал тогда, ни одним изгибом деревянных частей, однако в те дни они еще не были привычным зрелищем. Самый древний старик из моей деревни часто рассказывал, как мальчиком слушал рассказы самого древнего старика, которого он знал, о том, как в детстве он впервые в своей жизни увидел лошадь, потому что только тогда первых лошадей стали привозить из земель, лежавших к востоку от Египта. Какой они вселяли в него ужас! Но тогда кто бы не испугался при виде столь странных животных? Они слышали голоса только чужеземных Богов и разговаривали громким фырканьем, или их ржание напоминало долгое завывание ветра Старик из моей деревни часто говорил, что, лишь подойдя к колеснице с двумя лошадьми, можно приблизиться к Фараону на самое близкое расстояние. Для нас колесничие были воинами, посланными Фараоном! Они с таким же успехом могли быть одетыми в золото. Ибо, когда они вставали позади тех четвероногих божеств и пускались вскачь, мы почитали их больше, чем капитана огромной баржи, плывущей вниз по Нилу. Теперь Тебе ясно, что простому пехотинцу в то время, когда я учился, это все еще представлялось редким умением, и Ты можешь понять, как я мечтал о том, чтобы стать колесничим. Чтобы выбрать одного самого достойного, для нас устроили гонку, и это было самым крупным состязанием, в котором нам до сих пор довелось участвовать. Ведь нам сказали, что победитель будет править колесницей, как благородный человек. Поскольку мы были простыми парнями и не умели править лошадьми, нас заставили, держа колесницу над своей головой, взбежать с ней по одному склону горы и спуститься по другому, неся на себе повозку, колеса и все прочее. Колесницы в те времена были такими же легкими, как и сегодня — не тяжелее десятилетнего мальчика, однако непросто было взобраться трусцой на высокий холм с такой повозкой на плече и спуститься вниз без единой царапины. Нельзя было допустить падения. Ведь мы наверняка знали, что за любую поломку своими палками они сломают твой собственный хребет.
Мы припустили рысью. Самые глупые из нас попытались бежать так же быстро, как лошади, и вскоре свалились на первых же склонах, но я начал подъем, точно я — сын Амона и могу черпать новую силу из каждого дыхания. Я делал шаги так, словно Нут кормила мой нос, а Геб — мои ноги, в то время как Маат занималась тошнотой в моем животе, наставляя меня не двигаться быстрее до тех пор, покуда я не смогу уравновесить невероятное напряжение моего тела и нечеловеческую боль в моих легких. И все же земля стала синей, а небо — оранжевым, как солнце, а иногда казалось мне черным. Затем песок пустыни также стал черным, а небо — белым. Камни на горе по мере того, как я шаг за шагом поднимался вверх, перестали быть для меня камнями, но обернулись злобными собаками с обнаженными клыками, а некоторые из камней казались такими же большими зверями, как дикие кабаны — один из них был огромным, как гиппопотам, — а мое сердце билось прямо перед моими глазами, и, когда я перевалил через вершину, я подумал, что умру, но я был уже за гребнем и по-прежнему впереди всех остальных. На спуске другой пехотинец почти обошел меня — у него были длинные ноги он делал огромные прыжки и приближался, догоняя меня, отчего мой пот стал ледяным. Меня трясло на жаре, а колесница навалилась на мое плечо, как лев. Клянусь, у нее были клыки, которые впивались мне в спину. Однако постепенно силы стали возвращаться ко мне, и вместе с ними — мое дыхание, и я даже увидел небо и землю такими, какими им полагалось быть, однако дротик оставался торчать в моей груди, а голову сдавила корона из боли. Я знал, что не смогу оставить того другого позади, если только не перехитрю его. Он был высоким и худым и сложенным для побед в подобных гонках, но я знал, что он тщеславен, и поэтому собрал все, что еще оставалось в моих ногах, и сделал один за другим несколько громадных прыжков, перескакивая зараз по десять камней. Он был уже у меня за спиной и скоро обошел бы меня, потому что после этих десяти прыжков сил у меня почти не осталось, но он не мог спокойно вынести отваги таких длинных прыжков, он должен был показать себя более смелым, чем я, и, попытавшись обогнать меня, он упал и разбил свою колесницу. С последнего склона холма я спустился в одиночестве.
Так я стал колесничим и попал в Дворцовую Школу Колесничих Царя Тутмоса Третьего, и Ты можешь быть уверен — я стал лучшим. Хотя и не так скоро. Прежде всего, меня надо было научить ухаживать за лошадьми, говорить с ними и чистить их, а лошади — таинственные существа. Невероятно долго я не знал — животные они или Боги, я видел лишь, что они не любят меня. Они становились на дыбы при моем приближении. Я не мог понять, на что способен их ум, так же как не знал, глупы ли они. Утонченность нижних частей их ног говорила мне, что они — животные, не лишенные известного совершенства, а свет в их глазах внушал мне уверенность, что их мысли могут путешествовать так же быстро, как стрелы. Судя по длинному изгибу их ноздрей, я полагал, что они узнают, как поступить дальше по тому, что смогут унюхать за соседним холмом. Однако по виду их зубов можно было заключить, что они тупые и упрямые существа. Поэтому я не понимал их. Впрочем, я все еще был деревенским парнем. Не догадываясь об этом, я сам был похож на лошадь. Я не думал и едва мог подчиняться незнакомым командам.
То, что я научился управлять вожжами и плавно поворачивать лошадей, стало большим поворотом в моей собственной жизни, чем победа в гонке с колесницами, — сказал мой прадед, — ибо, чем сильнее я старался преодолеть свою ужасную скованность в обращении с этими лошадьми, тем чаще я оказывался предметом насмешек. Сыновья благородных родителей, среди которых я теперь находился, отличались природной красотой движений — так я думал тогда, так же думаю и сейчас, — что подтверждает многогранная красота моего любимого правнука Мененхетета Второго, — он сказал это с легким кивком в мою сторону, — но это заставляло меня быть еще более упорным в учении. Я обнаружил, что думаю о поговорке, которую можно было часто слышать у нас в полях — она покажется Тебе грубой — однако эти слова можно услыхать в каждой деревне. „Узнай запах своего животного", — говорили мы. Именно тогда, работая в конюшнях, я понял, какой благоговейный страх вызывает во мне своеобразный конский запах. Их стойла пахли по-другому и лучше, чем поля и курятники вокруг нашего дома. Мне этот запах казался почти благословенным, полным душистого дыхания солнца на пшеничном поле. Все же моя боязнь лошадей отчасти состояла в том, что я считал их более, чем любых других зверей, похожими на Богов.
В наших конюшнях мне достался особенно норовистый жеребец, которого мне приходилось чистить. Однако приятный запах его шкуры на моем пальце казался сладким и дружественным, как запах первой деревенской девушки, которой я обладал. Она пахла больше землей, чем рекой, а больше всего то был запах пшеничных полей и ее собственного доброго пота, крепкого, как у лошади, и поэтому, когда я ощутил на своих пальцах этот запах, я подумал, что лошади — не Боги, но скорее могут быть схожими с мужчинами или женщинами, которые умерли, а потом вернулись в облике лошадей. Насколько я знал, еще никогда ни у кого не возникало подобной мысли, и я был уверен, что думать так — святотатство. Однако, укрепленный запахом души того жеребца, которую я ясно различил в смеси зерна и соломы, я смог ощутить себя рядом с кем-то, жившим в моем коне — кто бы это ни был — с кем-то, кто, возможно, немного походил на девушку, с которой я спал. С того утра я начал по-другому разговаривать с этим конем. Я больше не пытался ни умилостивить животное, ни молиться Богу, пребывающему в нем, и это избавило меня от многих неприятностей. Ибо как можно возносить моления неизвестному Богу? С другой стороны, я уже не пытался бить этого коня, как зверя. По крайней мере, не часто. Нет, теперь я, скорее, думал о человеке, пребывающем в животном, и понял, что этот жеребец завидует мне. Я разговаривал и ходил прямо, как когда-то делал это он, поэтому я мог чувст-вовать, какое наказание наложено на сильную душу. В своих мыслях я стал говорить ему: „Ты хочешь снова стать человеком? Попробуй послушать меня. Я могу стать твоим другом". И представляете? Животное услышало мои мысли. Я мог судить об этом по перемене в его поведении.
В начале занятий нам не доверяли колесниц с двумя боевыми лошадьми, но давали маленькие повозки, предназначенные для одной лошади, у этих повозок были деревянные колеса с широкими ободами, издававшие ужасный треск. Уши с трудом выдерживали этот звук, а от тряски страдал спинной хребет. Лишь такой сильный крестьянин, как я, мог переносить все эти удары, пока не научился правильно управлять лошадью. Другие ученики перешли на колесницы задолго до того, как я смог выбраться из своей рабочей повозки. И все же в последнюю неделю я изумил своего наставника. Я научился выделывать сложные фигуры с этой тяжелой телегой и смог даже уговорить своего жеребца двигать ее назад. И они перевели меня на две лошади. Тут же у меня снова начались неприятности. Мне пришлось учиться тому, что теперь я уже не друг, и не брат, и даже не просто человек, говорящий другому человеку, как тому жить, но скорее — отец, который должен научить два существа действовать вместе, как брат и сестра. — В какой-то момент он остановился, чтобы прочистить горло тем способом, к которому прибегают простолюдины, когда их голос хрипнет. — Нельзя смастерить стул без пилы, которой распиливают дерево, необходим инструмент, и теперь он у меня был. Я жил с этими лошадьми, разговаривал с ними голосом, а порой — мысленно и учил их, как двигаться вместе.
И пришел день, когда я смог направлять свою колесницу на таких поворотах, в которые другие с трудом могли вписаться, и мне больше не нужно было говорить с лошадьми. Мои мысли перешли в мои вожжи. Наступил даже час, когда я обмотал вожжи вокруг своего пояса и показал моему отряду, что колесницей можно управлять без помощи рук. Чтобы доказать преимущества такого способа, я промчался галопом вокруг лагеря с луком в руке, посылая стрелы в соломенные чучела. Начались новые учения. Вскоре все сыновья благородных родителей, мои соученики-колесничие, начали пробовать править вожжами, обвязанными вокруг пояса, только они научились этому не так быстро, как я, и было много увечий. Они не могли жить в мыслях лошадей так же легко, как это делал я.
Так я обрел свое мастерство, и, используя его, я вскоре перестал думать о лошадях как о мужчинах или женщинах. Сказать по правде, под конец я думал о вожжах больше, чем о чем-либо ином. Лошадей можно было сменить, но вожжи были мои, и с ними следовало обращаться должным образом. Потом я уже искал лишь подходящего благословения для масла для них. Мои вожжи стали такими мудрыми, что мне стоило лишь легко опустить их на спину лошади, и животное уже слушалось меня».
Затем мой прадед посмотрел на нас, и, быть может, это был лишь отблеск светлячков в клетках, но лицо его выглядело таким молодым, словно к нему вернулась сила юности, по крайней мере та, что была у него в его первой жизни, когда он был Царским Колесничим. Потом он улыбнулся, и я в первый раз подумал, что лицо моего прадеда прекрасно. Я прожил всего шесть лет, и мне еще никогда не доводилось видеть лицо, исполненное такой силы.
«Не пора ли нам, — спросил он Фараона, — перейти к Битве при Кадете?»
«Нет, — сказал Птахнемхотеп веселым и чрезвычайно довольным голосом, — признаюсь, теперь я хочу побольше узнать о твоих первых приключениях на военной службе. Все ли было так гладко?»
«Все шло не гладко гораздо дольше, чем Ты мог бы подумать. Мне еще была неведома зависть. Я не умел держать свой рот на замке. И вот в своем отряде я говорил всем, как скоро стану Первым Колесничим Его Величества. Тогда я еще не уяснил себе то, что продвижение на высшие посты в значительной степени зависит от умения скрывать свои способности. В этом случае твои начальники находят удобным продвигать тебя. Поскольку, как я уже сказал, никто не наставлял меня в этой мудрости, могу только заметить, что и сегодня ночью я все еще не искушен в ней».
«Дорогой Мененхетет, вскоре ты будешь незаменимым», — сказал Фараон.
В ответ на эти слова мой прадед поклонился. Я видел, что он совершенно не желал останавливаться. «В те дни, — продолжал он, — я мечтал о великих завоеваниях в чужих землях и надеялся, что наши успехи станут моей заслугой. Ибо, если возничего удастся обучить управлению колесницей с помощью вожжей, обвязанных вокруг его пояса, он сможет держать в руках и лук, и тогда на каждой нашей боевой колеснице будет по два лучника. Мы станем вдвое сильнее наших врагов, которые ездят с одним возничим и одним лучником, или взять, к примеру, хеттов, с их тяжелыми трехместными колесницами с возничим, лучником и копьеносцем. Двое наших воинов будут равны трем хеттам в вооружении, но наши колесницы будут двигаться быстрее и поворачивать меньшим кругом. Возбужденный этой идеей, я не мог спать. Вскоре я уже не спал от досады. Как только несколько заинтересовавшихся знатных колесничих захотели подвергнуть испытанию мое предложение, Первый Колесничий объявил, что, по его мнению, лишь немногие из лучших смогут править лошадьми с помощью вожжей, обвязанных вокруг пояса. Наконец, мне было сказано, что мои предложения — оскорбительны для Амона. Наш Бог уже принес Египту победу, использовав одного лучника и одного возничего.
Однако, я мало чему научился. Я все еще продолжал хвастать, что стану Первым Колесничим и поведу в бой отряды колесниц с двумя лучниками. За такое тщеславие меня сослали. Мой заклятый враг, мой непосредственный начальник, старший меня по званию на один чин, позаботился, чтобы меня направили в жалкий оазис посреди Ливийской пустыни, в той стороне, — он указал большим пальцем за спину, в направлении какой-то земли, лежавшей далеко за Пирамидами, — обитель такой бесконечной скуки, что столь блестящий ум, как у Тебя, мой Фараон, не смог бы прожить там и дня. По правде говоря, и мои мозги, казалось, расплавились и превратились в масло. Они коптились на солнце пустыни. У нас практически не было службы и не было вина Под моей командой служили двадцать воинов, угрюмых наемников, деревенских болванов. Помню, пиво там было — с лошадиным, как мы говорили, вкусом. Но о том несчастливом времени в моей памяти не сохранилось много историй. Однако я помню письмо, которое продиктовал своему писцу — хрупкому маленькому созданию, чьи привлекательные ягодицы кровоточили от занятий моих подчиненных; должен сказать, что он так же отчаянно желал выбраться из вони этого оазиса, как и я. И вот я велел ему написать письмо моему Военачальнику. „Пиши слова красиво, — сказал я ему, — а то мы никогда не выберемся отсюда, и тогда дыра в твоей заднице станет шире твоего рта".
Мой писец только хихикнул. Он не так уж и переживал, что его использовали подобным образом. Но затем он увидел выражение моих глаз. Они говорили: „Вытащи меня из Тебен-Шанаш". Так назывался этот оазис, очень точно — образцовый вонючий круг. Смрад окружал наши палатки. У нас, да позволено мне будет сказать, не было хижин. Не было соломы, чтобы сделать кирпичи. Мухи доводили нас до исступления. Я мог часами лежать под финиковой пальмой, глядя на длинную песчаную дорогу, скрывающуюся за горизонтом. Кроме неба, смотреть было не на что. Я полюбил полет птиц. Это было все, что там можно было полюбить. Пища была омерзительной. Горькие финики и наши мешки с зерном, которые кишели паразитами, так как были всегда мокрыми во влажности оазиса».
«Зачем нам все это рассказывать?» — спросила Хатфертити.
«Там были собаки. Я думаю, их было не меньше трехсот, и ни одна не упускала случая отправиться со мной на прогулку. Их клыки воняли. Мои зубы — тоже. Червь кусал гнилой зуб у меня в голове. Там, в вони того оазиса, где клювы и морды питающихся падалью птиц и животных были алыми от крови, запекшейся на солнце, там, на пыльных дорогах, где эти ужасные существа дрались за последние лоскуты на горячем остове осла, я мечтал о перьях на головах лошадей, открывающих парад. Вы можете представить, каким было письмо, продиктованное мной писцу. „Отправь меня в Мемфис, — уговаривал я его, — позволь мне увидеть его на рассвете". Я понимал, что умру в Круге-Вони. Я не знал, что передо мной лежит путь наверх, затем еще одно возвышение, а за ним — еще несколько. Никогда на протяжении своей жизни, даже если мерить его четырьмя жизнями, не пребывал я в таком унынии».
Мененхетет остановился и пробежал пальцем по губам, как бы вызывая память о прошлой жажде.
«Составляя это письмо, — сказал Мененхетет, — я стал свидетелем силы Бога Тота и молился Ему, чтобы Он послал моему писцу хорошие и нужные слова, поскольку в этом испытании мои мышцы были бесполезны. По мере того как писец прикладывал все свое умение к тому, чтобы выразить мои стремления языком, приличествующим папирусу, я в ужасе продолжал твердить себе, что это письмо должно вызволить меня. Не было ничего хуже еще одного года в Тебен-Шанаш. И все-таки, прочтя письмо, я устыдился. Я погибну или выживу, сказал я себе, но не стану хныкать перед Начальником и просить о возможности увидеть Мемфис на рассвете. Нет, думал я, моя просьба будет изложена с достоинством. И я послал другое письмо, составленное в более спокойных тонах, и, к своему удивлению, вскоре мне пришел приказ вернуться в город.
Я никогда не забывал этот урок. Ни при каких обстоятельствах человек не должен поддаваться желаниям, наносящим ущерб его гордости. Как я пел, когда мне пришел вызов возвращаться! Казалось, моя удача пустилась в пляс. Ибо менее чем полгода спустя я встретился в Мемфисе с великим Рамсесом Вторым. Он посетил его после пребывания в Фивах. Мой настоящий рассказ о Битве при Кадеше может начаться именно с этого момента».
ДВА
Даже в мерцании светлячков я мог узнать в глазах Фараона то выражение предвкушения, что появляется при долгом восхождении на холм, где вас ожидает знаменитый своим великолепием вид; наконец-то мой прадед расскажет нам о Царе, Который был более велик, чем все остальные, — ведь именно такое Его описание я запомнил с тех пор, как научился говорить.
«Да, мне было суждено предстать перед Ним, — сказал Мененхетет, — у колонн Храма Амона в Мемфисе. Именно в этот Храм отправился Он молиться, а позже в тот же день из вежливости собирался посетить Храм Птаха. Должен сказать, что, хотя я и слышал о великолепии Его облика и сиянии Его лица, я не был готов к тому, что увидел. Он был выше любого из нас, а Его глаза были зелеными, как Великая Зелень бескрайнего моря за нашей Дельтой. — Здесь Мененхетет немного подумал про себя, прежде чем продолжить. — Однако, если присмотреться — Ты не поверишь мне, — глаза у Него были не зеленые, а синие. Я никогда не встречал другого человека с синими глазами».
«Синие? — переспросила моя мать. — Этого не может быть. Серые, или зеленые, или прозрачные, как вода, желтые, как солнце, но не синие».
«Синие, как небо, — сказал Мененхетет. — А кожа у Него была темной, как у нас, и все же другой, более прекрасной; скорее, на Его плечах лежал золотисто-красный отблеск раннего вечера. Он выглядел так, как будто жил на солнце, как птица, зажаренная в печи до красноты — приятный и замечательный цвет. Он носил белые одежды с множеством складок, и они шуршали сквозь Его длинную юбку, как тростник на ветру. Его белая юбка отливала серебром, как блики пескарей в освещенном пруду.
Самое же необыкновенное — то, что Его волосы были желтее солнца. Светло-золотыми, как лен. Как у жителя Медеса. Его волосы танцевали на ветру быстрее, чем складки Его юбки».
«У Него были желто-золотые волосы?» — спросил Птахнемхотеп.
«Тогда, в начале правления, Его волосы были такими же желтыми, как бледное солнце, но с годами они темнели, а цвет Его глаз менялся — от синего к зеленому и к желтому с оттенками коричневого. Перед смертью глаза у Него были темными».
«Именно эти оттенки и переданы на всех Его изображениях, которые я видел», — сказал наш Фараон.
«Да, но художникам было запрещено рисовать подлинные цвета. Он верил, как однажды поведал мне, что, если Его волосы изобразить такими, какие они есть в действительности, они предадутся скорби и потемнеют; и, конечно, Он надевал темный парик всегда, когда показывался на людях, за исключением тех случаев, когда вступал в бой или посещал храм, воистину так».
«И впервые ты увидел Его в Храме Амона?»
«Увидеть Его впервые стоило мне большого труда. Я только что вернулся в Мемфис после двух недель службы в одной из наших крепостей и едва добрался до расположения своего отряда, как из обрывков разговоров незнакомых людей, бежавших в противоположном направлении, узнал, что молодой Фараон не только прибыл в Мемфис тем же утром, что и я, но теперь находится в Храме. Ко времени, когда я поспел туда, я смог только стоять с толпой во внешнем дворе под палящим солнцем и смотреть сквозь колонны, но находившийся в Святилище молодой Фараон был скрыт от глаз. Стараться увидеть Его было все равно, что пытаться вглядываться в темноту пещеры через освещенное поле.
Однако, когда Фараон появился с Верховным Жрецом, я тут же понял, что смотрю на сына Амона-Ра. Ни один из Рамсесов, за исключением Твоих черт, Божественные-Два-Дома, не обладал лицом, столь близким Богам, которых мы видим во сне».
И действительно, в этот момент наш Фараон выглядел ослепительным в Своей красоте. Я не мог оторваться от точеной линии Его ноздрей или изменчивого изгиба Его рта. В моих глазах Он был прекрасней любой прекрасной дамы.
«Я польщен этим сравнением, хотя и знаю, что это — еще один способ доказать, что ты незаменим», — сказал Птахнемхотеп.
Мененхетет любезно поклонился и воскликнул: «Мой Повелитель, Он был прекрасен так же, как двадцать птиц подобны одной птице в мгновение, когда они меняют направление полета. Он был прекрасен, как полная луна, когда она склоняет голову, чтобы скрыться в дымке маленького облачка; прекрасен, как солнце, когда оно подымается и еще так молодо, что мы можем смотреть ему в лицо и знать, что Бог молод. Впервые в жизни я влюбился в мужчину. Это случилось единственный раз. Я понял, что рожден, чтобы служить Его колесничим.
С того момента я постиг смысл любви молодого человека: она проще других чувств. Мы любим тех, кто может довести нас до того места, куда нам без них никогда не добраться».
Здесь он остановился, чтобы кивнуть Фараону, а затем — моей матери.
«К Храму Амона нашего Фараона сопровождали колесничие из моих казарм. Увидев, как они выходят из Святилища, я, как вы понимаете, вышел из ворот Храма вместе с ними, но, оказавшись снаружи, я помчался к своей колеснице, поскольку был вынужден оставить ее с мальчиком на другой стороне от стен Храма. В результате я значительно отстал от остальных, и мне пришлось основательно поработать кнутом, разгоняя всех, кто не давал мне проехать, да еще несколько раз хорошенько вытянуть по спинам попавшихся на моем пути лошадей и ткнуть кулаком в нос какому-то дураку, пытавшемуся ухватиться за мое колесо — я до сих пор помню его лицо и не понимаю, зачем он пытался меня задержать, — а затем я прорвался сквозь толпу и галопом припустил за удалявшимся хвостом быстро двигавшейся процессии, во главе с Рамсесом Вторым.
Какая началась гонка к Храму Птаха! На протяжении года у нас в Мемфисе ходили слухи об умении нового Фараона управлять колесницей. Теперь же я убедился, что Он, без сомнений, мог участвовать в скачках, и мчался Он не разбирая дороги, с таким неистовством, что, должно быть, ноги Амона направляли копыта Его лошадей. Иначе Его кони мгновенно перевернули бы колесницу на бессчетных выбоинах. Рядом с Ним, спокойная, будто в этот момент Ее дамы занимались Ее прической, находилась Его Царица Нефертари, красота тела Которой была на языке у всех нас. Теперь сравниться с ней может лишь красота моей внучки, и я пью за нее, присутствующую здесь с нами этой ночью», — сказал Мененхетет, поднимая свой кубок с вином.
«Да, Я ведь хорошо знаю тело Нефертари, — сказал Птахнемхотеп, — поскольку статуя этой Царицы наверняка есть в Карна-ке, где Она стоит у правой ноги Рамсеса Второго, ниже Его в четыре раза, однако во всем блеске своих роскошных форм». Затем Он тоже выпил за здоровье Хатфертити, и мое лицо вспыхнуло румянцем. В доме моего прадеда на одной из стен был рисунок, изображавший Царицу Нефертари стоящей обнаженной у правой ноги Своего мужа, на нем у Нее высокие и полные груди, значительно больше, чем у других египетских женщин; Ее живот — узкий и выпуклый; Ее бедра — большие и округлые, — на протяжении нескольких дней я размышлял об этом рисунке. Теперь же я покраснел, подумав, что другие могут таким же образом смотреть на наготу моей матери.
«Расскажи нам побольше об этой Царице», — попросила моя мать.
«О, тогда я ничего не мог знать о Ней, — ответил Мененхетет, — хотя позже мне довелось узнать больше, однако я ощутил истинное почтение, глядя на Них, стоящих в головной колеснице. Найдется немного людей, не обнаруживающих своей слабости, когда на них смотришь сзади, будь то очень сильные мужчины или прелестные женщины. Обязательно проявится некая неуклюжесть бедер или плеч, особенно если им известно, что за ними наблюдают. Однако эти Царь и Царица стояли в колеснице, как два листа от одного черенка, которых колышут одни и те же ветры, за тем исключением, что Они встречали не ветра, но выбоины, а Он правил Своей колесницей так жестко, что она летела с колдобины на колдобину. Но Его Царица оставалась рядом с Ним, стоя прямо, лишь двумя пальцами охватив Его за предплечье, и только Ее колени сгибались при каждом сильном толчке, и все это время оба Они продолжали улыбаться народу».
«Как ты мог видеть Их улыбки, — спросил Птахнемхотеп, — если ехал позади Них?»
«Как только что заметил мне Милостивый Бог, я не видел Их лиц. Но я знал, что Они улыбаются, ибо я видел выражение лиц в толпе, эти люди были счастливы, как те, кто видит сверкающие зубы великого Царя и Его Супруги, проезжающих мимо».
«Мудрость, подобная твоей, делает человека лучшим приближенным Царя», — сказал Птахнемхотеп.
Впервые я увидел, как, наверное, Мененхетет мог смотреть на колесницу, так как в его глазах появился блеск древней гонки.
«Должен сказать моему Фараону, — продолжил он, — что тот Рамсес Второй, Основа-существования-под-солнцем, мчался так быстро, что вскоре оставил позади всех остальных колесничих. Да другие и не могли угнаться за Его колесницей. Царица Нефертари была гораздо легче крепкого колесничего из знати со щитом и копьем, да и коней наших не стоило сравнивать. Но к тому же ни у кого не было и Его отваги. Кто мог бы надеяться, что подобная храбрость не обернется бедой? Любой колесничий, повредивший свою колесницу, должен бьи возместить ущерб. Если падала лошадь и ломала ногу, наказание было еще строже. Пробовать было безумием.
Однако так же унизительно бьио позволить Ему уйти так далеко вперед. Я был один в моей колеснице, не обремененной весом второго человека. Поэтому я обошел Почетный Конвой и поравнялся с Фараоном, чуть не лишившись по дороге своих зубов. На каждом неожиданном ухабе моя нижняя челюсть хлопала по верхней, как катапульта. И все же я догнал Их и вскоре уже ехал окутанный клубами поднимаемой Ими пыли. Хотя ни молодой Фараон, ни Его Царица ни разу не оглянулись, краем глаза Они, вероятно, могли увидеть меня на повороте или услышать мою колесницу, потому что, когда мы выехали на обсаженную деревьями длинную дорогу, ведущую к Храму Птаха, на которой в одном ряду теперь могли ехать уже десять колесниц, Фараон поднял Свою руку и коротким движением трех согнутых пальцев, подобно теслу, скребущему небо, сделал мне знак, чтобы я выехал вперед. Когда я поравнялся с ними, Он крикнул: „Как твое имя?"
Возможно из-за тряски во время езды или моего великого страха в Его Присутствии, я произнес свое имя, как оно звучало на крестьянском языке деревни, в которой я родился, потому-то Он его ясно не расслышал и спросил: „Что оно означает?" — и я ответил: „Основатель-речи, Великий Бог, — вот, что значит Мененхетет", — даже не понимая, что мне следовало сказать Милостивый Бог, а не Великий Бог. Однако я искал самых восторженных слов — мне бьио нужно сказать: „Осененный Несравненным Благословением-Ра", но я не мог припомнить других Его имен, стараясь удержать своих лошадей в стороне от Его. Они пришли в ярость оттого, что к ним осмелились приблизиться другие кони. Все это время Царица Нефертари смотрела на меня с отвращением. Я ощущал, что покрыт пылью, и понимал Ее опасение, что от моих колес пыль могла долететь и до Них, поэтому я отъехал на несколько шагов, но не раньше, чем успел получить первое впечатление о Его Царице, которое навсегда осталось неизменным. Она обожала Своего Фараона и желала быть с Ним наедине. И вот появляюсь я, с лицом, на котором пот проступает сквозь щит из пыли, и с оскаленными, как у крокодила, белыми зубами.
„Если твое имя — Основатель-речи, почему ты говоришь так неразборчиво?" — спросил Рамсес Второй, вновь подъезжая ко мне на Своей колеснице. И снова я отъехал, чтобы не покрыть Его Царицу пылью, и прокричал сквозь грохот: „В деревне, где я вырос, животных, с которыми можно разговаривать, было больше, чем людей, Великий Бог!"
„Ты поднялся из рядовых?" — спросил Он. Когда я с готовностью кивнул, Он сказал: „Должно быть, ты прекрасный возничий. Поезжай вперед и покажи Мне приемы". Что я и сделал. Я воспользовался случаем, чтобы обмотать вожжи вокруг пояса на этой обсаженной деревьями дороге с длинными выбоинами, хотя раньше я делал это только на площадках для парадов или на полях с небольшим количеством ям, однако я решил рискнуть и вытянулся вперед на носках, так что удила во рту лошадей ослабли, и я просто командовал им голосом. Они снова припустили галопом, а я принялся наклоняться влево и вправо, объезжая ухабы, а потом, перекрестив вожжи, сделал красивый и быстрый круг и вновь оказался рядом с Ним. Однако Рамсес Второй только спросил: „Что ты знаешь о Храме Птаха?"
Я принялся срывающимся голосом объяснять, что Птах для жителей Мемфиса — Бог всех Богов, в отличие от фиванцев, которые больше почитают Амона, но Фараон прервал меня и прокричал: „Я все это уже знаю". У него не было, — сказал Мененхетет, повернувшись теперь к Птахнемхотепу, — Твоей утонченной вежливости в общении с людьми низкого звания».
«Ну, в конце концов, Он был человеком военным», — ответил наш Фараон.
«Военным, и даже очень. Но, в отличие от большинства военных, Он также придавал значение и религии. И вот затем Он спросил: „Является ли Храм Птаха одновременно и Храмом Осириса?" Я отвечал, что для жителей Мемфиса Осирис Бог всех Богов, почти так же, как и Птах. „И Его почитают больше, чем Амона?" — коротко спросил Он меня. „Возможно, что и так, Великий Бог, — сказал я Ему, — но Ты сможешь решить сам, сравнив оба храма". Я знал, что их трудно сравнивать. Храм Амона был в те дни гораздо меньше, весь черный от дыма жертвоприношений, тогда как для Храма Птаха использовался лишь самый белый камень. Но Он вновь меня оборвал. В Фивах все наоборот, — сказал Он. — Там есть храм Птах-Секер-Осирис — грязный и маленький, со старыми костями и собачьими лапами, обугливающимися на алтаре. Место, куда ходят все шлюхи". Меня так и подмывало сказать Ему, что в Мемфисе происходит нечто обратное, но Он вдруг понял, что у меня в голове. Он не был так учен, как Ты, Дважды-Великий-Дом, и никогда не умел так быстро ответить, но, подобно Тебе, Он обладал способностью входить в сердцевину мыслей других. И вот Он громогласно рассмеялся, крикнул Своим коням и отъехал от меня. Я не знал, предлагает ли Он мне состязание в скорости, но Он резко замедлил бег Своих коней, как будто приглашал меня снова поравняться с Ним, и сказал: „Жрецы Амона пытались внушить Мне, что поклонение Осирису здесь, в Мемфисе, — всего лишь какой-то грязный культ". Как раз в этот момент мы оставили позади подъем и увидели перед собой вымощенные белым камнем дорожки и белые стены с перекрытиями, поддерживаемыми колоннами Великого Храма Птаха, прекрасного в утреннем свете, как одеяния Фараона, и Он присвистнул и сказал: „Почему они считают каждого молодого Царя дураком?"
„Ты не только Царь, мой Повелитель, но еще и великий возничий Царской Колесницы".
„А ты лучше остальных, — заметил Он, — или другие колесничие тоже могут обвязывать вожжи вокруг пояса?"
„Немногие учатся у меня". Я увидел как Первый Колесничий быстро догоняет нас на дороге, с явным намерением не дать мне говорить здесь слишком долго, поэтому я добавил раньше, чем почувствовал, что воздух готов для такого замечания: „Я думаю, что отряд колесничих мог бы научиться править лошадьми, как делаю это я, если бы мне было позволено обучать их". Как человек военный, Он понял, о чем я говорю. „Мы смогли бы побеждать в любом сражении, — но тут же недовольно добавил: — Если тебе удастся выучить этих трусов, которые не смогли угнаться за нами, тогда ты такой же сын Амона, как и Я".
Мне очень хотелось открыть Ему свою тайну, однако я сказал только: „Мы все дети Амона".
„Некоторые — в большей степени, чем другие, — сказал Он и добавил: — Для хорошего возничего ты сообразителен. Обычно возничему приходится быть таким же бессловесным, как его лошадь. Как Я", — и Он легонько толкнул Свою жену. Я осмелился рассмеяться вместе с Ними, но, как я узнал лишь потом, Они смеялись надо мной. Он знал Храм Птаха достаточно хорошо, чтобы устроить в нем Свою Коронацию.
Тем временем лицо Первого Колесничего, когда он нагнал нас, было бледным под слоем пыли, и у него были на то самые веские причины. Я был на пути к тому, чтобы занять его место. Конечно, путь этот оказался более длинным, чем я думал в то утро».
ТРИ
«Он взял меня с Собой в Фивы, и меня поставили командиром отряда. Однако мои подчиненные медленно осваивали приемы, которым я их учил, и — так проходили годы. Я не раз горевал о своем хвастливом обещании показать всем, как это делается, поскольку вначале этого не мог повторить никто, кроме одного десятилетнего мальчика, Принца Аменхерхепишефа, старшего сына Рамсеса и Нефертари».
«Тут у меня возникают некоторые сомнения, — сказал Птахнемхотеп. — Сколько лет было Великому Рамсесу, когда ты впервые встретился с Ним?»
«Он женился на Принцессе Нефертари, Своей сестре, когда Ему было тринадцать, а Ей — двенадцать, Аменхерхепишеф родился в тот же год. Я склонен думать, что Принцу было восемь в том году, когда Его Отец посетил Мемфис, а Рамсесу тогда было двадцать один, Нефертари же — двадцать».
«Не легко представить этого Великого Фараона таким молодым».
«Он был молод в то утро, когда я встретил Его, — сказал Мененхетет, — но уже был отцом восьмилетнего мальчика, а к тому времени, когда этому мальчику исполнилось десять, Он стал первым из всех фиванских колесничих, освоивших способ управлять двумя лошадьми, обвязав вожжи вокруг пояса, хотя Принц ни разу не поблагодарил меня за все то, чему я Его выучил. Он был очень необычным мальчиком, упорным настолько, что эта его черта пугала взрослых мужчин. Однако мне кажется, что, если бы не сноровка Его юного сына, Усермаатра, мой Великий Рамсес Второй был бы чрезвычайно удручен медленными успехами других колесничих, но Он был горд Своим сыном и поэтому многое прощал мне, да и другие тоже учились — я думаю, им было стыдно — и, наконец, овладели этим приемом. Так что Он стал более доволен мной, и в тот день, когда я показал Ему двадцать колесниц, которые могли мчаться галопом по полю ровной шеренгой, вожжи у всех были обвязаны вокруг пояса, все колесницы по команде могли поворачивать, и тогда каждая ехала вслед другой, а затем снова перестраиваться в линию. Да, Он был так доволен, что не только сделал меня Своим Первым Колесничим, но Своим Конюшим, что означало, что каждое утро я ехал следом за Ним. Почти никогда не случалось, чтобы Он не поехал в Великий Храм Амона в Фивах — Он посещал службу каждое утро, — и это стало моей следующей обязанностью.
Какое же прекрасное зрелище представляла собой наша процессия на улицах города! Все было совсем не так, как тогда в Мемфисе, куда мы ворвались галопом; о, нет, теперь мы ехали не быстрее, чем бежали пешие воины, а впереди должны были идти два глашатая и криком разгонять народ с дороги. Мы же двигались вперед, отборные воины из каждого отряда Его гвардии, все — в форме разных цветов: красный и голубой у шарданов, черный и золотой у нубийцев — я все еще помню те краски, затем копьеносцы и воины с булавами, лучники, — все пешие, а перед Его лошадьми двигались знаменосец и человек с опахалом. Он любил, чтобы они шли непосредственно впереди Его колесницы.
В Фивах Он нечасто ездил вместе с Царицей Нефертари. Обычно Она следовала за Ним в собственной колеснице, а я — в своей, также один, а за мной ехали все придворные, за которыми следовали колесничие. Сотни людей ежедневно отправлялись в Храм Амона, однако лишь мне одному было разрешено входить с Ним в Святилище.
Из всех тех утренних поездок, — продолжал Мененхетет, — мне особо запомнилось одно утро, ибо то был день, когда объявили войну хеттам. Бывают такие рассветы, которые предвещают, каким жарким будет день, и то было именно такое утро, когда свет и жара надвигались на нас неслаженными шагами, как зверь, подкрадывающийся на мягких лапах.
По дороге к Храму, среди раннего тепла того невыносимо жаркого дня, с востока, словно корабль, прибывший из дальних стран, к нам приплыло одинокое облако — почти никогда не видели мы облаков по утрам — и закрыло солнце. Думаю, наши лошади не успели пройти и двухсот шагов, когда облако уже ушло, но мой Рамсес Второй сказал: „Сегодня в Храме произойдут необычные события". Он не был Правителем, прославившимся быстротой Своих мыслей, однако Он был силен, как трое мужчин, и Его медленные мысли, должно быть, позволяли Ему слышать голоса Богов, неслышные более умным людям. Поэтому иногда этот Фараон знал о событиях, которым предстояло случиться. На этот раз Он печально улыбнулся Своей Супруге и мне, поскольку в тот момент, когда Он остановился, мы подъехали ближе, и потер Свой длинный, тонкий, прекрасный нос».
Птахнемхотеп пробормотал: «На статуях, которые я видел, Его нос не выглядит тонким».
«Его форме предстояло измениться в Битве при Кадеше. Но это случилось позже. Теперь же Он сказал: „Этот день — начало
Моего конца, однако Я проживу вдвое дольше, чем другие люди", — и Он поднял Свой локоть и долгим вдохом втянул воздух у Себя под мышкой, как будто то был первый оракул, с которым должно советоваться».
«Так и следовало поступить», — сказал мой отец. Все мы понимали справедливость этого замечания. Как могли запахи, поднимавшиеся от тела Царя, не быть близкими каждой перемене в судьбах Двух Земель? Мой прадед сделал передышку, чтобы, подражая Рамсесу Второму, понюхать свою собственную подмышку, при этом он широко открыл рот и с силой втянул им воздух, словно проглотил полкувшина пива.
«Тогда, — продолжил мой прадед, — когда мой молодой Фараон остановился, остановилась вся процессия, а та толпа из сотен мальчишек, что бежала перед нашими лошадьми, чтобы своими криками сеять переполох на каждой дороге, площади, у больших зданий, на боковых улочках и в переполненных людьми бедных кварталах, прямо за Большой Дорогой Рамсеса Второго (названной так в честь Его восшествия на престол всего несколько лет назад), вдруг почувствовала, как чувствуют мальчишки, что в трескотне их криков — „Фараон едет! Фараон едет!" — вдруг исчезло эхо. Фараон не ехал. Народ, вместо того чтобы ринуться к Большой Дороге, остановился на бегу, чтобы видеть молчание моего Царя.
Но, проследив за движением облака и исследовав корень Своей руки, Он, против обыкновения, решил пересечь реку и принести Свою жертву на Западном берегу [34]. Решение это предполагало совсем необычную последовательность действий. Она должна была занять все утро, и даже больше. Западный берег, хотя никогда и не был так перенаселен, как Восточный, но и в те времена тянулся с юга на север на такое же расстояние, как сегодня, и Новый Храм находился не близко. Требовалось некоторое время, чтобы подвести Царское Судно и переплыть Нил, не говоря уже о том, что нужно было послать гонцов к Верховному Жрецу в Первый Храм на Восточном берегу, чтобы тот присоединился к нам, и подождать, пока Верховный Жрец распорядится насчет собственной лодки и прикажет своим Первому и Второму жрецам сопровождать его, — представьте теперь общее замешательство от того, что столь высокопоставленным лицам предстояло общение со жрецами Нового Храма, занимавшими более низкое положение! Такое решение вряд ли вызвало у кого-либо удовольствие, учитывая вражду, что существовала в отношениях между двумя храмами. Но как Он мог не придать значения облаку? Меня и сейчас пробирает дрожь при воспоминании о прохладе, объявшей нас в его тени. Когда Фараон посмотрел на меня, я знал, что Он ждал слова, и вот, подняв глаза к небесам, я сказал: „Облако тоже перешло на Западный берег". По правде говоря, облако двигалось только на север, но в этом месте наш великий поток поворачивает к востоку, и для Него этого было достаточно. Прежде всего, мы должны были идти туда, куда хотелось идти Ему.
Снова двинулись лошади, толпа мальчишек помчалась вперед, люди выходили из своих лачуг, кухонь, мастерских; девки в веселых домах поднялись со своих постелей, детей отпустили из школ, а мужчины и женщины бежали во всех направлениях, пытаясь угадать Его путь, так как Рамсес Второй редко ехал до Храма все время по Большой Дороге. Было известно, что иногда Он вынуждал Свою свиту следовать за Ним через множество грязных площадей, на которых было всего несколько лавчонок и старый шадуф с дырявой бадьей. Таким образом Он осматривал город. В результате население перемещалось, стараясь угадать, какие Он выберет улицы. Когда им это удавалось, они занимали места так близко к процессии, как только осмеливались, и этим счастливым мужчинам и женщинам приходилось сдерживать своими телами напор тех, кому не было видно из задних рядов, поскольку было известно, что время от времени колесо колесницы отрезало на ходу несколько ступней.
В то утро, после заминки Он продвигался вперед очень быстро, чтобы сгладить неловкость момента, когда Он не смог немедленно сделать Свой выбор, случилось так, что толпа напирала слишком сильно. Послышался крик, который ни с чем нельзя было спутать. Я услыхал хруст, исходящий из паха, когда ломается большая бедренная кость, и позже узнал, что в тот день одному молодому человеку колесницей отрезало ногу.
Меж тем, мы продолжали поспешно двигаться вперед, пока не показались ворота и стены Первого Храма, и мы смогли выехать на длинную обсаженную деревьями дорогу, ведущую к нему мимо сотен Сфинксов, выстроившихся вдоль нее». Мой прадед излагал эти подробности с гримасой, будто извиняясь за упоминание видов, должно быть, хорошо известных Фараону, но я подумал, что он описывает их, проявляя внимание ко мне, который никогда не был в Фивах.
«Затем мы въехали в ворота. Тогда, как и сейчас, многие сказали бы, что снаружи Первый Храм Амона на Восточном берегу Фив не имеет себе равных в мире. И ни один лес, через который я когда-либо проезжал, не в состоянии собрать стольких Богов, скольких можно было слышать, когда Они шептались друг с другом, в то время как ветерок пролетал по Большому Залу с его ста тридцатью шестью каменными колоннами, каждая из которых выше и толще, чем любое огромное дерево, какое я когда-либо видел.
Мне еще предстояло побывать на войне в краях, где моей гордости пришлось сильно поубавиться перед лицом горных скал, красотой лесной листвы или великолепием низвергающихся с высоты водопадов. Мне еще суждено было узнать величие иноземных Богов, поскольку Они способны придавать земле необычные формы. Но в Египте, где наша земля плоская, а наши горы сравнительно низкие, Боги велели нам строить чудеса самим, и это дорого обошлось нам. Вместо того чтобы несказанно гордиться тем, что мы сделали, мы не чувствуем этой гордости, а трепещем перед делами наших собственных рук. Я не знаю ни одной горы, которая переполняла бы меня большим благоговейным страхом, чем Великая Пирамида Хуфу; ни такого леса, который можно было бы сравнить с Залом Колонн в Храме Амона на Восточном берегу».
«Все это очень хорошо, — сказал Птахнемхотеп, — однако Зал Колонн, о котором ты говоришь, был закончен лишь в последующие годы Правления Рамсеса Второго».
Мой прадед помолчал, прежде чем ответить. «Четыре прожитые жизни, — сказал он, — можно сравнить с течением Нила, преодолевающим свои пороги. Четыре порога преодолел и я за свои четыре рождения, и все же вода — одна и та же. Поэтому я часто ошибаюсь, уходя за следующий поворот. И Ты-из-Двух-Великих-Домов можешь, таким образом, напомнить мне, что Зал Колонн в начале Его правления еще не был закончен, однако он, должно быть, представлялся законченным, — по крайней мере мне, ибо крыша к тому времени уже была на месте, и было воздвигнуто около ста колонн; конечно же, мне часто казалось, что я, как ребенок, который только что научился ходить, брожу среди множества Великих Богов, едва доставая им до бедер. Я никогда не слышал звука, подобного шуршанию в этом Большом Зале по ночам. В моей второй жизни, будучи Верховным Жрецом, я часто в одиночестве бродил по его пределам и слышал, как камни разговаривают друг с другом перед рассветом».
Он умолк. «В то утро, как и каждым утром, множество людей во дворе ожидало появления нашего молодого Фараона под открытым небом, а меньшая их часть толпилась в Зале Колонн, занятая, если вы сможете этому поверить, торговлей самого изощренного сорта. Продавались земли, скот, домашняя птица, драгоценности, вазы и зерно».
«Разумеется, ты не хочешь сказать, что на полу Великого Храма раскинулся базар?» — спросила моя мать.
«Еще чуднее того, — ответил мой прадед. — Сделки совершались между многими жрецами и богатейшими торговцами и купцами Фив, однако без присутствия самих предметов торга. Все знали друг друга так хорошо, что, как мне кажется, попытки надувательства были крайне редки. Это противоречило интересам продавцов. На следующий же день о мошенничестве узнали бы все. Честность торговца ставилась бы под сомнение на протяжении нескольких лет. Доверие было настолько полном, а удовольствие от перепродажи — таким острым, что земельный надел, купленный одним днем, мог быть продан на следующий, и при этом первый покупатель так и не взглянул бы на него. Если же случался обман, путь покупки приходилось иногда прослеживать через цепочку торговцев вплоть до того момента, когда отыскивался человек, который с самого начала знал, что товары негодные».
«Такое все еще происходит в Зале Колонн?» — спросил Птахнемхотеп.
«Божественные-Два-Дома, в своей четвертой жизни я нечасто бывал в Фивах. Однако в третьей, когда я был одним из богатейших людей Египта (по крайней мере, по моим представлениям), это еще имело место, хотя и в более тонкой форме. Торговцы избирали своими посредниками подходящих для этого жрецов и писцов. Таким образом Храму оказывалось большее почтение. Те крики обменивающихся товаром торговцев, что когда-то завывали между колоннами, как ветер, превратились теперь в шепот. Однако торговля все еще существовала. Этот рынок, где товары продавались, но ни один покупатель не мог их увидеть, многому научил меня в отношении богатства. Я понял, что для его приумножения важнее не золото, не возможность командовать рабами, но, скорее, способность проникать в мысли другого быстрее, чем он мог воспользоваться твоими. Отсутствие каких-либо видимых товаров лишь увеличивало удовольствие от игры. Только самые проницательные торговцы могли заключать сделки в таких суровых условиях».
«И жрецы не боялись богохульства?» — спросила моя мать.
«Некоторые боялись. Но именно суровость Зала Колонн делала ценность товара заслуживающей наивысшего доверия. В таком месте люди не решаются обманывать друг друга. К тому же запах из пределов, где располагались жертвенники Зала Колонн, усиливал возбуждение от сделки. В то время как кто-то клялся в том, что его товар действительно хорош, из прохлады этих глубоких теней доносился запах крови и мяса, а также аромат пятидесяти воскурений, напоминавших, что у Богов — свой собственный торг и, совершая Свои сделки, Они взирают с высоты на наши».
«Рамсес Второй знал о том, что там происходило?»
«Обычно Он проносился сквозь Зал Колонн, никогда не обращая внимания на торговцев. Его мысли были поглощены теми обрядами, которые Ему предстояло совершить. Мы могли остановиться, чтобы омыть руки в Священном Пруду, но затем Он мчался, минуя одну часовню за другой, покуда не доходил до самой древней части храма, бывшей в те времена Святилищем (до того, как его стены обрушились, когда я был Верховным Жрецом). Замечу, то был мрачный покой, построенный в правление Сенусерта Третьего, почти тысячу лет назад, — большой, пустой, узкий, с высоким потолком и серыми каменными стенами, с отверстием, пробитым в южной стене под крышей, так что у алтаря было светло с утра до полудня.
Он, как я сказал раньше, выбирал меня, чтобы я сопровождал Его в Святилище, при входе в которое Он оставлял Царицу — тогда, как и теперь, ни одна женщина не могла войти в Святая Святых, если только Сама, как Царица Хатшепсут, не становилась Фараоном. Поэтому Нефертари подводили к большому золоченому креслу с золотой подставкой для ног, стоявшим в Зале Колонн, где Она и ожидала возвращения Царя, окруженная рядами Его свиты, — женщина среди знати, — и все же не было ни одного утра, чтобы я не чувствовал, как Ее гнев сопровождает меня в Святилище. Сквозь звуки всех жертвоприношений, которые происходили затем в нем, через возглашения и молитвы, доносившиеся из других залов, мольбы о возмещении ущерба, покаяния в грехах, через весь этот гул множества просьб, восхвалений и шепота, брани, плачей и молитв, возносящихся в клубах дыма и с запахом горящей на алтарях часовен кровью, я неизменно чувствовал ярость Царицы Нефертари, которая была сильнее любой молитвы. Я ожидал в молчании, в голове моей звенели все мольбы, что раздавались вокруг, одна женщина молилась Амону, чтобы Тот дал жизнь ее чреву, другая оплакивала смерть своего сына, — Хатфертити, перешедшая к этому времени со своего дивана на мой, при этих словах обвила меня рукой, — а рядом с этим горем можно было услышать голос гордыни землевладельца, считавшего своим долгом ежемесячно отдавать десятую часть скота, вина, зерна и мебели, а также одного раба для успеха сделки, по условиям которой его сын получал повышение, становясь Третьим жрецом этого Храма. Я слышал все это, даже голос нищего, исполненный старых обид, давно уже затвердевших у него в горле, покуда он лаял свои просьбы какому-то жрецу, проходившему мимо, но Рамсес Второй был отделен от всего этого Своим Святилищем и Своими благочестивыми мыслями, и, как только Он входил в Храм и мог ощущать присутствие Амона, мой Рамсес Второй больше не был другом или приятелем-колесничим, но — Правителем, столь же великим и далеким от Себя Самого, как небо. И конечно, когда мы подходили к большим медным дверям, ведущим в Святилище, неизменно пребывая в состоянии глубочайшей торжественности, Он ломал глиняную печать, и мы входили внутрь.
Внутри, в центре каменного пола был насыпан серебряный круг, то есть небольшое количество белого песка, перемешанного с серебряными стружками, и Рамсес вставал на них коленями и в задумчивости созерцал Священную Лодку, покоившуюся на серебряном песке. Стоя на коленях рядом с Ним, Я чувствовал, как серебряные стружки колют мне колени. Однако Царь не двигался. В других делах у Рамсеса Второго редко хватало терпения, но для Него не было более счастливого времени дня, чем то, когда Он стоял на коленях перед Лодкой Амона. Это судно, если мне будет позволено описать его своей семье, в длину имело не более шести шагов, но было покрыто золотым листом и украшено серебряной головой барана на носу и другой такой же на корме. Мы смотрели на эти чудеса, а наши колени покоились на серебряном песке среди этого громадного каменного покоя, такого же старого, как века, прошедшие в нем, и даже в жаркий день объятого холодом своего невообразимого возраста. К тому же присутствия Амона было достаточно, чтобы охладить воздух! Там было бы темно, совершенно темно в этом месте, если бы не единственный узкий столб света, падавший из небольшой прорези в южной стене и освещавший внушительную громаду старого алтаря. Однако в этой почти полной темноте наше внимание было сосредоточено на Лодке, ибо ее золотые бока горели во мраке огнем, подобным яркому свету, который порой можно различить в своем сердце. Стоя на коленях, я мог чувствовать присутствие Амона в Его покое на этой Лодке. В Своей маленькой комнатке, высотой не больше расстояния от моих колен до груди, находился Величайший Бог — там внутри! И мы могли познать Его, ибо Его настроение было более властным, чем схождение ночи на Нил; преклоняя перед Ним колени, мы всегда наверняка могли сказать, — был ли Он рад нашему присутствию или разгневан.
Вскоре в Святилище появлялся Верховный Жрец, Бакенхонсу, с двумя молодыми жрецами — одного из них звали Язык, а другого Чистый».
Птахнемхотеп спросил: «Это — Верховные Надзиратели за Молитвой и Чистотой?»
«Их титулы изменились», — сказал Мененхетет.
«И существенно».
«В те времена все было по-другому. На Бакенхонсу не было других одежд, кроме белой юбки, его ноги были обнажены. Язык и Чистый умащали свои бритые головы маслом, и они сияли. На меня производила впечатление чистота их одежд, ибо у многих жрецов они были забрызганы кровью жертвенных животных. От некоторых даже пахло горелым мясом. Но — не от Верховного Жреца. Он держался просто, и в начале церемонии говорил не более, чем: „Глина разломана, и печать снята. Дверь открыта. Все дурное, что есть во мне, я бросаю наземь". С этими словами, он простирался перед Фараоном и целовал большой палец Его ноги, в то время как Язык и Чистый целовали землю по обеим сторонам от Бакенхонсу. Все трое смотрели вверх с обожанием.
Могу вам сказать, что, несмотря на свое высокое положение, они не были теми братьями, которые знали многое о делах вне Храма. Бакенхонсу был полной противоположностью Хемушу. Став Третьим жрецом в возрасте двадцати двух лет, он был вынужден ждать почти до сорока, пока стал Вторым. Говорили, что на протяжении всех этих лет он оставался сосудом невинности, но немногим более того. Никто не думал о нем с большим почтением, покуда мой Фараон не сделал его Верховным Жрецом. Полагаю, его преданность Рамсесу Второму, возможно, была его главной добродетелью. Должен также сказать, что он проводил все службы с особенной тщательностью.
Так, например, когда Чистый открывал дверь в покой Амона, Бакенхонсу не только целовал землю, но при этом еще закладывал руки за спину, так что должен был наклоняться вперед до тех пор, пока мог опираться лишь на колени и нос, однако даже в этом малоудобном положении ему удавалось кататься лицом по земле в подлинном ужасе от благоговейного трепета церемонии открывания Его покоя, хотя они и совершали ее ежедневно.
Мои глаза привыкали к темноте Святилища, и я мог видеть статую. Золото, покрывавшее кожу Амона, было гладким; Его волосы и торчавший, подобно члену, подбородок, переходящий в бороду, — черными; черные камни Его глаз внимательно глядели на меня. Я мог бы в этом поклясться. В то утро я ощутил еще не знакомый мне страх, причиной которому было то, что я никогда ранее не осмеливался смотреть в лицо Амону, и Он показался мне не столько Богом, сколько маленьким человечком, черты которого были далеко не такими правильными, как у Рамсеса Второго, и разумеется — не такими нежными и Его щеки не настолько впалыми, как щеки Бакенхонсу. На самом деле, Амон выглядел как маленький богатый человечек, каких можно встретить на улицах. С Ним, разумеется, обращались очень трепетно. Верховный Жрец вставал, кланялся на четыре стороны, брал в руки ткань и говорил: „Да будет трон Твой украшен, а Твои одежды — величественны", — потом он протягивал руки в комнатку и стирал старые румяна со щек Амона. Произнося другую молитву, он накладывал новые. Теперь Амон выглядел веселее». Мне едва ли хотелось перестать слушать прадеда, но в этот момент невозможно было не обратить внимание на моего отца, улыбнувшегося Птахнемхотепу, словно он напоминал о важности тех моментов, когда он, Верховный Надзиратель за Ящиком с красками для лица Царя, накладывал румяна на щеки Фараона.
«Затем Бакенхонсу снимал вчерашние одежды с золотых членов и выпуклого золотого живота Амона, заменяя их свежим полотняным одеянием и новыми украшениями. Каждую снятую часть Его одеяния благословлял Язык и целовал Чистый, а затем ее укладывали в ящик черного дерева с украшениями из слоновой кости. На брови Амона брызгали благовонием из сандалового дерева, а перед Ним ставилась чаша с водой и блюдо, на котором лежало несколько хороших кусков мяса утки и медовых сот. Затем жрецы зажигали благовония и молились вслух: „Прииди, Белая-Одежда, — говорили они, — прииди, Белый-Глаз Хора. Боги облачаются вместе с Тобой, и имя Твое — Одежда. Боги украшают Себя, и имя Твое — Украшение".
Тогда я был молод и не представлял себе, что когда-то умру и буду жить снова и стану Верховным Жрецом, но даже в тот ранний час аромат благовония в Святилище не походил ни на один из знакомых мне запахов, ибо хотя он и обжигал ноздри, но в то же время был сладким и таинственным, имея на то много причин. Став Верховным Жрецом, я узнал, что в том благовонии содержалось многое. Я говорю об этом сейчас, поскольку Ты — мой Фараон, однако в моей второй жизни жреца я бы не посмел говорить о его составе. Разумеется, даже рассказывая об этом теперь, я не повторяю молитв, сопровождавших церемонию приготовления смеси; могу только сказать, что этот искусно приготовленный порошок включал в себя смолу елея, и оникс, и камедь, и ладан, несколько меньшее количество мирры, коричного дерева, нарда и шафрана. Скажу, что там содержались тщательно подобранные доли ароматной фруктовой кожуры, пересыпанной коричной пудрой, а затем замаринованной в щелоке, вине и соли, с добавкой медной соли для придачи пламени голубого цвета. Конечно, лучший щелок добывался из корней лука-порея, росшего на высоких каменистых местах. В те дни это была тайна Верховного Жреца».
Мне хотелось слушать дальше, но Мененхетет умолк. Ему следовало подождать — это было видно по его поведению, — чтобы те, у кого возникло такое горячее желание, могли подумать о солях и порошках, которые он описал. Ведь эти травы обладали способностью пробуждать воспоминания о похоронах или благоухающих ложах, поэтому множество мыслей вполне могли отвлечь его слушателей. Однако мне не было нужды думать о камеди и ладане. Я ждал, готовый слушать продолжение рассказа. Повествование моего прадеда могло изобиловать поворотами, однако, подобно нашему Нилу, независимо от того — текла ли река какое-то время на юг, мы знали, что она всегда снова повернет на север.
Поэтому я был терпелив. Я знал, что четыре жизни моего прадеда можно уподобить четырем углам, составляющим основание ящика. Его ум мог вместить все, что любой из нас пожелал бы вложить в него — не было ничего такого, о чем он уже не думал. Точно так же, как можно ступить в лодку и поплыть вниз по нашей реке, думая сперва лишь о том, как далеко ты уже уплыл, однако через несколько часов путешествия начинаешь понимать, что в действительности ты покрыл вовсе не такое уж большое расстояние, а река длиннее любого перехода, который ты когда-либо совершал, — точно так же долгое, медленное течение мыслей моего прадеда обещало, что минует все дворцы и пещеры, которые я встретил в моем сне.
Теперь, когда он вернулся к рассказу о пребывании Рамсеса Второго в Святилище, я почувствовал, как внимание моей матери и отца возвращается, а затем — и внимание Птахнемхотепа, так как Он дольше других размышлял о составляющих благовония.
«В других местах, кроме Храма, — сказал Мененхетет, — Рамсес Второй был, как я уже сказал, нетерпелив. В самом деле, в Нем пребывало нетерпение и знатной дамы, и вельможи. Его лицо, как я, кажется, уже отметил, прекрасно подошло бы как мужчине, так и женщине. Таким образом, то, что Он имел внизу такое великое Владение, было чистейшим воплощением Маат. Можно было понять, что Он за мужчина, бросив взгляд на скрываемого Его одеждами самого крепкого и длинного приятеля, который когда-либо принадлежал человеку. Возможно, недовольство порой и могло нарушить красоту Его лица, однако власть Египта пребывала между Его бедер».
«Я наслышан об этом», — сказал Птахнемхотеп голосом столь же сухим, как пески нашей пустыни.
«Да, — сказал мой прадед, — и мне довелось убедиться в том, что большинство тех, кому судьба подарила огромный Божественный член, часто выказывают безудержное нетерпение. Наш Усермаат-ра, Рамсес Второй, обычно был в состоянии ждать не дольше, чем лев, которого дразнят, однако в Храме Он был столь же спокоен, как тень от дерева.
Итак, когда Бакенхонсу спросил моего Фараона, какой вопрос Повелитель Двух Земель хотел бы представить Сокрытому в это утро после жертвоприношения, Избранник-Pa ответил лишь: „Вопрос этот еще спит в завитке Моего языка". — И действительно, откуда Ему было знать Свой истинный вопрос после того, как туча, проходя, закрыла солнце?
И вот Язык и Чистота открыли дверь в Святилище, и через его предел два молодых жреца — по одному у каждого рога — ввели белого барана. Еще двое жрецов следовали за ними, держа заостренные палочки, которыми они покалывали барана сзади. Тогда, как и сейчас, золотые шнуры связывали передние ноги животного. Баран мог идти, но не бежать. И я бы сказал, что в те дни барану уделялось больше внимания. Его рога покрывали позолотой, а его шкуру пудрили до тех пор, пока он не начинал источать сладкий аромат и не становился белее нашего полотна.
Однако в то утро животное было охвачено предсмертной тоской. Некоторые животные, входя в Святилище, пребывают в мире с Амоном, что само по себе добрый знак. Ибо тогда их внутренности обычно оказываются крепкими и не вызывают никаких споров относительно своей формы. Но это, вероятно, видело то же облако, так как, войдя в алтарь, издало жалобный звук, как будто уже было ранено ножом, и опорожнило кишечник. На камень упали три большие влажные лепешки.
Их было три, а это число перемен. Мы бы предпочли четыре — залог доброй основы. Поэтому жрецы ждали. Однако, когда дрожь в задней части тела животного прекратилась и челюсти барана расслабились, мы почувствовали, как Амон пошевелился, подобно гостю, который собирается уходить. Тогда вперед вышли Язык и Чистота с двумя пригоршнями серебряного песка, взятого из серебряного круга, на котором покоилась Лодка, и нарисовали серебром меньшие круги вокруг каждой лепешки.
Затем животное было возведено на жертвенный камень. Я не описал алтарь, — но, я думаю, это оттого, что я никогда не любил смотреть на него. Святилище, старое Святилище — теперь оно перестроено — было возведено тысячу лет назад, еще во времена Сенусерта Третьего, но алтарь был еще старше. Я не думаю, чтобы на протяжении этой тысячи лет его хоть раз омыли. Старая кровь запеклась на еще более старой крови — ты содрогаешься, Хатфертити, и с отвращением кривишь рот, — сказал мой прадед, — но здесь есть о чем крепко задуматься, ибо эта древняя кровь была темнее ночи и тверже камня. Боги могут проноситься по нашим жилам, но домом Своим Они избирают место, где на камне высохла кровь.
Бакенхонсу заговорил, обращаясь к статуе Амона. У него был мягкий голос, и говорил он ласково, как будто с Самим Богом, выбирая самые спокойные тона голоса человека, проводящего каждый свой день за службой своему повелителю и никогда не испытывающего неудобств в избранной им жизни. Пока жрецы держали голову барана у алтаря, а шею — над желобом, Бакенхонсу приблизился с жертвенным ножом и стал произносить слова, которые Амон сказал однажды Царю Тутмосу Третьему:
«Я заставил их видеть Твое Величие как совершающую круг звезду, Что разбрасывает языки пламени и исторгает росу».Он провел ножом вдоль шеи барана, и животное один раз дернуло рогами, словно в тот миг взглянуло в солнечный глаз. Затем оно осталось стоять, содрогаясь от какой-то жалобной дрожи своего сердца. Мы слушали звук, с которым кровь капала вниз на кровь. Этот звук исполнен гораздо большего значения, чем тот слабый крик, с которым вода падает на другую воду.
Бакенхонсу сказал:
«Я заставил их видеть Твое Величие в облике крокодила, Повелителя Страха в воде; Я сподобил Тебя поразить тех, кто живет на островах. Посреди Великой Зелени они слышат Твой рев».И с этими словами, — сказал Мененхетет, — с ловкостью Царского Плотника, расщепляющего столб, Бакенхонсу стал на колени перед тем бараном, удерживаемым четырьмя жрецами, и, в тусклом свете, провел ножом снизу по его телу, сделав длинный разрез, который вряд ли смог бы повторить даже один из сотни хороших мясников — настолько быстрым и уверенным было его движение. Все оставшиеся без опоры органы — желудок, кишки, печень и селезенка — со вздохом вывалились на камень, и животное упало на спину. Я увидел, как на его тревожное лицо легла тень великой красоты и перешла от глаз к ноздрям. На моих глазах выражение морды животного изменилось: из дрожащего, испуганного оно превратилось в благородное, как будто знало, что покинувшая его жизнь теперь находится там, на камне, и Боги проявляют к ней внимание. Как все живое, Боги знают, как кормиться от мертвых. Да не научатся мертвые кормиться от нас».
Это брошенное по ходу рассказа замечание заставило меня, однако, той теплой ночью, при мягком мерцании светлячков ощутить тот смутный страх, который мы чувствуем, когда не можем сказать — чего боимся. Диких ли зверей, недобрых друзей или разгневанных Богов? Или все они собрались вместе в окружающем нас воздухе?
«Эта жертва, — сказал Мененхетет, — принесла мне облегчение. Безотчетный страх, который воины часто испытывают перед битвой, готов был охватить меня, и, когда барана вели к жертвеннику, я почти не мог дышать. Но с последней дрожью его ног петля, сдавившая мне грудь, исчезла, и я вобрал в себя столько воздуха, сколько смог — все те потаенные запахи плоти, павшей в темноте на другую плоть.
Бакенхонсу преклонил колени и возложил десять пальцев своих рук на внутренности и осторожно приподнял самые верхние кольца, чтобы рассмотреть изгибы тех, что лежали внизу. Рядом с центром подобная змее, проглотившей кролика, лежала одна из петель, в которой было утолщение, и я почувствовал, как ком стал у меня в горле — попытаюсь объяснить — ведь, честно говоря, по сравнению с нынешним веком, то были времена неотесанности, и тогда истолкованию вида внутренностей придавали большое значение. Животное могло быть мертвым, но в кольцах его внутренностей оставалась сила оплодотворять землю. Поэтому эти внутренности могли сказать не меньше любого куска золота. Золото, которое мы истратили, может уже не принадлежать нам, однако в своих странствиях оно вызывает в других большое тепло».
«Если это и есть то, что они называют мудростью, — сказала моя мать, — то от нее сильно воняет».
«Напротив, — сказал Птахнемхотеп, — на меня производят большое впечатление те места, по которым странствовало твое сердце. Ты изучаешь то, от чего другие предпочитают отмыться».
Мененхетет кивнул при этом остром замечании и продолжил.
«Стоя у круга из серебряного песка, неотрывно глядя на пупок на маленьком золотом животе Амона, мы ждали, пока жрецы отрезали куски мяса от бедра барана и клали их в огонь на алтаре. Там, в густом дыму, подымавшемся, когда новая кровь обугливалась на горячем камне, мы ощутили, как то, что было достойным в баране, перешло в животы Богов, Которые ждали, иными словами, в том покое я чувствовал себя вблизи великой силы. Затем я услыхал голос Амона, сотрясший Его золотой живот, подобно тому, как Бакенхонсу потревожил внутренности барана. Верховный Жрец заговорил, но уже не своим обычным голосом, но из его горла полились звуки, столь же могучие, как эхо в этом огромном покое. Из легких и горла Бакенхонсу вышел мощный, незабываемый голос:
„Царю, Который есть Мой раб. Да падешь Ты семь раз к Моим ногам, Ибо Ты — подставка для Моих ног, конюх Моей лошади, Ты — Моя собака".
„Я — Твоя собака", — прошептал Рамсес. Он с трудом выговаривал слова, но я бы вообще не издал и звука. Мои зубы были стиснуты, как кости, склеенные известью. Никогда голос Амона не звучал в Святилище с такой силой. От Его мощи, казалось, разрушатся стены. „Да, я — Твоя собака, — повторил Рамсес, — и живу в страхе пред Твоим недовольством. Этим утром облако прошло пред лицом Амона-Ра».
Бакенхонсу хранил молчание; и голос Амона умолк, был слышен лишь шум огня. Сквозь треск пламени я мог различить множество голосов, и, словно то были голоса многих принцев и придворных, вопрошавших Его, Рамсес Второй раздвинул Свои челюсти, и с тем же мужеством, я уверен, с которым я бы попытался заговорить у входа в пещеру, где затаился в ожидании зверь, Он сказал: „Ты — Ра и Амон — Бог всех добрых и великих воинов, и Я склоняюсь пред Тобой". Мой Фараон задрожал, как жертвенный баран, говоря: „Прошлой ночью в Мое присутствие явился воин с посланием от Царя Хеттов [35] Муваталлу, который заявляет, что хочет нанести оскорбление Двум Землям. Он убил наших союзников и взял много скота и овец. Сейчас он находится в городе Кадеше с сильным войском и вызывает Меня сразиться с ним. Он бросает Мне вызов! Помоги Мне ответить на это оскорбление".
Рамсес Второй зарыдал — зрелище, которого я никогда раньше не видел. Прерывающимся голосом Он пробормотал: „Этим утром облако закрыло солнце. Я содрогаюсь перед Тем, Кто осмеливается нанести Тебе оскорбление. Я чувствую слабость в Своих членах".
Воздух был тяжел от горелого мяса, — сказал Мененхетет, — запах стоял такой тяжелый, какого мне не пришлось вдыхать до Битвы при Кадеше, однако сквозь густой дым и причитания Фараона просочилась и воцарилась тишина. Готов поклясться, что видел, как уголки накрашенного рта Амона опустились вниз от неудовольствия. Однако откуда мне было знать — что я увидел сквозь дым и белый свет, который все еще трепещет в моем сердце, когда я закрываю глаза? Я ничего не ел с рассвета, и запах мяса, горевшего на алтаре, воспламенил мой желудок. Затем мощные звуки голоса Амона вновь вышли из горла Бакенхонсу. В криках устрашающей ярости исторглись слова Амона: „Если Ты предашь Меня, Твои ноги побегут, подобно воде вниз по холму. Твоя правая рука отсохнет, Твое сердце будет вечно рыдать. Но, если Ты пребудешь со Мной, Ты предстанешь им, как Повелитель Света. Ты воссияешь над их головами, подобно Мне. Ты уподобишься разъяренному льву. Ты поразишь азиатов и склонишься над их телами в долине. Ты будешь в безопасности на море. Великая Зелень будет как струна, привязанная к Твоему Запястью. Да! — изрек Амон голосом столь мощным, что губы Бакенхонсу замерли, а золотая статуя принялась раскачиваться на сиденье в Лодке (покуда сквозь опущенные веки я не увидел, что под румянами Его золотые губы двигаются), — да, они будут взирать на Твое Величие, подобное двум Моим Принцам — Хору и Сету. Их руки я свожу вместе, дабы охранить Твою победу. Принеси в Мои храмы золото и драгоценные камни Азии".
„Я — Твоя собака, — сказал мой Фараон, — точно так же, как Мои воины — Мои собаки, а хеттские воины — собаки Моих воинов". Он снова поклонился, а Бог безмолвствовал. Вскоре мы вышли из Святилища в покой, где вкушали приношения, и там съели часть мяса барана, которое оставил нам Амон после того, как насытился Сам. На меня произвел большое впечатление восхитительный вкус этой пищи, и я подумал, что Его слюна могла все еще пребывать в ней как приправа.
„Пойдем, — сказал Рамсес Второй еще до того, как я окончил есть, и глаза Его были все еще красны от слез, — пойдем переправимся со Мной через реку. Я хочу посетить Свою гробницу".
ЧЕТЫРЕ
«Пока наша Лодка шла на веслах к Западному берегу Фив, — сказал нам мой прадед, — мне надо было о многом подумать. Я только что слышал самый мощный голос, который когда-либо входил в мою голову, и в ушах у меня стоял звон. В другие годы, когда я стал жрецом и был обучен таинствам языка, я узнал, что звуки, произнесенные Богом, равносильны тому, что Он желает. Так что в древности Бог мог сказать „стул" — и вот, здесь уже стоял стул.
Разумеется, в наши дни мы не близки к Богам. Мы можем реветь, как львы, но нам никогда не удастся вызвать зверя.
Однако в то утро, о котором я рассказываю, мне только что довелось услышать могучее излияние голоса из сердца золота. Оно захватило губы и горло Бакенхонсу, заставив его служить голосом Амона. Так что теперь мы знали, что победа будет за нами, если мы останемся верными Ему.
Как бы там ни было, именно это тревожит меня сейчас. Сегодня церемонии в храмах отличаются от прежних. Обычно десять или более жрецов входят с быком, а не бараном, и Жрец-Чтец стоит у локтя моего Фараона, шепотом подсказывая — какая молитва будет следующей или сколько Тому сделать шагов».
«У них есть теперь такой служитель, — сказал Птахнемхотеп, — но он не отличается праведностью».
«Тогда все было по-другому и совершалось с огромным почтением. Однажды я насчитал сотню жестов, сопровождавших одну молитву, и по своему невежеству пропустил другую сотню, о чем узнал позже, когда стал жрецом. Как же мог тогда такой Властитель, как Рамсес Второй, сознанье которого было поглощено войной, запомнить порядок? И все же, если Царь мог избежать ошибок во время церемонии, по нашему убеждению — повторяю, в те дни мы были гораздо наивнее — Амон не мог не прислушаться к нашим просьбам. По правде говоря, я помню, как в начале многих служб Бакенхонсу часто вкладывал в золотую руку Амона свиток папируса, на котором Верховный Жрец изложил прошение. Затем, по окончании молений, Бакенхонсу брал его обратно. Ощущая присутствие папируса в своей ладони, он мог заключить — пожелал ли Великий Бог сказать „да" или „нет" на представленную просьбу. Разумеется, я всегда верил, что Бакенхонсу в состоянии истолковать слово Амона. Однако в другие годы были другие Верховные Жрецы, которым я не доверял. Я думал, что ответы на их прошения говорили мне больше о служителе, чем о мудрости Амона. И, тем не менее, когда я стал Верховным Жрецом, а следует признать, я не был таким образцом непорочности, как Бакенхонсу, но достиг этого положения, лишь благодаря близости к Рамсесу Второму, во второй своей жизни, когда я был молод, а Он — очень стар, я узнал, что и сам я не готов донести слово Бога. Нет, чувства Амона были слишком устрашающими, чтобы не поддаться смятению, когда свиток папируса дрожит в твоей руке».
«Твои жизни так же непривычны на вкус, как новая приправа», — сказал наш Фараон и улыбнулся моей матери. При этом знаке внимания, впервые оказанном ей после некоторого времени, она поспешила улыбнуться в ответ, но в своих мыслях (я же, слушая своего прадеда со всем вниманием, какое-то время не был близок к ее мыслям и увидел их лишь сейчас) она протянула руку, чтобы кончиками пальцев коснуться поверхности, столь же чудесной, как и ее собственная кожа, для чего ее руке пришлось проделать путь под юбку Птахнемхотепа, и это Его бедро она мысленно гладила, в ответ на что Фараон сел прямо в Своем кресле и притронулся к бычьему хвосту. «Ты говорил, — сказал Он Мененхетету, — о силе прошения Верховного Жреца».
«Да, — сказал мой прадед. — Если мое прошение Фараону содержало пожелание приумножить богатства Фиванского Храма, я знал желаемый ответ. Верховный Жрец должен увеличивать достаток своего Храма. Внимание Амона привлекается дарами, и лучше всего — крупными дарами. Поэтому мое прошение могло состоять в просьбе к Амону наставить нашего старого Рамсеса, чтобы к дарам Храму Тот добавил еще одну десятую часть дани, полученной Им от Ливии в прошлом году. Моя рука, державшая прошение, не ожидала услышать от Амона иного ответа, кроме „да", однако, при всем моем горячем желании такого ответа, я мог ощутить очевидное неудовольствие Сокрытого, если этим утром Он не желал подобного прибавления».
«Сообщал ли ты тогда о таком нежелании?» — спросил Птахнемхотеп.
«Я не припоминаю, мой Повелитель. Единственно, что я помню, — это трепет, который вселял в меня подобный ответ, когда он приходил ко мне. Каким устрашающим было прикосновение прошения, когда оно говорило: „Нет!" На ощупь папирус мог тогда казаться таким же отвратительным, как кожа змеи.
Так вот, разумеется, в тот день, когда мы пересекли реку, чтобы посетить гробницу Рамсеса Второго, я мало что знал о столь тонких делах. Я понимал только, что сегодня все будет не так, как в другие утра.
Поэтому меня не удивило, что тот день оказался особенным — и каждое его событие — непредвиденным. Не успели мы высадиться на пристани Западного берега Фив, как мой Фараон впервые пригласил меня в Свою колесницу, и, поняв, что Нефертари отсутствует, лошади были поражены так же сильно, как и я. Имена этих лошадей, кобылы и жеребца, я помню: Победа-в-Фивах и Мут Благая, и у кобылы, как и можно было предположить, была та же особенность, что и у Нефертари. Она никогда не хотела разлучаться со своим другом. Нужно было лишь приказать Победе-в-Фивах, и это было равносильно тому, что вы говорили с восемью ногами обоих животных. И эти животные были больше всего счастливы, когда Царица ехала с Царем.
Однако, оказавшись в моем обществе, мой Рамсес направил лошадей прочь, оставив позади всех, кто приехал с нами. И тут я заметил, что люди Западных Фив, привыкшие видеть своего Царя лишь в составе процессии, не знали, что следует поднимать голову, когда Его Колесницу никто не сопровождает. У них оставалось лишь мгновение, чтобы увидеть Воинскую Корону на Его голове и понять, таким образом, что проехал Милостивый и Великий Бог. О Двойной-Дом Египта», — сказал мой прадед, как бы извиняясь за то, что Фараон может проехать где-нибудь в Египте без того, чтобы все заметили Его движение. Затем Мененхетет семь раз ударил рукой по столу, словно отметая любые возможные подозрения в непочтительности того, что он собирался сказать далее. «В эту Ночь Свиньи я могу говорить о многих Фараонах. Я знал Их как Богов, и я знал Их как людей. Из Них всех — если это представляет для Тебя интерес…»
«Представляет…»
«Рамсеса Второго было проще всего узнать как Фараона и труднее всего постичь — как человека. Я уже достаточно рассказал Тебе о Его благочестии, однако вне Храма Ему было безразлично — кто слышит Его голос. Он мог сквернословить так же, как простой воин. А с Нефертари Он был более похож на влюбленного, чем на Царя. Но, когда Ее не было с нами, Он редко отзывался о Ней с почтением. Тем утром, когда мы отъехали прочь в Его Колеснице, Он даже сказал: „Ты знаешь, что с Ней случился припадок, когда Я приказал Ей остаться на Восточном берегу? «Уходи, — сказал Я Ей. — Баюкай то, что Тебе следует баюкать. Я желаю быть один»". Мой Фараон рассмеялся. „Она не любит нянчить, — добавил Он. — Она даже кормилицу Свою не любит", — и Он сильно, со щелчком, словно кнутом хлестнул лошадей, опустив вожжи на их спины так, что мы мгновенно перешли с рыси на галоп и пустились по обсаженной деревьями улице Осириса на Западном Берегу, как два колесничих, которым выпал свободный день, и они могут провести его за кружкой пива, — да, теперь я видел, как Он отличался от других Царей. Положение других Фараонов непременно ощущалось в Их присутствии, однако мой Великий Рамсес Второй мало задумывался об этом. Он мог, если Ему хотелось, снять с Себя одежду, как мальчишка. У Него был такой рот, который словно разглядывал тебя, решая — хочет ли он тебя поцеловать или откусить от тебя лучшие части».
Моя мать рассмеялась смехом, идущим из самых глубин ее собственной плоти, и я смог почти почувствовать черные волосы между ее ног и увидеть раскрасневшееся лицо молодого человека с золотыми волосами и губами столь же красными, как улыбающийся Ему рот моей матери. Я вновь ощутил Сладкий Пальчик — только в ее животе и под моим животом была сотня этих сладких пальчиков, и я подумал — мог ли этим человеком с золотыми волосами быть Рамсес Второй, восставший из мертвых, и это так меня запутало, что я вернулся к тому, о чем говорил мой прадед, при словах: «Мне никогда не нравился Западный берег».
«Ну, Мне он не нравится и сегодня», — сказал Птахнемхотеп с таким ядом в голосе, что я увидел в Его мозгу Западный берег, то есть увидел его таким, каким он открылся бы мне из лодки на середине реки. Так, я увидал равнину с высокими скалами к западу и многими храмами в долине. Большие широкие дороги расходились во все стороны. И все же он больше походил на сад, а не город, и это был отнюдь не Царский сад, потому что между некоторыми дорогами были болота или длинные ямы, вырытые, должно быть, под основания каких-то больших построек, но заброшенные. Я смог увидеть мало людей на обсаженных деревьями дорогах и всего одну-две повозки. Все это говорило о том, что Западный берег должен отличаться от Восточного берега Фив, потому что, если бы в нем было какое-то сходство с Мемфисом, он выглядел бы дружелюбным, был бы заполнен толпой и прорезан множеством узких тенистых улиц. Тогда как на Западном берегу было столько открытого пространства, что на нем можно бьио рассмотреть несколько новых городских застроек, расположенных правильными рядами между длинных широких улиц, поднимавшихся на предгорья. Но, поскольку каждый каменный дом в тех местах имел крышу в виде маленькой пирамиды, я понял, что это — не дома, а гробницы Большого Города мертвых Западных Фив, словно тысячи хижин, установленных в пустыне, за которыми виднелись еще тысячи хижин. При этом каждая улица настолько походила на все остальные, что у меня начали слезиться глаза, и я задумался о том, действительно ли живые считают, что мертвым приятно жить на улицах, на которых нет поворотов.
Должно быть, мой прадед знал каждую из моих мыслей (или, может быть, я пребывал в его мыслях), ибо затем я услышал, как он говорит: «Улицы Города мертвых были проложены под прямым углом друг к другу из тех соображений, что земля, продаваемая маленькими квадратами, приносит наивысший доход».
«Мененхетет, твои суждения исполнены злобы, — заметил Фараон, — Я всегда думал, что строители следили, чтобы эти улицы были прямыми, чтобы отпугнуть грабителей и злых духов».
«Это тоже верно, — сказал мой прадед. — Требуется меньше охранников, когда можно просматривать всю улицу от начала до ее конца; безусловно, духи тоже слабеют, если не могут уклониться или повернуть. Однако, когда в Храме Амона в Карнаке впервые принималось решение о закладке квадратных участков, никто из нас не знал, что они будут пользоваться таким спросом. Я был Верховным Жрецом в то время и могу сказать Тебе, что мы нуждались в источниках дохода. Я говорю о времени пятьдесят или более лет спустя после Битвы при Кадеше, когда Рамсес Второй был очень стар и не интересовался войной. Поэтому Храм мог рассчитывать лишь на дань от сыновей давным-давно покоренных Принцев. Соответственно, мы располагали меньшим количеством подарков для Амона. Представь Себе мучительные усилия такого Верховного Жреца, как я, когда каждое утро мне приходилось видеть презрительную усмешку Великого Бога всякий раз, когда я стирал с Его щек старые румяна, а Язык и Чистота накладывали новые.
Я пришел к простому заключению, что дары, делающие Амона счастливым, не обязательно должны поступать исключительно от Фараона. Многие люди были достаточно богаты, чтобы покупать участки в Городе мертвых.
Теперь я должен пояснить, что даже в то странное утро, о котором я рассказываю, когда Рамсес Второй оказал мне честь сопровождать Его, на Западном берегу уже существовал Город мертвых. Только не такой, как сегодняшний, с тысячами гробниц. В те времена были построены всего несколько больших улиц. Само кладбище было маленьким, и на нем не удостаивался погребения никто, кроме знати из самых благородных семейств. Я помню ту зависть, которую ощутил при мысли, что мне никогда не будет дано почить на Западном берегу. Мне показалось, что человек, которого Фараон пригласил разделить Его общество, должен иметь право на гробницу и историю жизни, запечатленную на ее стенах. Но я знал, что это невозможно. В те времена, если ты не был очень знатен, тебе нечего было и думать о жизни в Стране Мертвых. От крестьян, с которыми я рос, мне часто доводилось слышать, что ямы в Херет-Нечер столь ужасны и что приходится сталкиваться с такими змеями, скорпионами и злыми божествами, что лишь Фараон и некоторые из Его царственных братьев осмеливаются предпринять путешествие в глубины Дуата. Для простого человека такое путешествие было невозможным. Так что предполагалось, что после смерти твоя семья отнесет тебя подальше в пустыню, выроет там яму и засыпет тебя песком. Если ты родился крестьянином, ты об этом даже и не особо задумывался. Однако, став колесничим, я с досадой размышлял о том, что у стольких родственников Фараона есть гробницы и они могут взять с собой в Херет-Нечер свои сокровища, а после того дня, когда я проехал в Его Колеснице, во мне зажглось желание иметь участок в Царском Городе мертвых.
Таким образом, став много лет спустя Верховным Жрецом, я уже знал, что многие богатые люди, не принадлежащие к знати, захотят приобрести землю в этом Городе мертвых. Однако, если мне будет дозволено так выразиться, из-за особой черты характера Рамсеса Великого, которая развилась после Битвы при Кадеше, нам уже вообще не приходилось продавать там землю простолюдинам. Ибо ко времени Его старости тысячи людей в Фивах имели основания утверждать, что являются Его детьми, внуками или правнуками. На худой конец, они могли состоять в браке с Его отпрысками. К тому времени лишь самый бедный люд не имел возможности претендовать на то, что состоит в неком кровном родстве с Усермаатра-Се-тепенра, тем Солнцем-которое-сильно-Истиной, Рамсесом Вторым.
Однако это было уже после Битвы при Кадете. А в тот день, исполненный гордости оттого, что едет в Его Колеснице, кто стал бы думать обо всем том, что ждет впереди? Я просто смотрел по сторонам на то, что можно было увидеть, пока Он гнал лошадей галопом по пустым тенистым улицам Западных Фив. Как я говорил, в то время там было не много людей, и все они работали на Город мертвых и на постройке часовен, и моим молодым глазам они казались более хилыми в сравнении с теми, кто населял Восточный берег. Даже жрецы из храмов почивших казались худыми и изможденными по сравнению с теми, кого я видел, проходя по похожему на лес Большому Залу Храма в Карнаке. Хотя в основном парни в Карнаке тоже жили в тени, они жирели от поедаемых ими пожертвований и от золота, которое взвешивали в хранилищах, тогда как эти, на Западном берегу, хотя и могли свободно наслаждаться тихим солнцем во всех своих прекрасных садах и на площадях города, наверное, томились от скуки покоя столетий, которым им приходилось дышать в Западных Фивах. Я думаю, большинству этих жрецов хотелось быть на другой стороне реки, в Карнаке, и поэтому их несчастье вошло в воздух. Я знал, что к концу дня он исполнится скорби. До тех пор, пока солнце стояло высоко, эти мысли не тревожили, но вскоре ужасные тени хлынут, подобно потокам воды со скал, и покроют мраком храмовые сады.
Тем временем я не представлял себе, куда мой Фараон везет меня, а Он решил посетить ни больше ни меньше, как прославленный своим великолепием Храм Хатшепсут [36], и, когда мы подъехали к нему, к моему удивлению, навстречу нам вышло менее дюжины жрецов. Понятно, что в воздухе даже не чувствовалось запаха сжигаемых жертвоприношений. Мне кажется, что мы были первыми, кто наведался туда за много дней. Разумеется, будучи построен женщиной, этот Храм выглядел скорее как дворец. Мой Фараон заметил: „Я всегда смеялся над этим местом. Только женщина могла построить Храм из одних членов", — и Он хлопнул меня по спине, словно мы были парой простых пехотинцев. Я был потрясен тем, как Он говорит, но тут Он сказал: „Сосчитай члены", — что я и сделал, там оказалось двадцать четыре колонны, все они поддерживали крышу, а сверху был еще один ряд более коротких колонн, — в целом это сооружение являло собой прекрасный белый храм — и очень большой, а за ним прямо в небо вздымались скалы. Когда мой Царь прогнал прочь жрецов, пришедших приветствовать Его, мы поднялись на крытую площадку над первой крышей, где был сад с сотнями деревьев, источавших запах мирры. Ранее я вдыхал запах мирры во всех благовониях, что когда-либо возжигались в храмах, и знал силу этого запаха, но здесь, в тени этих скал, которые, должно быть, были выше ста человек, стоящих друг у друга на плечах, под полуденным солнцем, среди обступивших нас желтых, как пустыня, холмов, запах мирры, исходивший от каждого из этих маленьких деревьев, заполнил мою голову и заставил подумать, что сердцевина моих мыслей так же ясна и пуста, как небо. Когда жрец принес два золотых стула — один для Фараона, а другой, к моей великой радости, для меня, вместе с золотыми чашами с вином для каждого из нас, я также ощутил мирру в вине, точно вдохнул запах пропитанных ритуальными специями похоронных пелен, который напомнил мне его вкус. Итак, все то время, что я чувствовал себя таким же живым, как небесный свет, я продолжал пить вино, говорившее мне о середине ночи и странных мыслях.
„Эти деревья с запахом мирры, — сказал Рамсес Второй, — от Нее", — и я подумал сперва, что Он может иметь в виду лишь Свою Царицу Нефертари, но тут Он добавил: „Хатшепсут", — и замолчал. Потом Он рассказал мне, как их привезли сюда для Амона, Который приказал Царице Хатшепсут привезти в Его Дом эту Землю Пунта. Несмотря на жару, я дрожал, слушая Его, ибо от запаха мирры мне стало холодно, а мой Царь поведал, что немало караванов судов потерпели неудачу, покуда Хатшепсут не послала Свой флот. Пять кораблей Царицы вернулись обратно — с деревьями, источающими мирру, черным деревом и слоновой костью, коричным деревом и первыми павианами, диковинными обезьянами, никогда дотоле невиданными в Египте, а также с новыми разновидностями собак, шкурами южной пантеры и жителями Пунта, кожа которых была такой черной, что они выглядели еще более фиолетовыми, чем улитки из Тира. „Хатшепсут была так довольна, что велела Своему любовнику Сенмуту построить этот храм в Ее честь. Два ряда членов". Он принялся смеяться, но вдруг схватил меня за руку и сказал: „Однажды ночью Я пришел сюда с Нефертари, и Мы были одни на этой террасе. Со Мной заговорил Амон и сказал: «Сейчас темно, но Ты увидишь Мой Свет». Когда Нефертари и Я любили друг друга, Я увидел, как зачинается Наш первый ребенок, ибо Мы были соединены, как соединяется радуга с землей. Поэтому Я не всегда смеюсь в этом храме, хоть и ненавижу запах мирры". С этим Он встал, и мы покинули Храм, и Он погнал таким галопом, что я не мог выговорить ни слова. Не знаю почему, но Он был в такой ярости, будто мы уже находились в гуще сражения.
Затем, Своими быстрыми, как у ястреба, глазами, Он заметил движение на другой стороне поля и, съехав с обсаженной деревьями дороги, поскакал по неровной земле, покуда мы не миновали небольшую прогалину, заросшую кустарником, и не увидели впереди двух девушек-крестьянок. Должен сказать, что они едва успели посторониться, давая нам проехать, как мой Усермаатра уже выскочил из колесницы и был в кустах с одной из них, оставив вторую мне — таков был Его натиск. (Мечом Он взмахивал быстрее, чем любой, кого я когда-либо знал.) Как только Он истратил пыл Своей Двойной Короны на ее перед и зад, Он немедленно был готов со следующим набором залпов для моей девушки, предоставив мне Свою. Конечно, эта новая, как и предыдущая, пахла грязью, однако я пал на нее с еще большим жаром, чем на первую, словно, подобно своему Фараону, атаковал врага во главе колесниц. Разумеется, никогда в своей жизни я не был так возбужден, как от посетившей меня тогда мысли, что я вхожу проторенной дорогой в пещеру, где только что мой Фараон, так сказать, ступал босыми ногами».
«И ты не колебался?» — спросила моя мать. Птахнемхотеп кивнул. «Мне удивительно, — сказал Он, — что ты не знал страха. Все эти приключения, в конце концов, случились лишь в первой твоей жизни».
«Но я не мог чувствовать большего трепета, чем если бы вступил в сражение», — ответил мой прадед.
«Однако, — сказал Птахнемхотеп, — когда человек боится, разве для него сражаться не легче, чем любить? Ведь в сражении нужно поднять всего лишь руку».
«Да, — сказал мой прадед, — за тем исключением, что я соединился с той девушкой в сражении. Я много раз ударял по ее бедрам мягкой дубинкой. По правде говоря, я чувствовал некоторый стыд. Мой член, по сравнению с тем, который она только что познала, трудно было назвать могучим. Кроме этого, первая девушка в этот момент издавала счастливые крики от мощи, с которой вонзался в нее Усермаатра-Сетепенра. Тем не менее, я сумел проложить себе дорогу и затем ощутил великий призыв колесницы. Пока я закончил, мои ноги успели вырыть в земле канаву. Ибо член мой купался в сливках Фараона. Как прекрасен был запах земли! „Я обожаю вонь крестьянок, — сказал мне Фараон, когда мы отъезжали, — в особенности, когда она пребывает на Моих пальцах. Тогда Я близок к тому, чтобы объять саму Мою Двойную Землю".
Я все еще ощущал блаженство — столь же сияющее, словно проснулся среди полей и солнце светит мне в лицо. В тот самый момент, когда я извергся в ту крестьянку, ее сердце вошло в меня. Я увидел мощный белый свет, будто выходящий из ее живота, и воды Фараона пронеслись через мои закрытые глаза, подобно тысяче белых птиц. Я почувствовал, что мой член навечно умащен».
«И все это, — сказал Птахнемхотеп, — оттого, что вы разделили одну и ту же крестьянку».
«Посмотрите, ребенок спит», — сказала моя мать.
Я притворялся. Я заметил, что, по мере того как мой прадед углубляется в свое повествование, все присутствующие обращают на меня все меньше внимания, и теперь мне надо было лишь закрыть глаза, чтобы они забыли обо мне. Меня это устраивало. Они больше не утруждали себя тем, чтобы скрывать свои мысли. И потом я на самом деле был близок к тому, чтобы заснуть, поскольку обнаружил, что понимаю такое, чего никогда не видел и чему не знаю названия.
«Мы снова пустились в путь, — сказал мой прадед, — словно ничего не произошло, но вскоре после того, как мы выбрались из рытвин на полях на одну из еще более изрытых недостроенных улиц, Он остановился и сказал: „Сегодня утром в Святилище, посреди наших молитв, Я увидел Себя. Я был один и Я был мертв. Посреди сражения Я был окружен, и Я был один, и Я был мертв". Прежде, чем я успел что-то ответить, Он снова пустил лошадей галопом. Стук моих челюстей раздавался у меня в голове.
Я не знал, куда Он направляется, но вскоре мы покинули город и поехали по узкой дороге, которая затем превратилась в тропинку, идущую по проходу в скалах. Потом она стала такой крутой, что нам пришлось спешиться и иногда останавливаться, чтобы убрать камни, упавшие на тропу с вершин по обеим ее сторонам. Раз или два я был уверен, что сейчас Он привяжет лошадей, но после того, как мы пробрались сквозь теснину, тропа несколько расширилась, и я смог заметить, что когда-то здесь была дорога.
Когда мы остановились передохнуть, то были совершенно одни посреди ущелья, и тогда Он сказал: „Я покажу тебе место, которое для Меня столь же сокровенно, как Мое Тайное Имя, и ты не будешь жить, если выдашь его кому-то". Он взглянул на меня с такой теплотой, что я почувствовал, будто нахожусь в присутствии Самого Ра.
„Но прежде, — сказал Он мне, — Я должен рассказать тебе историю Египта. Иначе твое невежество помешает тебе понять важность Моей тайны". Здесь мой прадед прервал свой рассказ, посмотрел на всех нас и вздохнул, — похоже, стыдясь своей тогдашней неотесанности. «Ты не можешь представить, Великий Девятый, — сказал он, — как мало я понял из замечания моего Фараона. Я никогда не знал, что у Египта есть история. У меня была история, и я знал истории жизни некоторых колесничих, а также одной или двух шлюх, однако история Египта! — я не знал, что сказать. У нас была река, и она ежегодно разливалась. У нас были Фараоны, и самый старый человек, которого я знал, мог припомнить Того, Который отличался от всех остальных, потому что не верил в Амона, однако я не помнил Его имени. До этого был Тутмос Третий, именем Которого была названа наша Царская Школа Колесничих, и Царица Хатшепсут, и Фараон, тысячу лет назад, по имени Хуфу, но Он жил в Мемфисе, а не в Фивах и построил гору, более высокую, чем любая другая гора, которую кто-либо видел в Двух Землях, рядом с ней были две горы, построенные другими Фараонами. Вот и вся история Египта, которую я знал.
Он же рассказал мне о многом другом. Мы сидели бок о бок на камнях в ущелье, глядя из него на Восточный берег. В отдалении, за рекой, раскинулись процветающие Фивы, и звуки, доносившиеся до нас из их мастерских, мы могли слышать так же отчетливо, как эхо от камня, падающего в соседнем ущелье. Поэтому, думаю, едва ли я спал, хотя мне трудно отделить друг от друга истории, которые Он рассказал мне о Тутмосе Третьем, Аменхотепе Втором и Третьем. Но, когда Он стал говорить о Своем Отце, Сети, я наконец-то смог отчетливо увидеть по крайней мере одного Фараона, поскольку изображения Сети были врезаны в камень многих храмовых стен, что позволило мне понять, отчего, когда оба мы были мальчиками, дни Усермаатра-Сетепенра так отличались от моих. Я всегда видел спину своего отца. Я смотрел на его локти, когда он работал в поле, в то время, как Рамсес Второй видел Своего Отца на стенах многих храмов держащим голову пленника рукой, на которую были намотаны его волосы, — там, в толще камня. Когда бы я ни глядел на эти изображения, я чувствовал на своем затылке обжигающее дыхание Сети, и себя — Его пленником. Я часто гадал о том, ощущал ли то же самое Рамсес Второй, когда был мальчиком, но я не осмелился задать Ему этот вопрос.
Затем Он начал рассказывать мне о Тутмосе Третьем, Который должен был стать Царем, но Его место заняла Хатшепсут, так как Она была замужем за Вторым Тутмосом. Таким образом, Тутмосу Третьему пришлось жить в храме в качестве жреца, и Он должен был присматривать за сосудами с благовониями, когда бы Хатшепсут ни приходила молиться. В Нем скопилась такая огромная ярость, что, когда Она умерла и Он стал Фараоном, Он не только в битве был могуч, подобно льву, выпущенному из клетки, но приказал Своим каменотесам вырубить из стен всех храмов имя Хатшепсут. На месте Ее имени Он вырезал Свое собственное.
„Почему, — помню, спросил я моего Фараона, — не был вместо имени уничтожен Храм Хатшепсут?" — и Он сказал мне, что Тут-мос не желал прогневить тех Богов, Которые были особенно расположены к Хатшепсут, Он хотел просто Их запутать. Я помню, как Рамсес Второй взглянул на меня, схватил и сжал пальцами мое колено. „Я также стану тем Царем, чье имя вырежут на камне", — воскликнул Он и рассказал мне еще про величие Тутмоса Третьего, о том, сколько Тот выиграл сражений и сколько взял добычи. Я узнал о статуе Царя Кадета из черного дерева, ибо в те времена был и такой Правитель, и о том, как Тутмос победил Его и привез статую в Фивы. Затем Рамсес Второй сказал мне: „Имя воина, стоявшего с Тутмосом в Его Колеснице, было Амененахаб. Как и все, названные в честь Амона, он был храбр. Он понимал желание Тутмоса Третьего еще до того, как Царь знал собственное стремление. Ты научишься понимать Мое так же хорошо". С этими словами Он поцеловал меня. Я ощутил на своих губах сияние, подобное блеску Его Колесницы, и едва мог слушать, когда Он стал рассказывать мне о других Фараонах, у которых не хватало сил даже для того, чтобы удержать в руках меч Тутмоса Третьего, о таких, как Фараон, Который не любил Амона, Четвертый Аменхотеп, человек странной наружности с мягким, круглым животом, большим носом и удлиненной головой. Однако, Он, должно быть, помнил, что Тутмос сделал с Хатшепсут, ибо сделал то же с Амоном. Тысяча мастеров-каменщиков вырубили в храмах имя Амона, и их резцы написали новое имя: Ра-Атон. Это, сказал мне Рамсес Второй, — имя Бога, прочитанное с конца, точно так же, как Ра-Атон обратно по значению нечер. Затем Аменхотеп Четвертый изменил Свое собственное имя на Эхнатон и построил посреди Египта город, который назвал Горизонтом Атона. Я не мог поверить во все то, что слышал. Мне это казалось странным. Как только что-то было сделано, оно тотчас же переделывалось. Ибо, как только Эхнатон умер, имя Атона было сбито с камней, и восстановлено имя Амона. „Все это, — сказал мой Фараон, — произвело такую слабость в стране, что до сих пор мы наносим наши тайные знаки краской на дерево, а не врезаем их в камень. По этой причине Мой Отец, Сети, приказал Своим художникам работать только по камню. Существует множество изображений Моего Отца, на которых Он держит пленников за волосы на голове перед тем, как нанести им смертельный удар, и все они вырезаны в камне". Сказав это, Он оглушительно расхохотался, встал, схватил меня за волосы, как будто собираясь ударить, снова засмеялся и сказал: „Пошли, Я кое-что тебе покажу", — и мы двинулись вверх по дороге.
Вскоре мы доехали до места, где нам пришлось привязать лошадей, оставить колесницу и идти вверх по такой узкой тропинке, что нам приходилось почти карабкаться по круто уходящим вверх скалам. На самом деле мы взбирались с камня на камень и часто помогали друг другу, протягивая руку. Я был рад этому тяжкому подъему, поскольку Его истории о Фараонах, менявших имена на стенах храмов, оставили меня в замешательстве. Если я и верил во что-то так же твердо, как непоколебимы камни Храма в Карнаке, так это в то, что наш величайший Бог — Амон-Ра. Так как же могло случиться, что было время, когда Он уступил место другому Богу? А то, что Фараон этого Атона был забавного вида человечком с большим животом? — мое дыхание сбивалось больше от мыслей, чем от подъема.
Когда мы достигли вершины скалы, я ожидал, что на другой стороне нам откроется пустыня, однако вместо этого увидел лишь спуск в другую долину и каменистую тропу. Стоя на гребне, мой Царь указал назад на реку. „Там, близ Западных Фив, есть место, — сказал Он мне, — где не разводят ничего, кроме грабителей. Возможно, оно выглядит всего лишь бедной деревенькой, однако под каждой хижиной закопано богатство. Когда-нибудь, если эти воры чересчур Меня рассердят, Я срою это место и отрежу руки его жителям. Ибо они — грабители гробниц. Каждое семейство в этой деревне происходит от грабителя гробниц". Вскоре я понял, почему Он так говорит. Моя голова еще не отошла от историй о Тутмосе Третьем, Хатшепсут и всех Аменхотепах, а мой Рамсес уже говорил о Первом Тутмосе, Который пришел сюда посетить погребальные часовни Своих предков и увидел, как много их взломано и ограблено — украдена золотая мебель и прочие сокровища. Узрев такое надругательство над мертвыми Фараонами, Первый Тутмос громко воззвал к небесам. Ибо, когда Он умрет, и Его гробница может быть так же разграблена. Подобно Своим предкам, Он также может скитаться бездомным в Херет-Нечер. „Тогда, — сказал мой Рамсес, — Он пришел в эту долину".
Мы вместе разглядывали ее. Я раздумывал о том, не подземная ли река придала очертания этой местности. Потому что мне никогда не доводилось видеть более неровной земли. Перед нами было множество ям, которые переходили в более глубокие отверстия, под которыми открывались другие пещеры — многочисленные и обширные. Я мог ощущать, как когда-то сквозь них, обходя преграды, с ревом мчалась вода, вынося с собой песок и размягченную глину, пока не осталась одна скала. Теперь в этой скале были отверстия, столь же обширные, как Царские покои, и на полпути вверх многие отвесные стены в том беспорядочном нагромождении валунов и выступов представлялись обширными пещерами.
Затем мой Рамсес, Усермаатра-Сетепенра, рассказал мне, как этот Первый Тутмос нашел скалу с узким входом, до которого можно было добраться, лишь взобравшись по отвесной стене, однако внутри были пещеры, располагавшиеся одна за другой, и Он сказал: „Здесь Я построю тайную гробницу", — и поручил придворному Архитектору расширить пещеры, пока в скале не образовалось двенадцать покоев.
Камни из этих покоев вывозили в пустыню, а рабочим не оставили возможности рассказать кому-то о своем труде. Мой Рамсес больше ничего не сказал, однако я знал, что случилось с теми, кто там работал. Я слышал их молчание. „Никому не удалось найти место, где скрылся Царь Тутмос Первый, — сказал Усермаатра. — Даже Фараоны не знают места погребения других Фараонов. За любой из этих скал, высоко вверху на стенах, можно найти кого-то из Них, но в этом месте миллионы, бесчисленное множество камней. Не знаю — поэтому ли оно называется Местом Истины, но здесь будет спрятана Моя гробница".
Поскольку я жил в благоговейном страхе перед своим Фараоном, я не хотел слышать о Его тайне. Поэтому я собирался сменить тему разговора. И все же, как черную-медь-с-небес, меня тянуло возвратиться к этому разговору. Если, спросил я, эти гробницы так трудно отыскать, то как же смогли процветать грабители из деревни близ Западных Фив? Тут Он взял меня за руку и сказал: „Поцелуй Мои губы. Поклянись, что не будешь говорить обо всем этом. В противном случае считай, что твой язык вырезан из горла". Мы снова поцеловались, и я узнал, о Великий Рамсес Девятый, что значит жить в царственном теле Фараона, ибо вновь ощутил сияние у себя в голове, а бремя Его тайны легло на меня еще до того, как она была высказана, как только Его язык коснулся моего. Я познал жизнь своего языка и горячее желание никогда не терять его".
„Ни один Фараон не считал, что поступит мудро, позволив другим Фараонам узнать о месте Своего погребения в этой долине, — сказал Он. — И все же кто-то должен был знать. Иначе в случае ограбления гробницы, никто не обнаружил бы пропажи. Поэтому каждый Верховный Жрец узнавал о месте захоронения Своего Фараона, и перед своей смертью он передавал это знание следующему Верховному Жрецу".
Потом Он рассказал мне, как один Верховный Жрец во времена царствования Аменхотепа Четвертого открыл местонахождение одной гробницы семьям в деревне близ Западных Фив и разделил с ними добычу. Затем между грабителями произошла ссора. Святотатство открылось. „Люди из деревеньки воров, — сказал Усермаатра, — вселили такой страх в сердце Аменхотепа Четвертого, что Он изменил Свое имя на Эхнатон и перенес место Своего пребывания вверх по реке, на полпути между Фивами и Мемфисом".
Я не мог поверить, что воры могли наслать такое сильное проклятье, что их устрашился даже Фараон, однако, поразмыслив, решил, что эти грабители могли проникать в гробницы с помощью особых молитв, которые возносил для них Верховный Жрец, и я впервые понял, какое не святое преимущество скрыто в том, чтобы быть святым. И все же я не мог взять в толк — как эти воры из деревни воров могли коснуться мумии Фараона. Умер ли кто-то из них от страха, что разрывает твое сердце?
Ох, эта жара. Тропа была открыта последним лучам солнца, и мое тело начало гореть, как в лихорадке. А в тени меня знобило. День подходил к концу, а мы поднимались вверх, во вторую долину, в этом Месте Истины, что означало — если название было правильным, — что в действительности Истина горяча и уродлива. Солнце за следующим гребнем начало дрожать. Перед нами был высокий холм, вершина которого напоминала маленькую пирамиду на верхушке каждой гробницы в Городе мертвых, Рог — так назвал ее Усермаатра-Сетепенра, и теперь солнце зашло за Рог и исчезло.
Именно там, в глубоком сумраке этой последней долины, Рамсес Второй показал мне вершину камня, высокого, как обелиск. Он стоял не далее локтя от скалы и выглядел так, как будто был отколот от нее ударом молнии. Затем Рамсес Второй пролез в эту расселину и, с силой отталкиваясь спиной от стены и умело цепляясь руками и ногами за выступы скалы, не шире моего пальца, стал на моих глазах взбираться вверх, покуда не поднялся на высоту моего роста, затем в два, потом в три раза выше меня — такого зрелища я не ожидал увидеть в своей жизни, ибо Его белые одежды стали грязными от этих усилий, однако все это время Он удерживал на голове Свою Воинскую Корону и ни разу не снял ее. Раз или два мне казалось, что Он не сможет дотянуться до следующего выступа из-за необходимости обогнуть нависший сверху камень, который грозил сбить Его Корону, действительно, один раз она чуть было не свалилась, когда из одного очень трудного положения Ему пришлось откинуться далеко назад, и Корона начала крениться. Однако, поверьте, Он удержался за выступ одной рукой, а другой поправил Корону. Затем добрался до выступа в стене, где смог примоститься, как на насесте, и крикнул мне, чтобы я поднимался. Теперь Он был так высоко, как колонна в Храме Карнака, равная по высоте росту десяти мужчин, и я начал подъем с мыслью о том, что мой Царь — так высоко надо мной, как сама моя жизнь, но затем подъем оказался вовсе не так труден, как выглядел сперва, поскольку напоминал восхождение по очень неровной лестнице. Понемногу я стал любить эту скалу, к которой прижимался спиной, потому что мог на нее опереться, когда уставал от боли в пальцах от крошащихся выступов или от их острых краев, за которые приходилось цепляться, и сама скала передо мной стала мне столь же сокровенно близка, как расселина в теле мужчины или женщины. Я знал, что многими ночами она будет сниться мне, поскольку, цепляясь за морщины Его каменной кожи, я чувствовал себя ближе к Гебу, чем можно приблизиться к Богу без молитвы.
Чтобы добраться до уступа, мне потребовалось некоторое время, достаточное, чтобы понять, что жизнь на уступе стены не так уж отличается от хождения по земле, что между ними не больше разницы, чем между сном и дневным светом. И я издал победный крик, добравшись до Него, и Он ответил мне быстрым объятием в знак удовольствия от того, что нам удалось свершить. Должен сказать, что тогда Он мне нравился так же, как и каждому воину, которого я знал. И думал я тогда о Нем как о товарище, а не как о Фараоне.
„Взгляни, — сказал Он, — этот уступ похож на тысячи других, и все же не найдется ни одного такого же, как он. Вот посмотри, что там за углом этого валуна".
Камень был высокий, почти в Его рост, и внушительной толщины, и он почти разделял уступ надвое, однако позади него было отверстие, через которое вполне мог протиснуться человек, и, когда Он кивнул и я попытался туда заползти, ящерица скользнула вверх, цепляясь коготками за внутренние стены пещеры, а я очутился в темноте, куда проникал лишь скудный свет снаружи.
В следующее мгновение Рамсес Второй был там, рядом со мной, и мы сели в этой жаре, стараясь отдохнуть, несмотря на шорохи и писк всех существ, которых мы потревожили своим вторжением. Летучие мыши со свистом проносились рядом, словно кончики бичей, и я услышал, что издаваемые ими крики очень похожи на звук дыхания умирающего человека — этот исполненный непреодолимого страха свист. Они извергали на нас помет, однако запах в пещере навсегда изменился из-за моей близости к Фараону. В темноте я мог ощущать благородство Его Божественного Присутствия, оно было столь же велико, как и пещера, — этим я хочу сказать, что Его близость была подобна сердцу, бьющемуся в пещере, отчего мерзкая вонь помета летучих мышей становилась менее едкой в собственных запахах Фараона, от подъема преисполненных Царского пота. До сего дня, на протяжении всех моих четырех жизней, я не чувствую совершенного отвращения к запаху летучих мышей, поскольку он всегда напоминает мне о теплых благородных конечностях того молодого Рамсеса. Да.
Однако мы недолго сидели на полу пещеры, покуда Его тело, излучающее силу, не дало зрение моим глазам, и я смог лучше видеть в полумраке и понял, что эта пещера более походила на проход в толще камня, чем на покой, и Он рассмеялся над остроумием Своего плана, ибо здесь Он собирался построить гробницу из двенадцати комнат. Затем Он добавил: „— Все это будет, если Я вернусь с войн, которые грядут", — и в той пещере мы пребывали в молчании. Ящерицы все еще с шуршанием разбегались от нас, и я знал, что их Боги ужаснулись, почувствовав запах солнечного света на наших членах.
„Хетты, тот противник, с которым нам предстоит встретиться, — сказал Рамсес Второй, сидя рядом со мной на полу, — а они сражаются по трое в колеснице. Они сильны, но медлительны. Их оружие — лук и стрелы, меч и копье, и… — Он помедлил, прежде чем продолжить, — иногда они бьются топорами. Они живут в стране, где растет много деревьев, и знают, как пользоваться топором".
В этой темноте я не мог быть уверенным, что рассмотрел выражение Его лица, но я ошутил еще неведомый мне страх. Как прекрасен новый страх! Он подобен лицу, которое никогда раньше не видел. Он несет острые ощущения тем частям твоей плоти, которым ранее он был неведом. Одно дело погибнуть от меча, что тоже достаточно страшно, но теперь скорбь разлилась вдоль моей спины, по рукам и бедрам при мысли, что меня могут зарубить и топором.
„У хеттов длинные черные бороды, — сказал мой Рамсес, — и в этой растительности застревают остатки старой пищи, живут паразиты, а их волосы лежат спутанными на плечах. Они уродливее медведей и не могут жить без крови сражений. Если они поймают тебя, хуже их врага не бывает. Они пропустят сквозь твои губы кольцо, чтобы дергать твою голову, когда ты идешь, а некоторые сдирают с живых пленников кожу. Так что, из тех хеттов, которых Я пленю, Я приведу с собой сотню, и они построят Мою гробницу. — Он улыбнулся, и, хотя не высказал Свою мысль, я увидел тех хеттов — как они будут выглядеть после окончания работы, и все они были без языков. — Да, — сказал Он, — это лучше, чем использовать египтян".
Потом Он остановился и посмотрел на меня, и на Его лице была та же улыбка, что и когда Он увидел молодую крестьянку. Если бы я мог пошевелиться, Он бы, возможно, всего лишь улыбнулся. Однако я не желал, не мог, и Он встал и схватил меня за волосы, как Его Отец Сети держал головы плененных рабов, и передо мной оказался Его член. Возбудившись при виде выражения моего лица, Он извергся в мой рот. До этого момента я ни одному человеку не позволял такого. Затем, все еще удерживая меня за волосы, Он бросил меня на колени, обхватил поперек и, без малейшего колебания, вонзился в самую мою середину, разрывая неизвестно что, но я услышал лязг в голове, подобный тому, что издает огромная дверь храма, когда она распахивается от удара бревна, которое бегом несут десять здоровых мужчин. Именно с силой десятерых сильных мужчин пронзил Он меня до кишок, и я лежал лицом вниз на каменистой земле пещеры, а над моей головой кричали летучие мыши. Я услышал, как Усермаатра вскричал: „Твой зад, маленький Мени, — хотя я был почти одного с Ним роста и весил, наверное, не меньше, — твой зад, маленький Мени, принадлежит Мне, и Я даю тебе миллион лет и вечность, твой зад, маленький Мени, сладок", — после чего Он извергся с такой силой, что что-то в самом сокровенном во мне распахнулось, и остатки моей гордости улетучились. Я уже не принадлежат себе, а был Его, и любил Его, и знал, что умру за Него, но я также знал, что никогда не прощу Ему, ни когда буду есть, ни когда буду пить, ни когда буду испражняться. Одна мысль, как стрела, пронеслась в моем сознании. И была она о том, что я должен отомстить Ему за себя.
„Мы никогда не погибнем в сражении, — сказал Он. — Теперь мы — зверь, передвигающийся на своих четырех лапах". И Он последний раз поцеловал меня и вздохнул, словно съел все, что было на пиру. Но я ощутил во рту вкус Великой Зелени, и кровь моего нутра продолжала стучать в мое сердце.
Цепляясь за камни, мы спустились вниз и пошли обратно в лунном свете, наблюдая, как облака проходят над звездами. Мне были слышны их голоса. Можно услышать голос облака, если ты исполнен молчания тихой ночью, хотя этот шепот близок к самому тихому звуку из них всех. На рассвете, когда мы подъехали на нашей колеснице к Лодке на берегу реки, мы остановились, чтобы проследить полет сокола, и я знал, что птица Хора более всех сродни солнцу, поскольку зрит первые лучи восхода на востоке, тогда как мы — на западе — все еще пребываем во мраке».
ПЯТЬ
Мененхетет прекрасно представлял себе наши чувства. Его губы скривились в едва заметной улыбке, когда Птахнемхотеп отвел взгляд. Однажды я видел лицо вора как раз перед тем, как ему отрубили руку на городской площади, — сгорая от любопытства, Эясеяб помчалась к месту происшествия. Вор улыбнулся, и его черты приняли то особое выражение, которое появляется на лицах, когда нас застают за обыденным делом.
Улыбка исчезла с его лица, когда топор опустился. Я много раз с криком просыпался по ночам от воспоминания о том выражении изумления, что появилось в его глазах. Вор выглядел так, как будто принимал свою смерть.
Теперь я увидел то же самое выражение на лице своего прадеда и знал, что он все еще живет в пыли пещеры гробницы Усермаатра. Тем не менее он пожал плечами. Он выглядел как ослик, напрягающий свои силы под мешками с зерном, которые возит ежедневно всю свою жизнь.
«Я знал, — сказал он после недолгого молчания, — что никогда не забуду того, что произошло. И я не забыл. Но я ни разу, вплоть до сегодняшнего вечера, не говорил об этом. Теперь я буду говорить об этом снова. Ибо я никогда не знал большего бесчестья, чем в те дни, что последовали за этим. И, мучаясь от стыда, больше всего я стыдился радости, которую доставляли мне эти воспоминания. Мои внутренности ощущали присутствующую на них позолоту. В моей груди горел божественный свет. В меня входил Бог. Я отличался от всех остальных мужчин, хотя больше я чувствовал себя женщиной».
Так оно и было. Он продолжал говорить, и его слова сняли тяжесть печали с моих родителей, а также и Рамсеса Девятого. Они чувствовали себя неловко, и я понимал их стыд — это неприятное ощущение напомнило мне неловкость, которую я испытывал, когда был еще слишком мал, чтобы сдерживать себя в постели, и мог запачкать простыни. Однако я также чувствовал их уважение к Мененхетету, и сейчас оно было иным, не лишенным благоговейного страха. Ибо теперь он не был одинок пред нами. С ним мы ощущали присутствие Другого.
«Я помню, — сказал он, — что не спал два дня и думал, что луна вошла в мое сердце. Я не видел ничего, кроме бледного сияния внутри. Я поклялся, что больше никогда не позволю Усермаатра-Сетепенра снова войти в меня, и это было равноценно признанию того, что меня ужасала мысль увидеть Его — и это меня, который никогда не боялся ни одного человека. Все же, если бы Он попытался вновь сделать это, мне пришлось бы оказать Ему сопротивление, а это означало мою смерть. Поэтому я размышлял, как избежать присутствия моего Владыки, размышлял до тех пор, пока не осознал, что Он Сам, в Свою очередь, избегает меня. Ибо, как только на рассвете мы вернулись в Фивы, мой Царь занялся сбором Своих войск для похода в Сирию против хеттов, и были посланы гонцы, чтобы привести войска из Асуана [37], а другие отправились на север, в Мемфис и Бусирис в Дельте, в Буто и Пи-Рамсес [38], чтобы оповестить размещенные там части — сколько воинов призывается. Все это время мы были заняты в Фивах, собирая собственные припасы.
Затем мы сели в лодки — около трех тысяч воинов из Фив да еще тысяча лошадей, — всего тридцать лодок, и пять дней плыли вниз по реке, в Мемфис. Мы сидели на палубе такими плотными рядами, что, когда завязывалась драка из-за того, что кто-то потерся подбородком о спину соседа, самым лучшим способом ответить, было укусить противника за нос, что я и делал дважды. Они носили отметины на своих лицах до самой смерти. Должен сказать, думаю, это очевидно, что меня не было на Корабле-Соколе. В те дни обычно Царская Лодка уходила вниз по течению так далеко, что нам не были видны даже отблески ее позолоченной мачты, хотя я и мог слышать смех. Он возвращался к нам по воде. Таким образом, я не видел своего Царя пятнадцать дней, покуда мы не пришли в Газу [39], где наконец собралось войско, но даже там я никогда не оказывался рядом с Ним один, так как мы стали лагерем на обширной равнине, тонувшей в пыли, поднимавшейся от муштры новых отрядов и клубами вздымаемой нашими колесницами. И все равно в лагере было лучше, чем на лодках. Там нас набивалось по двести человек, и моя спина не имела другой опоры, чем колени сидящего сзади, и невозможно было даже пожалеть себя, так как по обе стороны от нашего ряда в шесть человек сидел на веслах бедняга, налегавший на них так, что выкачивал из себя жизнь. Говорят, что вниз по течению идти легче, и так оно и есть, но не настолько, когда гребешь постоянно, а к тому же частота гребков больше. Сдавленные в плотную кучу в открытом трюме, закрытые сверху красным полотнищем паруса главной мачты, раскинувшимся над нами словно навес, мы были не в состоянии видеть небо — что было неплохо на такой жаре. Мы не слышали ничего, кроме хрипа тех людей, что напрягали свои легкие под скрип весел, и я ни разу не увидел ничего, кроме тел сидящих передо мной или пота на голых телах гребцов по обеим сторонам, чьи приподнятые скамьи полностью закрывали горизонт. Я не чувствовал даже тысячи ног реки, проходившей подо мной, как не слышал я и плеска воды; нет, в тесноте этой лодки, среди двухсот других воинов мы не слышали ничего, кроме кряхтенья, а кормили нас лишь зерном и водой, покуда мы не стали пускать ветры, как скот. В этих ветрах было такое сильное брожение, что от их запаха можно было опьянеть. На лодке была обезьяна-самец, принадлежавшая капитану, и мне кажется, этот парень бывал пьян, а может, то было его возбуждение оттого, что его использовали столь многие из нас, во всяком случае он был нашим единственным развлечением. Он мог заставить меня смеяться так, что, казалось, вены в моей голове сейчас лопнут, потому что, когда капитан стоял на мостике рядом с рулем с тесно сжатыми жирными ягодицами, а его рука прикрывала глаза от блеска реки, обезьяна становилась в ту же позу, и мы все покатывались со смеху. Но пока я смеялся, я не забывал о том, что сижу на своем больном седалище, не зная — следует ли мне гордиться или стыдиться полученной раны, и поэтому чувствовал себя самым последним слугой Богов. Вроде той обезьяны, что была среди нас.
В Газе я так и не увидел города. Говорили, что теперь он принадлежит Египту, однако мы расположились лагерем в пустыне и пили козье молоко, которое не уменьшало наших ветров. Путешествовать — значит разгонять ветра, как гласит наша пословица, и в палатках мы не говорили ни о чем, кроме свежей еды. Как только мы встали на ноги, ибо я почти не мог ходить после двух недель, проведенных на лодке, мы, колесничие, принялись заготавливать еду и даже съели нескольких гусей. Мы зажарили их рядом с рощей мертвых деревьев, и дрова в костре были серебристыми и давали жар, подобный солнцу, из-за жира, капавшего в огонь. Это пламя излучало счастье, как будто дерево, высохшее, как кость, наконец-то утоляло свою жажду.
Затем Царь собрал всех нас в своей просторной кожаной палатке, равной по размерам двадцати обычным, на великий совет, и на том военном совете более сотни нас сидело большим кольцом вокруг Него. Наш Рамсес Второй никогда не выглядел таким величественным, и с тех пор, как я видел Его в последний раз, завел Себе нового друга. На коротком поводке справа от Него стоял лев.
Этот лев, Хер-Ра, был замечательным зверем. Как его приручили, я не знаю, он попал к нам в качестве дани из Нубии, но Фараон получил его всего за неделю до нашего выступления, и говорили, что ни Царь, ни зверь не могут теперь выносить разлуки друг с другом. Тут я впервые в жизни испытал ревность. Я не знал, отчего в последнее время со мной обходились как с самым ничтожным из колесничих — оттого ли, что Усермаатра-Сетепенра потерял ко мне уважение или просто нашел льва более привлекательным. Я даже подумал: осмелился ли Царь обойтись с задницей льва так же, как с моей? Если бы вы знали Рамсеса Второго, вы бы не сочли эту мысль нелепой. Предоставленная самой себе, ваша воля могла быть крепкой, как скала, однако, когда Он смотрел вам в глаза или, как Его Отец, хватал за волосы, вы ощущали, что ваша воля покидает вас, как вода бежит прочь тысячью волн. Разумеется, Он и этот Хер-Ра понимали друг друга. Этот лев, носивший имя Лицо-Ра, действительно имел на то право — голова его более походила на голову Бога, чем на человеческую, и смотрел он на каждого своими умными глазами с большим спокойствием, в котором было много дружелюбия — нечто вроде того, как двухлетний ребенок вельможи считает всех, приближающихся к нему, несущими ему великое наслаждение. Разумеется, он избалован и впадает в ярость, как только первый неверный звук оскорбляет его слух — таким же был и лев. Таким же, если уж об этом зашла речь, был и Усер-маатра-Сетепенра. Оба они смотрели на тебя с одинаковым дружеским интересом.
Но это так. Я ревновал к Лицу-Ра и почувствовал на своих губах жалкую улыбку, когда лев выслушал все, что говорилось, а затем повернулся к своему другу и Повелителю. Один раз, когда два военачальника говорили одновременно и каждый желал привлечь Царское внимание, Хер-Ра вскочил, его большой тупой нос стал поочередно поворачиваться то к одному из них, то к другому как бы для того, чтобы навсегда запомнить запах этих спорщиков. Вне сомнения, он думал, что откусит им головы. Все это время я говорил себе, что, если до того дойдет дело, я откушу ему нос, прежде чем он приблизится к моему. Да, я ненавидел этого льва.
Раньше я никогда не бывал на военных советах и не знал, всегда ли на них так тихо, как в этот раз, хотя присутствие Хер-Ра заставляло всех произносить слова с осторожностью. Даже подрагивание его задней лапы могло означать нетерпение, а однажды, когда он зевнул во время долгого доклада одного из разведчиков, чьи поиски противника ничем не увенчались, стало очевидным, что тот говорил слишком долго.
По мере того как каждый высказывал свое мнение, я стал понимать, что многие из этих незнакомых мне военных являются Правителями или Военачальниками, управляющими многими областями в тех краях, из которых наши Две Земли получали дань. Поэтому наш Повелитель призвал их в Газу для докладов о хеттских войсках. Войска же эти, казалось, исчезли. О них ничего не было слышно. В Мегиддо [40] и Финикии [41] все было тихо. На берегах Оронта — никакого движения. Палестина и Сирия пребывали в спячке. Ливан был спокоен.
Теперь говорил Принц Аменхерхепишеф, и, когда Он начал Свою речь, Хер-Ра положил свою лапу на колено Фараона, Который, в Свою очередь, накрыл эту лапу Своей ладонью. „Отец мой, — сказал Аменхерхепишеф звонким голосом, — могу ли Я высказать Свое мнение?"
„Никакое другое не было бы столь же ценным", — ответил Ему Отец.
Принц, которому исполнилось тринадцать лет, выглядел уже как мужчина. Он походил скорее на Его брата, чем на сына, а поскольку Нефертари, как я уже, кажется, сказал, приходилась Усермаатра сестрой, можно сказать, что Отец был Ему и дядей. Аменхерхепишеф явно говорил с Фараоном как со старшим братом, которому Он завидует. „Выслушав все сказанное, — заметил Он, — Я склоняюсь к мнению, что хеттский Царь — трус. Он не осмелится сойтись с нами в битве, но спрячется за стенами своего города. Мы не увидим его лица. Поэтому наши войска должны готовиться к осаде. Пройдут годы, пока падет последний хетт".
Он говорил не только как мужчина, но и как советник. У Него был низкий голос, и, если бы не Его молодое лицо, можно было бы подумать, что Он одного возраста со Своим Отцом. Несомненно, все слушавшие Его были под впечатлением от сказанного. Некоторые военачальники следили за каждым Его словом так же, как если бы выслушивали приказы Фараона, и закивали, когда Он закончил. Другие оказались настолько храбры, что попросили у Усермаатра разрешения говорить, а затем высказали свое согласие со словами Принца. Поскольку они рванулись вперед, не зная мнения Фараона, мне они показались такими глупыми, что я не хотел бы служить под их началом. Затем я понял, что все эти люди принадлежат к одной группе и, вероятно, договорились еще перед советом — все от Амен-херхепишефа в Его белой юбке в складках и с мечом, украшенным драгоценными камнями, до самого неотесанного из наших военачальников, служившего в дальних землях, с волосами на груди столь же густыми, как шерсть на шкуре медведя, и с изувеченным лицом, на котором шрамы, оставшиеся от давних сражений, выглядели как камни и овраги Места Истины. Но вскоре я перестал гадать о том, что они хотят выиграть. Это было просто. Если Усермаатра-Сетепенра согласится со Своим сыном, Он не пожелает возглавить поход. Учитывая, сколь велико было Его нетерпение, как смог бы Он перенести недостойную борьбу, при которой Его войска уменьшались бы от болезней быстрее, чем от сражений? Конечно, развитие событий могло оказаться столь тягостно удручающим, что Он вскоре вернулся бы в Египет, оставив Аменхерхепишефа проводить осаду. Принца это вполне бы устроило. В отсутствие Своего Отца он жил бы как Царь.
Моему Фараону эти высказывания явно не доставили удовольствия. Я в этот момент едва ли был готов сказать что-либо, но вдруг Рамсес Второй, ни разу не взглянувший на меня за все эти недели ни на реке, ни в Газе, не обращая внимания на Своих советников, спросил меня — как будто я уже был участником десяти походов, — что я думаю? Должен сказать, что мой язык отдыхал все эти недели и, как застоявшаяся лошадь, втайне мечтал порезвиться. Поэтому мне надо было быть осторожным, чтобы не говорить слишком быстро. Заставлять Фараона напряженно следить за твоими доводами — невежливо. Поэтому я сдерживал поводья, подчиняя себе свой голос. И все же я мог сказать многое. (Ведь я слышал столько пересудов на лодке.) „Основание-Вечности-в-Ра, — начал я, — Царь хеттов призвал своих союзников, и говорят, что с ним мисийцы, лисийцы и дарда-нийцы, а также воины Илиона, Педасоса, Каркемиша, Арвада, Эгерата и Алеппо [42]. Эти люди — невежественные азиаты. Притом что они могут быть яростными в битве, они также нетерпеливы".
Тут я увидел, как Царь закрыл Свои глаза, как будто в Его сознании мелькнула неприятная для Него мысль, а Хер-Ра зевнул мне в лицо. Я уже сказал слишком много. Складка между моими ягодицами зачесалась, а чресла этого льва пришли в такое возбуждение, что, готов поклясться, стали набухать. Появился красный кончик, и все из-за слова нетерпеливы. Тем не менее серьезность нашего обсуждения принуждала Рамсеса Второго сдерживать свой нрав, не давая воли Своему раздражению. Он хлопнул льва по спине, как бы говоря: „Не пугай этого воина, пока он не закончит", — и кивнул мне. Он готов был простить мне, что я напомнил Ему, что у Него можно обнаружить черты, сходные с невежественным чужеземцем. И я продолжил: „Эти вражеские воины готовы зажарить нас на кострах. Они хотят добычи. Если они не получат ее вскоре, они заговорят о том, чтобы вернуться в свои земли. Если бы я был хеттским Царем, в мои намерения не входило бы держать такое войско в осаде. Я бы бросил его в сражение".
„Тогда где же они?" — спросил мой Царь.
Я поклонился, я семь раз ударился головой о землю, ибо не хотел во второй раз оскорблять Рамсеса Второго слишком быстрым ответом. Вместо этого я обратился к Нему с таким количеством Его великих имен, что Хер-Ра облизнулся от удовольствия, а затем я сказал: „Царю хеттов известен каждый холм и каждая долина в Ливане. Я опасаюсь, Добрый и Великий Бог, что хетты попытаются обрушиться на наши боевые порядки сбоку, когда мы будем в походе".
Я знал, что Принц Аменхерхепишеф в ярости. Я нажил себе врага. Но также я видел, что наш Царь подобен ступице колеса в колеснице. Мы, Его советники, были спицами. Мы никогда не могли стать друг другу друзьями. „Крестьянин, который знает так много о лошадях, что стал Твоим Первым Колесничим, — сказал Аменхерхепишеф, — говорит о нетерпеливых азиатах, будто это та истина, на которую мы можем положиться. Однако где же хеттский Царь? Нам на глаза не попался ни один вражеский воин. Ни один разведчик не доносит нам о них. Я говорю, что они скрываются в своих крепостях и не покинут их. Невежественные чужеземцы не обладают той царской силой, которую некоторые считают нетерпением. Скорее они глупы, как скот, и могут ждать вечно". — И Принц бросил на меня взгляд, исполненный всей силы старшего сына Усермаатра- Сетепенра. Хотя Он был похож на Свою мать и у Него были темные волосы, Он держался уверенно, как Его Отец. Любая мысль, приходившая к Нему, была приношением Богов и поэтому не могла быть неверной — вот о чем говорило Его поведение.
Однако, подумал я, теперь Он оскорбил Своего Отца. Ибо, если Боги говорили с Аменхерхепишефом быстрее, чем с Фараоном, у последнего была причина для гнева.
„Ты говоришь, — сказал Усермаатра-Сетепенра, — голосом, достойным Царя-которому-еще-предстоит-войти-в-силу. Однако пока Ты — птенец. Ты еще должен вылупиться из Своего яйца, прежде чем Ты сможешь летать. Когда Ты станешь старше, Ты узнаешь больше о сражениях Тутмоса Третьего. Ты изучишь военный опыт Хоремхеба. Возможно, к тому времени Ты поймешь, что мудрый не говорит с уверенностью о битве, которая еще не началась".
Тяжелый звук вырвался из наших грудей, конечно, то было удовлетворенное ворчание, подтверждавшее глубину высказанной истины. „Слушайте Фараона, это изрек Он", — произнесли мы все. И Хер-Ра зарычал впервые за время совета.
Я заметил, как вспыхнуло лицо Принца, но Он поклонился. „Да-будут-велики-Твои-Два-Дома, соблаговолишь ли Ты высказать нам Свои пожелания?"
Усермаатра сказал, что Он решил свернуть лагерь и выступить в поход из Газы на Мегиддо. Оттуда Он направится через долину к Кадешу, однако Он не будет продвигаться ни по одной дороге быстрее Своих отрядов, идущих по возвышенностям по сторонам Его войска. Он также пошлет разведчиков к Кадешу другими дорогами. Один отряд колесниц пересечет Иордан. Другой пойдет к Дамаску [43].
Я поднял на Него свой взгляд, когда Он назвал мое имя — я буду послан на дорогу к Тиру. Я могу взять отряд, сказал Он мне. Но когда я посмотрел в Его синие глаза, то понял, что, покуда не проведу в одиночестве достаточно долгое время, чтобы я смог проследить каждую свою мысль до самого дна, в животе моем будет пребывать слабость, а не сила. Конечно же, я думал о том, смогу ли достойно вести людей, покуда презрение Фараона все еще жжет мои ягодицы. Поэтому я поклонился и спросил, могу ли я ехать один? Я быстро управлюсь, сказал я, а Ему нужны Его воины.
Раздался глухой ропот нескольких предводителей отрядов и военачальников, сидящих вокруг меня. Одинокому путнику на незнакомых дорогах придется столкнуться с новыми для него зверями, и рядом не будет друга. Он может встретить чужих Богов. Мой Фараон, однако, кивнул, как будто я высказал дельную мысль, и я подумал: не хочет ли Он снова уважать меня?».
ШЕСТЬ
«В том путешествии, чего бы я ни ожидал в нем обрести, я познал, что такое одиночество. Раньше мне никогда не доводилось так долго быть предоставленным самому себе. Теперь, когда я приближаюсь к окончанию своего четвертого существования, я остался с воспоминаниями о людях, которые когда-то были рядом, а теперь мертвы. Но в моей первой жизни меня всегда окружало множество людей, что допускает лишь один образ мыслей. Другие говорят, мы отвечаем. Обычно не задумываясь. Правда, в важные моменты моей жизни в моей голове мог зазвучать голос и говорить со мной, и иногда этот голос был исполнен такой силы, что я знал, что он принадлежит Богу или Его посланнику. Теперь же, на пути в Тир, пришел час, когда я больше не мог слушать ни двух своих лошадей, ни жалоб рамы и колес колесницы, и я почувствовал себя таким одиноким, что вся череда моих мыслей потекла сквозь меня, как будто я уже не был человеком, но городом, через который проходят воины.
Конечно, эти ощущения пришли ко мне не в первый день, и не во второй или третий. Вначале оказаться одному так ужасно, что ни одна мысль не может свободно говорить — ты словно идешь под стенами крепости в ожидании первого камня, готового упасть сверху. Помню, мои глаза с тревогой осматривали местность, точно птицы, перелетающие с места на место и нигде не находящие покоя.
Лошади тоже не чувствовали себя спокойно. Я ехал не на своей боевой колеснице, подвижной и легкой. Предвидя трудности пути, я выбрал учебную колесницу, предназначенную для больших нагрузок и недавно приведенную в порядок. Я также отобрал двух сильных, но глупых лошадей, способных работать весь день, даже несмотря на замешательство от команд, которые отдавала им сотня голосов. Я был уверен, что смогу научить их всему, что мне нужно, что и сделал, но первым моим требованием было — чтобы лошади не выдыхались, а эти родились выносливыми.
Одну звали My — старое слово, обозначавшее воду, и оно было бы странным именем для лошади, если бы она не использовала каждую остановку для того, чтобы помочиться. Другого звали Та. Он был близок к земле и без конца ее удобрял.
Я отправился в путь через длинную плоскую долину, что вела от Газы к Иоппе [44] и походила на знакомую мне местность. Земля в ней была так же черна, как наша египетская, после того как Нил возвращается в свои берега, меня окружала та же жара, те же деревни и хижины. С той лишь разницей, что на всей дороге я не увидал ни одного лица — ни утром, ни в полдень первого дня. Да и кто бы осмелился приблизиться ко мне? Я ехал с поводьями, обвязанными вокруг пояса, с копьем в одном колчане, с луком и стрелами в другом, со щитом, установленным на луке колесницы, и с коротким мечом в ножнах. Сердитый взгляд на хмуром лице, на голове — шлем, а на груди и спине — накидка вместо кольчуги. Должен сказать, что в те дни мы не знали, как делать кольчугу из металла. Моя была из плотной материи, простеганной полосками кожи, — одеяние такое тяжелое, что в расплату за защиту, которую оно обеспечивало, приходилось изнемогать от жары. И все же я носил его, как дом, вокруг своего сердца. Притом что выглядел я, наверное, устрашающе, мой язык был сух, как кусок старого засоленного мяса, и я едва мог дышать. Моим лошадям и мне на той дороге не попадалось ничего, кроме пустых деревень, и их молчание также дышало в мои уши. Поскольку мы уже обобрали всю округу, нельзя было найти чего-либо. Ни еды, ни скота, ни людей. В нищенских хижинах не осталось ничего, кроме духа каждого из этих жилищ. Я ехал дальше, глядя в сторону холмов по обеим сторонам долины, а ночью, когда разбивал лагерь, я мог видеть огни в укрепленных поселениях высоко на склонах и знал, что жители, покинувшие свои деревни, стоят на страже на их стенах. В долине под теми стенами я остановился у самой дороги и попытался уснуть, и всю ночь слышал, как мое сердце бьется подо мной. Затем, наутро, я вновь пустился в путь навстречу тому же молчанию. Даже голубизна неба походила на стену в вышине — настолько одиноким я себя чувствовал.
И все же эта местность была знакомой и гораздо лучше той, что сменила ее потом. Черная почва уступила место красновато-бурой земле, полной песка и глины, достаточно привычные краски, однако затем на низких холмах стали появляться деревья; вскоре их стало больше, а потом намного больше. Они совершенно не походили на наши высокие пальмы — это были низкие деревья с толстыми, остановленными в своем росте стволами и искривленными ветвями — глубоко несчастные создания, выглядевшие так, будто ветер в каждый день их жизни подвергал их пыткам. Я не чувствовал себя спокойно в этих лесах, да и лошади тоже, а вскоре мы оказались в нашем первом плохом месте. Кустарник стал гуще, и уже не было видно ничего, кроме дороги. Его заросли более густые, чем самый густой кустарник на наших египетских болотах, заполнили пространство рядом с деревьями. Иногда мы пересекали небольшие потоки, почти не замечая этого, так как дорога была настолько грязной, что в колеях постоянно бежала вода. Теперь, чтобы выталкивать колеса из грязи, мне так же часто приходилось слезать с колесницы, как и залезать в нее, покуда в одной из трясин этого мелколесья я не заметил ускользающего крокодила. Это заставило меня вновь взобраться на колесницу. На болоте меня жрала мошкара.
Я чувствовал, что нахожусь не просто в чужом месте, но на войне. В этих низкорослых деревьях пребывал крайне недружелюбный дух, и я гадал, каких животных мне придется встретить здесь — медведей или диких кабанов, и вспомнил разговоры об отвратительных гиенах, обитающих в этой местности. В этом лесу я чувствовал себя так, словно блуждал в брюхе зверя. Обливаясь потом в его тенистой жаре, я ощущал отсутствие Ра и думал: какие чужие Боги могут жить в этой мрачной болотистой земле. Каждый раз, когда маленькая ветка хлестала меня по лицу, мои лошади дергали повозку. Мои страхи пронизывали их, как стрелы. Мы продвигались вперед, прыгая с кочки на кочку и вновь шлепая по грязи. Часто мне приходилось спешиваться и отгонять крокодилов.
Затем эта узкая тропа поднялась над заболоченными землями, кустарник стал реже, а деревья выше. Теперь ехать стало легче, если бы только не огромные корни, протянувшиеся поперек дороги, которые едва не опрокидывали мою повозку, когда я пускал лошадей рысью. Меня окружили устрашающе высокие деревья, и я уже едва различал солнце и лишь чувствовал Его присутствие над их вершинами. Моя голова отяжелела от всей этой давящей гущи нависающих надо мной листьев, а затем я миновал ужасное место, где огромное дерево упало на дорогу. Я увидел, что его корни были почти такими же длинными, как и его ветви, а впадина, оставшаяся в земле, огромная, как пещера, и уродливая, как пасть змеи. Я знал, что вход в Страну Мертвых должен выглядеть так же, как эта яма. Даже черви, копошившиеся у основания дерева, вызвали во мне отвращение, и я задрожал от страха при мысли о грядущем сражении. Обнаженные корни этого дерева заставили меня представить, как выглядело бы мое плечо, если бы мне отсекли топором руку.
Как я боялся этого оружия. Надсмотрщик за Плотниками в нашем отряде колесничих в обработке дерева был волшебником, и теперь я вспомнил, как он рассказывал мне, что черные люди, живущие в лесных зарослях, никогда не срубают дерева, не принеся сперва в жертву цыпленка и не подождав, пока его кровь не стечет на его корни. Затем, после первого удара топора, полагалось прижаться губами к зарубке и сосать, покуда не станешь братом дерева. Но я знал, что никогда не осмелюсь коснуться языком сока этих чужих деревьев. Они были слишком злобными. Когда мы останавливались, мои лошади дрожали, a My не могла больше мочиться или не осмеливалась.
Все же я принялся думать о том гусе, которого мы зажарили на сухих серебристых сучьях в нашей пустыне. Ра подержал каждую ветку в Своей руке и передал ей Свой жар. Если бы я умер в тех песках, я мог бы усохнуть, как мои кости, но никогда бы столько не горел. Тогда как каждое из этих деревьев дало бы пламя выше своего роста. При этих мыслях я представил себе весь тот огонь, что жил в этом лесе, и вновь почувствовал себя городом, через который идут воины.
К вечеру я окончательно выбрался из болот и пересек первую гряду на моем пути, с которой мне открылась местность, какой я никогда раньше не видел. Впереди не было ничего, кроме гор, покрытых лесами. Земли, простиравшиеся передо мной, были столь же не похожи на Египет, как лицо сирийца с его густой бородой отличается от наших гладких щек; вид этого чужого края сдавил мне грудь, исторгнув из нее вздох. Мне не верилось, что я так одинок. На протяжении двух дней мне не встретился ни один караван, идущий в любом направлении, было очевидно, что торговцы не осмеливаются выходить на дорогу, и каждая деревня, которую я проезжал, была пуста. В каком же страхе перед нашим войском они жили!
На следующий день я многое узнал, так как выехал на то место в горах, откуда до Мегиддо можно было добраться тремя путями, что напомнило мне голос моего Фараона, рассказывавшего мне о Тутмосе Третьем. Ибо Он был Царем, пришедшим со Своими войсками к этой самой развилке лишь для того, чтобы узнать, что может добраться до Мегиддо двумя дорогами — длинным северным путем через Зефти [45] или открытым южным путем через Таанак [46]. Между ними был также проход Мегиддо, но он шел через перевал Кармель, к самым воротам города — путь опасный и узкий. „Лошадям придется идти одной за другой, — говорили Его военачальники, — а воину за воином. Наши передовые отряды будут сражаться с неприятелем на другой стороне хребта, а замыкающие все еще будут здесь". Я так долго размышлял о природе этих чужих деревьев и лесов, что, вероятно, оказался среди отголосков слов этих давно умерших военачальников Тутмоса Третьего, ибо знал, что изберу тот путь, которым пошел Тутмос. „Я пойду вперед во главе Своих войск, — сказал Тутмос, — и проложу дорогу следами Собственных ног", — и Он провел основные силы Своего войска через этот проход до того, как Цари Кадеша и Мегиддо были готовы Его встретить, поскольку считали, что Он изберет длинную южную дорогу через Таанак.
Теперь мне предстояло отправиться через проход самому. Если бы я не знал, что через него уже прошло войско, я бы отступил. Холмы были крутыми, а деревья вздымались так же высоко, как колонны Храма в Карнаке. Поэтому в этом лесу было прохладно и непривычно. Дорога все время поднималась вверх, и с одной ее стороны холм нависал высоко вверху, а с другой обрывался так круто, что я видел под ногами верхушки деревьев, и они представлялись не такими, как я ожидал, а мягкими на вид, как подушки. Я ощущал дурноту, и меня тянуло упасть на них — столь властной была душа этих деревьев, звавших меня к себе вниз (а я даже не знал имен их духов!). Я провел в таком лесу всего одно утро, а уже ощущал, что прожил в нем не меньше половины лет своей жизни в Египте, и пока я ехал через этот лес, страх пребывал в моем сердце, не покидая его ни на одно мгновение. Нигде в этом лесу не ощущалась близость солнца. Вместо бледного золота пустыни все вокруг было зеленым, и даже небо в тех местах, где я мог его видеть, по сравнению с голубизной нашего неба над Нилом казалось мне белей. Какими коварными были духи этого леса. Лошади не прекращали ржать, жалуясь друг другу.
Затем мы добрались до той части дороги, где с одной стороны холм резко обрывался вниз, а с другой круто вздымался вверх. Наконец-то я смог увидеть солнце. Мы поднялись над деревьями. Дорога стала такой узкой, что я начал сомневаться — смогу ли протащить по ней колесницу. С одной стороны была каменная стена, а с другой — пропасть, и лошади отказывались двигаться дальше. Мне пришлось отпрячь My, которая была ближе к обрыву, и привязать ее уздечку к хвосту Та, чтобы My могла идти за ним. Колесницу я толкал сам. Так мы продвигались — шаг за шагом, и внешнее колесо повозки, случалось, зависало над пропастью. Находясь сзади, я всей тяжестью наваливался на тот ее край, который был ближе к стене. Можете быть уверены, в ужасе я изрыгал проклятья всякий раз, когда дорогу перегораживал камень и мне приходилось перетаскивать через него колесницу. Еще до того, как мы прошли эту часть дороги, я понял, почему Тутмос Третий был великим Царем.
Да, это было трудно. Ни разу, если мне позволено будет сказать, не вспомнил я о той, другой стене в Месте Истины, где мы взбирались к гробнице Усермаатра, да я и не хотел, чтобы ко мне вернулись эти воспоминания, хотя я был уверен, что страх, в котором я пребывал на протяжении этого путешествия, страх настолько сильный, что он заставил меня думать о себе как о другом человеке, и человеке слабом — так вот, этот страх проистекал из моего презренного молчания, когда Он схватил меня за волосы. Как бы то ни было, к тому времени, как лошади и я выбрались из этого места и вышли на возвышенность, с которой я мог смотреть вперед, я был жалким, обливающимся потом колесничим. Ниже дорога расширялась, и там, на холме, вдали, по ту сторону долины, за зелеными лесами и вспаханными полями, лежал город Мегиддо. Я увидел его сквозь гряду гор, похожих на зубчатую крепостную стену.
Тутмос Третий спустился с этого перевала по проходу, и вступил в сражение, и захватил колесницы с золотом и серебром, и оставил лучших воинов противника „распяленными, как рыба" — так сказал Рамсес. Тутмос захватил тысячи голов скота, две тысячи лошадей и много золота и серебра. Услыхав о такой добыче, я предположил, что Мегиддо должен выглядеть богатым, с дворцами из белого камня, как наш Мемфис, с золотыми храмами или, наконец, деревянными особняками, раскрашенными в самые яркие цвета. Однако на следующий день, когда я подъехал ближе, он оказался всего лишь бедным, грязным на вид городом. Возможно, он впал в бедность с тех пор, как был взят Тутмосом. Все равно Мегиддо был крепостью, первым сирийским укреплением, какое я когда-либо видел, построенным, в отличие от наших, не квадратом и не с прямыми каменными стенами. Эти заграждения из грубого камня поднимались вверх и опускались вниз вместе с землей, стены следовали за холмами. Через каждые несколько сотен шагов стояла высокая башня, так что было невозможно атаковать ворота Мегиддо и не подвергнуться обстрелу сотни лучников. Гиблое место. Пришлось бы размышлять о том, как взять город измором. Я начал понимать доводы Аменхерхепишефа.
В тот день, однако, ворота были открыты, и торговля на рынке шла бойко. Я не въехал в город. В этом не было нужды. Царь Кадета не стал бы прятать свое войско за стенами Мегиддо, раз в город можно было свободно войти и осмотреться. Так что я знал, что Властителя этой страны с его людьми здесь нет. Кроме того, через несколько дней Усермаатра должен был дойти до Мегиддо, хотя и более легкой дорогой, и Он сможет задать вопросы, на которые получит нужные ответы, тогда как один покрытый грязью воин на разбитой повозке, запряженной двумя неприглядными лошадьми, скорее подвергся бы пыткам сам, чем вытянул хоть какую-то правду из этих чужих языков. Поэтому я объехал стены города, что заняло много времени, так как тропинки были грязными, а сам город был велик, но потом на другой стороне я обнаружил дорогу, о которой мне говорили в Газе. Эту дорогу легко было узнать, поскольку она была вымощена камнем и по обеим сторонам обсажена дубовыми деревьями — царская дорога, ведущая из Мегиддо прямо на север, но моя повозка была на ней единственной.
Я быстро понял почему. Мощеная часть закончилась на другой стороне первого же холма, и я оказался на проезжей дороге, которая, должно быть, славилась своими ямами. Вскоре поля исчезли, и меня обступил лес, лошадей и меня самого снова охватил страх. Мы находились на дороге, ведущей прямо в Тир, но она не была прямой. Она извивалась, как змея, и даже сворачивала назад, петляя, чтобы взобраться на более высокие холмы. В сумерках приближающегося к концу дня я снова задумался обо всем, что мне говорили об этой дороге и разбойниках, промышлявших на ней. Еще до того, как я выехал из Газы, я наслушался историй о том, как они нападали на караваны и каждого торговца, не знавшего их достаточно хорошо, чтобы заплатить выкуп, продавали в рабство. Обычно торговец умел писать, и поэтому он получал работу писца — ценный раб! Затем разбойники оставляли себе лошадей и распродавали товар. Грабителей было так много, что мужчинам из Мегиддо хватало работы. Они всегда могли наняться вооруженными охранниками каравана.
И все равно я больше боялся леса, чем разбойников. Понадобилось бы четыре или пять человек, чтобы свалить меня с ног. После этого один остался бы без руки, другой — ноги, а третий, возможно, никогда больше не смог бы видеть. Я умер бы, погрузив свои большие пальцы в разбойничьи глазницы. Они же не захватили бы ничего, кроме тела, двух средних достоинств лошадей и колесницы, которую им вряд ли удалось бы продать. Повозка почти разваливалась на части. Если бы только при мне не было золота — а оно у меня было, но вряд ли я выглядел столь преуспевающим, — на меня не стоило нападать. Они могли бы принять меня за потерявшегося или сбежавшего воина, готового примкнуть к любой шайке воров, или даже разведчика, которым я, конечно, был. И если бы они увидели во мне последнего, что ж, они могли бы поступить и хуже, чем предложить услугу египетскому разведчику войск Рамсеса Второго. Среди наших союзников в Газе было несколько азиатов из соседних племен, и с их слов я знал, что нового Фараона все очень боятся. Сирийцы, должно быть, привыкли к египетским отрядам, жившим среди них, однако в спокойный год из Фив прибывало всего несколько посланников для сбора дани и переговоров с Правителем этих земель. Посланники не пытались изменить законы, не вмешивались в деятельность иноземных храмов. У нас, египтян, есть поговорка: „Амон интересуется вашим золотом, а не вашим Богом". Разумный порядок. Обычно не возникало никаких неприятностей.
Однако, когда новый Фараон взошел на Трон, все изменилось. Молодые азиатские Принцы стали вести себя более вызывающе. И вот во все эти земли Ливана и Сирии дошел слух: Рамсес Второй прибывает с войском, самым большим, какое когда-либо выходило из Египта. Если бы я был разбойником, скрывающимся в этих темных зарослях, то в таком случае, при наличии множества торговцев, несущих мне подношения, я бы постарался подружиться с каким-нибудь египтянином. Поэтому я не колебался. Я ступил на самую опасную дорогу, ведущую в Тир. Может быть, мне придется столкнуться с несколькими разбойниками, у которых я смогу получить какие-то сведения. Мой страх перед предстоящим путешествием мог быть велик, но его намного превосходил страх вернуться к Усермаатра-Сетепенра, ничего не узнав для Него.
Итак, я продолжил свой путь. Здесь дорога была достаточно широкой для обеих моих лошадей. Однако близился вечер, а меня все еще окружали лес и холмы. На ночь я остановился в роще, скормил лошадям немного зерна, осторожно поел его сам, опасаясь сломать зуб о какой-нибудь камешек, а затем приготовился ко сну, подстелив под себя свой плащ колесничего. Однако спать на нем оказалось слишком холодно, и вскоре я предпочел сесть и опереться спиной о дерево. Так было лучше. Ствол позади меня казался мне другом. Мы словно сидели на страже спина к спине и всматривались в темноту. К своему удивлению, я обнаружил, что могу видеть больше, чем предполагал. На расстоянии не более четырех или пяти дальних бросков камня в темноте взметнулась искра, и, приглядевшись, я вскоре рассмотрел маленький костер.
Духи в этом лесу хранили молчание. Они располагали к безмолвию. Я мог чувствовать, как лесные духи уходят глубоко под землю и как они возвращаются в мое дерево, они были легкими, как перо Маат. При каждом дуновении ветерка я слышал, как листья разговаривают с ними. Так и я смог услышать спокойствие этих лесов; и хранимое ими молчание помогло мне преодолеть стену, ограничивающую мой собственный слух, и слиться со звуками движений каждого маленького зверька в этом лесу. Мой слух стал таким чутким, что я подумал: не обязан ли я этим благословению духов моего дерева, поскольку впервые за несколько недель я не испытывал никакого страха и чувствовал себя сильным.
Я продолжал глядеть на костер. Я не мог видеть почти ничего, кроме огня, однако, судя по голосам, там не могло быть более трех человек, возможно, их было двое и они говорили на языке, звуки которого были мне незнакомы.
В чаще этого леса голоса разбойников действовали на меня умиротворяюще. Мне было знакомо это ощущение спокойствия, которое проходит с возможностью выбирать — что сделать с другим человеком. Ты можешь убить его, а можешь отпустить. И нет лучшего источника душевного покоя, чем этот. Конечно, мне всегда казалось, что мой Фараон жил именно так.
Теперь я ощутил в себе такую же силу. Моя рука была готова сразить первого разбойника еще до того, как второй поймет, что я тут.
Затем я встал. Лошади спали, и я послал им свою мысль столь же определенную, как взмах вожжей. „Спите мирно, — сказал я им, — и не выпускайте никаких ветров ни из каких дыр". Я не шутил. Затем я снял кольчугу, чтобы моя кожа могла чувствовать близость даже низкорослого кустарника, и в темноте стал приближаться к костру. Почти сразу же я потерял свою силу. Острота моего слуха исчезла. Вернулся страх. Лес больше не был моим другом, и мне пришлось опять сесть, прислонившись к дереву.
Теперь я снова мог слышать голоса людей. Мои чресла и спина вновь обрели мужество. Мне не терпелось двинуться вперед, однако как только я встал на ноги, эти духи покинули меня. Казалось, лишь прикосновение дерева давало мне силу. Разве не был я похож на слепого жреца в Храме Карнака, нащупывающего свой путь от колонны к колонне?
Не будучи, таким образом, в состоянии двигаться, я сказал себе, что вряд ли смогу приблизиться к костру, если не обрету силы.
И тут мне в голову пришла одна мысль. Раз я нахожусь на чужой земле, почему Боги, живущие в этих деревьях, выказывали мне Свое доверие? Отчего Они не предпочли разбойников у костра? Ведь это же их страна. Может быть, оттого, что эти два здоровых парня — теперь я мог слышать, что их всего двое, — пьяны и их сознание походит на болото, растекающееся во всех направлениях. Такова сила вина. В конечном счете оно ведь представляет собой сок умирающего винограда; напиться — значит узнать приближение смерти. Поэтому они находились очень далеко от пребывавших поблизости Божеств. Я же был близок к ним, так близок, как листья деревьев, касающиеся моей головы. Именно тогда я понял, что Боги этих деревьев оскорблены грубостью тех, кто посмел напиться в Их присутствии. Поэтому мне не было надобности прикасаться к дереву, а следовало меньше думать о том, что мне надо сделать, а вместо этого держаться поближе к духам ближайшей ветки. В этот момент я ощутил на себе благословение леса. По запаху я мог даже определять счастливые деревья и те, кому было плохо, — какая между ними была разница! Одно жаловалось, что его корни растут среди множества камней, другое было свежим и молодым, но его затеняло более высокое дерево. Еще одно было расколото молнией и после этого удара выросло до огромных размеров. Так оно и стояло, подобное изуродованному великану, и побуждало хранить молчание. Я склонил голову, как будто действительно проходил мимо великана, парня, который теперь мог смотреть лишь в небо. Наконец я сумел понять, что эти деревья даруют мне свою добрую силу, если я выкажу им уважение, и я продвигался вперед, взвешивая каждый свой шаг. В их окружении я ощущал приятный покой, и, пройдя сквозь то, что эти деревья имели мне предложить (а их мысли были так чисты, что мои чувства воспринимали их словно благовония), я наконец достиг края маленькой полянки, на которой горел костер. Я увидел двух пьяных разбойников. Они боролись друг с другом, и движения их мокрых от жара костра тел напоминали танец, а из старых шкур, в которые они были одеты, у каждого высовывался наружу член.
Увидев мой меч, они пронзительно вскрикнули, а затем отпрыгнули друг от друга — мудрый ход. Теперь я не мог напасть на одного без того, чтобы не подставить спину другому. Однако у меня появился и выбор — на кого первого напасть. Оба они были высокими, но один был сухощав и хитер, как быстрое животное, тогда как тело второго могло бы показаться мне похожим на мое собственное — с развитыми мышцами, и, повинуясь какому-то безошибочному чувству, мудрости, если я могу это так назвать, дарованной мне деревьями, я кивнул обоим, улыбнулся, а затем быстрым движением руки — быстрее, чем когда-либо раньше, — я проткнул своим мечом грудь сухощавого и почувствовал, как его сердце устремилось вверх по моей руке. Сияние вспыхнуло у меня внутри, как будто меня коснулся Усермаатра-Сетепенра. До этого мига никогда, даже со своим Царем, не знал я такого момента, подобного, как мне показалось, удару молнии, если молния могла вселить просветленность, а затем лицо поджарого разбойника стало меняться. Уловки, к которым он прибегал в отношениях с другими людьми, одна за другой отразились на его лице: воровство, предательство и нападение из засады — вот какими были его скрытые лица, но в конце я увидел хорошего человека, не лишенного храбрости, и он умер с мирным выражением лица.
За то время, что я глядел на содеянное, другой разбойник мог бы убежать, но вместо этого он схватил камень и бросил его мне в голову. Я пригнулся, но он поднял еще два, и я засмеялся от счастья, что мы сможем помериться силой, и двинулся на него. Он бросил один камень. Я вновь пригнулся. Второй он запустил мне в грудь, и я поймал его свободной рукой. Когда он наклонился, чтобы подобрать следующий, я сбил его на землю тем камнем, что держал в руке, сильным ударом в шею, положившим конец его борьбе. Пока он стоял на коленях, в тумане, как корова, которой нанесли удар, перед тем как зарезать, я вынул меч и его плоской стороной стал бить разбойника пе? спине, покуда она не стала мягкой, как отбитый кусок мяса, но очень живой, уверяю вас, поскольку завывал он, как раненое животное, но тихонько. У него не осталось никакой воли, чтобы послать ее своим мышцам.
Именно тогда я обнаружил дар, что Усермаатра-Сетепенра оставил в моих кишках. Это был поистине дар. Я знал с тех пор, как Он схватил меня за волосы и овладел мною через место, до которого не дотрагивался ни один человек, что во мне осталось что-то новое, но не знал, как им воспользоваться, но раньше у меня никогда и не было такого часа. Теперь же я смог ощутить этот дар. Не было ничего проще, чем овладеть сзади мальчишкой или мужчиной, если он был достаточно слаб. Я не раз проделывал это, когда сам был еще мальчишкой, с более слабыми мальчишками, с животными, с девушками, когда мог их найти. Надо было всего лишь найти такую, чей отец и братья боялись тебя больше, чем ты их, но в любом случае я не придавал всему этому никакого значения. Я был воин, а не любовник, и даже не воин, а река. Прибывающая вода подымалась, и я подымался вместе с ней».
Здесь Мененхетет умолк, прежде чем продолжить: «Я хочу еще раз пояснить, Великий Бог, что говорю в простоте понимания, которое было дано мне в первой жизни. В те годы у меня никогда не бьио мыслей о теле, в которое я входил. Скорее я делал это, чтобы обрести покой, исходящий от Богов. Столько же знает и животное. Смею заметить, я видел такой свет в теле животного. Поэтому в отношении того разбойника для меня не бьио ничего нового за тем исключением, что его спина и ребра выглядели бы как мои собственные, если бы не бьии так тщательно обработаны плоской стороной моего меча. И все же я никогда ранее не получал такого удовольствия от обладания мужчиной. Моя рука вцепилась в густые волосы на его затылке, и я почувствовал, как мой член распухает до Царских размеров. Я бьи велик от того дара, что получил от Рамсеса Второго. Ни одна дверь не могла противостоять моему рогу. Разбойник заверещал, как выпотрошенный зверь. Первый удар мясника оказался неточным, и несчастное животное заметалось по лавке с вываливающимися потрохами, в то время как покупатели кричат, а мясник ругается. Вот такие звуки этот приятель издавал подо мной, и я даже почувствовал последние остатки его силы — те, что у каждого человека соединены с его Тайным Именем, если мне будет позволено так выразиться, так как это нечто перешло прямо в мой живот, словно мои чресла пили из него эту силу — о, как я любил его задницу. Она принадлежала мне. Я был почти не в состоянии втягивать ноздрями воздух, столь насыщенными были мои ощущения. Мне и раньше приходилось пользоваться дырами, но, как я уже сказал, лишь ради того, чтобы обрести умиротворение. В этот же раз я был готов украсть у этого бродяги семь душ и духов, и, когда я извергся, там было все, что было вложено в меня Рамсесом Великим, то самое послание, которое Он начертал на стенах моих внутренностей. Точно так, как сама моя сердцевина была украдена у меня Фараоном, так же и я украл ее у другого и знал, что этому никогда не будет конца. Теперь мое желание было таким же ярким, как цвет моей крови, и я знал, что буду пытаться украсть семь душ у всех, кого встречу; да, когда я закончил, то, конечно, я поцеловал этого парня в губы, вытер свой член о его ягодицы в знак признательности за удовольствие, которое он мне дал, а затем засунул его ему в рот, чтобы вновь ощутить прилив сил.
Но нет нужды в дальнейшем описании вам подобного происшествия. Я обладал им всю ночь, словно у меня был Царский Член Рамсеса Великого — позвольте мне говорить правду, обретаемую в равновесии Маат, — и узнал силу и храбрость, и дешевое дерьмо предательства этого головореза, чьего имени я ни разу не спросил (я не мог сказать и слова на его языке, а он знал около пятидесяти египетских слов), но прежде чем я утолил свой голод, я обрел все черты его нрава, которые могли бы понадобиться мне, а также немало дурных привычек — или так мог бы я думать, обнаруживая, что мои пальцы шарят в имуществе других. Да, я завладел им настолько, что на протяжении следующих десяти лет во мне жил вор, однако ко времени, когда я оставил его хнычущим на земле, он, будучи в десять раз больше благодарным за то, что он не был мертв, оплакивал также и те качества в себе, которые уже никогда к нему не вернутся; я же узнал нечто интересное о Царе Кадеша, а именно, что в городе Тире — Новом Тире, а не Старом, — на улице Ювелиров, у него есть женщина, и она его тайная наложница. Относительно войск Царя Кадеша этот разбойник знал только, что такие войска есть.
Я упоминаю об этих сведениях так, будто говорил с разбойником на одном языке и встретился с ним в пивной, однако, чтобы заставить его сказать мне это, пришлось повозиться полночи и проделать кое-что с волосами на его голове. Я вырвал половину их, пока у меня не пропало всякое желание обладать им, но даже тогда он продолжал бормотать египетские слова, которые знал. Возможно, если бы он знал больше наших слов, он скорее удовлетворил бы мое любопытство. У них узкие уши, у этих сирийцев, поэтому понадобилось много времени. Я задавал вопрос, но затем наслаждался превосходством своего тела над его телом с таким пылом, что он не мог даже попытаться ответить. Мне казалось, что меж моих ног выросло дерево и дерево это было в огне, и я вгонял его в те дальние закоулки его внутренностей, где хранилось его Тайное Имя». — Он замолчал, чтобы перевести дыхание, и я почувствовал, как пошевелился мой Сладкий Пальчик.
«Я всегда знала, что мужчины испытывают много удовольствия друг с другом, — сказала моя мать, — но никогда не понимала, какова его цена».
«Не всегда бывает именно так, — сказал Мененхетет. — Конечно, эта ночь была особенной».
Птахнемхотеп сказал: «Вероятно, наш уважаемый Мененхетет наслаждается и воспоминаниями».
«Так должно поступать, — сказал Мененхетет. Он пожал плечами. — Утром я вновь поцеловал этого несчастного разбойника и отослал его, хромающего, обратно в Мегиддо, а сам отправился на лошадях по дороге в Тир. Я преодолел самый трудный горный перевал, и теперь вниз ехать было легко — и слишком быстро, — при выезде из одного ущелья нас занесло на повороте, мы ударились о скалу и развалились. Меня выбросило из повозки, и я слетел с дороги, но приземлился на ноги, лишь слегка оцарапав лодыжку. Кони тревожно ржали, запутавшись в упряжи, а дышло, соединявшее их сбрую с повозкой, расщепилось в месте крепления. В дорожном мешке у меня были две заостренные палочки из твердого дерева и кожаные ремни, но все равно я потерял полдня. Надо сказать, плотник я был никудышный.
Ко времени, когда My и Та были вновь запряжены, солнце стояло уже у меня над головой. Ну и путь мне предстоял! Дорога не стала более гладкой, и колесница стонала всеми своими сочленениями. Я не знал, смогу ли дотянуть на ней до Тира, и едва ли представлял, зачем стремился к этому. Оттуда гораздо быстрее было бы ехать на одной лошади, погрузив свое снаряжение на другую, однако какой колесничий согласен расстаться со своей колесницей. Моя, конечно, мало чем отвечала этому названию — просто деревянная повозка. И все же она сохраняла очертания колесницы, так что моя уверенность в том, что я поступаю правильно, не страдала. Хотя на ее дереве осталось всего несколько пятен краски, и со всеми ремнями, намотанными на дышло, она, безусловно, выглядела готовой опять развалиться на части, но все равно моя колымага нравилась мне настолько, что даже заставила меня рассмеяться, так как и мой собственный столб болел у основания. „Лучше ты, старый вояка, чем я", — сказал я колеснице, и мы поехали дальше.
Дорога ныряла, поднималась, поворачивала, но леса стали сменяться полями, и за поворотом внизу за ущельями я смог увидеть море. В мои легкие ворвался ветер, которого я никогда ранее не вдыхал даже в Дельте, — то должен был быть запах самой Великой Зелени, он освежал мои ноздри и полностью состоял из рыбы, но не той, что гнила на грязных отмелях у Нила. Нет, этот приятный запах, что пришел на холмы из чудесной красоты Великой Зелени, вызвал в моей душе непривычное волнение и был так чист, как будто я вдыхал свежесть самой Нут, которая держит небо в вышине, запах такой изысканный и столь отличный от запаха мяса, что проникает в пот мужчин и некоторых женщин. Я заплакал, так как никогда не знал госпожу, подобную этой. Я не хочу сказать, что плакал, как ребенок или от слабости, но мои слезы родились из здорового влечения, теперь, когда моя гордость (по причине того, что я сделал с разбойником) была в значительной степени восстановлена. Кроме того, вода уходила на громадное расстояние, простираясь за пределы возможностей моего зрения так далеко, что я уже не мог найти место, где небо над моей головой опускалось сверху навстречу морю, и отчасти я плакал из-за этого, словно меня лишали возможности видеть всю полноту величайшей красоты. Потом там были еще корабли. Я привык к нашим лодкам на реке и к царским судам с их огромными золотыми и пурпурными парусами, с их золотыми и серебряными носами, вид которых давал больше представления о нашем богатстве, чем зрелище царской процессии, однако те корабли здесь, на Великой Зелени, они были так далеко, что я даже не мог разглядеть цвет их носов — их паруса были белыми, и подобного зрелища мне никогда не доводилось видеть. Они плыли между огромными волнами воды, почти погребавшими их под собой, а их паруса раскрывались на ветру, как крылья белых бабочек. Я не мог поверить, что их здесь так много: некоторые из них, судя по направлению, плыли из Тира, а некоторые — в Тир, хотя, спускаясь, я не мог разглядеть самого Тира, а одни лишь камни на берегу.
Теперь, когда дорога шла по каменистому берегу, она иногда поднималась на отрог горы, тянущейся прямо в море, подобно вытянутой перед носом руке, а иногда наши колеса раскачивались в колеях, подходивших почти к прибрежным камням, и эти низкие участки пуги были мокрыми. Никогда раньше не приходилось мне видеть, чтобы такие потоки воды наступали на меня. Море было похоже на змея, катящегося с холма (если только змей способен на такое), а затем разбивающегося о камни. Я был покрыт брызгами Великой Зелени, и какой вкус был у них — солей и рыбы, и маленьких мягких злых духов, что живут в раковинах, но и чего-то таинственного — возможно, то был запах всего, чего я не знал. Могу лишь сказать, что то, что я пережил, когда Великая Зелень осыпала меня своими брызгами, все же очень напоминало общение с благородной дамой, и в ней была та же легкость, высокомерие и игривость, однако напоследок вас могло бросить в дрожь.
Затем стемнело, и я понял, что в этом море пребывает много Богов и Богинь и Их чувства изменчивы. Определенно, змеи, поднимавшиеся из воды, теперь разбивались о берег с большей силой, производя звук, напоминавший гром. Брызги начали щипать мне глаза. Я был счастлив, когда поднялся на холм, отдаливший меня от подобного коварства, однако когда вылез из колесницы, чтобы переставлять колеса с одной гладкой площадки на другую, то понял, что холм представляет собой цельную скалу и что рабочие — в те давние времена, пожалуй, при Тутмосе Третьем, или это было ближе к началу, при Хуфу? — трудились на протяжении многих лет, чтобы вырезать эти ступени на дороге к Тиру. Это была настоящая лестница, и она могла бы произвести на меня большее впечатление, если бы наши египетские творения не были бы несравненно величественнее. Все же я узнал о море еще одну истину. Ибо в темноте вода ударила в стену под дорогой, и, ощутив, как дрогнула скала, я вспомнил чувство, которое испытываешь, когда стоишь на низкой стене крепости, ворота которой пытается пробить тараном осаждающая ее армия. Брызги долетели сюда, на высоту в пятьдесят или почти сто локтей над морем, и, когда я взглянул вниз, в почти кромешную тьму, у Великой Зелени был миллион, бесконечное число ртов с белой пеной на всех них, и она рычала и чавкала и цеплялась за берег, как лев, терзающий свою добычу. Пока я был поглощен этим зрелищем, самый большой водяной змей, которого я только видел, величиной с Нил, нанес страшный удар и, к счастью, разбился о скалу, но громадный осколок каменной стены издал стон, с треском выломился из своего гнезда и упал в море. Я так сильно дрожал от этого посягательства на мою дорогу и от беспредельного гнева настоящих Богов Великой Зелени, который смог почувствовать, что задумался, осмелюсь ли я завтра утром взойти на корабль и поплыть по таким змеям на расположенный на острове Новый Тир. Могу лишь сказать, что, как только мы перевалили через холм, дорога, к моему облегчению, повернула в глубь берега, и я разбил лагерь, поел вместе с лошадьми немного влажного зерна, а затем заснул, дрожа в своей промокшей одежде.
Наутро мне открылся новый прекрасный вид. Горы теперь отодвинулись от моря, и мой взгляд мог охватить пространство узкой долины с полями, ухоженными, как сады, и рядами оливковых деревьев. Вдали на песке раскинулся город. Напротив него далеко в воде высились башни другого города, который, казалось, растет из самой Великой Зелени. Я знал, что город на берегу — это Тир, а тот, в воде — Новый Тир и что там я узнаю многое о Царе Кадеша, по крайней мере я на это надеялся. Несмотря на стоны дышла, трущегося о кожаные ремни, на обратном пути к берегу моя колесница издавала неплохие звуки».
СЕМЬ
«Милостивый и славный Птахнемхотеп, — сказал мой прадед, — когда Ты говорил о лиловых улитках, я молчал и не рассказал о том, что довелось мне пережить в Тире и Старом Тире. По правде говоря, я почти забыл об этих улитках и о том, как они воняют. И не могу понять, как это могло случиться, ведь из-за их гниения старый город распространял смрад, все более ощутимый при приближении к нему, а на его узких улицах приходилось зажимать нос. При этом пурпур на мостовой каждой улицы, на которой располагалась красильня, был таким ярким, что от него болели глаза. Во влажных от струек пурпура плитах можно было увидеть отражение неба. И все-таки тяжкий запах от этих несчастных улиток был таким омерзительным, что, когда я въезжал в ворота города, я прежде всего подумал о том, что я попадаю в него через квартал нищих. Мой нос обонял по меньшей мере дуновение проклятья, что приходит с гниющими зубами. Ты бы подумал, что подобный запах способен погубить перо Маат, однако вызываемое им отвращение было столь совершенным, что впервые за много дней мои лошади принялись резвиться друг с другом. Поскольку их ласки могли развалить мою убогую повозку, мне пришлось сойти на землю и удерживать My и Та, что немало позабавило зевак. Представьте второе обстоятельство, которое вызвало мое изумление. Никогда я не видел так много хорошо одетых людей на улице со столь мерзким запахом. То была цена здешнего богатства — приходилось дышать этим воздухом.
Следует, однако, признаться, что внезапная игривость моих лошадей была обычным зрелищем в Старом Тире. Не знаю, отчего дурно пахнущие места обладают такой своеобразной притягательностью — хотя, нужно помнить, что Нут смогла влюбиться ни в кого-нибудь, а в Геба, — к тому же в той первой жизни от моих быстрых глаз никогда не могли укрыться любовники, занятые друг другом в пещерах и канавах, под кустами и на чердаках под крышами и здесь, в Старом Тире, на каждой сырой зеленой улочке. Я еще никогда не бывал в городе, где бы так часто совокуплялись прилюдно. Может быть, причина заключалась в солнце на раскаленном берегу в дневное время или переливающемся в лунном свете пурпуре стен, а возможно, в чем-то сокровенном в природе улитки, которая свертывается, надевая свой панцирь на себя, но я помню, что мое гордое древко наполнилось кровью с того часа, как я вступил в город.
Утомленный потрепанными достоинствами своей невзрачной колесницы и глупостью лошадей, я поручил их заботам мальчика на конюшне во дворе Дома Царского Посланника Рамсеса Второго, как только смог найти улицу, на которой он жил. Собственно, в Тире оказалось мало людей, не понимавших то, о чем я их спрашивал; они отвечали мне на нашем языке, и грубые и несколько гортанные звуки их речи вполне приятно терлись о внутреннюю поверхность моих ушей, возбуждая в тайниках моей груди некое подобие доброго чувства, хотя я тем не менее был готов ударить их за то, что они нарушали торжественность нашего красивого языка.
Вскоре я узнал, что Царского Посланника в Старом Тире нет. Он приезжал в Дом раз в году, чтобы собрать дань с финикийцев, а затем ехал дальше, продолжать сборы в других местах; однако можно было заметить, что его приезд сюда более походил на приезд одного из сыновей Фараона. Определенно, Царский Посланник имел самый большой дом на побережье. Даже в сравнении с богатыми поместьями Тира он более походил на дворец, а слуги Царского Посланника, среди которых было много египтян, держали Дом готовым к его возвращению. Никогда раньше я не видел в слугах такого прилежания в отсутствие их хозяина, но потом я понял, что почти каждый египетский торговец, проезжавший через Старый Тир, бывал здесь, чтобы собрать сплетни о других торговцах. В одной комнате я даже увидел стену с аккуратно расположенными рядами отверстий, в которые были воткнуты свитки папируса с золотыми нитками и восковыми печатями — то были письма, оставленные последним египетским или финикийским судном, прибывшим из Дельты. На самом деле слуги содержали этот Дом в порядке, и я был рад в нем остановиться.
Прошел день, за ним другой, пока я был готов переправиться на лодке из Старого Тира в Тир. Конечно, все это время понадобилось мне, чтобы восстановить силы после моего путешествия. И я не столько устал, сколько был сбит с толку. В Доме Царского Посланника ходило много слухов, но после того как я их услышал, я перестал понимать — силен или слаб Царь Кадеша, осторожен он или напорист. Единственное, в чем я мог быть уверен, так это в том, что каждый имел что сообщить, каждый говорил уверенным тоном совершенно противоположное тому, что рассказал предыдущий.
Разумеется, мне также было любопытно увидеть этот Старый Тир. Я никогда не был в таком городе. Хотя бедные кварталы были старыми и смрадными, гораздо более жалкими, чем любое гиблое место, которое только можно найти в Фивах, в нем было также и много интересного, а новые улицы напоминали рот, в котором не хватает зубов. На каждой новой улице было множество пустующих участков. Даже в городской стене были бреши, а во всех заборах — масса дыр. На лучших из улиц можно было увидеть развалины. И все же город процветал. Один торговец объяснил мне причину. Новый Тир, построенный в заливе на трех островах, был неприступен. Ни одна армия, пришедшая посуху, не могла его взять, поскольку у такой дошедшей до залива армии не оказалось бы лодок. К тому же не существовало и флота, способного нанести поражение военным судам Тира. Таким образом, этот город на своих трех островах был подобен крепости, окруженной рвом, и, если бы дело дошло до осады, он никогда бы не голодал. Еда, как это уже бывало, подвозилась бы по морю. Поэтому люди решили никогда не оборонять Старый Тир на берегу по той причине, что Новый Тир мог заработать торговлей гораздо больше, чем стоило бы восстановление старого города после того, как через него прошла армия. Оттого я и видел так много пустых мест и так много новых построек. Два года назад Старый Тир был взят хеттами. Однако, как я слышал от многих, старый город выглядел новее, чем новый.
И все равно Новый Тир платил дань Египту. Я сделал вывод, что делалось это не из страха, а из соображений выгоды. Каждый утен, который они отдавали нам, приносил обратно сотню от торговли с Дельтой. Да, они, конечно, были первыми встреченными мною людьми, не считавшими себя в чем-либо ниже нас.
На третий день я сел на судно, идущее в Новый Тир, и смотрел, как гребцы втягивают нас на спину каждого нового катящегося навстречу нам змея, а затем выгребают вниз, на другой его скользкий бок. От ветра на моих глазах выступили слезы, а мои ноги испытывали немалое напряжение от беспрестанных сотрясений посудины. Это больше походило не на тысячи рук и ног воды, но на толчею двадцати тел в пивной, в которой тебя бросает из стороны в сторону, а брызги хлестали меня по лицу. И, если уж говорить об этом, они так далеко заливались в мой нос, что я снова ощутил запах мертвых улиток. Однако, когда мы добрались до Нового Тира, ничто в нем не напоминало побережье.
В этом городе, расположившемся на трех маленьких островах, не было, например, лошадей, и каждый либо ходил пешком, либо его несли. В большинстве мест могли пройти в ряд лишь три человека. Стены дома на одной стороне улицы никогда не располагались так далеко от дома на противоположной ее стороне, чтобы обеих нельзя было коснуться расставленными руками, причем я никогда не видел строений, которые уходили бы вверх на такую высоту. Одна семья жила над другой, и так по пять семей, а стены сходились все ближе, по мере того как они поднимались вверх. Ничего не стоило перепрыгнуть с одной крыши на другую, вы почти лишь перешагивали напротив. В результате дверь на крытый дворик на каждой крыше запиралась от грабителей более тщательно, чем выход на улицу.
Когда наша плоская лодка приближалась к пристани, я не мог припомнить более населенного города. На этом острове не было берега, а только тяжелое море да постоянный ветер и выступающие в море пристани, построенные из камней, положенных один на другой. Сотни людей стояли на каждом причале и на каждой пристани. Город за ними выглядел как скалы, высящиеся напротив других скал, а на некоторых из этих крыш были выстроены башни самых необычных форм. На окрашенных стенах можно было увидеть все возможные сочетания красок. Так что это место выглядело необычайно красивым и наводящим ужас. Каменные заросли. Эти три острова располагались так близко друг к другу, что с одного на другой можно было перейти по деревянным мостам, построенным над водой, но, попав в город, уже невозможно было увидеть небо — по крайней мере не больше узкого пространства между построек. Там не было садов или городских площадей. На рынке невозможно было двигаться — такими узкими были улочки; к тому же место это не только воняло улитками, но его улицы закручивались, как улитки. Ты постоянно терял направление, покуда не доходил до самой оконечности любого из маленьких островов, на котором находился. Тогда ты мог посмотреть на море с конца улицы, перед тем как нырнуть обратно, в другую улицу. В этих хождениях я постоянно чувствовал жажду, но там не было ни шадуфов, ни свежей воды. Приходилось пить то, что оставалось от дождевой воды в ее каменных хранилищах, а они были полны соли от камней тех мест. Все было покрыто брызгами морской воды, которые собирались в туман, а он оседал в хранилищах питьевой воды. Я размышлял, как финикийцы добывают ее, пока не узнал, что у состоятельных жителей были собственные лодки — в этом месте невозможно было стать богатым без своей лодки и команды, чего нельзя было сказать обо всех богатых египтянах, — и хозяйка дома посылала их на материк за родниковой водой. Я купил немного воды на рынке и выпил всю, прежде чем смог остановиться.
Никогда не приходилось мне бывать в городе, где земля стоила бы так дорого. Даже самые богатые лавки были маленькими, а мастерские были загромождены еще больше, чем жилые помещения. Торговцы предлагали изделия из золота и серебра, пурпурного стекла и вазы. Они торговали даже подделками наших египетских амулетов, и я узнал, что они могли продавать их в каждом порту Великой Зелени благодаря распространенному высокому мнению о действенности наших проклятий и чар. Несчастные дураки, покупавшие эти подделки в далеких портах, все равно ничего не понимали. Однако вам нужно представить, что производилось в этих мастерских для иноземных покупателей. Египетские мечи и кинжалы, никогда не видевшие нашего Нила, выглядели тем не менее как сделанные у нас, а на кольцах со скарабеями была изображена наша кобра или наш лотос, выгравированные на металле. Я слыхал, что можно попасть на Родос и Ликию, на Кипр и на прочие острова, где живут невежественные греки, и везде местное население носит финикийские драгоценные изделия: их браслеты, их нашейные украшения, их мечи дамасской стали, охотничьи мечи и все виды одежды, которую можно окрасить в пурпурный цвет».
«Но что же, — спросила моя мать, — давали взамен невежественные чужеземцы?»
«Некоторые могли предложить золото. Возможно, они отбирали его у других торговцев; либо они платили драгоценными камнями или слитками серебра. Часто они продавали своих молодых людей, молодых женщин и детей. В некоторых землях они тоже приплод на продажу».
«Я заметил, — сказал Птахнемхотеп, — что, несмотря на то что греческие рабы косматы и зловонны, как любой привезенный сириец, они действительно учатся у нас. И быстро».
Мененхетет кивнул. «Могу сказать Тебе, что тайная наложница Царя Кадета была гречанкой, однако мало кто мог бы ее еще чему-то научить. Притом что шлюхи в Тире пользовались уважением — по крайней мере самые известные из них, и, хотя я и не заходил в Храмы Астарты и не могу рассказать Тебе об их жрецах, я слыхал, что при определенных обстоятельствах шлюхи считались там чем-то вроде жриц и пользовались немалым уважением. Все это, однако, мне рассказывали, когда я еще пребывал в замешательстве от всего увиденного. Никогда еще так много людей из стольких стран не собирались в одном месте. Пройдя вдоль всей узкой улочки от мола, где я высадился, до Храма Мелькарта, я встретил финикийцев и амморейцев, горцев из Ливана и сагалосцев, ахейцев и данайцев, татуированных негров, людей из Элама, Ассирии, Халдеи [47], Урарту [48] и с каждого скопления островов; моряков из Сидона, матросов из Микен, я увидел больше разных одежд, обуви и причесок, чем я знал мест, где их носят: высокие сапоги, низкие сапоги, босые ноги, крашеные юбки, белые юбки, красные и синие шерстяные шапки, звериные шкуры, наше белое полотно и волосы париков, как на Твоей голове, тысячи видов. Большинство самих финикийцев ходили обнаженными по пояс и носили короткие хлопчатые юбки различных цветов. Богатых можно было узнать сразу — по прическам. Их волосы были уложены колечками, спускавшимися по спине, и четыре ряда завитков располагались сверху, похожие на четырех морских змеев, спина к спине. При этом в Новом Тире от всего воняло больше, чем в Старом. Целый день люди выскребали улиток на скалах этих трех островков, а дети ныряли за ними. Я никогда не знал, что люди могут плавать, а здесь увидел, как десятилетние ребятишки ныряют в воду, как рыбы.
Моя комната на этом острове находилась в гостинице, а простыни в ней были из красного шелка, стены обтянуты пурпурной тканью. Саркофаг не особо преуспевающего египетского торговца размерами превосходит эту комнату. В моем жилище невозможно было встать во весь рост, а в прихожей не могли разойтись два человека. Позже я услышал, как сверху, на моем низком потолке, развлекается парочка, и понял, что моя комната является одной из двух маленьких спален, расположенных одна над другой. Над и под моим полом были устроены по две комнаты! Две спальни под одним настоящим потолком! Разумеется, в каждом саркофаге имелось подобие окна, о котором я должен упомянуть, сквозь которое можно было выливать свои выделения. Я уже знал об этой местной привычке. Мои сапоги могли бы рассказать вам больше. Настоящим знаком бедности в Тире были босые ноги».
«Я не могу поверить ничему, о чем ты нам рассказываешь», — сказала моя мать.
«Напротив, — сказал мой отец, — я разговаривал со многими, кто торгует в Тире, там все так и осталось».
Мой прадед кивнул: «Что мы можем знать о такой жизни? Здесь, в нашей пустыне, есть место для всех. Иногда я чувствую, что мои мысли простираются вширь так удобно, что весь я — то есть и я, и мои мысли — могу заполнить целую палатку. Однако в Тире место есть только на море. Никогда раньше я не ощущал столь властного присутствия других и обнаружил, что посреди такой скученности невозможно думать. Мои мысли чувствовали кровоточащие ушибы. В то же время сердцу моему было тепло. Среди вони разлагавшихся улиток запах человеческого тела был сладок. Даже застарелый пот был ароматен рядом с этой мерзостью, и, разумеется, притом что вода там была, наверное, на вес золота, никто не мылся».
«Гиблое, кошмарное место», — сказала моя мать.
«Нет, — ответил ей Мененхетет, — мне оно вскоре стало нравиться. Там можно было бродить вдоль каналов, прорезанных в каждом островке. Они поднимали свои лодки в специальные сухие постройки по сторонам этих каналов, и люди Тира уважали свои лодки, как будто те были Богами, и строили их из лучших сортов ливанского кедра — привезенного, конечно же, из тех лесов, через которые мне вскоре предстояло проехать, — и из заморского дуба. Какие это были лодки! А какие команды! Мне говорили, что из всех кораблей на Великой Зелени лишь финикийцы не причаливали каждый вечер к берегу, не беспокоясь о том, где найти надежную бухту, но вместо этого плыли сквозь тьму, бросая вызов разным чудовищам, которые поднимаются на поверхность моря долгой ночью. Эти люди умели даже направлять свои суда по звездам, и, если ту, за которой они следовали, закрывали облака, они вверялись другой. Беззвездными ночами они не страшась правили на волны и ждали солнца. Одна из их поговорок: „Мы знаем, как вести свои суда к земле самых страшных снов". Как я могу рассказать вам об этом? Их моряки были гордыми, как колесничие, и самый бедный из них вел себя как богач в любой пивной. Я не раз видел драки в тех притонах, похожие на неплохую подготовку к войне.
Еще там были винные заведения с длинными лавками, где можно было потягивать свое питье, а локоть соседа лежал у тебя на шее. И все было в порядке, так как твой собственный локоть лежал на шее соседа с другой стороны. Здесь невозможно было назвать собственную кожу своей, а вино было кислым, как уксус, и все же все мы пребывали в исполненном видений счастливом бреду, так как на маленьком помосте, где могла уместиться лишь одна девушка, стояла шлюха, которая, сняв свою юбку, и — раз мальчик уснул, я могу рассказать вам — показала нам свою сердцевину с такой готовностью, что, казалось, твой глаз смотрит на другой глаз через прорезь замка. Она была из какого-то азиатского племени, с очень темными волосами и телом цвета выделанной кожи, но губы между ее бедер походили на орхидею с лепестками темными по краям и розовыми в середине; и я не знаю, желал ли я так женщину когда-либо до этого. Возможно, дело было в выражении ее лица. Она хотела нас всех. В качестве доказательства она выгнула спину, подняла живот и выставила себя на показ каждому мужчине по очереди. Помню, что все свое желание я вложил в посланный ей взгляд, и перед ним затрепетали ее лепестки так же, как медленно закачается лотос, если вы посмотрите на него достаточно пристально. Затем от того, что пришло от нее в ответ, во мне возникло еще более сильное желание. Мужчины из круга, образовавшегося вокруг нее, клали на помост свои подарки, а когда умолкла музыка, она ушла с тем, кто предложил больше всех. Я не вынимал своего золота. Оно принадлежало Фараону и могло быть использовано лишь для приобретения сведений. Поэтому я был в отчаянии. Как удалось этой женщине вложить в мои чресла такое желание?
Потом я узнал, что она не просто шлюха из этого квартала, которая переходит от одного питейного заведения на тенистой улочке к другому, но этой ночью была также и жрицей. Перед рассветом она должна была участвовать в ритуале совокупления на алтаре Астарты в темном храме у сухих портовых построек. Эти финикийцы верили, что прекраснейшее следует искать в самом омерзительном, а все цвета радуги — в самом низменном, оттого-то они с такой готовностыо мирились с вонью своих улиток и царским пурпуром, поблескивавшим на каждом влажном камне. В моей голове гремели раскаты грома, пока я пытался постичь их религию. Ибо, показывая себя всем нам, она также служила своей Богине Астарте (которую некоторые называли Иштар); да, шлюха трудилась для Ас-тарты, собирая похоть ото всех нас в свою черную (и алую) орхидею точно так же, как цветок получает благословение Ра, с той лишь разницей, что в новом городе Тире они никогда не видели на своих улицах солнца, так что Богине приносили жар наших животов — уж эта шлюха могла забрать у тебя достаточно, чтобы сделать великолепное подношение, сияющее прямо из мясистой сердцевины меж ее бедер, да и послать его вверх, на крышу Храма Астарты.
Я был готов взорваться. На этих улицах вид людей, которые мочатся, или тех, кто выставил задницу для другого облегчения, был вполне обычным делом, однако в тот момент мой член чувствовал себя ужасно, а я ощущал себя взбесившимся дураком настолько, что помчался обратно в свою комнату, чтобы как-то унять свою лихорадку. По правде говоря, я искал хоть мужчину, хоть женщину. Тот вор возбудил во мне вкус к подобным радостям. Как страстно желал я в тот момент быть у Кадеша и чтобы сражение уже началось.
Но как только я прилег на постель, какой-то толчок снова поднял меня, не на ноги — встать было невозможно, и, скрючившись на корточках под бревнами перекрытия, я выглянул из своего окна. Там виднелась другая орхидея! Принадлежавшая, как я узнал вскоре, тайной наложнице Царя Кадеша.
У себя, в нашем Египте, мы знаем, что значит жить в мыслях другого. Мы знамениты нашей способностью посылать весьма действенные проклятья, и это, разумеется, получается столь хорошо оттого, что мы спокойно можем покидать свое сознание и отдыхать в другом. Следует знать своего врага, прежде чем проклинать его, и такие силы, думается мне, естественным образом происходят от нашей пустыни и нашей реки. На больших пространствах сознание может путешествовать так же беспрепятственно, как и тело. Однако там, на неописуемо перенаселенном острове, в этом влажном Тире, учитывая близость наших тел, никакая мысль из одного сознания не могла проникнуть в другое. В Мемфисе или Фивах, помня о том, что она — именно тот человек, которого я искал, я бы не удивился, если бы тайная наложница Царя Кадеша поселилась в доме напротив моего. Наши мысли мчатся впереди нас и созывают незнакомцев. Однако в этом улье, в этом муравейнике — нет! Позже, думая обо всем этом, я поразился, как легко мне удалось найти эту тайную наложницу. Тогда я еще не понимал, что в Тире, где у одного сознания нет возможности безмолвно передать каждое послание другому, язык служил заменой уму. В Тире слухи были еще более обычным делом, чем деньги. Поэтому обо мне было известно, что я колесничий из чужой страны и, учитывая сообразительность этих финикийцев, либо сбежал из армии, либо лазутчик, посланный Усермаатра-Сетепенра, причем почти наверняка — второе, так как на моем лице не было следов того неблагополучия, печать которого неизбежно отмечает любого беглеца».
«Я согласен, — сказал Птахнемхотеп, — эта женщина наверняка слышала, что ты в городе, но откуда ей было знать, что ты ищешь встречи с ней?»
«В том-то и дело, Милостивый и Великий Бог. Именно она решила встретиться со мной. Месть — вот что хотела она навлечь на Царя Кадета. Конечно, тогда я об этом не знал. Я увидел просто женщину, на которой не было ничего надето, лежащую на кровати прямо напротив моего окна, находившегося от ее окна на расстоянии не более вытянутой руки. Она была прекрасна той красотой, какую я еще не знал. Позже, за годы моей первой жизни и благодаря опыту моих последующих жизней, который мне еще предстояло обрести, я понял, что женщины настолько отличаются одна от другой, как наша пустыня от Великой Зелени, но в те дни я ничего этого не знал. Мне было известно лишь о существовании красавиц столь прекрасных, что они живут в садах Фараона и их называют маленькими царицами, а есть шлюхи, которых можно найти в пивных. Не мог я также рассуждать и о женщинах благородного происхождения. Я знал, что они не похожи на прочих женщин; точно так же, как нельзя употреблять одни и те же слова, говоря о блудницах и обычных шлюхах, но тогда, насколько я вообще мог судить о тех или других, в дамах и блудницах я скорее был склонен видеть сходство, чем различие, — этим я не хочу сказать, что я был хорошо знаком с кем-то из них, но знал лишь, что знатные дамы получают удовольствие от того, как они говорят, а блудницы умеют петь — в любом случае, от их прекрасного умения вести себя я чувствовал неловкость, тогда как с любой женщиной, стоявшей ниже меня, мне было хорошо, будь то уродливые деревенские девки, которых я знал, когда был мальчиком и крестьянином, или миловидные крестьянки и те, кого встретишь в пивных, или служанки, когда я был воином. Я брал то, что мог, вонзаясь в них, точно я выпускал стрелу — между мужчиной и женщиной едва ли была разница, за тем исключением, что с женщиной была большая вероятность увидеть лицо, и это могло оказаться предпочтительней. Во всяком случае, как я уже сказал, я любил, как воин, вот и все.
Однако с этой тайной наложницей Царя Кадеша я чувствовал, что нахожусь в присутствии мага. Точно так же, как все мы знаем, когда преклоняем колени перед человеком, обладающим великой силой, так и я, глядя из окна, знал, что эта женщина — не шлюха, способная заставить тебя проглядеть все свои глаза в пивной или донести твою похоть до алтаря; нет, притом что на ней не было одежды, ее врата были открыты, и она лежала на спине с раздвинутыми коленями, никогда женщина не могла бы выглядеть менее раздетой. Она была, если вы сможете понять страх моего сердца, храмом. Я совсем не торопился перейти к ней. Точно так же, как не должно допустить ошибки, предлагая жертву Амону, или проявить слабость, сосредоточенно осуществляя последовательность действий церемонии, так и я поднялся с постели, снял свою белую юбку и сапоги, а затем самым сосредоточенным и легким движением, словно кот, гуляющий по решетке балкона, свесился со своего окна на четвертом этаже и перескочил в ее окно. Затем с улыбкой, в которой не было торжества, но лишь почтение, я приблизился к кровати, на которой она лежала — вся она была устлана пурпурным шелком, — преклонил колени, собираясь коснуться ее лодыжки, но по мере того как я подходил ближе, двигаться становилось все труднее, нет, не труднее, но путь оказывался более кружным, как будто я не мог подойти прямо, но должен был уважать этот воздух и останавливаться. Я был менее чем в двух шагах от ее постели, но по времени с тем же успехом я мог подниматься по высокой лестнице, и пока я приближался, мы неотрывно смотрели в глаза друг друга, и это продолжалось так долго, что я стал понимать, что у глаз нет поверхности, как у щита, но есть глубина и некое сходство с проходом — во всяком случае так может показаться, когда вы впервые глядите в глаза, равные вашим собственным. Ее глаза были самыми прекрасными из всех, что я видел до того дня. Ее волосы — темнее оперения ястреба, но глаза — сине-фиолетовые, а когда она поворачивала голову в тень, в свете свечи они казались почти черными, но снова становились синими на пурпурных покрывалах, даже сверкающе-пурпурными, хотя я видел не их цвет, но прозрачность ее глаз. Я словно всматривался в глубину дворца, каждые из врат которого могут открываться одни за другими, давая мне возможность заглянуть в другой дворец. Однако глаза у нее были разными, а каждый дворец — поражал своими размерами и переливался цветами всех драгоценных камней. Чем дольше я пристально смотрел в них, тем более я был готов поклясться, что вижу красные комнаты и золотые пруды и мои глаза приближаются к ее сердцу. Поскольку я не смел поцеловать ее (я не знал, как целуют женщину, потому что никогда этого не делал), то положил свою руку на постель рядом с ее бедром.
В один из дней моего одинокого путешествия настроение окружавшего меня леса стало так властно овладевать мной, что я остановился. Воздух был слишком тяжелым, его было трудно вдыхать. Тогда я достал из ножен свой меч и медленно опустил его сверху вниз, словно прорубая себе путь сквозь нечто невидимое для моих глаз. И сейчас такой полной была тишина, что, клянусь, я услышал чистый звук — такой же красивый, как издает при прикосновении натянутая струна, — во всяком случае, таким точным движением я рассек воздух, исполненный того настроения, и в равновесии всех своих чувств, которые теперь были столь же глубоки, я коснулся ее плоти, и она вернула мне звук из глубин своего горла — столь же чистый и музыкальный, какой могла бы издать роза, если бы цветок мог говорить. Тогда я понял, что не допущу ошибки. Каждый звук, выходивший из ее рта, вел меня к тем местам, коснуться которых я получал разрешение, и, к своему изумлению, поскольку я никогда не слыхал о такой игре и даже не мог представить ее возможность, моя голова, подобно кораблю, огибающему мыс при входе в бухту, опустилась между ее колен, и я коснулся носом того места, откуда рождаются все дети, и ощутил запах истинного сердца этой женщины. Она была богата и жестока и жила в ужасающем одиночестве в центре того перенаселенного старого города Новый Тир, и при всем том в трепете тех нижних губ было заключено такое очарование и такая утонченность опыта, что я принялся целовать ее там всем своим лицом и сердцем, со всем счастьем животного, которое учится говорить. Никогда не подозревал я, что мои губы способны на такие осторожные движения; все было так, будто на кончике моего языка возникали прекрасные слова, которых я никогда не произносил; и вскоре я весь сделался мокрым от ее влаги — от бровей до подбородка покрылся влагой, подобно улитке, и на самом даче она пахла, как самая сладкая улитка, и, более того, она была единственным садом на том острове. Мне казалось, я живу в свете, близком фиолетовому оттенку пурпура. Все это время она не прекращала напевать свою призывную песню — столь же естественную, как мурлыканье кошки в разгар течки. И вновь я чувствовал, что не допущу ошибки; и вскоре меня научили удовольствиям того зверя с двумя спинами, что имеет по одной голове на каждом конце туловища, и ее язык был как три Богини и принес умиротворение всяческому лязгу меча о щит — пусть этот суровый образ обобщит совокупность моих мошонки, заднего отверстия и моего члена — да простит меня Фараон за такие слова в Его присутствии, но сегодня Ночь Свиньи».
«Я довольна, что ребенок уснул», — сказала моя мать, но ее голос был сладок, и, лежа у ее коленей, я ощутил, как он проник в мою грудь незаточенным острием наслаждения. Выслушав рассказ прадеда о чудесных дворцах в глазу, теперь я почувствовал, как в роще меж ее бедер пришло в движение целое царство, а тем временем его голос рассказывал дальше.
«Итак, с почтением, захлестнувшим меня, как морской прилив, омывающий берег, и так нежно, словно я держал в ладони маленькую птичку, я вытянулся рядом с ней, а складка на головке моего члена лежала у входа в те губы, которые я целовал с такой преданностью, и новые для меня обещания бились такими сильными толчками в моем животе, что я испытывал искушение получить все это сейчас же и жить, оставив огонь позади. Однако я ощущал приглашение узнать о ней больше и потому вошел в этот храм, который был как дворец, и в биении своих мышц стал спускаться вниз, шаг за шагом, чувствуя, как волосы ее бедер касаются моих, по мере того как мы опускались в великолепие множества огней: розовых, фиолетовых, цвета зеленого лимона, а потом огромный морской змей обвился вокруг меня; я хватал ртом воздух, в то время как семь моих душ и духов перескакивали из моего тела в ее, а те семь частей, что принадлежали ей, — в мое. Произошла какая-то битва, в которой мы оба размахивали мечами, которые не рубали ничьих голов, и мы снова очутились в саду, в ее саду, и он был очень сладок. Ее бедра не отпускали меня. Это еще не было сияние блаженства — его мне предстояло испытать позже — конечно, на полпути мои чресла превратились в два узла, но я также впервые узнал, что такое любить и получить ответный дар глубины женского сердца — его алчность, его красоту, его ярость — все качества, равные твоим собственным. Я бы сказал, что тогда я впервые испытал величайшее наслаждение женщиной.
Есть мужчины, измеряющие свою жизнь успехами в сражениях либо победами своей воли, подчиняющей себе других мужчин.
Возможно, есть даже немного и таких, кто, как я, может измерять каждую жизнь другими жизнями. Однако в этой первой своей жизни я только тогда узнал, что она может быть путешествием от одной необычайной женщины к другой. Тайная наложница Царя Кадеша была для меня первой такой женщиной».
«Как ты узнал, кто она такая?» — спросила моя мать.
«Не могу сказать — как, возможно, то было зрелище дворцов в ее глазах. Однако ко времени, когда мы закончили, у меня не было сомнений в том, что я знаю Царя, с которым, возможно, скоро встречусь в сражении. Я знал его. Если бы я встретился с этим Царем Кадеша на поле боя, то знал бы, как сражаться с ним. Его сердце принадлежало мне. Судя по тому, как она отдалась мне, она презирала своего Царя. Не спрашивайте меня, как я, смысливший так мало в женщинах, теперь мог знать так много — таков был дар, который она смогла поднести. Дары женщин никогда не бывают так щедры, как тогда, когда они мстят своему любовнику.
Однако я даже не произнес ее имени и никогда не встретился бы с ней вновь. Такую чудесную ночь нельзя повторить, если только ты не готов жить с этой женщиной до конца своих дней. Сейчас я говорю, опираясь на исполненный расточительности несравнимый опыт своих четырех жизней и двадцати таких женщин, двадцати таких потерянных царств, однако тайная наложница Царя Кадеша была первой, и мы до рассвета сжимали друг друга в объятиях, и смеялись, и говорили друг другу маленькие глупости вроде расхожего египетского имени для привычного действия. Ее очень позабавило сообщение, что оно записывается знаком воды над знаком чаши. „Нак, — повторяла она и, повторяя за мной: — Нак-нак", — звонко смеялась, будто это был чудесный звук, рождающий настоящее эхо, продолжая притворяться, что никогда не слыхала его раньше.
Я хотел больше узнать о ее жизни — я, который никогда не интересовался женскими историями, однако все, что я смог услышать, так это, что ребенком ее похитили финикийцы. К ее острову в Греции подошел корабль, и капитан послал на берег двух моряков. Не взойдут ли правитель и его дочери на корабль? Она пошла за своим отцом и сестрой. Как только они ступили на палубу, корабль поднял якорь. Так она попала в Тир. Теперь она была Верховной Жрицей всех блудниц Храма Астарты, оставаясь тем не менее верной (за исключением праздничных ночей) Царю Кадеша. У нее даже было от него трое детей.
Сколько во всем этом было правды, я не могу сказать. Похоже, она поведала историю, которую часто рассказывала. К тому же ей редко выпадала возможность использовать наш язык. И все же я был уверен, что она ненавидит своего Царя. Наконец она сказала мне, где, по ее мнению, он прячется. Пальцем она нарисовала на пурпурных покрывалах маленький кружок, обозначив Кадеш; другим пальцем провела вниз от кружка, показывая реку. Затем перевернутыми горстями она указала холмы. „Он в лесу, — сказала она мне, — но будет там недолго. Он слишком много хвалился тем, что его войско сможет разбить египтян. И все же я никогда не знаю, когда он придет. Возможно, твой Фараон также этого не узнает. — Она вздохнула. — Думаю, тебе понадобятся твои глаза". После этого она поцеловала меня в оба глаза и собралась уходить. Близился рассвет, и я подумал: не намерена ли она присоединиться к другим блудницам в Храме Астарты.
После того как она ушла, я перешел в свою комнату напротив, прилег на свои красные простыни и попытался заснуть, но все мои мысли были о грядущей войне и о том множестве способов, какими может умереть воин, и я надеялся, что не испугаюсь Царя Кадеша, но что он сам убоится меня. Еще до того, как взошло солнце, я нанял лодку, идущую в Старый Тир, вернулся в Дом Царского Посланника и расспросил о дорогах, что ведут к востоку в горы.
Вскоре мне пришлось принимать решение. Плотник Царского Посланника исправил дышло моей колесницы, но, поскольку у него не было куска выдержанного дерева напека, а дышла других колесниц были слишком короткими, он просто сделал новые планки и обвязал их свежими ремнями. Я не считал, что эта починка поможет моей колымаге продержаться до Кадеша; не хотел я и добираться туда по главной дороге. По пути могли встретиться хетты, которые попытались бы взять меня в плен. Поэтому я решил оставить свою колесницу и ехать верхом. Конечно, мои чувства изменились с тех пор, как я прибыл в Тир, но тогда мне нечего было сообщить, и я не хотел встретиться с Рамсесом Вторым, не имея ни отчета, ни колесницы. Теперь же мое донесение перекроет потерю. Поэтому я погрузил свои вещи на My, оседлал Та — колесница была обменяна на два новых набора упряжи — и отправился в горы по тропинке, которая была такой узкой, что вытоптать ее мог, пожалуй, дикий козел, а может, и дикий кролик. Животы моих лошадей вскоре покрылись царапинами от колючих веток, хлеставших их с обеих сторон. И все же я радовался дороге. Я знал, что не могу сбиться с пути. Солнце стояло высоко, и я мог определять направление по нему. Кроме того, мне надо было всего лишь подняться на возвышенность, затем пересечь большой горный отрог, миновать другую долину и подняться на другой отрог, за которым и будет долина Оронта. Я знал, что найду войско своего Фараона рядом с этой рекой. То был единственный путь, которым Он мог следовать. Огромная повозка с Его огромной палаткой имела на каждой стороне по шесть колес, и тащили ее восемь лошадей. Не приходилось долго гадать, какую дорогу Он изберет: была бы она только достаточно широкой.
А тем временем я еще не проехал и полдороги до первой гряды, как кустарник на моем пути стал таким густым, а шиповник так терзал лошадей, что я сам покрылся потом, без конца вытаскивая колючки из их шкур и увертываясь от ударов их копыт, когда они дергались, тем временем кедры пошли такие высокие, что я уже не мог видеть неба. Сзади солнце сияло так тускло, что деревья не отбрасывали тени. Возможно, я никогда не оставил бы Тир, если бы я знал, какой мрак ждет меня в этих лесах на крутых горных склонах.
Итак, я разбил лагерь и заснул. На следующее утро я поднялся, мне предстоял путь, занявший весь день, а затем еще один, и мне стало казаться, что я никогда не доберусь до конца этого леса. Каждый вечер мне приходилось сидеть в кромешной темноте без костра. Я не осмеливался его разводить. На этих холмах могли встретиться хеттские разведчики. Дрожа от холода, я снова пускался в путь на рассвете, направляя своих лошадей сквозь ранний туман и размышляя в пути, впервые за много лет, об Осирисе и о том, как Его Ка, должно быть, путешествовал через похожие туманы во время Его великого одиночества, когда Его тело все еще представляло собой четырнадцать разбросанных частей. Да, это были места, достойные Повелителя Страны Мертвых: по мере того как мы гуськом пробирались сквозь туман, колонны этих лесов выступали вперед, одна за другой, как часовые, и я держался нужного направления только благодаря уверенности, что не заблудился, потому что мох продолжал оставаться с одной и той же стороны камней. Я следил, чтобы мох был справа от нас. За день, тянувшийся так долго, что мне показалось, что я постарел и стал почти таким же, как некоторые из тех деревьев, мы поднялись на второй отрог, а к вечеру, преодолев его, оказались в узком ущелье, где были такие громадные валуны, что я стал опасаться змей, которые могли выскользнуть из расселин в этих камнях. Потом, когда мы уже прошли ущелье, стемнело. Я попытался заснуть, прислонившись спиной к стволу дерева, но по моим расчетам выходило, что я уже не в Ливане, а скорее в Сирии, и эти громадные кедры принадлежали другому Богу. Силы не думали возвращаться ко мне. Я чувствовал себя слабее, чем когда-либо с тех пор, как выехал из Мегиддо, и тогда понял, что тайная наложница Царя Кадеша забрала больше моей силы, чем дала мне своей, хотя, разумеется, мне пришлось предположить, что эта сила была обретена прежде всего от вора, чью спину я бил своим мечом; из чего можно было сделать вывод, что тем, кто проводит ночь в любовных утехах, следует владеть искусством воров. Наконец мне удалось заснуть, улегшись между лошадьми, — мы спали втроем для тепла, и пусть никто не говорит, что лошадь не так же хороша для этого, как полная женщина, за тем лишь исключением, что ни одна женщина никогда не пускает столько ветров.
На следующее утро, когда я проснулся, уже рассвело, и сквозь редеющие деревья я смог увидеть на вытянувшейся равнине сирийские поля. Далеко впереди, на расстоянии перехода, который занял бы половину дня, должен был располагаться Кадеш, и мне показалось, что я вижу отблески солнца на колесницах — сотнях, а быть может, и тысячах колесниц где-то к северу за городом.
Подо мной меньше чем в часе езды по прямой вниз с последних из этих холмов я мог видеть передовые отряды моих египетских армий. Почетная Стража Усермаатра-Сетепенра расположилась у брода через реку. Глядя на них, я знал — и сейчас отчетливо вспоминаю это чувство, — что за ними также наблюдают и чужие глаза. Из леса позади меня, словно камень, упавший одновременно с мелькнувшей у меня мыслью, донесся топот копыт — чей-то конь помчался прочь, унося донесение Царю Кадеша; да, то было взметнувшееся эхо быстрых конских копыт».
ВОСЕМЬ
«Поля были пусты, и, когда легким галопом я выехал на последний длинный и пологий склон на пути к реке, наверняка меня можно было заметить с большого расстояния. Находившиеся ближе всего ко мне воины-ливийцы, охранявшие внешние позиции войска моего Фараона, немедленно связали меня, как принято у нас в Египте. Позволю себе отметить, какой отменный это способ.
Сидеть на земле с запястьями, привязанными к шее, — жестокое испытание. Я думал, что рука, которой я держал меч, выскочит из плеча. Однако, когда я спускался с гребня, меня узнал один колесничий, он примчался на помощь и вскоре освободил меня.
Однако мое молниеносное пленение было верным знаком того, что передовые отряды охвачены страхом. От своего колесничего я узнал, что лагерь, разбитый здесь, близ Шабтуна, у брода через Оронт, этим утром не будет свернут. Так что войска смогут привести в порядок снаряжение и дать отдых ногам. Командиры, однако, были неспокойны. Мне сказали, что Усермаатра-Сетепенра пребывает в сильном гневе. Его разведчики до сих пор не собрали никаких сведений о нашем противнике, а все действия войск отнимают слишком много времени. Передовые части уже должны были быть здесь, у Шабтуна, но на подходе было лишь Войско Амона. Войско Ра опаздывало на половину утра, задержавшись на переправах через Оронт. Тропа была слишком узкой для быстрого проезда повозок. Войска Птаха и Сета находились в самом начале ущелья, отстав на целый день. Я отчетливо представил себе, как они застряли посреди узкого прохода, и мог даже слышать ругань возниц и ржанье испуганных лошадей.
Хуже того, объяснил мой друг, никто не знает, что нас ждет у Кадеша. Прошлой ночью Усермаатра-Сетепенра сказал Своим военачальникам: „Повелитель хеттов недостоин быть Царем". Наш Рамсес в ярости. Его сводит с ума мысль, что Он вынужден двигаться к Кадешу, не зная, будет ли это сражение или осада.
Я пытался оценить важность привезенных мною донесений. Захочет ли Он меня выслушать? Однако мне не пришлось предстать перед Фараоном так скоро, как я полагал. Десяток других военачальников ожидали своей очереди поговорить с Ним, и я принялся бродить по лагерю, исполненный весьма необычной неуверенности, ощущая пустоту в теле, словно мой живот умер.
Тогда мы все еще устраивали лагерь тем же способом, что и во времена Тутмоса Великого. Поэтому тем утром палатка Царя была возведена посреди палаток Его военачальников, а по всем четырем сторонам от них расположились царские колесницы. Получившийся квадрат был окружен скотом и запасами продовольствия, на внешних же его сторонах размещалась пехота, высокие щиты которой были врыты в гребень земляной насыпи, возведенной прошлой ночью. Таким образом получилось подобие крепости с четырьмя стенами из щитов; даже входить надо было через ворота, хотя это не были настоящие ворота, а просто дорога, которую с каждой стороны проема охранял отряд пехоты. Внутри можно было пройтись и навестить друзей. Если бы не мои сведения, приятно было бы вновь почувствовать себя воином. В обычные дни мало что доставляло мне такое удовольствие, как пребывание внутри лагеря, даже при том что многие там не занимались ничем, разве что храпели или точили острие кинжала на протяжении целого часа, а потом еще одного.
В тот день, все-таки ожидая, что поход наших войск, возможно, перейдет в сражение — разве бывает армейская жизнь без слухов? — многие нубийцы надели шлемы и не хотели их снимать. Эти черные, некоторые — в леопардовых шкурах, другие — в длинных белых юбках и оранжевых перевязях через правое плечо, представляли собой красивое зрелище. Черные любят, чтобы на них смотрели, и я наблюдал за пятерыми из них, спорящими в одном месте, и десятком других, сидевших в другом так тихо, что их неподвижность обращала на себя большее внимание, чем шум, — чудные воины, относительно которых мы, колесничие, не смогли прийти к одному мнению: некоторые говорили, что нубийцы докажут свою храбрость в сражении, другие — что нет. Я знал, что они сильные, но думал, что они, как лошади, храбры, покуда не испугаются, и очень любят головные украшения. Свои кожаные шлемы, словно головы лошадей, нубийцы украшали по крайней мере одним желтым пером. Как они отличались от сирийцев, часто бривших головы, не носивших шлемов, но обычно отпускавших большие черные бороды.
Приблизительно к тому времени, как я понял, что мой Царь примет меня, возможно, уже после полудня, всякое беспокойство у меня исчезло, и я растянулся на солнце с другими колесничими и стал рассказывать им о своих приключениях, приберегая лучшее для себя; потом я ходил взад-вперед по внутреннему и внешнему квадратам; благость Ра согревала мою плоть, так что в конце концов на мне не осталось ничего, кроме сандалий и набедренной повязки, и, как половина воинов, я сидел развалясь на земле, и день исполнился лени. Я ненадолго задержался у мастерской Царского Плотника, чтобы рассказать ему о потере своей колесницы, но он был слишком занят, чтобы беспокоиться об этом, так как трудился над сборкой колесницы из двух разломанных колымаг и пообещал мне нечто еще лучшее, поскольку его мастера могли собрать шесть готовых для битвы колесниц из семи полуразвалившихся. Он говорил со мной, стоя посреди мастерской, где в одну кучу были свалены колеса, в другую — спицы от колес, а на земле вокруг него возвышались груды сломанных частей. Не знаю, как он там вообще мог двигаться.
Затем я понаблюдал за пехотинцами, носившими воду от брода в большой кожаный мешок, висевший в центре лагеря на трех шестах, и за лошадьми, которых вели к кузнецу. Я смотрел, как другие пьют вино; некоторые из них боролись, а двое вели пару коров к полевой кухне. Я вдыхал запах дневного пота и жареного мяса. Двое колесничих, пивших вино, принялись сражаться на кинжалах. Они проделывали это много раз и поэтому знали, как бросаться друг на друга, а затем внезапно останавливаться. Шардан, обливавшийся потом в своей красно-синей шерстяной накидке, бил осла, запустившего нос в мешок с провизией. Еда так воодушевила животное, что его член поднялся. Шардан продолжал его бить, а осел шарахаться от него, но возбуждение его не оставляло, и он не вынимал головы из мешка — во всяком случае, покуда я за ним наблюдал. Рядом с ним, возбужденный происходящим, катался в пыли другой осел.
Большинство людей спало. День исполнился еще большей лени, и я мог ощущать всю усталость от многодневного пути, который привел войска в такую даль, а затем, почувствовав и свою собственную усталость, вернулся в палатку, которую делил с другими колесничими, и заснул на подстилке, но был тут же разбужен известием, что Царь примет меня сейчас. В замешательстве, все еще пребывая в сновидениях о лесах и грабителях, я встал, плеснул в лицо воды из кувшина и пошел к Царской палатке. Мне снились хетты, и я видел дорогу, в которую они врыли заостренные колья, и на них умирали египетские воины. В тех снах тела медленно скользили вниз по этим кольям. Мои внутренности похолодели. Я глотнул вина, и от него меня бросило в пот. Имея вид человека, нутро которого принадлежит, должно быть, кому-то другому, я вошел в огромную палатку Рамсеса Второго.
Палатка эта с равным правом могла быть названа и красивым домом. Здесь располагались не только святилище, где Он молился, и Его спальня, но также и комната для приема пищи, а затем еще одна большая комната для тех, кого Он захочет принять. В тот день с Ним было много военачальников и полководцев, а также Принц Аменхерхепишеф, однако когда я вошел, Он пребывал в таком нетерпении, что обратился ко мне, не дав мне самому поднять голову от земли. „Согласишься ли ты, — спросил Он, — без боя отдать самую богатую часть своих земель?"
„Мой Повелитель, я бы постарался сражаться, подобно Сыну Ра".
„И все же некоторые здесь говорят Мне, что Царь Кадеша находится в двух днях перехода на другом берегу и не осмеливается приблизиться. Он глупец. Я расскажу всем о его позоре. Камень, который Я воздвигну в ознаменование Своей победы, расскажет всем, что имя Царя Кадеша равнозначно тому, что видно у шлюхи между ляжек!"
В палатке было жарко от солнца, падавшего на другую сторону ее кожаного покрытия, и от тел сорока военачальников, но основной жар исходил от моего Фараона. Он был подобен костру в пустыне в знойный день.
„Кто говорит, что он не будет защищать Кадеш?" — спросил я.
Мой Фараон указал на двух пастухов, смирно сидевших в углу. Судя по пыли, скопившейся на их длинных одеждах, можно было предположить, что они путешествовали со своим скотом в течение ста дней. Теперь же, с улыбками, обнажившими их зубы — те, что у них остались, — они поклонились семь раз. Затем старший заговорил, но на своем родном языке. Надзиратель-за-Обоими-Языками, один из наших военачальников, растолковывал нам его бедуинские слова, но лишь после каждого раза, когда пастух переводил дыхание, а тот делал это не однажды.
„О, Рамсес Возлюбленный-Истиной, — услышал я, — не верно ли то, что Милостивый и Великий Бог радуется, рубя голову Своему врагу? Не приносит ли Ему это большую радость, чем день удовольствий?"
Я увидел, как мой Фараон улыбнулся.
Пастух говорил медленно, спокойно, растягивая слова, таким же низким и отдающимся эхом голосом, как всякий пророк.
„О, Ты-Который-являет-Величие-Хора-и-Амона-Ра, Ты-Который-твердо-сидит-на-Своем-коне-и-прекрасен-в-Своей-колеснице, знай, что мы пришли к Твоему трону из золота, — и действительно, мой Усермаатра-Сетепенра сидел на небольшом стуле из чистого золота, — говорить от имени наших семей. Они принадлежат к величайшим из великих семейств, присягнувших Муваталлу, Царю Кадеша и полководцу хеттов. И все же наши семьи говорят, что Муваталлу нам больше не правитель, поскольку его кровь приобрела цвет воды. Его сила против Твоей все равно что глаз кролика против глаза быка. Муваталлу сидит в земле Алеппо и не может найти в себе храбрости пойти к Кадешу. Поэтому наши семьи послали нас к Тебе с мольбой о том, чтобы Ты принял их в число Своих подданных".
„Это честь для Меня, — сказал Усермаатра-Сетепенра, — поскольку Я знаю, что вы говорите правду. Тот, кто лжет предо Мною, вскоре потеряет член, производящий потомство. И знайте, ему следует хорошенько, обоими глазами, посмотреть на части своего тела, которых он лишился, поскольку его глаза последуют за его утраченными членами".
Никогда раньше я не слыхал, чтобы мой Фараон говорил такие слова, но ведь и никогда раньше я не чувствовал, чтобы от Его тела исходил такой жар. „Я верю, что эти люди говорят правду, — сказал Он. — Как осмелились бы они лгать? — Но в том же гневе Он обернулся ко мне и спросил: — Ты им веришь? — Я промолчал, и Он рассмеялся: — Ты не веришь? Ты считаешь, что они столь бесстыдны, что смеют обманывать вашего Фараона?"
„Я верю им, — сказал я. — Я думаю, что они говорят правду, то есть правду о своих семьях. Но с тех пор, как они отправились в путь, прошло несколько дней. Пока они пробирались к нам, войско Царя Кадеша также могло перемещаться. О, Ты-из-Двух-Великих-Домов, — промолвил я в таком страхе, что так же, как они, семь раз ударил головой о землю, — этим утром на рассвете, спускаясь с холмов, я видел на севере у Кадеша войско".
„Ты говоришь — войско?"
„Я видел свет, исходивший от войска. Я видел отблески от наконечников пик, мечей и полированного металла на щитах".
„Но ты не видел мечей? — спросил Принц Аменхерхепи-шеф. — Только свет?"
„Только свет", — должен был признать я.
„Это — отблеск реки, что огибает стены Кадеша", — сказал Принц.
Довольно многие военачальники рассмеялись. Однако, когда наш Фараон не засмеялся, они быстро умолкли. Теперь я знал, отчего жар, исходивший от Него, был таким странным. Рядом с Ним не было Хер-Ра. Я помнил, какой сильный жар исходил от зверя. Да, теперь военачальники умолкали перед Усермаатра-Сетепенра точно так же, как раньше перед Хер-Ра.
„Что ты слыхал в своих путешествиях о Царе Кадеша?" — спросили меня теперь.
„Что Муваталлу прячется в лесу у города, — быстро ответил я. — Что у него большое войско. Что он нападет на нас внезапно".
„Это ложь! — загремел голос Фараона. Я заметил, что между черными и зелеными линиями краски вокруг Его глаз их белки стали красными. — Это ложь, — повторил Он, — и все же Я верю, что это правда". — Он сверкнул на меня глазами так, будто я над Ним издеваюсь.
Начался спор о том, оставлять ли лагерь на рассвете и идти к Кадету с первыми двумя армиями, или — и здесь я не мог дольше молчать и вступил в разговор — было бы правильнее подождать еще один день. Пусть последние две армии пройдут через узкий проход. В этом случае, сказал я, мы сможем выйти на большую равнину с рогом слева и рогом справа. Я сказал „с рогом", так как помнил, как в тот день, когда мы ехали к Его гробнице, Усермаатра рассказал мне, что Тутмос Великий никогда не говорил „крыло" или „сторона". О Своих войсках Он говорил как о Могучем Быке, словно у них была голова и два рога.
Мой Фараон кивнул. Он заглянул внутрь Себя и увидел Свою Колесницу в центре великого войска с двумя рогами на огромном поле; и я подумал, что Он отдаст команду подождать. Но Принц Аменхерхепишеф тоже знал Своего Отца и сказал: „На этом огромном поле мы можем прождать еще неделю, пока не подойдет Царь Кадеша. Наши люди будут сражаться друг с другом. Они будут бежать из войска. Мы будем выглядеть глупцами, и наш рог обломится".
Фараон кивнул и на это. Итак, совет был окончен. Он отдал приказ. На рассвете мы должны свернуть лагерь. В тот вечер Усермаатра-Сетепенра влез на клетку, в которой сидел Его лев. Однажды ночью в ливанских лесах Хер-Ра съел одного из наших воинов. На следующее же утро для него была сделана клетка. Теперь наш Фараон обращался к нам с крыши этой клетки, в то время как Хер-Ра ревел под Ним.
„Битва при Мегиддо была выиграна Великим Фараоном Тутмосом Третьим. Царь Сам показал путь Своим войскам. Во главе их Он был могуч, как пламя. Так и Я буду могуч впереди вас. — Воины приветствовали Его слова криками. Я снова ощутил себя частью войска, ибо тот вечер был сначала красен от своего собственного света, а затем от наших криков. — Тутмос выступил в поход, чтобы уничтожить азиатов, — сказал наш Царь, — и не было равных Ему. Он привел домой всех вражеских Принцев, хотя их колесницы и были украшены золотом. — Мы вновь ответили на Его слова криками одобрения. Каждый раз, когда Фараон говорил о золоте, раздавались наши крики. — Все бежали впереди Тутмоса. И в таком страхе бежали они, что побросали свои одежды. — Взрыв презрительного хохота, подобного грязной реке, вырвался из наших рядов. — Да, они оставили свои золотые и серебряные колесницы, — мы издали вздох, подобный шепоту лунного света на поверхности воды, — и люди в Мегиддо втаскивали своих воинов на стены, хватаясь за то, что еще осталось от их шкур. В тот час войска Тутмоса могли захватить город. — Здесь наш Царь помедлил. — Но они не сделали этого, — сказал Он. — Наши воины были поглощены добычей, оставшейся на поле битвы. Поэтому они потеряли сокровища, бывшие в городе. Люди из Мегиддо были распялены на поле, точно рыба, но войско Тутмоса, подобно чайкам, накинулось на их кости. — Из наших грудей вырвался стон. — Не поступайте, — сказал Рамсес, — подобно чайкам. Город, который не взяли в тот день, пришлось осаждать целый год. Войску Тутмоса пришлось работать как рабам, вырубая леса, чтобы построить стены, за которыми они смогли приблизиться к стенам Мегиддо. И эта работа не прекращалась, покуда по всей своей длине стены Мегиддо не были окружены стеной Тутмоса. Работа заняла год. Город голодал, но за это время они успели спрятать свое золото. Для нас оно было потеряно. Не удалось захватить хороших рабов. Войска Тутмоса встречали лишь мертвые и зачумленные. Поэтому Я говорю вам, что нам предстоит великая битва, но никто из вас не притронется к добыче, покуда Я не скажу Своего слова! Руки азиатов Я хочу видеть собранными в кучу, а не египтян".
Мы приветствовали Его слова криками. Мы кричали со страхом в наших глотках и с разочарованием в наших чреслах от мысли о том, что нам достанется меньше добычи, но мы кричали, а лев ревел. На следующее утро, на рассвете после ночи, в которую мало кто из нас смог заснуть, мы оставили лагерь и перешли реку вброд близ Шабтуна. И хотя в глубоких местах вода была нам по грудь, ни один человек и ни одна лошадь не утонули. Но потревоженные в своих гнездах на берегах, над нами, подобно облакам, собрались жуки и закрыли от нас солнце. Они налетели на нас такой густой тучей, что мы двигались в ее тени. Во внезапном появлении этих жуков никто не увидел доброго предзнаменования.
Перейдя реку, мы построили ряды и выдвинулись на огромную твердую равнину в долине Оронта, за которой лежал Кадеш. Земля на ней спеклась, как на площади для парадов. Должен сказать, что наши лошади и колесницы прошли по тельцам жуков, уставших от полета. На своем пути мы оставили след, точно вытоптали ягодное поле. Жуки были в наших волосах и одежде как насланное проклятье.
И вновь я почувствовал нетерпение моего Рамсеса. Он находился во главе колонны. Его колесничие вместе с Его Придворной Стражей, в которую были отобраны самые сильные шарданы и нубийцы — все огромного роста, своей численностью не превышали пятисот человек. Разумеется, мы находились впереди. Между нами и первыми отрядами Войска Амона был явный разрыв. Хуже того. Оглянувшись назад, когда мы оказались на возвышенности, я смог увидеть, как далеко мы продвинулись по равнине за это утро. Но отряды Ра еще только переходили брод. Войско Птаха могло последовать за ними только через полдня. Что же касается отрядов Войска Сета, то они были еще зажаты в тесном ущелье. От них нам не приходилось ждать никакой пользы до ночи.
И тем не менее я был рад, что нахожусь впереди. Пыли было несравнимо меньше. От плотно спекшейся глины, которой была покрыта эта равнина, поднимались такие густые клубы пыли, что они даже отогнали тех жуков, и эти облака плыли назад, на отряды Амона, пятитысячное войско, продвигавшееся по равнине. Идти вместе с этим войском было бы все равно что продвигаться сквозь дым.
Как же хорошо мы должны были быть видны из Кадеша! Он просматривался сквозь пыль там, где небо встречалось с холмами. На быстрой лошади до города можно было доскакать за час, но я знал, что нам не дойти до него раньше начала дня; так как теперь мы огибали холмы на равнине, пробираясь через редколесье, а впереди уже не было ничего видно, поэтому нам приходилось останавливаться, посылать вперед разведчиков и ждать их возвращения.
Я чувствовал тяжесть в груди, словно нес сердце покойника. Однако ни слабости, ни неуверенности не было, напротив, даже в своем унынии я был начеку, словно полчища внутри меня ждали, когда же начнется битва. Я попробовал представить, что бы предпринял, если бы был Муваталлу, и где бы в этих лесах выбрал место, чтобы напасть на Личную Охрану Фараона так, чтобы пленить моего Великого Рамсеса. Тогда мне показалось, что я бы предпочел подождать, покуда не пройдет половина Войска Амона, а может, даже половина Войска Ра, так чтобы я смог ударить по крупным силам, растянувшимся на лесной тропе, как по длинному и уязвимому червяку, которого можно перерубить пополам. Однако стремление думать так, будто я был кем-то другим, а не самим собой, тем более иноземным Царем, вызвало у меня головокружение, и я решил, что, видимо, живу со страшным даром, полученным от тайной наложницы Царя Кадеша. Быть может, я не столько пытался думать, как этот Муваталлу, сколько действительно пребывал в мыслях, исходивших из его сердца. Если все обстояло именно так, то наш передовой отряд должен был пройти вперед невредимым, как и Войско Амона. Гром должен был прогреметь над Войском Ра.
Мой страх сменился печалью. В этот момент мы были в безопасности, но на самом деле нас ждала опасность большая, чем нападение на передовой отряд. У меня не было никакой возможности сказать об этом Усермаатра-Сетепенра. Вместо меня с Ним ехал Его сын, Аменхерхепишеф. В результате мне не осталось ничего лучше, чем править колесницей Надзирателя-за-Обоими-Языками. Этот малый был военачальником, которого звали Утитхенет, но, конечно, это имя — Походная Жена — было лишь армейской шуткой. Говорили, что вход в его прямую кишку подобен горловине бадьи. Итак, я вновь познал гнев моего Фараона. Он готов был заставить меня делить колесницу с таким человеком. Разумеется, сейчас Он слушал советы Своего сына. Как только Он обнаружил бы способность моих мыслей проникать в мысли наших врагов, я смог бы вновь стать Его колесничим. А пока Утитхенет без умолку болтал что-то о пыли, да так забавно, что я стал хохотать, так как он сказал, что вот, мол, для каждой рыбы и кошки есть соответствующий Бог, а у жуков вообще Великий Бог, но ни один из Богов пока не пожелал поселиться в пыли. Такого Бога не найдешь. Он был безвреден, этот военачальник, — шут для других полководцев; он никем не командовал, а просто прислуживал Принцу Аменхерхепишефу, но я подумал: не был ли когда-то этот бедный Утитхенет сильным воином, превратившимся в слабого на службе у Отца Усермаатра? Может быть, этот Фараон Сети держал его за волосы.
Тропа, по которой мы двигались, была не так уж плоха — скорее, это была дорога, где могли бы разъехаться две колесницы. Удобная дорога, а в лесу, несмотря на полуденный зной, было прохладно, но никто из нас не был спокоен — Кадеш был слишком близко. К тому же мы могли лишь гадать, в каком месте нас атакует отряд колесниц. Хотя в большинстве мест лес подступал к дороге, нам приходилось пересекать и поля, на краю которых могла бы спрятаться целая армия. Пять тысяч воинов могли внезапно напасть здесь на отряд из пятисот человек, однако теперь мой добрый Царь, пребывавший в раздражении из-за задержки, более не желал ждать посланных вперед разведчиков. Похоже, Он поверил, что ворота Кадеша открыты.
День уже начался, а мы все шли, и миновали другой лес и множество возделанных полей, и даже видели одного-двух крестьян, бросившихся при виде нас наутек, но мы продолжали двигаться. Оронт все время оставался справа, река здесь была мелкой, а ее течение медленным. Мы перешли несколько бродов, достаточно широких для войска, если бы Муваталлу пожелал напасть здесь на нас с другого берега. Однако этого не произошло, мы прошли поворот дороги, и вот впереди, раскинувшийся к северу от нас, предстал Ка-деш, его стены и башни, и перед ними не было ожидающего нас войска хеттов. Впереди не было ничего, кроме реки, огибавшей стены Кадеша слева. Мы так долго шли к этому городу, провели так много дней на Ниле, и в пустыне, и в горах, что мне показалось, мой добрый Царь не остановится, но будет продолжать движение, пока не оставит город справа. Его стены вскоре уже должны были оказаться позади нас, и тут, как будто смущенный отсутствием воинов или даже лиц в бойницах башен Кадеша, в этой тишине холмов, где самым громким звуком был скрип колес наших колесниц, и звуком не громким, так как мы без особого труда двигались по ровному месту, Рамсес Второй наконец отдал приказ, и в этом редком лесу, окруженном множеством маленьких полей и одиноких деревьев, мы остановились у реки, где берег был слишком крутым для переправы. Три стороны нашего квадрата, обращенные к полям, были быстро огорожены нашими щитами, а нубийцы принялись за земляные работы, чтобы укрепить щиты прямо рядом с Палаткой Фараона. Здесь мы ждали в молчании, и тишину нарушали лишь звуки лопат. Вскоре подошло Войско Амона и поставило вокруг нашего квадрата еще один — более обширный, что позволило Царской Гвардии отойти от Оронта. Теперь река служила Войску Амона четвертой стороной. Из города по-прежнему не доносилось ни звука.
Вокруг нас гуляло эхо от работы пятитысячного Войска Амона, хотя и без особого прилежания копавшего рвы. Через час нам, возможно, снова предстояло двинуться вперед. Поэтому они спокойно продолжали свою работу, распрягали своих лошадей, кормили животных и наполняли свои рты, и среди всей этой привычной обстановки, когда распрягали лошадей в обозах, от сознания нашей многочисленности в воздухе царило ощущение безопасности. Лишь я чувствовал стесненность в груди. Хотя я и не желал сражаться бок о бок с Утитхенетом, я все же готовил колесницу, в которой мне, возможно, еще предстояло с ним ехать, затачивая бронзовые ободья колес необычно твердым камнем, который я носил в кожаном мешке, покуда они не стали острыми, как ножи. Моя работа не могла продержаться долго, но ох какое жестокое увечье могло нанести заточенное колесо телу упавшего человека. Все это время я продолжал ощущать тяжесть в своих легких. Когда мы прибыли на это место стоянки, я не заметил никаких признаков другой армии или какого бы то ни было мусора, а иглы красной сосны, покрывавшие землю в лесу, не были примяты. Однако они выглядели скорее приведенными в порядок, чем нетронутыми. У меня было чувство, что еще этим утром до нас здесь было войско, и я дивился тому, насколько хорошо сосновые иглы могут скрыть его следы. Кроме того, я мог обонять Бога сосен, и Он был почти таким же чужим, как и тот, что прибыл к нам из Пунта с деревьями, источающими мирру.
В Палатку Фараона входили все новые люди с частями снаряжения. То были незнакомые нам спицы от повозок или разорванная кожаная подпруга, пропитанная странно пахнущим маслом. Во мне нарастало ощущение затхлости этого леса. Потом я подумал, что если бы был Муваталлу, то, пожалуй, остался бы с этой северной части Кадеша, хорошо закрытой лесом, покуда Усермаатра-Сетепенра двигался с юга. И только когда Он подошел бы к стенам, я бы перешел реку с востока и спрятался на другом берегу, оставляя между нами город. Затем, если бы наш Фараон прошел еще севернее, до этого места, я бы одновременно с ним двигался к югу, все время оставаясь скрытым стенами Кадеша. Таким образом, я перешел бы реку, где было много бродов, и ударил бы в середину Войска Ра — там, на открытом месте, к югу от города.
Я еще продолжал обдумывать все эти передвижения войск, когда в нашем лагере раздались крики. Разведчики привели двух азиатов с окровавленными лицами. Воины, занятые приготовлением пищи, прервали свое занятие и стали глазеть, как пленных ведут в Палатку Фараона. Затем раздались крики и звуки ударов. К тому времени, когда я вошел в Царскую Палатку, спины пленников стали такими же окровавленными, как и их лица, и я был рад, что не могу видеть выражения этих лиц.
Каждый удар посоха вырывал кусок кожи размером с ладонь. Затем, точно обрывок папируса, Усермаатра-Сетепенра сорвал лоскут кожи с плеча пленника и бросил его на землю. Потом Он приказал: „Говори правду". Хетт мог не знать ни одного слова на нашем языке, но он знал голос, знал глаза, смотревшие на него. Свет, шедший из этих глаз, подобно солнцу, был исполнен пламени. И через посредство Утитхенета он сказал Усермаатра-Сетепенра: „О, Сын Ра, избавь от страданий мою спину". „Где твой жалкий Царь хеттов?"
„Берегись, — крикнул азиат на своем языке, а Надзиратель-за-Обоими-Языками сказал по-нашему: — Берегись, Муваталлу, Царь Кадеша, во множестве собрал народы. Его войска покрывают горы и долины".
Он продолжал говорить, даже когда Аменхерхепишеф начал закручивать ему руку за затылок. Я думал, что его рука выйдет из сустава, так как прекратилось даже кровотечение, настолько побелела от напряжения спина пленника. И все же лазутчик сказал все, слово за словом, ожидая через каждые несколько слов, пока Утитхенет переложит то, что он сказал, все это время глотая стоны. Затем Усер-маатра-Сетепенра поднял Свой меч: „Где сейчас Муваталлу?"
Он больше не мог терпеть: „О, мой Повелитель, Муваталлу ждет на другом берегу реки".
Я думал, меч падет на его голову. Меч завис в воздухе. Вместо этого наш Царь отпустил хетта и повернулся к нам. „Теперь вам понятно, — закричал Он, — а вы говорили о Царе Кадеша, что он трус и бежит". Тут я подумал, что Его меч опустится на голову Его сына. Принц семь раз ударил головой о землю и, вероятно, успел о многом подумать, так как когда поднял голову, то сказал: „Мой Повелитель, позволь Мне вернуться назад, чтобы предупредить Войско Птаха. Они нам понадобятся".
Когда наш Царь медленно кивнул, как бы вопреки Своей ярости, принужденный согласиться, Принц исчез из Палатки и, я думаю, немедленно пустился в путь, хотя в следующий момент никто уже не был в состоянии понять, что делает другой, так как ужас пал на нас. Я услыхал докатившийся издалека звон, потом приближающийся рев, а затем ржание сотен лошадей — невероятный, нарастающий грохот сталкивающихся и ломающихся колесниц. Мы не знали, что разбитые отряды Войска Ра — лошади без колесниц и колесничие без лошадей — бежали теперь в нашем направлении — пешие гнались за повозками, которые мчали галопом лошади без возниц, и вот вся эта беспорядочная волна обрушилась на нас. Только позже я смог узнать, что Войско Ра было разрезано пополам точно так, как я это и предвидел — там, на дороге, по которой оно растянулось на большое расстояние и действительно было похоже на червя. Теперь же замыкающие части Войска Ра бежали назад к Войску Птаха, а его смятые передовые отряды пали на нас, некоторые уже гибли под колесами первых колесниц первых хеттов, тогда как те, кому удалось спастись, лезли на щиты и земляные валы внешнего квадрата Войска Амона. Войска Муваталлу, подобно змею Великой Зелени, подкатили прямо к берегу, на котором мы стояли. В этом грохоте мы увидели, что небо стало темным, как кинжал пехотинца».
ДЕВЯТЬ
«Я мог бы рассказать вам, — обратился Мененхетет к нашему Фараону, моей матери и отцу, — как мы говорили об этом сражении позже, когда каждый мог изложить события в выгодном для себя свете. Тогда, лишь сопоставляя эти небылицы, можно было попытаться отыскать правду. Но это было позже. В тот момент не было ничего, кроме шума и сильного смятения. И все же мне нетрудно вспомнить, что я чувствовал на протяжении всего того долгого дня, который нам предстояло пережить, когда многие из нас были ближе к мертвым, чем живым, поскольку я никогда еще так остро не ощущал себя живым. Я и сейчас вижу копье, летящее слева от моего плеча, и меч, не попавший мне по голове. Снова я ощущаю (эти чувства все так же близки мне) отчетливо, будто я выпал из постели во время сна, как меня выбрасывает из колесницы Фараона силой удара, принятого на щит. То было величайшее сражение всех войн, и за свои четыре жизни я никогда не слышал о чем-либо подобном. Разумеется, мой ум в тот день не говорил со мной так, как в другие дни, правда и то, что самые необыкновенные моменты жизни и наименее важные равно прошли, как совершенно чужие друг другу люди, но я помню, как в то мгновение, когда сумятица обрушилась на наш лагерь, Усермаатра-Сетепенра повернулся ко мне и сказал: „Возьми свой щит, поедешь в Моей Колеснице", — и я, мечтавший об этом моменте, пока плыл вниз по Нилу, в пыли Газы и когда дивился чудесам Тира, смог лишь кивнуть и подумать, что работа по заточке колес колесницы Утитхенета проделана не просто зря, но хуже того, наточенное колесо может отрезать ему ногу при падении с колесницы, и таково было потрясение начала сражения, когда все события предстают раздробленными, будто осколки разбитого камня, летящие во все стороны, что в моем сознании мелькали обрывки того, чему еще предстояло случиться, и Утитхенет, конечно же, выпал из своей колесницы, и заточенное мною колесо покалечило ему ногу, когда его обезумевшие от страха лошади промчались по нему.
Как я сказал, в то мгновение я смог подумать лишь о том, что должен найти свой кожаный мешок с камнем и начать затачивать колеса Его Колесницы. И как только такая глупость пришла мне в голову? Царская Охрана Колесницы-Могучего-Быка, целый отряд воинов, непрестанно полировала Ее золотые и серебряные узоры, используя не один царский камень на заточку, так что, проведя рукой по колесам Его Колесницы, можно было потерять палец. Потому вместо этого я взобрался на клетку со львом, чтобы получше рассмотреть происходящее вокруг нас. В тот же миг Хер-Ра принялся реветь подо мной, как пьяный бродяга, раскачивая свою клетку так яростно, что я чуть с нее не свалился. Стоя на ее прутьях, зверь наносил удары по моим ногам хвостом, плечами и головой, в то время как я всматривался в то, что творилось по всем четырем направлениям, и все части моего тела гудели во мне от усилий разобраться в сумятице картин, бесчисленных, как гребни пены Великой Зелени. Я мог отчетливо видеть Царский квадрат, окруженный со всех четырех сторон; более широкий квадрат, построенный в спешке воинами Амона, теперь был для нас потерян. За пределами нашего квадрата царили смятение и резня. Спасаясь бегством, войско Амона бросало свои запасы еды, игры, палатки, повозки и животных. В то время как мы укрепили свои позиции вокруг Фараона внутри Царского квадрата, за его пределами я различал лишь немногих египетских воинов, встретивших полчища хеттов, словно разливающаяся река, накатывающие на нас с такой быстротой, что они уже тормозили свой собственный натиск. Колесничие этих азиатов не соблюдали строгую последовательность рядов, тот совершенный порядок, каким любили наступать мы, египтяне; нет, то была просто лавина из сотен колесниц, по три человека в каждой, в странных желтых головных уборах, и хетты не использовали мечи и луки, но стремились все повергнуть наземь своими топорами. В этом грохоте наши колесницы, по крайней мере те, что еще продолжали сражаться, налетали и отскакивали", а колесничие, быстрые, как воробьи, сражающиеся с кабанами, натягивали луки, некоторые даже и сейчас ухитрились обмотать поводья вокруг пояса. Враг был так велик и неповоротлив, что на моих глазах две хеттские колесницы даже столкнулись друг с другом и троих воинов в одной из них подбросило вверх, тогда как троих из другой швырнуло на землю. Однако с каждого холма, из этих редких лесов — некоторые вскачь, некоторые мерным шагом — выезжали все новые ряды колесниц хеттов, а затем я увидел, как ближайшие тридцать или сорок, а возможно, и отряд колесниц, несутся галопом к самому Царскому квадрату. Они яростно атаковали наши укрепления, устремившись вверх и через них, и почти все попадали на землю. Те же, кто удержался на ногах, приземлились среди самых сильных из шарданов Фараона, которые схватили этих азиатских коней за уздечки и, не давая им прочно встать на ноги, старались свернуть им шеи и остановить колесницы, а в это время другие шар-даны вспарывали лошадям животы своими кинжалами. Затем они стащили хеттов наземь. Из тридцати, налетевших на наш квадрат, в живых не осталось ни одного. Я же, стоя на клетке Хер-Ра, словно потерявший голову мальчишка, лишь на мгновение смог увидеть, что Фараон все еще молится с опущенной головой и с закрытыми глазами. Я услышал, как из Его уст исходят слова: „В Год Пятый Моего Правления, в третий месяц третьего времени года, в этот Девятый День Эпифи, под покровительством Хора, Я, Рамсес Мериамон, Могучий Бык, Возлюбленный Маат, Царь Верхнего и Нижнего Египта, Сын Ра, Которому дарована вечная жизнь… — я слышал, что Он называет все Свои имена, как шадуф поднимает черпак с водой на холм, так и мой Фараон заставлял быстрее пульсировать Свою кровь, словно хотел закачать в Свое сердце воды самой Страны Мертвых, чтобы страх смерти покинул Его и как живые, так и мертвые обратили к Нему свое ухо, — Я, Владыка победы, любящий доблесть, необоримый, как бык с острыми рогами, Я, Кто в час битвы подобен пламени пожирающему и точно лев свирепый средь пасущихся стад", — так продолжал Он говорить, покуда на поле брани, среди долин и лесов вкруг нашего квадрата, я видел, как лошадь со стрелой в шее валится назад, на свою колесницу и трех хеттов в ней, а один из наших колесничих падает между оглоблями двух своих лошадей с коротким дротиком в груди. Повсюду на спинах лежали мертвые, уставившись в небо. Ближайший из них был так далеко, что брошенный мною камень не долетел бы до него, но глаз его блестел, как у птицы. Я смог рассмотреть это. Рядом с ним лежал другой мертвец, вцепившись в свой пах. Затем я увидел воина, чья рука попала в ступицу колесницы, вот к нему приблизился хетт и ударил его топором по голове. Тем временем большая часть нашей армии бежала в лес. Я не верил своим глазам, видя тот ужас, что охватил людей из Войска Амона.
Наконец мой Фараон кончил молиться. Он открыл дверь клетки Хер-Ра, и тот вышел наружу. Затем, к моему удивлению, Усермаатра-Сетепенра вскочил в Свою Колесницу на место возничего. Поэтому я занял место рядом, и Он погнал лошадей по нашему квадрату, почти задевая некоторых наших же воинов и выкрикивая: „Приготовиться к атаке, приготовиться к атаке!"
Шесть, семь, потом восемь колесниц — последовали за нами по кругу. Другие приветствовали нас, но оставались на местах, пока мы снова не поравнялись с ними. Затем присоединились и еще несколько, но их все равно было мало.
„За Мной!" — приказал Усермаатра-Сетепенра, и с отрядом в двадцать колесниц Он на всем скаку подъехал к южной стороне нашего квадрата, выбрав самое низкое место в земляной стене, и мы перемахнули через нее, вниз, на другую сторону, сильно ударяясь друг о друга. Но вот мы оказались уже в поле — во всех направлениях перед нами были колесницы хеттов, — и, когда я осмелился посмотреть назад, с нами все еще была половина нашего отряда. Другая половина не решилась преодолеть стену. Мы были уже окружены, если только так можно сказать, когда наш Фараон, закачав в каждый член Своего тела храбрость мертвых, не говоря уже о силе Победы в Фивах, и Мут Благой — ибо не было быстрей коней ни в одной земле, — и Хер-Ра, который прыжками несся сбоку, а его рык был громогласнее, чем звук камня, сорвавшегося со скалы, таким стремительным галопом помчались сквозь сумятицу битвы, что никто, даже наши же воины, не могли за нами угнаться, хотя некоторые из них и пытались. Хетты расступались перед нашим натиском так же, как и те несчастные египтяне из Войск Амона или Ра, мимо которых мы проносились, и на протяжении всего поля, потом леса, потом другого поля ни одна стрела не была выпущена в нас, и ни одной не выпустили мы, ни один хетт не приблизился — ни пеший, ни конный — возможно, всех их пугало сияние Колесницы Усермаатра-Сетепенра или морда Хер-Ра, который несся рядом.
Позади, как хвост, растянувшийся настолько, что его конец неминуемо должен был оторваться, остались наши колесничие. Я знал, чего стоит попытка угнаться за Фараоном по неровной дороге — и теперь с нами были лишь очень немногие. Когда я осмелился оглянуться — ибо мне казалось, что сама моя жизнь зависит от того, чтобы смотреть только вперед, то увидел, что некоторые из наших людей окружены хеттами, а другие повернули вспять или пробиваются назад, и все это время мой Рамсес Второй все тем же галопом рвался на юг, и никто не был счастливее, храбрее и прекраснее Его — казалось, солнце сияло из Его глаз. „Мы прорвемся, — крикнул Он, — и отыщем Войско Птаха. Мы убьем этих болванов, когда вернемся". И тут мы встретили сотню хеттских колесниц, ожидавшую в соседней долине.
Тогда я познал сражение, которое было выше человеческих сил. Мне уже никогда не узнать точно, сколько еще колесниц было с нами, если вообще они остались. Ибо, когда наш Рамсес на полном скаку врезался на своей позолоченной Колеснице в гущу этих тяжелых хеттских повозок, с тремя воинами в каждой, в следующие несколько минут ни одного события я не увидел в целом. В тот момент я заметил копье, ударившее в мой щит, и топор, едва не попавший в мою голову. Я увидел, как Хер-Ра перескочил через троих в одной колеснице и набросился на лошадей другой. Он повис вниз головой, вцепившись в шею лошади зубами. Закрытый от стрел хеттских колесничих, он припал к лошади, его челюсти залила кровь из горла жеребца, а когтями задних лап лев раздирал ему живот, пока от невыносимой боли конь не взвился на дыбы таким рывком, что поднялся и второй, оба взревели и завалились назад на своих ездоков, в то время как Хер-Ра прыгнул с лошади на человека и откусил ему руку или почти всю руку — мне трудно было следить за происходящим краем глаза между движениями моего щита — наверное, сотня стрел налетала разом, и все они были направлены в Фараона, будто в Его золотом присутствии никто не мог и подумать ни о лошадях, ни обо мне. Это были бешеные стрелы, а не те, которые мне удавалось остановить. Они налетали на нас с силой птиц, с лету врезавшихся в стену, и их наконечники проходили сквозь кожу на моем щите и дышали злобой, как ноздри врага.
А тем временем Рамсес Второй на полном скаку натягивал Свой лук и выпускал стрелы, меняя направление, уклоняясь от одной хеттской колесницы, затем другой, и делал это с таким искусством, что мы могли остановиться, развернуться на месте, затем рвануться назад, с тем чтобы, когда их колесницы теснили нас, ненадолго остановиться вновь. „Твой меч!" — крикнул Он. И вот, не сходя с места, вдвоем, стоя спина к спине — у обоих по трое хеттов с каждой стороны, — мы стали рубить нашими мечами против шести их топоров, хотя на самом деле перевес не был таким уж большим, так как Хер-Ра бросался на одну колесницу, потом на другую, да с такой кровожадной яростью, что остальные не осмеливались приближаться, и мы снова были свободны, мы прорвались, мы вновь двигались на юг, мы могли добраться до Войска Птаха — так мы думали, так кричали друг другу до тех пор, пока в следующей долине не столкнулись с новой плотной стеной хеттов.
Иногда нас догоняли несколько наших колесниц, так что мы не всегда были в одиночестве, но пять раз мы сражались именно так, пять раз мы врезались в гущу воинов и лошадей такую плотную, что могли видеть лишь лес из мечей, доспехов, топоров, лошадей, конечностей и переворачивающихся колесниц. Мимо проносились повозки без возниц и налетали друг на друга. Деревья дрожали, Большой лук Рамсеса, который никто, кроме Него, не мог согнуть, посылал стрелы с такой силой, что случалось раненый вылетал из колесницы на землю, но все части этой картины я видел отдельно, как глаз человека на осколке сосуда, оставшийся от изображенного на нем лица. Так я видел, как один хетт поддерживает раненого, жизнь которого покидает тело вместе с последней вытекающей кровью, тогда как двое других уносились прочь на колеснице без вожжей, с которой третий хетт уже упал на землю. Много воинов было затоптано лошадьми или задавлено колесами; я увидел столько этих хеттских колес с восьмью спицами, что они снились мне много лет, скверные сны, маленькие колеса, сморщившиеся наподобие странного вида отверстия заднего прохода, и в той битве случалось увидеть картины, исполненные безумия: я даже видел, как хетт напал на собственную лошадь в сбруе, утратив рассудок настолько, что зарубил ее своим топором. Может быть, лошадь пыталась сбросить его на землю. Не знаю, я не досмотрел, потому что уклонялся от удара, рубил сам или старался удержаться на ногах от толчка тела Фараона, когда Он круто разворачивал лошадей. Однажды я даже вылетел из колесницы, но приземлился на ноги и запрыгнул обратно. Мои легкие познали огонь Богов. Я видел, как Хер-Ра набросился на троих воинов, потрясенные потерей своих лошадей, хетты неподвижно стояли в своей колеснице. Они продолжали растерянно смотреть на бесполезные вожжи, когда он впился в них когтями.
Повсюду бегали распрягшиеся лошади. Я видел, как одна с перебитыми передними ногами пятилась назад, а колесничий лежал на земле, держась за ее хвост до тех пор, пока та не обернулась и не укусила его. Другой остался совершенно один в своей повозке, его обезумевшие лошади шли с отпущенными вожжами. Затем он потерял сознание, и я увидел, как он соскользнул на землю. С другой стороны оставшаяся без всадника лошадь пыталась забраться в перевернувшуюся колесницу. Кругом царило безумие. Пара лошадей, сбросив всех трех всадников, хотела прорваться через скопление других колесниц, но кони споткнулись, и пустая колесница перелетела через них, а сами они пали на землю. Никогда ранее я не слыхал, чтобы животные издавали такие крики. Самым страшным был стон коня, которого Усермаатра-Сетепенра поразил стрелой в грудь, когда тот попытался прыгнуть между нашими жеребцом и кобылой. Вокруг нас мечущиеся в ужасе животные испражнялись на скаку. Битве не было конца. Порой нам казалось, что мы наконец пробились сквозь ряды хеттов, но оказывалось, лишь для того, чтобы заметить новый их отряд с южной стороны, и мы вновь бросались в бой, и нам снова удавалось пробиться, но после шестой попытки мы увидели тысячу хеттов, ровными порядками двигавшихся на нас.
„Это невозможно, — сказал я Ему, — нам не вырваться!" Его устремленные на меня глаза сверкнули, будто я был самым последним трусом, какого Он когда-либо видел, и Он сказал: „Соберись с духом. Я положу их в пыль!" Я взглянул на эту тысячу воинов, затем в лицо моего Царя, и выражение Его было тем же, что я видел у сумасшедших бродяг, когда те воображали себя сыновьями Фараона, да, мой Рамсес Второй мог поклясться уничтожить всех, называющих себя хеттами, и я мог ощущать Его уверенность с такой силой, что поверил в это сам, хотя и несколько по-другому, и я сказал: „Мой Царь, давай вернемся в Твою Палатку и соберем Твои Войска, мы сразимся с хеттами и разобьем их оттуда". И после этих слов Он развернул наших лошадей, и мы помчались назад, на север, к остаткам Царского квадрата, который был за двумя холмами, через три поля и уж не помню сколько перелесков от нас.
Враг был повсюду, и кругом — ни одной нашей колесницы, но никто из хеттов не попытался нас перехватить. Все они были слишком заняты грабежом в брошенном лагере Войска Амона. И когда мы ворвались обратно в Царский квадрат, нас приветствовали крики всех оставшихся там людей, как только мы остановились, к нам подбежали начальники отрядов, в волнении торопясь сообщить нам, как они защищали наш квадрат с северной стороны, с южной, с западной и даже со стороны реки, покуда хетты не отступили — со всей своей многотысячной армией они не смогли взять наш квадрат, но Рамсес слушал в гневе. Послушать рассказы об их подвигах, так выходило, что сами мы вообще ничего не совершили, а в сбруе наших лошадей все еще торчали стрелы, и морда Хер-Ра была красна от крови хеттов — краснее, чем человеческая грудь, рассеченная мечом. Мне трудно было поверить, что кровь такая ярко-красная, когда видишь ее в таком количестве».
Мененхетет помолчал. «Во всем, что я вам рассказал, нет самой сути того, что я на самом деле чувствовал. То было великолепное состояние. Все то время, что мы стремились прорваться на юг, я чувствовал себя Богом, я ощущал себя в два раза больше ростом так же как и Они выше нас вдвое, я был в четыре раза сильнее, чем обычно, — так же как и Боги знают силу четырех человеческих рук в каждом из Своих плеч. Никогда не был я столь неутомим за такой тяжелой работой, никогда не было мое дыхание так близко к Ним. Я мог бы сражаться весь день и ночь, чувствуя любовь к Рамсесу и лошадям и всему тому, что возникало из нашего совместного движения. Все это время мне стоило только подумать о повороте налево, чтобы мой Царь сделал это движение, и, словно я мог видеть затылком, я знал, что нужно выставить щит, когда на нас налетали стрелы, никогда, как в эти мгновения, я не сознавал, что мы живем для того, чтобы Они видели нас, видели нас хорошо, и потому позволяли бы нам чувствовать себя подобными Богам. Бежать с поля боя было для меня так же немыслимо, как отрезать себе ногу, по крайней мере до тех пор, пока Боги были со мной, однако я потерял Их в тот момент, когда увидел колесницы тысячи хеттов, хотя и не уверен в этом, поскольку не исполнился страха, когда увидел то ужасающее зрелище, а просто был холоден, спокоен и внезапно устал — рука моя вдруг отяжелела, а голос, обращенный ко мне, был голосом того же Бога, которого я слышал в пылу самого жаркого сражения, и вот тот же голос сказал мне на ухо: „Не позволяй этому глупцу атаковать, иначе вы оба погибнете". И я говорю Тебе, что это был веселый голос — именно так, — веселый, но такой прекрасный и спокойный, что, могу поклясться, в моих ушах прозвучали слова, произнесенные не могучим языком Амона, то был тихий голос Самого Осириса. Кто еще осмелился бы говорить о моем Фараоне как о глупце? Лишь Повелитель Осирис, посоветовавший мне быстро вернуться в Царскую Палатку. Тут я сказал себе: „Даже если я сын Амона, это Осирис спас меня сегодня".
Теперь мы вновь были в окружении Придворной Стражи, и, радуясь нашему возвращению, я вновь ощутил силу Богов. Мой рост снова удвоился, во всяком случае мне так казалось, и я так возжелал сражения, что почувствовал, как мой член разбухает, и не знал, смеяться мне или расплакаться от волнения. Я видел, как вокруг бродит Хер-Ра, тычась в лица воинов своей окровавленной мордой, для кошки его член был могуч, и он был полностью открыт обозрению — подобно мне, он пребывал в приподнятом расположении духа. Не знаю, была ли тому причиной кровь на поле битвы или ликование войск, отстоявших свой квадрат, а может, то первое брожение в телах мертвых вокруг нас, до того как их семь душ и духов стали покидать их, могу лишь сказать, что воздух в наших ноздрях был напоен ароматом розы на закате, когда цвет заходящего солнца тоже розовый — именно так прекрасно благоухал воздух, исполненный нашего желания новой битвы. Я снова подумал об истории, рассказанной моей матерью, как она проснулась рядом с моим отцом и увидела над собой Бога, сверкающего в золоте Своих нагрудных пластин, а хижина была наполнена самым прекрасным ароматом, который ей довелось вдыхать за всю ее жизнь.
Теперь я знал то, что познала она, потому что тем же тонким ароматом был напоен этот воздух, и я едва ли смог бы сказать, надо ли нам было благодарить за это Амона или Осириса, но мне захотелось забраться на клетку Хер-Ра, и это так понравилось льву, что он в свою очередь, забавно топая лапами, зашел в нее и внутри, подо мной, начал мурлыкать. Лишь тогда я огляделся по сторонам — двумя большими полукружьями, с запада и юга надвигались на нас хетты, тысяча колесниц, а за ней другая тысяча. К северу от нас царило полное опустошение. Все отряды Амона и Ра давно ушли, и я видел лишь трупы, брошенные колесницы, опрокинутые палатки и повозки с провизией, которые теперь грабили на поле хетты. Должно быть, мудрость Осириса все еще пребывала со мной, так как я прошептал своему Царю: „На востоке у реки строй азиатов редок". Так оно и было — хеттов там было меньше, чем с других сторон нашего квадрата, да и река находилась не более чем в двухстах шагах, так что Он, добавляя силу Амона к уму Осириса, крикнул храбрым Придворным войскам на всех четырех сторонах: „Следуйте за Мной. К реке!" Оставляя наш лагерь незащищенным с обеих сторон и с тыла, Рамсес вскочил на Свою Колесницу и пустил коней с места в галоп, а за ним со всех четырех сторон помчались остававшиеся у нас колесницы и пешие воины.
От нашей линии щитов на восточной стороне до их линии было менее пятидесяти шагов, и мы пересекли это пространство в мгновение ока. Однако несмотря на это, никогда еще я не видел столько стрел, сколько полетело в нашу сторону. Они удивили меня. Еще минуту назад эти хетты у реки были сонными и так же изредка стреляли в нас, как и мы в них. До этого стрелы летали туда и обратно, из одного укрепления в другое, упавшие подбирали, и вскоре те стрелы, что возвращались хеттам, снова были здесь. И все же я поразился числу стрел, полетевшему в нас, когда мы помчались к берегу. Я слышал, как кричат раненные ими пехотинцы, а затем в совершенном исступлении сражения, ибо таковым оно и было — совершенным исступлением, — мы врезались в щиты, встретившие нас, и наши добрые кони, Мут Благая и Победа-в-Фивах, перенесли нас через земляные укрепления хеттов, и мы обрушились на их колесницы, а за нами врезались в их ряды и другие следовавшие за нами колесницы.
Мне не случалось падать в реку, и течение не тащило меня по камням. Поскольку я не умею плавать, мне никогда не узнать, что это такое, и все же мне знакомы эти ощущения, потому что золотую Колесницу моего Царя, который был сильнее любого зверя и прекрасен, как Бог, атаковали сразу три колесницы хеттов. Девять человек, шесть лошадей и три тяжелые повозки — вот на что мы налетели, и, думаю, все четыре колесницы перевернулись, наша точно. Я помню, как ударился о землю, и Царь со мной вместе, а наша Колесница начала заваливаться на нас, ее колесо уже порядком затупилось, но все равно рассекло мне спину, а потом — мы вскочили на ноги, и наши лошади хрипели, и я еще поднимался с земли, а Его Колесница уже стояла, не знаю, как это произошло, разве что ее подняли упавшие с ней лошади, в конце концов, это была Его Колесница, и мы вновь впрыгнули в нее и пустили лошадей по кругу, направляя стрелы в хеттов. И все, что с нами происходило — столкновения, толчки, падения и то, как мы справлялись с этими ударами, — растягивалось во времени, как бывает, когда во сне соскальзываешь с горы. Никогда у меня не было так много времени, чтобы подготовить свое тело к новому потрясению, и никогда мои ноги не были такими быстрыми.
Я также не могу сказать вам, сколь хорошо мы сражались. Это было совершенно непохоже на боевые приемы, которые мы отрабатывали годами — никаких бросков одного стройного ряда на другой или попыток оттеснить пехоту в угол; нет, мы спешили прижать их к реке, быстрее, как можно быстрее, пока остальные хетты не захватят Царский квадрат, который мы только что оставили. Возможно, причиной тому было наше отчаянное положение, когда со всех сторон у нас не было никакого прикрытия, а возможно, уже и Царской Палатки, куда можно было бы вернуться, но мы бросались на врага, как Хер-Ра, и в этот страшный день так страстно жаждали вырвать победу, что, без конца выпрыгивая из колесницы, мы с Рамсесом часто бились спина к спине, и мы ранили много воинов, и немало прикончили, а потом снова сражались в своей Колеснице против новых хеттов. Повсюду я мог видеть, как наши колесницы ловко кружат вокруг их тяжелых повозок. Пешие нубийцы пронзали хеттов своими короткими копьями. Я видел, как один из них откусил хетту нос, и у многих нубийцев желтый убор на голове стал красным от крови. Три хетта промчались галопом мимо, и у одного из них в руке был топор, а в заднице торчала стрела. Он все время оглядывался назад, как будто хотел рассмотреть, кто же нанес ему удар.
Мы всех их сбросили в реку. Пеших воинов, колесницы, колесничих, даже их Принцев. Схватка была яростной, но наши мечи были неутомимы, наше отчаяние — самой доблестью войны, и, давясь от смеха, рыдая, рыча друг на друга, спешившиеся колесничие и пехотинцы, обезумевшие настолько, что вскакивали на потерявших всадников выпрягшихся лошадей, мы оттеснили их к берегу реки, а затем одна хеттская колесница перевернулась, скатилась вниз и упала в поток — вскрик, всплеск, и ее начало сносить течение. Что тут скажешь — камни и стремнина. Река в том месте была узкой и глубокой, а ниже по течению начинались пороги с множеством камней. Первая свалившаяся колесница разбилась об эти камни, и я слышал, как вода поглотила оборвавшийся человеческий крик.
Сейчас, когда за их спинами оказалась река, отчаяние хеттов сравнялось с нашим, но мы уже ощутили близость победы, и наши воины пришли в исступление. Поскольку мы пронеслись по их кострам, некоторые из нас хватали и метали горящие ветки, и я даже увидел одного шардана, размахивавшего наполовину зажаренной ногой теленка, а хетты отбивались факелами и кинжалами, и мечами против мечей, и топорами против мечей. Всех их, кто не лег на том поле, мы загнали в реку, всех до последнего, а те немногие, что вцепились в край скользкого и крутого берега, получили в лицо стрелы, хотя один из наших нубийцев к тому времени так разгорячился в пылу сражения, что съехал по склону, чтобы столкнуть хетта в воду, но ему не повезло. Вместо этого оба они утонули, кусаясь и стараясь задушить друг друга.
Какое зрелище! Мы стояли на берегу реки и кричали от радости, задыхаясь и всхлипывая, мы приветствовали друг друга. Наши крики походили на истошные вопли, которые слышишь в похоронной процессии, а наши взгляды были устремлены на воду и противоположный берег, где перед нами разворачивались картины, которых никому из нас не было суждено увидеть вновь. Вниз по течению плыла лошадь, и хетт пытался взобраться ей на спину, но это ему никак не удавалось, он снова пробовал побороть течение, покуда не соскользнул и утонул, а конь доплыл до противоположного берега, и другие хетты вытянули животное из воды. За ним из воды вытащили Принца, как я понял по его ярко-красному облачению, и хетты перевернули его вниз головой и держали так долго, пока я перестал верить собственным глазам, видя, что в человека может поместиться столько воды, а позже я узнал, что это был сам Принц Алеппо. Так что я видел, как его Царское величество держали за пятки, а затем мой взгляд, подобно птице, перенесся на другого хетта, который тонул. Я отчетливо видел, как он на прощанье махнул земле рукой, а затем ушел под воду, а прямо подо мной проплыл другой человек, его руки обнимали лошадиную шею, как будто он собирался поцеловать животное, и он разговаривал со своим конем — я слышал, как он плакал от любви, покуда и его, и лошадь не ударило о камни. За ним проплыл еще один воин, который уже утонул, но был таким толстым, что не ушел под воду, а плыл со стрелой, торчащей в его животе. Я даже рассмотрел, как одному хетту и его лошади удалось достичь другого берега и взобраться наверх, там он лежал, умирая от раны. Когда он испустил дух, лошадь лизнула ему руку.
Затем мы увидели, как на другой берег реки вышли хетты. Они появились из леса слишком далеко, чтобы их достали наши стрелы, и я, привыкший быстро считать войска на поле — сотнями или тысячами, прикинул, что их там около восьми тысяч. Я был счастлив, что они на другой стороне реки, там, где нет брода, хотя, должен заметить, что нашему Рамсесу хватило одного их вида, чтобы улетучилась Его радость от того, что мы выиграли эту схватку, чем бы ни обернулась эта победа.
„Снова в бой! — крикнул Он. — На запад!"
Я никогда не знал, мудр ли мой Царь в сражении, да и мудрость — слово, которым оценивают людей, а не Богов, Он же никогда не оборачивался, чтобы посмотреть — выполняют ли Его команду. Вместо этого Он понесся назад, к нашему старому лагерю, земляная насыпь которого окружала нас с четырех сторон, и везде были хетты, занятые грабежом, со спинами, повернутыми к нам, и лицами, обращенными к земле. Они были слепы, как личинки на мясе. Эти дураки горели такой жаждой наживы, что не набросились на нас внезапно сзади, когда мы были у реки. Вместо этого они напали на наши богатства. Когда мы вернулись, сотни две из них грабили Царскую Палатку. Мы их там подпалили. Никогда не мог понять, зачем мой Фараон это сделал. Никто не любил Свои сокровища больше Него, однако так велик был Его пыл в том сражении, что Он первый схватил горящее бревно и швырнул его на крышу Своей Палатки, а сотня наших поддали жару, наши колесницы чередой возили горючий материал из лагерных костров к Его прекрасной Палатке. Ее стены стали рушиться на хеттов, занятых грабежом внутри, и, когда они выбегали с горящими бородами и шерстяными шапками, горели даже их чресла, наши нубийцы встречали их короткими дубинками, разбивая головы этих горящих дураков — дважды дураков, так как они умирали с награбленным в руках. Вонь от кожи горящих перекрытий Царской Палатки была даже хуже, чем от горелой плоти. Однако этот смрад был подобен жизненной силе, вливавшейся перед битвой в нашу кровь. Я ощутил новую жизнь в своем мече, словно даже металл мог знать усталость и искать бодрости духа.
Мы уничтожили хеттов в Царской Палатке, а затем пали, как кара, на жалких грабителей повозок. Мы отбили наши укрепления с четырех сторон и вновь заняли свой квадрат. Снова раздались победные крики. Два полукруга азиатских колесниц, шагом приближавшихся к нам, теперь остановились где-то в ста шагах от наших линий. Они также были заняты грабежом, но теперь уже своих собственных пехотинцев. Их воины все еще подбирали то, что бросили отряды Амона, покуда на них не налетели хеттские колесницы, подобно крупным животным, пожирающим мелких.
Теперь Царская Палатка обрушилась. Ее кожу поглотил огонь. Белый пепел лежал на земле, а кое-где еще пылали жаром угли. „Кто принесет Мне нашего Бога?" — произнес мой Рамсес, и командир нубийцев указал пальцем на одного из своих чернокожих воинов — великана с огромным животом, сложение которого несколько напоминало Самого Амона, и тот нубиец ступил на горячий пепел и, добежав до центра обрушившихся перекрытий, подобрал почерневшую статую, а затем, шатаясь, выбрался оттуда Позволю себе заметить, это отняло у него почти все силы. Из-за веса статуи нубийцу пришлось нести ее, прижав к своему телу, и он обжег себе грудь, живот, руки, предплечья и ноги. И как только он поставил Бога на землю у ног Царя, Усермаатра-Сетепенра поцеловал его, поцеловал этого чернокожего — существует ли большая честь, чем поцелуй Фараона, дарованный чернокожему? Затем мой Рамсес опустился перед Амоном на колени и самым нежным голосом принялся говорить с Ним, рассказывая только лишь о Своей великой любви, равной упоительной выси вечернего неба, а затем Он взял один край Своей юбки и вытер всю сажу с лица Бога и поцеловал Его в губы, несмотря на то что Его собственный рот немедленно расцвел двумя волдырями, которые красовались на Его лице до конца битвы. Вид у Него был устрашающий, так как теперь Он мог говорить лишь сквозь распухшие веревки Своих верхней и нижней губ.
Я бы поразился силе духа того чернокожего, вынесшего ужасную боль, и даже любви к Амону, заставившей моего Фараона искать такую боль, но в этот момент обломанное перо выпало из украшения на голове Мут Благой и слетело к моим ногам. Когда я поднял его, перо было тяжелым от крови и гари сражения, и я мог передвигать его в своей руке как нож, я ощущал его вес. Мне хватило ума поцеловать его. И как только я это сделал, ужасный жар перешел с губ моего Фараона на мои губы, и вот теперь и мне пришлось сражаться с белыми вздувшимися волдырями на губах.
Позволено ли мне будет рассказать Тебе об окончании этого дня? Ты помнишь, наша битва началась под хмурыми и нависшими над нами небесами. В этом мраке, столь непривычном для наших египетских глаз, всякий раз, когда мы останавливались, чтобы перевести дух, наши тела покрывал холодный пот, а наша жажда сжимала сухое горло таким же холодным отчаянием, каким было положение, в котором мы оказались. Теперь стало легче, и, когда хетты, пограбив друг друга, снова сомкнули ряды и пошли на нас, тогда и мы были уже сильнее. Войско Амона, бежавшее и оставившее нас, возвращалось оттуда, куда удрало, и между этими возвращавшимися воинами и хеттами происходило много стычек. Видя стремление этих потерянных для нас отрядов пробиться в наш квадрат и желая помочь им, наш Царь много раз выезжал из нашего укрепления с колесничими Придворной Стражи, окружавшими Его со всех сторон. Пять раз выезжали мы и испытывали исступление битвы, нос каждым разом оно становилось все меньше, так как мы поняли, что главным нашим преимуществом были луки. Наши стрелы летели дальше, поэтому нам уже не нужно было врезаться в их более тяжелые колесницы, но, внезапно останавливаясь, мы посылали столько стрел, сколько могли себе позволить, и подбирали те, что прилетали от них. В этих перестрелках хетты несли большие потери. Многие их лошади, пораженные нашими стрелами, обезумев, сеяли замешательство в рядах своих же колесниц, и часто тем приходилось отступать. Когда разворачивались эти события, облака разошлись и показалось солнце. К концу дня мы согрелись и почувствовали прилив сил. Именно тогда мой Фараон потерял всякое представление о том, насколько превосходящими были силы врага. Не сказав ни слова никому, кроме меня, точно опаленный жаром солнца, который Он наконец ощутил, и Своего обожженного рта, с вожжами, почти не касавшимися спин наших добрых коней, а Мут Благая и Победа-в-Фивах уже давно не были для меня лошадьми, но, если можно так выразиться, в тот день превратились в великанов в обличье лошадей, Он понесся галопом к самому большому скоплению хеттов и на такой скорости, что мы выскочили к тому месту, где они поставили палатки своих полководцев, и в этом месте, перед их рядами, вновь вдвоем со мной мой Царь приблизился к их флагам и знаменам. Мы оказались в самой гуще азиатских колесниц. Хер-Ра заревел на них с такой яростью, что, как мне показалось, каждый из врагов боялся натянуть свой лук из страха, что лев нападет именно на Его Высочество. Не знаю, отчего они не набросились на нас, но в этот миг на поле боя наступило затишье, как будто никто не мог сдвинуться с места, и даже Хер-Ра наконец замолчал.
„В этой великой битве Я — с Амоном, — сказал Рамсес Второй, — и когда все потеряно, да явит Он Меня им как две Свои мощные руки, которые есть Хор и Сет, соединенные для Его победы. Я — Повелитель Света", — и Он поднял Свой меч и держал над головой, пока солнце не заблестело на нем, а затем спрыгнул с колесницы и сделал десять шагов к хеттским военачальникам.
„Привяжи льва", — скомандовал Он мне, и Он ждал с мечом в руке, пока я не прикрутил ремни от ошейника Хер-Ра к нашей колеснице. Затем Он поднял указательный палец, показывая, что хочет сразиться с их лучшим воином.
От группы хеттских военачальников отделился Принц с ужасным лицом. Борода у него была редкой, один глаз плоский, как камень, а другой блестел. Он тоже спешился, и мне показалось, что в тот момент, когда мой Царь увидел его, сердце Его смутилось.
Они стали сражаться. Хетт держался стойко, и движения его были быстрее, чем у моего Прекрасного и Великого Бога. Если бы тот Принц так же владел своим клинком, как и мой Царь, все кончилось бы очень скоро, но Усермаатра атаковал с такой силой, что Его соперник отступал по кругу, уклоняясь от Его великой руки. И все же тот хетт отражал меч Солнца и сверху и снизу, а затем, получив такую возможность, нанес ответный удар. Вот на ноге моего Царя показалась кровь. Теперь Он хромал и двигался еще медленней, и Его взгляд не был ясен. Он дышал как конь. Я не верил своим глазам — меч хетта становился все более дерзким. Вскоре он перешел в наступление, и мой Повелитель стал отступать. Тяжесть всех долгих часов битвы печатью легла на его уста, а затем, закрываясь от удара Принца сверху, Рамсес сломал себе нос Своим же щитом. Я подумал, что Он пропал, и, вероятно, так бы оно и случилось, но окончание поединка было прервано. Потому что лев проявлял такое беспокойство, что мне пришлось обрезать удерживавшие его путы, чтобы он не набросился на лошадей.
Заметив несущегося на него зверя, хетт не стал терять времени и бросился к своим, а Усермаатра в изнеможении оперся на меч. Лев облизал Его лицо. Хетты издали звук, похожий на рев бегемота, и я был уверен, что сейчас они набросятся на нас. Тогда нам пришел бы конец. Похоже, Усермаатра был уже не в состоянии поднять меч, так что мы со львом остались бы одни. Но в этот момент пропела хеттская труба. Я услышал сигнал к отступлению. Теперь, к моему изумлению, они быстро отошли, бросив свою царскую палатку.
Я был уверен, что это ловушка. Мне казалось невероятным, чтобы они могли оставить нам такую добычу. Особенно в момент, когда сила была на их стороне. Но в следующее мгновение я понял, в чем дело. Войско Птаха наконец-то прибыло на поле боя. Сомкнутые ряды его колесниц стремительно приближались с юга. Поэтому теперь хетты ринулись к воротам Кадеша, чтобы опередить отряды Птаха, пока те не перерезали им путь к отступлению. Мы остались на поле одни.
Я думаю, что тогда моему Царю было видение. Ему открылись иные картины. Могу только сказать, что Он, шатаясь, побрел к оставленной палатке и вышел оттуда, держа в руках быка, отлитого из золота. Это был Бог тех азиатов; его большие крылья были сложены, а вместо бычьей морды у него было красивое человеческое лицо с длинной сирийской бородой. На голове этого Бога торчали заостренные, подобно рогам чудовища, уши, а головным убором служила крепость в форме башни. Я никогда не видал такого Бога. Теперь он кричал на каком-то грубом языке азиатов, изрыгая отвратительный поток причитаний, вероятно, он перечислял все еще более тяжкие бедствия, разрушения и гнев, которые должны пасть на бросившие Его войска. Честно сказать, это был самый устрашающий голос, какой я только слышал. Он говорил обожженными губами моего Фараона, и проклятья, подобно раскатам грома, гремели в горле Усермаатра, покуда Он не бросил Бога на землю. И, клянусь вам, тогда из уст Бога повалил чад, да, из золотого рта этого звероподобного быка пошел дым. Не знаю, как моего Фараона могли называть Могучим Быком Амона, однако перед нами был другой бык, и тоже Бог, с крыльями и бородой. Именно тогда я узнал лицо блудницы, тайной наложницы Царя Кадеша. В лице крылатого быка я увидел ее черты — прекрасное лицо женщины с бородой. И тут я понял, что в этих криках звучал голос Бога Муваталлу. Мы слышали, как Он страдает из-за того, что сражение проиграно. Возможно, именно на войне можно попасть в такое место, где радуга касается земли, и многое из того, что было сокрыто, оказывается довольно простым».
ДЕСЯТЬ
«С уходом хеттов поля опустели. Как я говорю, мы были одни, и Хер-Ра поднял голову и издал одинокий стон. То был звук большой растерянности, словно зверь не знал — победили мы или были всеми оставлены. Я мог видеть, как вдалеке отряды Птаха отказались от попытки достичь ворот Кадеша прежде хеттов. Вместо этого они повернули свои колесницы к Царскому квадрату. Однако мой Фараон, выражая им Свое презрение, не поднял руку в знак приветствия. Мы возвратились в свой лагерь по этим залитым кровью, наполненным страданиями полям под стоны многих раненых и умирающих, немало из которых как могли приветствовали нас. Один умудрился даже издать звук с наполовину отрубленной головой. Была видна лишь огромная дыра на его шее, откуда, казалось, он говорил. Тем временем мой Фараон не обратил никакого внимания на радостные приветствия, которыми встретили нас воины, и, когда мы въехали в наш лагерь через проход в нашем квадрате, в молчании направил Колесницу к развалинам Своей Палатки. Он не сошел на землю.
Даже когда Его военачальники приблизились к нам, кланяясь, а затем ползком на коленях, Он заговорил лишь с лошадьми. „Вы, — сказал Он, — Мои великие кони. Это вы неслись со Мной, чтобы отразить нападение чужеземцев, вы были послушны Моей руке, когда Я оставался один на один с врагом. — Если в сражении, когда Его меч обрушивался на мечи врагов, летели искры, то теперь, когда Он поднял глаза на Своих военачальников, в Его взгляде вспыхнуло пламя. Они же даже не осмелились ударить головами о землю. — Вот, — сказал Он, указывая на Своих лошадей, — Мои лучшие воины в час опасности. Пусть же они обретут почетное место в Моих конюшнях, и пусть их кормят, когда Я принимаю пищу". И Он сошел с колесницы и погладил нос каждой лошади. Лошали ответили ржанием, исполненным удовольствия. От украшавших их перьев остались лишь клочья, их шкуры были в крови, ноги дрожали от усталости, но они выражали Ему свою благодарность. Затем мой Рамсес услыхал голос Своих военачальников.
„О, Великий Воитель, — вскричали они. Однако то была сумятица из сотни хвалебных имен, в большой спешке произносимых на шести или семи языках. — О, Дважды-Великий-Дом, — прокричали они, — Ты спас Свое Войско. Нет царя равного Тебе в бою".
„Вы, — ответил Он им, — не последовали за Мной. Я не храню в памяти имена тех, кого нет со Мной, когда Я окружен врагом. Но вот здесь стоит Мени, который есть Мой щит, — и Он обнял меня и, словно коня, похлопал по заду. — Смотрите, — сказал Он всем тем военачальникам, — Своим мечом Я сразил тысячи врагов, и множество их пало предо Мной. Тысячи тысяч были отброшены прочь".
Все они приветствовали Его криками, — сказал мой прадед. — Некоторые из них храбро сражались, и другим тоже выпало немало потрудиться в бою. Многие были в крови от ран. Однако они слушали со стыдом, опустив головы, а когда военачальники армии Птаха вышли вперед, чтобы приветствовать нашего Повелителя по случаю воссоединения наших отрядов, Он не поблагодарил их за то, что в этот день они спасли положение, а также не вознаградил Своего Сына Аменхерхепишефа за бешеную скачку навстречу отрядам Птаха, но лишь заметил: „Что скажет Амон, когда услышит, что Птах оставил Меня одного в этот великий день? Я повергал врагов под колеса Моей колесницы, но других колесниц не было со Мной, а также Моей пехоты. Я, лишь Я один был грозой, налетевшей на их предводителей".
Мы могли лишь склониться перед Ним. Его слова заставили нас ощутить опустошенность, что была страшнее хеттских мечей. Его военачальники коснулись лбами земли, затем стали биться об нее головами, они исполнились скорби. Будучи в необычайно неловком положении, я тоже поклонился, но из осторожности и стараясь сдержать улыбку. Возможно, в отличие от прочих мне следовало оставаться на ногах, чтобы мой Царь никогда не смешивал меня с ними; и я задумался — не произошел ли в Его сознании какой-то сдвиг от воплей того азиатского Бога, чей рев исходил из Его горла? Не знаю, но вскоре мой Царь умолк, и, оставив всех, в одиночестве присел около почерневшей статуи Амона, и полотном Своей собственной юбки вытер копоть с живота и членов Амона, и прижался лбом к Его золотой брови в долгом объятии.
Мы в молчании окружили Его. Мы ждали. Когда день, клонившийся к закату, стал терять свой золотой цвет и вечер был уже близок, Он сказал: „Сообщите людям, что они могут приступить к подсчету убитых". После этих слов командиры поняли, что могут снова говорить с Ним.
Однако я знал, что Он оторвал Свою голову от брови Амона с величайшим сожалением. Покуда Он сидел, касаясь Своим лбом золотого лба Великого Бога, за закрытыми глазами Он видел закат и ощущал, как наша египетская мудрость несет умиротворение Его сознанию и переходит в истерзанную плоть Его горла и рта. Я не верил своим глазам, но, когда Он поднял голову, на Его губах уже не было ожогов. (На моих они все еще оставались.) Как я понял, во всем великолепии чистого золота, из которого был сделан Амон, пребывал также и бальзам — прохладный, как роса. Сколько же достоинств у этого солнечного металла!
Вскоре начался подсчет рук. У нас отрубленные руки воров складывали в кучу у ворот дворца — так же как мы делаем это и сегодня, — однако в те времена Рамсеса Второго подсчет рук производился и после сражения. Усермаатра-Сетепенра стоял в Своей Колеснице, а воины чередой подходили к Нему по одному, начиная с тех, кто был в Придворной Страже, а затем из Войска Амона. Многие сотни, а затем тысячи этих воинов один за другим прошли той ночью перед Фараоном, несмотря на то что мы еще не знали, окончилась ли уже битва или то был лишь первый ее день. У Муваталлу еще оставалась его пехота и колесницы, и они укрылись в Кадеше. Назавтра эти войска могли выйти из города. Так что нельзя было сказать, одержали мы победу или должны готовиться к рассвету. Но то поле, на котором мы сражались днем, было нашим на эту ночь, а это все равно что обладать чужой женщиной. Назавтра она может вернуться к другому, но в эту ночь никто не мог сказать, что ты проиграл. Поэтому чем дольше длился вечер, тем более он переходил в ночь удовольствий. Словно в знак презрения к врагу, отошедшему за свои стены, мы развели на поле столько костров, что оно стало алым и золотым, и свет наших костров торжественно сиял сквозь темноту, подобно пламени заката одним из тех волшебных вечеров, когда сама ночь все еще парит, или по крайней мере так кажется, над последним, а потом над самым последним, а затем уже над тем, что после последнего света вечера, и ни у кого не пропадает его тень. Так светилось наше поле той ночью, и свет этот пришел от тех лучей солнца, что вошли в деревья, когда те были еще молоды, а теперь вновь вышли наружу, когда дерево охватило пламя.
На протяжении всей той ночи горели наши костры, и всю ту ночь Усермаатра-Сетепенра стоял в Своей Колеснице под полной луной и одну за другой принимал отрубленные руки павших в бою хеттов. Поскольку Он ни с кем не говорил, кроме воина, подходившего к Его правой руке, а затем писца, сидевшего у Его левой руки и записывавшего имя того, кто принес свой знак нашей победы, я мог часто отходить, а потом возвращаться. Итак, в продолжение всей той долгой ночи, собственно, так долго, как шла эта череда, Усермаатра-Сетепенра стоял на том же месте, в Своей Колеснице, и Его ноги ни разу не сдвинулись с места. Тогда я еще раз осознал, что быть рядом с Ним — значит во всей полноте постигать, как ведет Себя Бог, когда пребывает в образе человека. Он так похож на человека, и все же проявляет Свою божественность даже в самых незначительных из Своих движений. На этот раз таким свидетельством было то, что Его ноги оставались неподвижны. Принять тысячу людей, а затем еще одну тысячу, а потом другую, взять в Свою правую руку отрубленную руку воина, умершего в начале дня или не более часа назад — мы все еще продолжали убивать пленных, — спросить имя того, кто передал тебе эту холодную или еще теплую руку, затем сказать его писцу, потом бросить эту руку на кучу — и при этом даже не сойти со своего места — было проявлением такой уравновешенности, в которой виделся Божественный знак. Его ноги оставались неподвижны. Каждый раз, когда Он бросал новую руку на кучу, а надо сказать, эта куча росла, пока не стала величиной с палатку, Он делал это с тем совершенством движений, с каким правил Мут и Фивами, завязав вожжи вокруг Своего пояса — одним словом, положенные действия, которые Он выполнял, были совершенными. Невозможно было придумать другого способа делать это. Он показывал нам сущность уважения. Правая рука мертвого воина, та самая правая рука, которая могла бы сжать Его собственную руку при заключении соглашения, передавалась теперь Ему, и Он бросал ее в кучу бережно и на то место, которое ей предназначил Его глаз. Куча росла, как пирамида, углы которой были скруглены, и ни разу не позволил Он основанию стать слишком широким, а вершине — слишком тупой. Но Он также внимательно следил и за тем, чтобы не поддаться искушению и не сделать пик слишком красивым, ибо тогда один неверный бросок мог бы разрушить созданную форму. Нет, эти руки ложились в кучу соразмерно высоте и основанию, что отвечало тому совершенству, с которым Рамсес принимал Своих воинов». Здесь Мененхетет закрыл глаза, словно силясь припомнить, действительно ли все это было столь прекрасным, как в его описании.
Когда он вновь заговорил, он сказал: «Можете быть уверены, что спокойствию этой церемонии никак не соответствовало то, что творилось в лагере, который совсем недавно был полем боя, а теперь вновь превратился в лагерь. Одно дело убить противника в сражении; совсем другое — улучить момент, чтобы отрезать ему руку. О, даже в худшие мгновения, когда наша Колесница переворачивалась, сквозь спицы можно было заметить одного из наших, стоящего на коленях и отпиливающего запястье хетта, которого он только что сразил. Встречались и такие, ослепленные жаждой военной добычи, служившей доказательством нашей победы, с пылающими от возбуждения лицами, кто не замечал приближавшихся сзади хеттов, которые их убивали и принимались отрезать им губы, губы! Можете себе представить, что бы случилось с нами, если бы в тот день мы проиграли сражение азиатам?!
Разумеется, вы понимаете, что ни один настоящий воин не стал бы останавливаться, чтобы заполучить руку во время таких приливов и отливов сражения. Вообразите же себе те споры, что возникли среди нас в тот вечер, когда те, кто были самыми храбрыми на поле битвы, ночью остались без свидетельства своих военных заслуг. Для воина эти руки значили многое. Можно было назвать свое имя Фараону, и его заносили в список. За этим могли последовать какие-то блага, даже повышение в должности. Кроме того, побывать в сражении и остаться без руки, которую можно было предъявить, было унизительно. Чем же ты тогда занимался? Могу вас уверить, из-за этого вспыхивали драки. Когда один из отрядов колесниц, сражавшийся вместе с Придворными войсками Царя, обнаружил, что пехотинцы из Войска Амона, воины которого первыми пустились в бегство, сейчас подходят к линии бойцов, окружавшей Фараона, с большим количеством рук, чем было у самих колесничих, среди наших египетских воинов чуть было не началась вторая война. И вскоре военачальники собрались на совет, чтобы добиться мирного разрешения этого спора.
Они знали, что, если им не удастся договориться об определенном количестве рук, возникнут самые ожесточенные драки. Перед лицом Фараона может разыграться шумная ссора. Поэтому мы были вынуждены навязать им объявленное нами число хеттов, убитых каждым отрядом. После такого объявления мы могли определить количество рук, которые подобало передать — взвод за взводом. Если в каком-то отряде на восьмерых приходилось пять рук, можно было быть уверенным, что они достанутся самым сильным воинам, независимо от того, как они сражались в тот день. Позвольте уверить вас — не одно ухо было откушено в продолжавшихся маленьких стычках. Представьте ярость настоящих воинов, которых обошли, не говоря уже о показной удали многих здоровенных молодцов, ранее проявивших трусость, однако теперь видевших себя в ином свете, — так что нам предстояла ночь, которую мне суждено было забыть нескоро. До того как рассеялась тьма, погибло, должно быть, еще около пятидесяти наших.
С захваченными хеттами дело обстояло хуже. Если кого-то из них не охранял храбрый и ответственный командир, то он очень скоро лишался своей правой руки. Немало из них умерли от потери крови. Немало из них, с обрубком руки, перетянутым кожаным ремнем, остались в живых и были приведены в Египет. Разумеется, они могли надеяться на обеспеченное будущее в качестве однорукого раба. Тем временем те из наших, которым не досталось такой добычи, с факелами в руках продолжали обыскивать залитое кровью поле боя, а некоторые даже осмеливались отрезать руки своим убитым, хотя быть пойманным за таким занятием было равносильно потере собственной руки. В конце концов, к завтрашнему дню добыча каждого начнет разлагаться, так что даже если некоторые из рук и оказывались египетскими, то можете быть уверены, что с любого тела нашего воина, обнаруженного с изуродованной конечностью, было снято то немногое, что на нем было, а лицо вскоре невозможно было узнать. Я избавлю вас от дальнейших подробностей. Но тем не менее наутро этот убитый все равно выглядел как один из наших. С лицом или без лица, но мертвый и нагой египтянин не похож на голого азиата. На наших телах меньше волос.
Кстати, о волосах: у этих несчастных хеттов бороды походили на заросли, возможно, таким способом они надеялись защитить свои шеи от ударов меча. Да и на головах волосы у них были такие густые, словно для того, чтобы служить их черепам прикрытием от наших мечей. Теперь им было мало от них толку. Даже настоящий шлем не может уберечь от всех ударов. На протяжении этой ночи мы использовали своих пленных, мы ими упивались, мы поедали их, я расскажу вам об этом. Повсюду можно было наблюдать смешную и одновременно жалкую сцену: десяток или два десятка хеттов с руками, связанными на затылке, и та же веревка была обмотана вокруг горла другого их собрата по несчастью; когда же им приказывали двигаться, эта двадцатка ковыляла вперед, тесно прижавшись друг к другу, с глазами, вылезающими наружу от ужаса, со вздернутыми шеями. И настолько тесно они были связаны вместе, что их можно было принять за гроздь фиг на веревке, за тем лишь исключением, что эти фиги часто издавали стоны от боли, которую причиняли им врезавшиеся в их шеи путы. Должен сказать, что те, кто пленил их, плохо их охраняли. Любой небольшой отряд наших воинов, бродивших вокруг, мог отрезать первого или последнего в цепочке — отвязывать кого-то в середине было слишком хлопотно. Затем в свете костров можно было различить то, что происходило. С бородами многих несчастных азиатов обращались как с женскими органами, то же происходило и с их ягодицами; иной раз можно было увидеть, как пятеро обрабатывают одного, уже превращенного в женщину, а на одного бедного пленника, как на лошадь, даже надели сбрую, и наши воины забавлялись с ним так, как никогда не осмелились бы поступить с настоящей лошадью. Этот хетт даже не мог открыть рта, чтобы закричать, — его рот был настолько полон, что несчастный задыхался. Представьте себе ярость человека, оседлавшего его голову.
Вы можете подумать, что после всей крови, что мы повидали в тот день, не нашлось таких, кому оказалось мало. Но кровь подобна золоту, она лишь разжигает жажду. Невозможно утолить желание вдыхать ее запах, а некоторые даже не могли утолить свою жажду крови до полного пресыщения. Все мы, несмотря на неприятное чувство, что мы покрыты ею, липкие от нее с головы до ног из-за того, что она запеклась на нас коркой, рано или поздно начинали хотеть еще. Словно новый слой краски ложился на старый. Теперь кровь притягивала нас, как огонь, но она была гораздо ближе к нам. Невозможно добраться до сердца огня, но кровь была здесь — в дыхании каждого. Мы походили на птиц, несметное множество которых слетелось на это поле, чтобы всю ночь кормиться тем, что им удастся отодрать от плоти убитых. Они поднимались в воздух при нашем приближении, тяжело отталкиваясь от земли и производя звук, походивший на раскаты грома, но то было лишь хлопанье их крыльев, отрывавшихся от нас и от крови. Потом там были мухи. Они доводили нас до бешенства своими укусами, точно теперь в них вселилась ярость тех, кого мы убили. Посреди напасти неистовства этих насекомых я много думал о природе ран, размышляя о том, как сила раненого выходит из его тела и переходит в руку того, кто нанес увечье. С другой стороны, когда ты ранишь человека, оставляя глубокий разрез на его теле, ты можешь и исцелить его боль. Если ты сожалеешь о содеянном, то можешь плюнуть себе на руку и этим уменьшить страдания своей жертвы. Так мне говорили нубийцы. Если же ты желал еще более растревожить его рану, то следовало выпить горячего и острого сока либо разогретого на огне вина. Тогда его рану охватит пламя. Так я стал размышлять о хеттах, оставивших порезы и глубокие раны, которые саднили на моей груди, руках и ногах, и начал шарить вокруг, пока не нашел хеттский меч. Всю ночь я поливал его лезвие маслом и заботливо зарыл его в прохладную листву, чтобы уменьшить возможность нагноения своих ран на следующий день. Я также выпил горячего вина, чтобы разбередить раны, которые нанес своим противникам.
Я помню, как некоторые из нас даже отрубали головы хеттов и насаживали их на длинные заостренные шесты. В свете факелов, которые держали другие, мы размахивали этими головами. Стоя на противоположном берегу реки, напротив стен и ворот Кадеша, мы насмехались над ними той ночью, а тем временем берега начинали испускать тяжкий дух из-за начавшегося разложения трупов, смрад, которому предстояло стать невыносимым в последующие знойные дни.
Покуда мы стояли у реки, с городских стен до нас долетали редкие стрелы, столь немногочисленные, что я задумался о тысячах хеттских воинов, не сражавшихся в тот день — отчего сейчас они хранили молчание, где все их стрелы? — на самом деле, тогда это мало занимало нас. Мы были так пьяны, что, когда одного из нас, колесничего, стоявшего рядом со мной, ударила в грудь шальная стрела, острие которой прошло достаточно глубоко и застряло у него в теле, и ему пришлось ее вытаскивать, он отбросил наконечник и древко стрелы в сторону, потер рану рукой и со смехом слизал со своих пальцев кровь. Его рана все еще кровоточила, и он размазал кровь по коже на груди. Но кровотечение не прекратилось, и он отрезал несколько клочьев волос от бороды хетта, голова которого была насажена на его шест, и заткнул ими рану в груди».
«Ничто, — внезапно прервала его рассказ моя мать, — не сравнится с отвратительными зверствами мужчин». Когда она произнесла эти слова, я с удвоенной силой ощутил близость к ее переживаниям, так как, притворяясь спящим, я вновь жил в ее чувствах. Мне никогда не доводилось ощущать подобной ярости, направленной на моего прадеда, однако одновременно, когда она посмотрела ему в лицо, я смог почувствовать, как ее решимость бросить ему упрек растворилась сама в себе, ибо в тот момент она испытывала сильное волнение. Боль ожидания, подобная зубной боли, пребывавшая в ее животе, угнездилась и в моей голове. Она была такой сильной, что я вскрикнул.
Мененхетет лишь покачал головой. «На другой стороне реки, — сказал он, — на высокой башне стояла женщина, она взглянула на нас и увидела хетта, у которого отрезали клок бороды. Она стала кричать. Может быть, она узнала лицо своего любимого, или мужа, или отца, или сына, но, говорю вам, ее крики раздирали небо. У ее стонов не было дна. Мне не раз приходилось слышать такие женские крики. Все мы знаем тех, кто издает подобные звуки на каждых похоронах. Ханжество — вот достояние таких женщин. Ибо их горе говорит об ужасном конце всего, чем полнится их сердце, однако пройдет год, и эта женщина будет с новым мужчиной».
Моя мать отозвалась на его слова грудным голосом. «Женщины ищут, — сказала она, — дно своего горя. Если им удается его найти, они готовы для другого мужчины. Конечно, если бы мне когда-либо привелось оплакивать любимого и я узнала, что горе мое бездонно, я бы поняла, что это тот человек, за которым я должна последовать в Страну Мертвых. Ибо покуда я причитаю, я не могу быть уверена в подобных чувствах». Она победно посмотрела на моего прадеда, будто хотела сказать: «Неужели ты когда-либо верил, что можешь стать таким мужчиной?»
Птахнемхотеп едва улыбнулся. «Твой рассказ, дорогой Мененхетет, столь исключителен, что, хотя у меня и было по десятку вопросов в отношении каждого поворота битвы, я не желал нарушать ход твоих мыслей. Теперь же, однако, поскольку Хатфертити заговорила с тобой из глубины своих чувств, позволь мне спросить: каковы были мысли Моего предка, Усермаатра-Сетепенра, во время всех этих событий, в ту ужасную ночь? Действительно ли Он не замечал ничего этого? Правда ли, что Его ноги оставались неподвижными?»
«Они оставались неподвижными. Как я сказал, я стоял рядом с Ним и, как я также сказал, я мог и уйти. Когда я возвращался, куча становилась выше, но больше ничего не менялось, разве что настроение Фараона. Все происходящее представлялось мне все более невероятным. Независимо от того, насколько хорошо вы Его узнали, даже если вам доводилось видеть Усермаатра-Сетепенра ежедневно, поверьте, вам непросто было приближаться к Нему. Если вы заставали Его веселым, то даже в нескольких шагах от Него у вас возникало такое ощущение, словно вы входите в комнату, залитую солнечным светом. Когда же Он сердился, вы знали об этом, еще не войдя в дверь. На поле боя Его ярость была столь велика, что служила нашим щитом. Хетты не могли смотреть на ослепительный свет, исходивший от Его меча. Лошади наших врагов боялись столкновения с нами. Никто не в состоянии на скаку приблизиться к солнцу!
Однако, пока длилась та ночь, я увидел, что Он не только Возлюбленный Амоном, Благословенный Солнцем, но также Царь, Которому дано жить во тьме с Повелителем Осирисом и быть знакомым со Страной Мертвых. Было очевидно, что чем дольше Он проводил эту церемонию, спрашивая имя у каждого подходившего к Нему, повторяя его писцу и бросая руку на кучу, тем все яснее я ощущал на себе вес Его присутствия, и наконец, даже с закрытыми глазами, я стал чувствовать себя где-то в присутствии Рамсеса, точно так же слепой может сказать, что вступил в пещеру, даже если пещера большая. В ту ночь мой Царь заполнил тьму, и воздух рядом с Ним, в отличие от лагерных костров с их красными языками пламени или нашего дыхания пьяниц, был прохладен, в нем чувствовался тот холодок пещер. Он наблюдал дух умерших, по крайней мере то, что можно было узнать по их рукам. Подобно тому как мы получаем какое-то впечатление о незнакомом человеке, когда сжимаем его пальцы в приветствии, так и Рамсес узнавал понемногу о каждом из вражеских воинов, когда на мгновение удерживал в Своей руке последнее проявление их духа. Так Он узнавал что-то о нраве каждого и о его смерти. Никогда еще я не видел своего Царя предающимся размышлениям таким образом, а Он все больше мрачнел, пока Его состояние не стало сильно походить на звук, который заставляет вас вслушиваться в рев Великой Зелени.
В самом деле, когда я стоял рядом с Ним или, иными словами, когда я вступил в пещеру, в которой пребывал Он в ту ночь, то уже не мог понять, была ли каждая мысль, приходившая ко мне, действительно моей или моего Фараона. Я только знал, что чем дольше я смотрел на эту кучу рук, отливавшую в лунном свете серебром, тем больше понимал, что теперь сила хеттов принадлежит нам и что поле битвы осталось за нами. Они не могли наложить на нас проклятье своих мертвых теперь, когда наш Фараон коснулся каждой недоброй мысли в руке каждого павшего хетта и вытянул из нее силу для будущих сражений. Таким же образом мой Фараон удерживал вместе и судьбы наших Двух Земель.
Я так долго стоял совсем близко от Него, что, когда бы ни отлучался побродить по лагерю, мне казалось, что отчасти я продолжаю пребывать в Его мыслях. А может быть, все дело было в необычайной чуткости Его носа к тому, что произошло дальше. Помню, я почти не удивился, когда, преодолев небольшой бугор, нашел между двумя камнями полусонного Хер-Ра, лежавшего в свете полной луны. Не знаю, то ли льва забыли запереть обратно в клетку или, может, кто-то из наших воинов выпустил его, но он был спокоен и проснулся лишь наполовину. Однако таковы были огни той ночью, всего лишь за холмом от торжественных действий нашего Фараона, что Хер-Ра при виде меня широко ухмыльнулся, перекатился на спину, раскинул лапы, показывая мне глубину своего заднего отверстия, и, раскрыв мне объятия своих передних лап, пригласил поваляться у себя на животе. Я не помню другого дня, когда бы я был таким же храбрым. Ни разу за четыре жизни. Я потрепал его гриву и поцеловал в морду. Выпустив скопившийся ветер, ворча, он перевернулся на бок, встал и рыгнул мне в лицо, выдохнув кислый запах всей той крови, что он выпил; однако ведь и мое дыхание с его винными парами вряд ли показалось ему более приятным. Как бы то ни было, теперь мы достаточно подружились, чтобы вместе отправиться на прогулку. Не знаю, чувствовал ли я себя когда-либо более живым, здоровым и сильным, чем когда гулял по тому охваченному пламенем и залитому кровью полю, по которому разбрелись десять тысяч наших обезумевших воинов — на всех его лугах ты мог подойти к любому из тысячи костров, и у каждого шла попойка, и лишь один я был со львом! То была сокровищница зрелищ — глазам открывалось больше задниц, чем лиц!
Позвольте сказать, что среди нас были и женщины. Целый отряд походных жен прибыл с Войском Сета, тем, что подошло позже всех, когда взошла полная луна. Они были известны как сборище развратников и мужеложцев, это Войско Сета. Пытки, которым до этого времени подвергали пленных хеттов, были ничто по сравнению с тем, что начали выделывать эти свежие отряды, только что присоединившиеся к нам.
В тот день, кроме перехода, они мало чем занимались, и когда узнали от гонцов из Войска Птаха о нашей победе, то залезли в свой обоз с едой и по прибытии были пьяны. Теперь колонны ожидающих стояли около каждой шлюхи, приведенной этими отрядами Сета (которые, между прочим, в качестве платы принялись собирать награбленное у хеттов). Той ночью я увидел больше способов совокупления, чем за целые три мои следующие жизни. Поскольку мужчин было больше, чем женщин, нелишним было, если, разумеется, вас заботила собственная задница, оглянуться — кто стоит за вами. Клянусь, это было позорное зрелище. Эти нубийцы крупные, а среди их мужчин принято пользоваться друг другом, покуда они не разбогатеют достаточно, чтобы взять себе жену. Той ночью горе было тому несчастному египтянину, который ждал своей очереди перед нубийцем, так как очень скоро он оказывался на коленях, хоть и был египтянином. Мы не такой крупный народ. В ту ночь порядочная часть нашей силы перешла к нубийцам и ливийцам — а что взамен? Возможность пустить те немногие оставшиеся стрелы в распутную пещеру шлюхи смешанных кровей? Горячка среди тех костров была такова, что многие не могли дождаться своей очереди поиметь женщину спереди и использовали ее щеки, пока она занималась с другим, так что они превращались в зверя с тремя спинами — змеиная случка. Потом к ее рту пристраивался другой, а еще один — к заднице третьего. Вид у них был хуже, чем у пленных, связанных, как фиги. Другие из тех, кто ожидал, непрестанно кричали: „Быстрей! Быстрей!" Надо всем этим висел запах пота. Казалось, что нюхаешь задницы у половины армии. Достойным супругом был этот запах крови и дыма. Я бы мог говорить об этих действиях как о безобразиях, однако дальше было еще хуже. К тому же я не буду высказывать свое суждение. В конце концов, разве наше слово, обозначающее ночной лагерь, не соответствует одному из наших названий блуда? Могу лишь сказать, что я был частью всего этого и меня это очень возбуждало. Клянусь, если бы не Ночь Свиньи, вы не узнали бы об этом так много. Достаточно сказать, что я и Хер-Ра бродили между лагерных костров и храпящих пьяниц, между любовниками, искателями добычи и любителями падали, даже среди стонов наших раненых — ибо посреди всего этого люди все еще продолжали умирать, в основном наши (хеттов уже не осталось). С отрубленными конечностями и воспаленными животами, они умирали сперва от жажды, а потом от вина, которое им давали. Иногда невозможно было отличить стоны удовольствия от воплей обреченных. Мы с Хер-Ра шли между костров сквозь эти крики. Время от времени лев наваливался на группу совокупляющихся, сжимая, так сказать, их виноградины, и не один из них, уловив носом дыхание льва или увидев жуткий взгляд его глаз (а у Хер-Ра, даже когда он вел себя как котенок, был самый дикий бледно-зеленый глаз, какой только кто-либо видывал), очутившись лицом к лицу с таким зверем, терял свою силу на эту ночь и не на нее одну. Такие испуги разят человека, как меч. Надо сказать, что шлюхи обожали Хер-Ра. Я никогда не видел столь ненасытных женщин, столь грубых, настолько превосходящих нас в своей чистой радости — это их искусство, а не мужчин. Даже в подобном буйстве, когда случалось извергаться гораздо чаще, чем хотел бы, и радости эти походили на смертные муки, даже тогда эти женщины дарили удивительные ощущения. Обыкновенные походные шлюхи с вонючим дыханием, однако я видел, как в моих чреслах открываются ворота в Поля Тростника — эти женщины принимали самые сладкие выстрелы прямо в свою сердцевину. Наверное, все это было из-за крови и горелого мяса. Может быть, Маат снисходит с любовью, когда все давятся дымом. Интересно — сколько военачальников зачинается в подобном лагере?
Но я говорил о горелом мясе. Невозможно представить, какой голод нападает на поле боя. Он гасит голод ваших детородных членов. Я был ненасытен, и Хер-Ра был ненасытен. Вся наша армия была голодна, и, после того как мы съели все, что захватили у хеттов, мы вломились в собственные обозы с едой. Я видел, как в огонь бросали четверти засоленных коровьих туш, затем вытаскивали и разрезали на пригодные для еды куски — одна сторона черная, другая — красная. Потом коровье мясо бросали обратно в костер. Скоро они принялись резать и убитых лошадей.
Притом это был странный голод. Не знаю, за скольких я могу говорить, но вкус каждой разновидности мяса вселял в меня желание попробовать другой его вид. Я не мог насытиться ни говядиной, ни даже кониной, хотя что-то уже было в запахе крови жареного жеребца, что говорило о странных истинах и новых силах. Я просто продолжал есть, чтобы заполнить дыру в своих кишках. Может быть, причиной тому было присутствие льва. Он продолжал тыкаться мордой в раны мертвых, и, пока это все не кончилось, многие из окружавших нас людей стали такими же ненасытными к вкусу мертвечины, — как я могу вам это передать? Идя бок о бок со львом, я почувствовал в нем своего самого лучшего друга на этом поле. Поэтому я смог видеть его мысли так же ясно, как мысли моего Фараона, а у льва, к моему удивлению, был ум. Но вот думал он не словами, а запахами и вкусами, и каждое ощущение разворачивалось перед его глазами новыми картинами. Когда он ел сырую печень мертвеца — я думаю, этот человек был мертв, хоть дрожь прошла по его телу, — Хер-Ра видел нашего Фараона. Судя по тому удовольствию, с которым он жевал, отвага Фараона делала его счастливым — таким же счастливым, как печень храброго воина, которую он поедал. Затем оказалось, что в конечном счете этот покойный не был таким уж храбрым человеком. В горле Хер-Ра появился привкус желчи. Тайная трусость этого воина была подобна грязной вене, пронизавшей его печень.
Я наблюдал, как Хер-Ра отгрызает уши то у одного, то у другого мертвеца, покуда он не находил такие, которые приходились ему по вкусу. Именно тогда я смог увидеть, что, когда он ест, перед ним появляется небо, усеянное звездами, сияющими ярче, чем в нашем небе, наполненном дымом, затянутом туманом и несущимися рваными облаками. Конечно, пока он ел, и на мое сознание снизошло некое благословение, так как я стал понимать, что наши уши — седалище всякого ума и та самая дверь, что ведет в Поля Тростника. Затем Хер-Ра принялся лизать кожу на лбах многих мертвецов. Сосредоточенно и разборчиво он переходил от головы к голове, сопоставляя вкус их солей. Довольно скоро я понял, отчего это занятие доставляет ему такое удовольствие. Дело в том, что при этом перед его глазами возникало видение, которое ему очень нравилось: он видел воина, который бежал в гору, подставив лицо сильному ветру; и действительно, тот человек, которого он наконец выбрал, являл собой олицетворение упорства. Тогда Хер-Ра съел и его мошонку, а затем вгрызся в пах. Мне было достаточно услышать тихое ворчанье Хер-Ра. Я понял, что он выбрал этого воина как совершенное местопребывание мужской силы.
Я должен сказать вам больше. До того как ночь кончилась, я тоже не отказал себе в удовольствии попробовать мясо человеческой конечности, поджаренной на огне, ощутил его вкус и понял, что радости каннибала будут в эту ночь и моими. Достаточно сказать, что был сделан первый шаг на пути к тому, что считается моими грязными привычками. Благодаря им я познал многие чудеса и обрел немалую мудрость. Однако вы вряд ли хотите слушать далее о Битве при Кадете. Позвольте лишь заметить, что человеческое сало, поедаемое в значительном количестве, пьянит. Я захмелел так же, как Хер-Ра».
При этих словах Мененхетет закрыл свой рот и не произнес больше ни слова.
ОДИННАДЦАТЬ
Мененхетет разжег наше любопытство. Молчание нарушилось, но лишь перешло в другое молчание, а наш Фараон бросил мудрый взгляд на светлячков и сказал: «Надеюсь, ты продолжишь. Я хотел бы узнать, что произошло на следующий день».
Мененхетет вздохнул. Это был первый звук, свидетельствовавший об усталости, услышанный нами после многих ровных вдохов во время долгого повествования, и мерцание светлячков дрогнуло за тонким полотном. Увидел ли я то, что невозможно было постичь, или свет этих существ заколебался, приветствуя рассвет, наступивший у стен Кадеша, когда костры догорали и усталые воины стали засыпать? Определенно, их свет уменьшился. И тогда я вспомнил, как Эясеяб говорила мне, что самая любимая пища этих светлячков — они сами, они пожирали друг друга.
«Не знаю, сколько мне осталось вам рассказать, — молвил мой прадед. — Судя по всему, Муваталлу действительно был проклят своей тайной наложницей; он не выступил наутро со своими восемью тысячами пехотинцев или с теми колесницами, что у него еще оставались. Даже когда мы взяли пленного военачальника, привязали его руки к его же колеснице и завели его в реку, так что он утонул прямо у них под носом, Муваталлу все равно не вышел. Я посчитал, что он так же труслив, как и глуп. Ему следовало атаковать. В то утро мы были настолько разложившимся и беспорядочным сбродом, до такой степени сбитыми с толку несметным множеством злых духов, что Муваталлу смог бы одолеть нас — разве что его войска провели ночь, подобную нашей.
Мы стали держать совет. Некоторые из военачальников говорили об осаде и пытались напомнить, как Тутмос Великий срубил фруктовые деревья в рощах, окружавших те холмы, чтобы построить осадные стены, которые Он двинул к стенам Кадеша. Если бы мы сделали то же самое, то взяли бы Кадеш в ближайшие месяцы. Мой Рамсес слушал, и было видно, что Он воспринимает их слова как оскорбление. Наконец Он произнес: „Я — не убийца деревьев". К полудню мы свернули лагерь.
Выступить оказалось не таким легким делом. Прежде всего надо было похоронить наших мертвых и подготовить раненых к походу. Пришлось много копать, прежде чем тела были засыпаны, а ямы никак не удавалось сделать достаточно глубокими. Мертвецов заталкивали в них так плотно, что наружу высовывалось то бедро, то локоть, а то даже голова, и птицы могли сделать свой выбор. Естественно, остальное пожирали насекомые. Глядя на несметные полчища их, кишащие в ямах, которые еще даже не засыпали, я навсегда усвоил ответ на один вопрос. Я понял, отчего жук Хепер — существо близкое Ра. Посреди любой жаркой ночи, под покровом тишины, прислушайтесь на мгновение, и вы услышите самый мощный звук из всех, издаваемых ими. Это жужжание насекомых. Какие несметные множества! Они — властители тишины.
Само собой разумеется, немногие из наших погибших были спасены от птиц и личинок. В каждом войске был взвод бальзамировщиков, возивших за собой священный стол, и вскоре они спеленали павших Принцев и полководцев. Даже в том случае, если погибший был простым командиром (но сыном богатого торговца), оставалась возможность, что кто-то позаботится о его останках. Любой бальзамировщик прекрасно знал, что в Мемфисе или в Фивах он получит вознаграждение, если доставит семье хорошо спеленутое тело сына. Еще до того, как все приготовления закончились, сотня военачальников была заботливо уложена на различные повозки, и, несмотря на то что работа делалась в полевых условиях, лишь некоторые из этих завернутых тел стали вонять.
С ранеными дело обстояло хуже. Некоторые выжили. Некоторые умерли. Ото всех них исходила удушающая вонь. Войска Амона, Ра, Птаха и Сета шли одно за другим такой длинной колонной, что путешествие от ее головы до хвоста занимало целый день. Теперь мы действительно походили на разрезанного на четыре части червя. Однако нас соединял запах тлена. Мы двигались медленно — мутная река, полная разлагающейся плоти, а крики раненых, когда их повозки прыгали по камням узких ущелий, наводили ужас.
Разумеется, мы все испытывали боль. У кого из нас не было множества скверных ран и царапин? У меня вдобавок к прочим болячкам вскоре образовалась дюжина нарывов, и я чувствовал, как яд из старых ран скапливается в новом месте. После третьего дня у некоторых из нас разыгралась лихорадка, и в палящем мареве этого похода то, что сперва виделось победой, исказилось в нашем воспаленном воображении, приняв облик поражения. К четвертому дню нас стали атаковать. Некоторые из лучших отрядов Муваталлу преследовали нас; их было не так много, чтобы они представляли серьезную угрозу, но для нападения на тех, кто шел сзади, у них хватало сил. Они убивали одних, ранили других и уносились прочь. Мы теряли время, преследуя их, и еще больше — хороня наших убитых. Поскольку повозки для раненых были переполнены, пешие воины тащили носилки, и некоторые из них падали от жары, отставали, и им приходилось нагонять ушедших. Другие пропадали безвозвратно.
Во время одного из своих набегов хетты попытались украсть нескольких ослов, нагруженных отрубленными руками. Только для этой цели мы использовали более десятка животных, и каждый вез по два больших мешка — по одному с каждого бока. Запах от них, если не приближаться, был не таким уж страшным: ведь на руках так мало плоти, что кожа сама быстро высыхает, хотя дух, шедший от одного из этих мешков (если, конечно, ты был настолько глуп, чтобы засунуть в него свою голову), так же ясно улавливался ноздрями, как запах гнилого зуба. Чистое проклятье. Оставь его в покое, и он едва ли проникнет в воздух. Но стоило подойти слишком близко, и зловоние оседало в извилинах твоего носа. Свободный от привязи Хер-Ра был не в состоянии держаться на расстоянии от мешков с руками. Он донимал этих ослов самым худшим образом. Пытаясь броситься вперед, они путались в упряжи, которая затягивалась на их шеях — испуганный осел всегда карабкается через своего собрата, — и в этой сумятице разорвался мешок. Хер-Ра устроил себе пир из того, что упало на землю. Я прибежал, чтобы оттащить его, поскольку кроме нашего Фараона он слушался только меня, но опоздал. Он уже сожрал около дюжины тех рук и принялся за другие. Виды Пирамид плясали в его мозгу, а потом их сменили видения огромных городов. Я никогда не встречал таких строений, какие возникали теперь в голове Хер-Ра. В них были тысячи окон, или то были огромные башни, и они вздымались на невероятную высоту. Словно в знании поедаемых им рук, пребывали части тех великих построек, которые еще предстояло возвести. И все же — какая ужасная пища! Зубы Хер-Ра были достаточно крепкими, чтобы сокрушить ваши кости, однако его пасть предпочитала мягкую плоть, которую он любил раздирать на ленты. Теперь же он сломал себе зуб и захныкал, как ребенок, у которого что-то болит, но не прекратил есть, продолжая заглатывать эту мерзкую морщинистую кожу, распространяющую отвратительный запах, эту сухую плоть вместе с мелкими костями рук, которые он разгрызал с таким хрустом. Но что-то в запахе этих рук заставляло Хер-Ра пожирать их. Он зарычал на меня по-настоящему злобно, когда я попытался оттащить его. Он хотел принять на себя это проклятие. Мы бросаем вызов некоторым проклятиям, желая проникнуть в них. Тупая ярость исходила от этих рук, сокрушаемых во второй раз. Но именно поэтому Хер-Ра и исполнился такой злобы. Они вызывали в нем видения будущего. Снова я увидел строения, высокие, как горы.
От этой еды лев заболел. На следующий день он не мог идти. Его живот распух, а задние лапы, выдержавшие бесчисленные удары хеттских мечей, стали гноиться. Открытая рана от копья на его плече почернела. Он уже не мог отгонять мух. Его хвост стал слишком слабым, чтобы отмахиваться от них. Мы соорудили большие носилки, и шестеро воинов несли его, но блеск в глазах Хер-Ра померк, и они светились тускло, как глаза умирающей рыбы. Я знал, что те руки в его животе мертвой хваткой вцепились в его жизнь, а маленькие кости, подобно лезвиям, рассекают его кишки.
Мой Фараон приходил к нам по десять раз на дню. Он покинул золотые стены и крышу Царской повозки и шел рядом с носилками, на которых лежал Хер-Ра, держа его за лапу и плача. Я и сам плакал, и не только от любви к Хер-Ра, но и от ужасного страха, сознавая, что лев не заболел бы, если бы я удержал его от навьюченных на ослов мешков.
Однажды, когда слезы проделали тонкие дорожки в черной и зеленой краске вокруг Его глаз, Усермаатра-Сетепенра сказал мне: „Ах, если бы Я победил в единоборстве того хеттского Принца, с Хер-Ра все было бы в порядке!" И я не знал, кивать ли согласно или протестовать против Его слов. Кто мог решить, лучше ли поддержать Его ярость против Самого Себя или принять вину на свою спину — хотя мне-то как раз и следовало знать ответ. Мой добрый Фараон Рамсес Второй не был рожден, чтобы переносить собственный гнев.
Потом лев умер. Я рыдал, и гораздо сильней, чем ожидал от себя, и на какое-то время вся моя печаль была о Хер-Ра. Я плакал еще и потому, что ни один человек не был мне таким близким другом, как этот зверь.
Немногие из забальзамированных Принцев удостоились чести сохранить свои внутренние органы завернутыми должным образом. Повозка бальзамировщиков могла вместить лишь небольшое число наборов каноп, и скольких можно подготовить должным образом, когда на одного человека их полагается по четыре? Даже внутренности военачальников выбрасывали в лес. Однако для Хер-Ра бальзамировщики использовали предпоследний набор сосудов, а за его пеленанием наблюдал Сам Усермаатра-Сетепенра. И конечно же я услышал ярость в Его голосе, когда, исследуя внутренности льва, Он обнаружил кусочки раздробленных костей, высовывающиеся из колец его кишок, подобно наконечникам стрел из белого камня. По взгляду, который Фараон бросил на меня, было ясно, что я вновь впал в немилость.
Однако на этот раз мое наказание не было столь же простым. Он часто приказывал мне ехать вместе с Ним в Его Золотой Повозке. Мы сидели на золотых стульях и смотрели сквозь открытые окна на пропасти, обступавшие ущелье, а тем временем Повозка опасно кренилась то в одну, то в другую сторону. На некоторых ухабах Повозку (в которой мы могли встать в полный рост) подкидывало так сильно, что нас чуть не выбрасывало наружу.
Иногда Он не говорил ни слова. Просто молча плакал. По Его лицу текла краска для глаз. Смотритель Коробки с красками для лица Царя приводил Его лицо в порядок — искусный малый, проворный, как Неф, — при этих словах он кивнул моему отцу, — и мы продолжали сидеть молча. Иногда, когда мы оставались одни (тогда Царь стирал всю краску со Своего лица и отсылал Смотрителя), Он коротко и мрачно говорил о сражении. „Я не выиграл, и Я не проиграл, поэтому Я проиграл", — сказал Он мне однажды. Поскольку Он не отводил Своих глаз от моих, я кивнул. Так оно и было. Но даже Боги не любят правды, когда она ранит каждый вздох. Еще до того, как окончился день, Он сказал мне во мраке Повозки: „Тебе следовало отдать на съедение Хер-Ра свою руку, прежде чем позволить ему съесть те отрубленные". Я поклонился. Я семь раз ударил головой об пол Повозки, хотя она гремела на ухабах, как падающий камень. Едва ли Он обратил на это внимание. Вздох, долгий, как предсмертный хрип, вышедший из Хер-Ра, вышел теперь из горла Рамсеса нашего Второго; ужасный звук, точно свет еще раз мерк в глазах льва. Что я могу вам сказать? Я часто думал о смысле этого вздоха и понял, что смерть льва была концом той радости, что испытывал Усермаатра при виде меня. В самой глубине Его упрека содержалась мысль, что раз я не знал, насколько мое благополучие зависело от здоровья Его зверя, то лучше уж разделить меня и благополучие.
Так и произошло. К тому времени, как войска вернулись в Газу, меня перевели из Дворцовой Гвардии Усермаатра-Сетепенра в колесничие Войска Амона, и должен сказать, что после Кадеша ни у одного из четырех войск не было столь дурной славы. Тем не менее жители Газы устроили нам хороший прием, и меня это не удивило. В последние дни нашего возвращения люди приветствовали нас на дорогах. Нас опережал гонец, возвещавший, что Войска Рамсеса Второго заставили хеттов бежать с поля боя.
Должно быть, мой Фараон внимательно слушал Своего гонца. Он исцелился от Своих ран и выглядел великолепно. В последний день, когда мне было суждено Его увидеть (поскольку вновь это случилось через пятнадцать лет), Он принимал парад в Газе. Там Он выставил на всеобщее обозрение крылатого быка хеттов и подарил его городу. Этот плененный Бог, сказал Он множеству собравшегося на площади народа, будет охранять нашу восточную границу. На другой день мы начали переход к Дельте, а прибыв туда, двинулись вверх по реке, в Фивы. Я сидел все на той же переполненной барже, и моя спина упиралась в колени сидящего сзади, а так как ветер был неустойчивым, наше путешествие вверх по реке было еще более долгим, чем до этого вниз по ней. Вскоре по прибытии меня отправили служить в глубь Нубии. Иными словами, мой Царь сослал меня в отдаленное место, называвшееся Эшураниб. Я был назначен командовать небольшим отрядом. Я поднялся вверх по Нилу так далеко, как только могли идти лодки, а затем двадцать четыре дня шел через пустыню, жару которой я забыл нескоро. — Как только он произнес эти слова, я увидел перед собой пустыню. — Тогда, — сказал он, — я простился со всем великим и возвышенным, что когда-либо знал. Пустыня была горячее пара, который поднимается из Страны Мертвых, я же был командиром без настоящего отряда. — Он замолчал, склонил голову и сказал: — Думаю, здесь я могу окончить свои воспоминания».
ДВЕНАДЦАТЬ
Последовал вздох.
«Действительно, — сказал Птахнемхотеп, — Я попросил тебя рассказать нам об этом сражении, и ты сделал это хорошо. Тем не менее Я не могу сказать, что не желаю слушать тебя более».
«Похвала Фараона — благословение, — ответил Мененхетет, но его голос прозвучал по-прежнему сухо. — Добрый и Великий Бог, — сказал он, — теперь моей наградой была однообразная жизнь и унизительная работа. Ты на самом деле желаешь, чтобы я поведал о годах, что я провел в пустыне?»
Моя мать, слушавшая моего прадеда с большим терпением, чем ей хватало обычно, сказала: «Я согласна с тем, что нам вряд ли будет интересно слушать об этом. — Она рассмеялась, стараясь смягчить резкость своего замечания, и посмотрела в глаза Фараона, прямо-таки положила на Него свои длинные черные глаза, как могла бы уютно устроить свои груди у Него на груди. — Удивляюсь, — пробормотала она, — почему я не сбежала в ужасе оттого, что посмела судить о том, что представляет для Тебя интерес».
Он мягко улыбнулся, но обратился к Мененхетету.
«Как долго, — спросил Он, — ты пробыл в Эшуранибе?»
«Четырнадцать лет. Это были долгие годы».
«И в то время там уже были золотые копи?»
«Да, были».
Наш Фараон сказал Мененхетету: «Я буду слушать то, что ты скажешь. Потому что разве возможно, чтобы ты жил где бы то ни было и не увидел того, чего не удается заметить другим? К тому же золото никогда не лишено интереса».
Мененхетет отвесил забавный поклон, и при свете светлячков я вдруг заметил все, что сияло золотом, — плоский нагрудный воротник моего отца, золотую змею на голове матери, золотые браслеты Мененхетета, а заодно вспомнил и золото в домах всех вельмож, у которых мы бывали. Думаю, именно тогда я услыхал точно слабый крик, далекий отголосок того труда, которым добывается этот чудесный металл, и я увидел, как Фараон понимающе кивнул, словно и Он услышал эти стоны, и они были частью удивительной ценности золота.
Будто смачивая память о старой пыли, мой прадед провел языком по губам. «Твои желания, — сказал он неохотно, — источник моей мудрости».
«Замечание, достойное Визиря», — сказал Птахнемхотеп.
Теперь Мененхетет отпил глоток пива. «Надо сказать, — начал он, — никогда за четыре жизни мое горло не страдало так жестоко. Если и была в гористых пустынях Нубии напасть хуже, чем все остальные, так это песок на языке. Помню, что мои мучения начались во время того двадцатичетырехдневного перехода через пустыню. Для моего отряда не нашлось людей лучше, чем взвод пленных, нескольких моих подчиненных-воинов и двух проводников, которые, казалось, живы лишь горстью зерна в день, они пили немного воды и с трудом испражнялись раз в неделю. Они молились на рассвете и когда смеркалось. Ближе к пороку они не приближались. Да, хорошие же из них получились бы воины. Эти проводники были нужны мне потому, что в палящем зное нашего похода, несомненно превосходившем все, что я когда-либо испытал в Египте или на войне, пустыня была исполнена опасностей, и я видел в воздухе многих Богов и злых духов и знал, что Осирис сопровождает меня, поскольку я услыхал Его голос, сказавший, что после смерти мне не придется долго идти к Стране Мертвых, так как я уже пересек пустыню. Я уверен, что даже видел Его. (Хотя кто знает, что виделось в этих долинах, когда огромные горы камней дрожали перед глазами, как трепещет дерево, охваченное огнем.)
Наконец мы прибыли в Эшураниб. Я увидел отвесную скалу с каменными хижинами у ее подножия, но около тех копей не было ни ручья, ни оазиса. Перед нами были лишь два огромных кувшина из мягкого камня — для хранения нашей воды. Мы могли пить каждую каплю дождя, что падала из глаз Нут, когда Она оплакивала Геба, но даже эта вода, дававшая жизнь нашим глоткам, должна была использоваться прежде всего для обработки руды. Так что жажда наша не исчезала, и мы жили с ней, как с болезнью, на протяжении всей работы. Обычно мы рыли проходы в кварцевой породе скал, разводили огонь у их входа — будто Эшураниб сам по себе не был пеклом, — а затем дети наших рабочих ползли вперед, в трещины, образовавшиеся в камне, и вытаскивали оттуда отколовшуюся от скалы руду, которую затем мы перемалывали на гранитном колесе. Когда камни оказывались слишком большими и не крошились, их поднимали с помощью кожаной веревки толщиной с мою руку, а затем бросали на большой плоский валун. Помню, что кожаная веревка постоянно рвалась. Поэтому проклятья и избиения никогда не прекращались. Точно так же, как и звук льющейся воды. Она текла из каменных кувшинов в наклонные каменные желоба и промывала руду. Потом, когда взвесь оседала, мы немного пили, а затем переливали оставшуюся воду обратно в хранилища. Когда я вспоминаю Эшураниб, я все еще могу ощутить вкус той воды». Поскольку мой прадед снова умолк, Птахнемхотеп сказал: «Продолжай, Мне это необычайно интересно».
«У нас были, — сказал Мененхетет, — сотни рабочих, в основном египтян. Некоторых сослали туда из Мемфиса и Фив за преступления, которых они уже не помнили. Они очень скоро тупели от жары и слепли в копях от режущей глаза пыли. Однако там рождались дети, и я видел нескольких из тех, кто дожил в том месте до взрослого возраста. Но говорили они на какой-то неописуемой смеси языков, поскольку воины, охранявшие этих преступников, были дикие сирийцы с огромными бородами, эфиопы с раскрашенными шрамами и светлокожие негры из Пунта с изогнутыми египетскими носами. Их языки перемешались до такой степени, что в конце концов я перестал понимать значение хотя бы одного произносимого ими звука, но тем не менее я был командиром этого сброда».
«Зачем, — спросил наш Фараон, — в Эшуранибе понадобился колесничий?»
«Говорили, что в Правление Царя Аменхотепа Второго, когда они начали копать, туда назначили троих. Относительно того, какую службу несли в те времена эти колесничие, я знаю не больше, чем о том, зачем там нужен был я. Вскоре я и двое других колесничих стали испытывать такую скуку, что занялись перевозкой руды на нагруженных горным кварцем телегах от рудника до каменных столов, на которых ее промывали. Затем на меня напала такая тоска, что я попробовал усовершенствовать способы разбивки крупных кварцевых камней. Как я уже говорил, кожаная веревка постоянно рвалась, и я трудился, навязывая на ней узлы, пока не изобрел один, который держал лучше других, не перерезая ее, подобно ножу. Потекли тяжелые годы. То был самый долгий срок в моей жизни, когда я не научился ничему, кроме того, что открыл тайну скуки, когда ты постигаешь, что рядом с тобой нет никаких Богов — ни добрых, ни злых.
Но и даже тогда, когда я предавался унынию, куски руды падали на камень, и наша золотая река высвобождалась из-под земли — камешек за камешком. То была лихорадка. — Мененхетет вздохнул. — Все равно, — сказал он нам, — поиск поддерживал в сердце какой-то живой огонь, хоть это золото никогда нам и не принадлежало. И все же то было жестокое испытание. Никакая пытка не может быть хуже той, когда за годы человек не узнает почти ничего нового после нескольких лет, в которые научился многому».
«И ты ничему не научился?» — спросил Птахнемхотеп. Мой прадед молчал.
Теперь я увидел, сколь проницателен наш Фараон. Он сказал: «Возможно ли это? У меня такое чувство, будто ты оставляешь свое знание при себе».
«К рассказанному Тебе, — ответил мой прадед, — я мог бы добавить немногое».
«И все же Я склонен полагать, что из этого немногого можно вынести для себя не меньше, чем из всего, что ты рассказал нам этой ночью».
В голосе моего прадеда прозвучало восхищение. Я не мог припомнить, чтобы уже замечал в его голосе этот оттенок. «Ты слышишь то, что я сохранял под своими мыслями, — сказал он, глядя в глаза Фараону. — Да, Ты проследил их путь до этого места. Я не собирался рассказывать, но Ты проникаешь в мои мысли столь властно, что это Твое желание равносильно приказу. Должен признаться также, что там действительно было кое-что, научившее меня многому. Дело в том, что в этих золотых копях я нашел заключенного, передавшего мне секрет более ценный, чем любой другой из тех, которыми я владею. — Здесь он замолчал, как будто уже сказал слишком много, и, не желая продолжать, должен поэтому сделать это быстро. — Этот заключенный был всего-навсего бедным евреем, сосланным туда за преступление, совершенное его единоверцами. И все же он заинтересовал меня в тот же момент, как я его увидел, поскольку он был похож на того хетта, что вступил в единоборство с Усермаатра в Битве при Кадеше. Как и у того воина, у него были разные глаза. Казалось, что один из них глядит во вчерашний день, а другой может узреть завтрашний. Имя его было Нефеш-Бешер, что на языке его народа означало Дух Плоти. Поэтому я стал называть его добрым египетским именем Ухуас. В конце концов, он родился в нашей Восточной пустыне, неподалеку от Тумилата, и поэтому истинное значение его имени могло соответствовать нашему Духу Плоти точно так же, как и еврейскому. Должен сказать, что он частенько слышал это, поскольку я уделял ему так много внимания, словно он действительно был тем хеттом. Похожие люди похожи. Их создают соответственно одному и тому же соглашению Богов. — Мененхетет снова кивнул. — Да, я многим обязан тому человеку.
Когда я встретил его, он был очень болен, однако его жена, у которой было больше прав, чем у других женщин в том месте, называться миловидной, все еще достаточно ценила своего супруга, чтобы разделить его участь и бок о бок с ним пересечь пустыню. Как она за ним ухаживала! Обычно такого больного человека похоронили бы через несколько недель. Однако я заинтересовался им настолько, чтобы поддерживать в нем жизнь, и в результате немалого количества еды, которое я им посылал, Ухуас стал доверять мне. Он сказал, что вскоре умрет, но все же будет жить. Так он сказал. Сперва я подумал, что у него, должно быть, лихорадка, но он был так спокоен и так уверен в том, что говорил, что я стал слушать. Он получил этот секрет от еврейского чудотворца по имени Моисей, познакомившись с ним в городе Питом [49], который евреи строили для Усермаатра, с тех пор как Он стал Фараоном. Моисей был послан в Восточную пустыню в качестве предводителя этих людей. Слушая его, я подумал, не тот ли это высокий еврей из Фив, которого тоже звали Моисей. Если он был тем самым человеком, то обычно ездил среди сотен вельмож, следовавших за Усермаатра во время Его посещений Храма в Карнаке. Будучи евреем, этот Моисей должен был ожидать снаружи, но некоторые полагали, что, возможно, он сын одной из маленьких цариц из Дома Уединенных, жившей там, когда Фараоном был Сети Первый. Трудно судить. Я видел его нечасто. Итак, Ухуас рассказал мне, что в то же время года, когда Усермаатра пошел на Кадеш, Моисей, одетый египетским военачальником, прибыл в Питом и сказал евреям, что поведет их в земли на востоке, которые они смогут завоевать. Однажды ранним утром, продолжал Ухуас, он увел это племя в пустыню, и ни один из них не был пойман. Но его уловка оказалась простой. Ночью Моисей с несколькими самыми сильными евреями обошли город и убили спавших египетских охранников Питома. Преследование, таким образом, было невозможно.
Ухуас сказал мне, что он, однако, не бежал с остальными. В ту ночь его жены не было дома — она гостила у своих родителей в соседнем оазисе, а он так ее любил, что не хотел оставлять. Поскольку он отдал себя в руки властей, его не приговорили к смерти, а только сослали в Эшураниб.
Когда я спросил, ненавидит ли он Моисея, он отрицательно покачал головой. Вовсе нет. Моисей передал ему великую тайну — открыл, как со своим последним дыханием ты можешь перенести себя во чрево своей жены.
И вот он лежал предо мной. Этот Нефеш-Бешер, этот Ухуас, умирающий, но говорил он о жизни. И совсем не так, как говорят некоторые о том, как их имя будет жить, почитаемое потомками. Нет, сказал он мне, ребенок, которого ты зачинаешь в последние моменты своей жизни, может стать твоим новым телом. Слышать эти произносимые с уверенностью слова из уст тяжело больного человека было незабываемым ощущением. Хоть он и не мог сообщить мне еврейские слова последней молитвы, которую следовало произнести, находясь в теле женщины в тот самый последний момент, однако я был его благодетелем, и он обещал передать мне это знание через свою плоть. Он научил меня, как сделать нечто крайне неприятное, но я исполнил это в ночь после его смерти. Говорить об этом нелегко. Я уже объяснял, как Хер-Ра научил меня, какие свирепые силы можно обрести, поедая плоть других, но то было под покровом ночи, что наступила вслед за днем у Кадеша. Когда отгрызаешь немного от зажаренной конечности, то не спрашиваешь, откуда она взялась, — кровь так же легко смешивается с кровью, как мясо с мясом. Здесь же, однако, тот приятель болел, а теперь умер. И он сказал мне не медлить более чем один день после того, как его не станет. Тогда он сможет послужить мне проводником и без молитвы».
«Какая отвратительная и незабываемая мысль», — сказала Хатфертити, но в голосе ее не было силы. Мененхетет остался невозмутимым. «Я не смог бы, — сказал он, — сделать то, о чем он меня просил, если бы в Эшуранибе меня ожидало хоть что-либо, кроме застарелой тоски. Однако это небольшое блюдо вызывало во мне такое отвращение, что пришлось предпринять много попыток, чтобы проглотить хоть один кусочек. И все же я удержал его в своем желудке. Я не ощутил в себе нового знания, и в то же время чувствовал его — уверенности у меня не было.
Несколько недель спустя после того, как умер Ухуас, его жена сказала мне, что она беременна. Нефеш-Бешера назвали правильно. Определенно, его дух пребывал в ее плоти. Правдой было и то, что ему не удалось столь же хорошо сохранить ее верность. Она так преданно заботилась о нем, что растратила всю свою привязанность к нему. Когда я прочел это в ее глазах, я стал оказывать вдове некоторые знаки внимания. Достаточно скоро она стала моей наложницей.
Мне надоел запах, поднимавшийся от щек мужчин более слабых, чем я. Поэтому я оставил эту женщину себе. Ее имя было Ренпурепет, и это было хорошее имя. Когда она предавалась радостям любви, то была для меня — в той суровой и раскаленной, как печь, жизни Эшураниба — молодым растением и прохладой Нила. С какой радостью я разговаривал с маленьким Ухуасом, который пребывал теперь в ней. Вскоре я стал понимать, что член может сказать многое еще не родившемуся ребенку. Представьте, я ощущал честолюбие и великую ярость нового Ухуаса, еще не появившегося на свет. Разумеется, я его не боялся, я смеялся над ним. Ведь его бывшая жена доставляла мне такое удовольствие! Более того, Ренпурепет передала мне его мудрость — всю, какая у него была. Она рассказывала мне, что обычно, наслаждаясь любовью, он не позволял семени излиться, и я быстро усвоил этот прием. Вера в то, что чем дольше ты ждешь, тем большей будет твоя награда, была единственной надеждой, способной помочь выжить в Эшуранибе. Так я познакомился с искусством долгого пребывания в пещере женской плоти, и многочисленными были те торжественные молитвы, которые учила меня произносить про себя эта женщина, пока я не стал хозяином своей собственной реки и смог заставлять ее повернуть вспять, в мои чресла. Эта наука открыла мне еще одну дорогу в Страну Мертвых. Случалось, лежа с Ренпурепет на протяжении таких часов, я чувствовал, что плыву по краю собственного исчезновения — так долго и так искусно я задерживал дыхание, а в нем свое сердце; действительно, так высоко поднимался я на самом гребне ревущих во мне звуков, что мог бы оказаться над тем порогом, что навсегда вынес бы меня из себя в нее. Итак, я знал способ. Я мог направлять эти воды. Да, я говорю об этом, но тогда мне было неинтересно попробовать. Погруженный в чувства, поднимавшиеся от ее плоти, я ощущал в себе большую радость, когда размышлял об этом всю ночь, и те часы для меня были сладки. Словно Фараон в Доме Уединенных, я чувствовал себя избранником Богов, меня посещали чудесные мысли, и я жил в отзвуках всех вещей.
Иногда, во время наших долгих объятий, приходил Хер-Ра, и я не могу сказать, был ли то его настоящий призрак, но он был рядом, и я сам ощущал себя зверем и потому близким звукам всех языков. В объятиях Ренпурепет, крики диких созданий снаружи и бормотание, проникавшее в ночь из деревенских хижин, начинали рассказывать мне о тайнах многих языков, и постепенно я стал понимать, что некоторые звуки могут выражать одно и то же на разных наречиях. Я вспоминал слова, которые произносили разные люди в Эшуранибе, желая сказать „мать", ибо в каждом из них был звук „м", и спрашивал себя, отчего чужеземцу достаточно произнести что-то в гневе, чтобы напомнить вам о реве, который слышится в букве „р". Благодарение Хер-Ра! Погруженный в ритмичное движение вперед-назад — во время нак-нак, — я начинал размышлять: не является ли „к" звуком для любого стука, точно так же как „па", должно быть, звук, присущий мужчинам, тот же, что производил я в ее пещере своей дубинкой — па! па!
На протяжении долгих дней в Эшуранибе я старался научиться читать, и делом это оказалось несложным, поскольку для каждого из наших звуков существовал священный знак. Однако теперь я стал задумываться о некоторых более забавных сочетаниях звуков, для которых не существовало картинок-знаков. Нет такового для „эх", а „ох" выходил из моего горла, подобно долгому завыванию ветра, и для него не нужно было никакого знака. Не было также значка, чтобы записать крик, который мы слышим, когда кто-то ощущает непереносимую боль: звук такой боли — „иии", точно так же как „ох" — перекатывание звука в животе, и для него также нет обозначения. Я слышал эти крики всю свою жизнь, но стал внимательно прислушиваться к ним в золотых копях Эшураниба, где наши стражи-чужеземцы постоянно избивали заключенных. Теперь же ночью доносились иные звуки, мягкие крики „оо" и „а" — те стоны, что идут из самой нижней части живота, где ты чувствуешь то же удовольствие, что и все. По вечерам такие привычные приглушенные звуки можно услышать на каждой улице и из каждого дома в Мемфисе, однако совсем другое дело было слышать их поднимающимися в темноту из хижин рабочих в Эшуранибе, где их радости входили в мое ухо, словно долетали по воде от одного острова к другому. В конце концов, мы живем в море звуков.
На крыльях таких мыслей, пребывая глубоко в ней, близко к тем небесам, где Нут встречается с Гебом, там, в продолжение всех тех часов, что я купался в ее водах, когда ярость неродившегося ребенка была направлена против меня, я размышлял о всех этих свойствах языка и тосковал, мечтая увидеть наш Нил, а тем временем ребенок в ее животе продолжал расти.
И вот пришел день, когда я познал великое волнение, поскольку снова увидел Ухуаса. Он сказал правду. Он обладал той чудесной способностью, о которой говорил.
Я увидел его в тот день, когда он родился вновь. Два разных глаза смотрели на меня с лица только что появившегося на свет младенца, и эти глаза ненавидели меня. За вчера и завтра! Как наслаждался я с Ренпурепет! Однако это крошечное существо было слишком немощным, чтобы наслать проклятие, и могло лишь размахивать кулачками. Никогда еще, глядя на новорожденного, я не испытывал такого душевного волнения. Знаете ли, мне кажется, я был готов воспитать его. Разве что-либо в Эшуранибе могло оказаться более интересным?
Но этому не суждено было случиться. Пыль из копей попала в глаза младенца, и Ухуас-в-своей-второй-жизни ослеп в возрасте трех месяцев и вскоре умер. Его смерть расширила мои познания в искусстве рождения от самого себя. Как я узнал, недостаточно зачать свою следующую жизнь в последнее мгновение настоящей — возможно, подобное искусство требовало дерзновения, но следовало обладать достаточной смекалкой, чтобы правильно выбрать женщину, которая станет твоей матерью.
А пока как я любил мой нежный, молодой росток, мое дыхание прохлады Нила. В этой хижине в Эшуранибе я провел с Ренпурепет многие годы, и не слишком отчаивался, поскольку со временем она стала в этих занятиях почти столь же искусной, как тайная блудница Царя Кадеша. Могу сказать, что на протяжении всей своей первой жизни я ни с кем не чувствовал такой умиротворенности, как с ней, но какой жестокой была плата, ибо каждый день на солнцепеке — поднимался камень, падал камень, дробился кварц, и по наклонным плитам стекала вода, отмывая золото от грязи. Больше золота! Избиения продолжались, крики оглашали ночь. Случалось посреди моего отчаяния я был близок к решимости пойти на ужасный риск, воспользовавшись дарами, полученными от Нефеш-Бешера, и думал о том, чтобы умереть и родиться вновь. Однако каким наказанием было бы родиться в таком месте! И все же однажды я почти испустил дух перед тем, как вернулся обратно, и был зачат ребенок. Когда девять месяцев спустя я увидел лицо девочки, я полюбил ее, а когда она умерла, я горевал о ней, как об утраченной части собственного тела, но я также узнал, что не смогу остаться в Эшуранибе навсегда.
Затем встал вопрос — возьму ли я с собой Ренпурепет. Лицом к лицу я встретился с холодом собственного сердца. Насколько дорога будет мне эта женщина, если я вернусь в Фивы? Она не годилась в жены Конюшему Фараона или, лучше, Полководцу, которым я твердо намеревался стать более чем когда-либо после всех этих потерянных лет. Потом — не знаю, была ли тому причиной тоска по нашей умершей дочери или ужас от холода, что почувствовала она в моем сердце, но моя единственная настоящая жена Ренпурепет тоже умерла от страшной лихорадки. Я не мог себе представить, что буду так горевать о ней. „Никто, — сказала она мне перед концом, — никогда не будет так близок тебе".
Не могу сказать, как долго я смог бы выжить там в одиночестве, но одним жарким днем я был освобожден из моего плена — четырнадцать лет спустя после прибытия в Эшураниб, и это число отдавалось в моей памяти до конца дней моей первой жизни. Оно бьио равно количеству частей тела Осириса. Поэтому в час своего освобождения я задумался: кого же следует мне считать своим подлинным Богом — Амона или Осириса? И вопрос этот не оставлял меня всю первую жизнь. Однако более пьянящим, чем изумление перед числом тех четырнадцати лет, бьио появление прибывшего отряда воинов. С ними был колесничий. Моя замена. Он передал мне папирус с приказом о возвращении».
«Итак, Царь простил тебя?» Мененхетет кивнул.
«От Моего предка, Великого Рамсеса, Я был склонен ожидать, — сказал наш Фараон, — что Он никогда не забудет и никогда не простит».
«Он никогда не забывал, но настал год, когда Ему понадобилась моя помощь».
«Можешь ли ты на самом деле утверждать, что это был именно такой год?»
«Нет, — признался мой прадед, — это было не так».
Моя мать обнаружила брешь в самообладании моего прадеда. Через ее сознание я вошел в его мысли, и они были исполнены стыда. Он мог говорить о том, как ел мясо мертвеца, но не признаться в своем низком поступке. Успокоившись, он сидел на своем месте.
«Ты купил себе путь из Эшураниба, — сказала моя мать. — Ты ничем не лучше Фетхфути».
ТРИНАДЦАТЬ
При упоминании имени его отца, мой отец вскрикнул, а глаза Мененхетета блеснули, и этот блеск напомнил мне однажды подмеченный мною свет на лице купца в решающий момент торга.
«Да, — сказал он, — я купил себе путь из Эшураниба. Но не могу похвастать, что оказался таким умным, просто после четырнадцати лет я смог отложить достаточно золота, чтобы переправить значительную сумму для одного военачальника в Фивах. Взамен мое имя внесли в список колесничих, направляемых в распоряжение Царского Двора».
Птахнемхотеп спросил: «Как много из тех военачальников, что проводят учения в Моем внешнем дворе, получили продвижение в результате подобных подношений?»
Мененхетет не отвел взгляда. «Главное, что они хорошо управляют лошадьми. Единственное лекарство от несправедливости — другая несправедливость, совершенная для исправления первой — и пусть река смоет дурную кровь».
Мой отец кивнул, как будто это последнее замечание было основой всей мудрости.
«На посту Визиря, — сказал Птахнемхотеп, — твоя способность взять наши мелкие недостатки и вернуть их нам в качестве достоинств явится не самым последним из твоих ценных качеств».
«Теперь это выглядит именно так, — согласился мой прадед, — однако могу сказать Тебе, Божественные-Два-Дома, что в то время это было нелегко. После того как я заплатил, мне пришлось ждать год. Тем временем, поскольку я ничего не сказал Ренпурепет, я стал раздумывать: в состоянии ли я ее покинуть, а после того, как она умерла, я вспомнил о руках хеттов, что мы собрали при Кадеше, и ужаснулся при мысли, что к этой куче вскоре может быть добавлена и моя собственная рука. Помня те необычайные города, которые видел Хер-Ра за его последней едой, я решил, что самое ужасное наказание — потерять свои руки, ибо это равносильно одиночеству. Без рук нельзя знать мысли других. Мы остаемся лишь наедине со своими мыслями. Не спрашивайте меня, отчего так происходит, просто я знаю это. Чтобы удостовериться, что моя уловка удалась, я вновь и вновь смотрел на папирус, присланный мне из Фив. В нем говорилось о моем „рвении в охране золота Фараона ото всех, кто попытался бы его украсть". Что ж, я изо всех сил старался поверить в это».
«Я должен оставить тебя Повелителю Осирису», — рассмеялся Птахнемхотеп.
Мененхетет легко коснулся головой пола. «Добрый и Великий Бог, — сказал он, — в те дни я много размышлял над природой достойного поведения. Поскольку тот папирус, купленный на украденное золото, свидетельствовал о моей честности, я стал понимать, что человек, который лжет, может чувствовать себя столь же удобно, как и говорящий правду, в том случае, если он будет лгать и дальше. Ибо тогда никто не сможет его уличить. В жизни такой человек так же верен своей правде, как и человек честный. Подумайте над этим. Честный человек становится несчастен, как только начинает лгать. Поскольку тогда он должен помнить правду, а также ложь, которую он сказал. Так же скверно чувствует себя и лжец, коль скоро он говорит честным голосом.
Я говорю так оттого, что Рамсес Второй, как я узнал вскоре по возвращении в Фивы, стал лжецом. Прости меня, но сегодня Ночь Свиньи. Я обнаружил, что всем известен, и по самой неприятной из причин. Мое имя красовалось на каждой стене нового храма. И смею утверждать, что за те годы, что я отсутствовал, было построено много храмов. Усермаатра постоянно воздвигал себе какой-то памятник — то большой, то маленький. У каждого поворота реки обязательно стояла Его статуя, а в каждой роще — памятные столбы. И уж непременно в каждом храме была запись о Битве при
Кадете, и там был я со своим именем на стене, неизменно восклицающий: „О, мой Повелитель, мы пропали, нам надо спасаться бегством!", и я тряс головой каждый раз, когда видел эти слова, как будто это могло стереть священные знаки. „Иди, Менни, — всегда отвечал Он, — Я буду сражаться один". Даже имя мое было написано неправильно. Теперь я научился узнавать на папирусе МН, и вот обнаружил врезанное в камень МНН. Я был все еще невежественен. Я не мог представить, как на храмовой стене может появиться хоть какая-то ошибка. Тогда я не знал того, что узнал в своей второй жизни, — что писцы знают меньше жрецов, но все они всегда готовы сделать запись на камне. Я не понимал, что гляжу на грубую ошибку. Я отшатнулся от этих слов, словно храмовая стена могла упасть на меня. Я вспомнил обо всех молитвах, которые возносил великим и малым Богам, десятку сотен таких Богов, и я обращался к Ним, запечатляя в своем сердце неверные священные знаки. „МН молит Тебя", — произносил я там, где следовало бы употребить МНН.
Если меня так сильно тревожило неправильное написание моего имени, представьте теперь, какое смущение вызывало во мне содержание написанного на камне. Может, это и не было ложью. Должно быть, я что-то говорил в сражении, о чем не помнил. Однако в том же храме, на другой стене, словно правда была ничем не лучше стены, на которой она записана, я прочел слово за словом: „И вот Его Величество поспешил к Своим лошадям и рванулся вперед — Он один". Той ночью я просыпался в лихорадке, и стена давила мне на грудь. Неужели Фараон был Один в колеснице в течение всей Битвы при Кадеше? Мне понадобились годы, чтобы понять, что для Него — Он был Один. Он был Богом. Я же не более чем деревом Его Колесницы.
А тем временем, словно в насмешку, я прославился. Мое имя было вырезано на камне. Мои свершения могли считаться не большими, чем труды червя, но я был священным червем. В казармах среди колесничих меня встречали тонкой издевкой. При моем появлении то один, то другой всегда восклицал: „Пожаловал наш герой Кадеша!"
„Что ты хочешь этим сказать?" — спрашивал я. Мне не нравилось слово, которое они употребляли, чтобы сказать „герой". Оно также могло значить „птица" или „трус".
„Я хочу сказать, что ты — герой. Мы знаем об этом". За этими словами следовал взрыв смеха. Я ничего не мог поделать. Эти колесничие из лучших семейств Мемфиса и Фив не собирались драться со мной. Им было хорошо известно, что я могу победить любого из них. Поэтому они посмеивались надо мной в своей благородной манере, играя словами [50] до тех пор, пока уловить их значение становилось столь же трудно, как поймать пескаря голыми руками. Я поклялся, что они будут служить в моем подчинении, прежде чем закончится срок моей службы.
Затем произошло событие, которое, безусловно, научило меня вести себя иначе. До Фив дошло слово, что Муваталлу умер.
Так вот, пока я бьи в Эшуранибе, с хеттами велось немало мелких войн, но, как только Муваталлу не стало, его брат Хаттусил Третий предложил мир, и его предложение было принято. Может быть, причина состояла в том, что наш Рамсес Второй устал от войны. На протяжении пятнадцати лет, каждый год, Он оказывался на поле брани. И вот в Пи-Рамсесе, в только что законченном прекрасном храме Он принял нового царя хеттов. Хаттусил Третий привез с собой серебряную табличку, на которой располагались более ста строк письма, ясно выгравированных на металле. И я до сих пор помню, о чем там говорилось, ибо все мы из Придворной Стражи, кто был в Пи-Рамсесе, смотрели на нее вблизи: „Этот договор великий предводитель хеттов Хаттусил Третий, Доблестный, сын Мерасара, Доблестного, и внук Сеплела, Доблестного, составил на серебряной пластине для Усермаатра-Сетепенра, Великого Правителя Египта, сына Сети Первого, Доблестного, внука Рамсеса Первого, Доблестного. Этот великий договор о мире и братстве навсегда устанавливает мир между нашими народами".
Я прочитал его весь, запоминая слово за словом, и он произвел на меня сильное впечатление оттого, что это было написано царем хеттов, так как наш Фараон не стал бы говорить подобным образом. Позволю себе заметить, что та серебряная табличка сияла светом, что пришел от луны, и это вселило в меня новый страх перед теми хеттами. Со своими грязными бородами и неуклюжими колесницами, они казались дикими, однако сколько мудрости бьио в этой табличке. Фразы были так прекрасно уравновешены, что чувствовалось — близок мир. „Между Великим Принцем хеттов и Рамсесом Вторым, Великим Правителем Египта, да пребудет прекрасный мир и прекрасный союз, и пусть дети детей Великого Принца хеттов пребывают в прекрасном мире и прекрасном союзе с детьми детей Рамсеса Второго, Великого Правителя Египта. Да не возникнет между ними никакой вражды".
Более того, этот Хаттусил Третий говорил и такое: „Если человек бежит из страны Египет к хеттам, то пусть Великий Принц хеттов возьмет его под стражу и заставит вернуться обратно к Рамсесу Второму, Великому Правителю Египта. Но когда его возвратят, да не будут ему предъявлены его преступления, не будет сожжен его дом, не будут убиты его жены и дети, не будет казнена его мать, а его не будут бить ни по глазам, ни по рту, ни по ногам". То же самое предусматривалось и для всех хеттов, — сказал Мененхетет, — которые бежали бы из своей страны в нашу. Продуманность такого подхода поразила меня. Не составляет большого труда заставить людей вернуться в страну, из которой они бежали, если они не боятся ужасного наказания. Еще больше потрясло меня то, что наш Рамсес позволил поставить имя Принца хеттов перед Своим. Вероятно, этим Он выказал свое уважение тем прекрасным словам, что были записаны на серебряной табличке. К тому же договор заканчивался именами самых могущественных чужеземных Богов. Там говорилось: „Тысяча мужских и женских Божеств из страны хеттов вместе с тысячью мужских и женских Божеств из страны Египет пребудут с нами в качестве свидетелей этих слов: Бог Зеетеклирер, Боги Керзота, Бог Керпентереса, Богиня города Керефен, Богиня Кевек, Богиня Зена, Бог Зена, Бог Серепа, Бог Хенбета, Царица Небес, Боги и все Повелители Клятв, Богиня и Повелительница Земли, Повелительница Гор и Рек страны хеттов, небес, земли, великого моря, ветра и бурь".
Так он заканчивался, — сказал Мененхетет, — „ветра и бурь", и, когда все было прочитано, настала великая тишина. Дело было сделано. Рамсес прижал картуш Своего кольца к мягкому серебру таблички и сделал отпечаток. Он обнял посланников. И вот война была окончена».
Когда Мененхетет умолк, наш Фараон зевнул. Казалось, Он без удовольствия выслушал имена столь многочисленных иноземных Богов. «Похоже, — заметил Он, — Хатфертити проявила мудрость, пожелав, чтобы ты вернулся к более увлекательным событиям. Да, — сказал Он, — в этом описании ты, к сожалению, укрылся в тени. Ты слишком скромен. — Он взмахнул Своей плеткой, словно для того, чтобы очистить воздух от всех отголосков слов этого договора. — Знаешь ли ты, — спросил Он, — что, когда Я только взошел на трон, твое имя не сходило с уст Моих маленьких цариц?»
«Мое имя?» — спросил мой прадед.
«И ничье другое».
«Но я не был в Доме Уединенных с того года, как служил там Усермаатра».
«По этой причине тебя там вспоминали еще чаще. Их восхищение стало Мне противно. Даже когда они молчали, Я был принужден слушать, как маленькие царицы думают о тебе».
В наступившей тишине я жил в сознании моей матери и почувствовал ее беспокойство. Это было так же просто, как биение моего собственного сердца: наш Фараон так непринужденно говорил о том, что слышит мысли других. Должно быть, теперь Его удовольствие от проникновения в ее мысли было гораздо полней, чем могла бы быть ее надежда пребывать в Его мыслях! В тот же миг, точно на пролитый суп набросили салфетку, внутри ее головы стало чисто, будто на вымытом полу.
Птахнемхотеп улыбнулся. Я подумал: не развлекается ли Он зрелищем представленных Ему таких пустых и отшлифованных мыслей, затем Он засмеялся. «Да, — сказал Он, — ни один мужчина в Египте не привлекает такого внимания в кругу Моих красавиц, как ты, Мененхетет. Они живут в море слухов, а ты был бурей, что прячется в морском ветре. Даже сейчас они испытывают истинную ярость из-за того, что никто из них не был приглашен быть с нами. Я могу их слышать, — Он вяло указал пальцем в их направлении. — Да будет так. Они станут говорить о тебе этой ночью и вновь расскажут все те истории, которые я уже слышал, о твоей второй жизни, и третьей, и четвертой. Разумеется, их любимая — твоя первая жизнь. Они никогда не перестают вспоминать о том, как ты был Командующим-всеми-Войсками, однако, говорят они, в годы Правления Усермаатра Дом Уединенных значил для Него так много, что тебя сделали Смотрителем Уединенных».
«Именно так они об этом говорят?» — спросил Мененхетет.
«Половина из них, — ответил Птахнемхотеп. — Некоторые из маленьких цариц продолжают очень высоко оценивать свое положение. Другие недоумевают — как Командующий-всеми-Войсками мог снести то, что его сделали Смотрителем гарема. Уверяю тебя, они часто ссорятся по этому поводу. Все же Я думаю, что ты интересуешь их по другой причине. Ни одна из историй не занимает Моих красавиц (но не Меня) так, как та, о которой они постоянно шепчутся, ибо они уверены, что это святотатство. Разумеется, и Мне трудно поверить в это. Особенно после того, как мы выслушали твой — совершенно невинный — рассказ о твоей первой встрече с Рамсесом Вторым и Его Царицей. Но они говорят — видишь, Я тоже перешел на шепот, — они говорят, что ты стал любовником Царицы Нефертари. Я даже слышал, что ты покинул свою первую жизнь и перешел во вторую с помощью ножа, оставленного в твоей спине. И что ты умер, когда твое семя вошло в Царицу».
Птахнемхотеп улыбнулся. Его губы источали подлинную сладость. Неужели Он ждал всю эту ночь, чтобы побудить Мененхетета рассказать нам о любви Царицы Нефертари? Его, несомненно, забавляло потрясение, которое Он заставил пережить всех нас.
У моей матери все мысли появились сразу, включая и те, что были у моего отца. Его мысли прыгнули в ее сознание. Он увидел Мененхетета лежащим на животе Нефертари. И, конечно же, мой отец был так возбужден зрелищем семейной плоти, касающейся плоти Царской, что его чресла исполнились силы и он тут же извергся, увлажнив полотно своих нижних одежд. Моя мать мгновенно почувствовала себя оскорбленной этой растратой. Свежее семя моего отца служило лучшим притиранием, какое только она могла найти для своего лица.
Мененхетет закашлялся. Возможно, в эту минуту он ощутил ветер пустыни, со свистом спустившийся вниз по самым тайным закоулкам его тела. Но, отдышавшись, он сразу заговорил.
«Я не хочу, — сказал он, — помешать Твоему развлечению, однако существует многое, чего я не в состоянии припомнить. Родиться более одного раза, как четырежды рождался я, не есть то же самое, что помнить отчетливо каждую жизнь».
«И тем не менее, — ответил наш Фараон, — Моя просьба состоит в том, чтобы ты рассказал нам о своей дружбе с Царицей Нефертари».
«Сперва я служил Управляющим маленьких цариц, — сказал Мененхетет. — Лишь позже я стал Доверенным Правой Руки Царской Супруги, Царицы Нефертари».
«Тогда я хочу услышать обо всем по порядку. Повествуя нам обо всех тех событиях, ты, возможно, припомнишь многое из того, что считаешь забытым».
Мененхетет поклонился и семь раз коснулся головой своих пальцев. «Я повторю, — сказал он, — что поведать о таких делах труднее, чем рассказать историю одного великого сражения».
«Да, — сказал наш Фараон, — но Я никуда не спешу. Я предпочитаю, чтобы этой ночью Меня развлекали на протяжении всех часов ее темноты».
«И чтобы Тебя развлекали Твои гости», — сказала моя мать.
«Да, Мои гости, — повторил Птахнемхотеп, и, словно ее внимание — стань оно излишне тягостным — могло нарушить Его собственное, Он ослепительно улыбнулся ей, а затем вновь повернулся к Мененхетету: — Отыщи свои воспоминания, старый друг», — сказал Он.
«Могу ли я говорить, — спросил Мененхетет, — о тех годах после Эшураниба, когда я прошел путь наверх в войсках? Мне кажется, это могло бы согреть мои мысли. Ибо, признаться, мне не очень ловко так стремительно перенестись в Сады Уединенных».
«Повторяю, — сказал Фараон, — рассказывай так, как удобно тебе».
Мененхетет кивнул. «Я бы хотел вернуться к своему тщательному изучению договора с хеттами, записанного на серебре. Потому что я никогда не стал бы Командующим-всеми-Войсками, если бы не влияние, что оказали на меня те слова. Никогда я не встречал столь совершенного языка. Он подсказал мне, что мне следует изучить искусства утонченных людей. Этот Хаттусил знал, как обращаться к Усермаатра. Всем, что я обрел к тому времени, я бьи обязан дарам моего тела, но теперь, если я хотел преуспеть в их мире, мне следовало изучить искусство речи».
«И ты обнаружил много важных правил ее использования?» — спросил мой Фараон.
«Самое главное из них: избегай всех предметов разговора, которых боятся твои начальники. Я узнал, что все люди испытывают страх и делают все возможное, дабы скрыть то, чего они боятся более всего. Так, трусливые будут говорить тебе о своих смелых поступках, поскольку ты не был там, чтобы быть их свидетелем.
Я, который обычно верил всему, что мне говорили, стал искать ложь. Вскоре я смог различать честолюбивых людей по тем ловушкам, которые они расставляли, чтобы выяснить, говоришь ли ты так же мало правды, как они сами. Мне стали нравиться такие игры и люди, с которыми можно в них играть. Будьте уверены, я изучил лесть. Она все еще оставалась скорейшим средством обрести вес в глазах своего начальника. Разумеется, с помощью равновесия Маат, мне также пришлось узнать, что немудро становиться слишком незаменимым, а то тебе никогда не видать продвижения. Взгляните на лучших из домашних слуг. Они всегда умирают на той самой работе, с которой начали. Фокус, таким образом, заключается не только в том, чтобы ублажать стоящего выше тебя, но и в том, что бы вызвать у него некоторую неловкость, по меньшей мере страх, что ты знаешь, чего он боится. Это заставит его желать продвинуть тебя. Он все еще сможет наслаждаться твоей лестью, но с более безопасного расстояния. Мне даже пришлось научиться предотвращать более быстрое, чем мое собственное, продвижение нижестоящих — искусство, которым раньше я всегда пренебрегал. В молодости — что за нужда была мне во флангах? Подобно Рамсесу, Возлюбленному-Амоном, я не верил ни во что, кроме атаки. Однако благодаря Хер-Ра я понял, что непредвиденное может уничтожить тебя. Поэтому я осторожно тормозил честолюбивые устремления военных, находившихся в моем подчинении, но незаметно, так, чтобы они этого не знали, а своим начальникам старался никогда не причинять беспокойства. Я стал понимать, что никто не ненавидит непредвиденное так сильно, как люди из влиятельных семейств, наделенные средними способностями. Развлекай, щекочи их, утверждай их в их привычках, мягко касайся их страхов, но не меняй привычного им распорядка дня. Они приходят в ужас от всего, что больше их самих».
«Никогда я не слыхал от тебя более красноречивых слов, — сказал наш Птахнемхотеп. — Это голос слуги, занимающего самое высокое положение. — Он перегнулся через стол и похлопал Мененхетета Своей плеткой. — Но почему, — спросил Птахнемхотеп, — ты открываешь нам эти истины? Почему бы не остаться верным твоим правилам и не предложить нам несколько ложных утверждений?»
Теперь улыбнулся мой прадед. «Мастерство лжеца состоит в том, чтобы говорить столь искусно, что Ты никогда не узнаешь, когда он готов предать Тебя в первый раз».
«Ты заставляешь Мое сердце учащенно биться, — сказал Птахнемхотеп. — А теперь ты должен рассказать, что случилось дальше». Тут я заметил, что Он развеселился, поскольку Ему удалось вновь заставить моего прадеда разговориться.
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ
«Возможно, — сказал Мененхетет, — я слишком много говорил об уловках этого низкого искусства. Отчего могло создаться впечатление, что я не был настоящим воином. Но это не так. Хотя хетты никогда более не восставали, наши войска постоянно участвовали в каких-то мелких войнах, и я сражался при Ашкелоне [51], при Таборе [52], в Галилее [53], в Арваде и в нижних областях Речену [54] в сотнях сражений, но ни одно из них не было подобным Битве при Кадеше. Мы всегда были сильны, и нас уже никогда не заставали врасплох в наших лагерях.
И все равно мы воевали годами. Каждый год мы завоевывали большие земли и брали несколько городов. Затем мы возвращались в Фивы, а земли эти вновь восставали. Наше Величество накладывал слишком большие подати и захватывал уж очень много добычи.
Свое продвижение, однако, я осуществлял блестяще. Я был единственным египетским военачальником, который мог сражаться на поле брани, но при этом изучил искусство лести в Фивах. Наш Верховный Жрец Бакенхонсу стал к тому времени так стар, что часто посылал одного из Вторых Жрецов на ежедневный прием у Царя. Итак, я изучил искусство лести Вторым Жрецам. Это необычайно тонкое занятие. Позволю себе заметить, что успеху очень способствовало подношение чего-то съестного — по крайней мере для толстых жрецов. С худыми дело продвигалось труднее. Иногда их можно было очаровать лишь знанием специальных молитв. Но надо сказать, что толстые всегда были рады сообщить, какие строки особо дороги сердцу того или иного худого жреца. — Он улыбнулся. Должен отметить, что были некоторые особенно худые слуги Амона, удовлетворявшиеся лишь подарками в виде редчайших папирусов или камней прекрасной расцветки, привезенных с войны. Все скряги одинаковы, независимо от рода их занятий. Будьте уверены — будь он толстый или худой, — я обхаживал каждого жреца, который имел возможность говорить с Рамсесом Вторым, и я утолял их жажду, словно поливал собственное дерево. Разумеется, мой Фараон любил меня ничуть не больше, чем в тот день, когда отослал в нубийскую пустыню, но как мог Он назначить ливийца или сирийца командовать Своими войсками, когда под рукой был такой подходящий египтянин, как я? Я также знал, как говорить о бесконечной любви Амона к лицу моего Фараона. Он не особенно хотел, чтобы я стал Командующим-всеми-Войсками, однако когда наконец дошло до того, чтобы выбирать между Аменхерхепишефом и мной, мне кажется, Он обнаружил, что не доверяет Своему сыну. Разве существует что-либо более ужасное, чем страх быть преданным отпрыском собственной крови? Наконец я получил желанное назначение, и мне дали мою золотую повозку.
Мне кажется, я мог бы быть Его Главнокомандующим на протяжении многих лет, если бы не одна черта Усермаатра-Сетепенра, разрушавшая равновесие тех дней. В то время как наши Две Земли были сильны как никогда, а нашего Фараона почитали и любили как никакого другого, Его страсть к женщинам оставалась неутолимой. Непостижимо, как цвела Его жизнь среди соперничества, ревности, козней и омерзения, которые Он вызывал в них на протяжении почти тридцати лет со времени Битвы при Кадеше. Лишь Бог был способен жить в столь немыслимом уклонении от равновесия Маат. В этом Он также был Рамсесом Великим.
Конечно, теперь Он сильно отличался от того молодого Царя, который ездил в колеснице с Нефертари. Я бы даже сказал, что именно тот великий и ужасный день при Кадеше навсегда переменил всю Его жизнь во всех ее проявлениях. Безусловно, Его любовь к Нефертари не осталась прежней. До той войны мой Царь мог провести день с одной из Своих маленьких цариц из Дома Уединенных или поиметь одну или двух деревенских девок, как Он проделал вместе со мной во время нашей поездки в долину Его гробницы, но то была всего лишь игра сил. Нефертари была Его сестрой, любовью Его детства, Его первой невестой, Его единственной Царицей. В день Их свадьбы ей было двенадцать, а Ему — тринадцать лет, и говорили, что Ее красота исполнена такого света, что на Нее невозможно смотреть. Даже в те первые годы, когда я узнал Его, я не думал, что Его посещают какие-либо мысли, которые не были бы связаны со сражениями, молитвами, Нефертари или другим любимым Им занятием — задницами храбрецов.
Однако после Битвы при Кадеше Он стал подобен оазису, который, обнаружив под своими пальмами новые воды, разросся до сотни деревьев на том месте, где раньше было лишь три. Наш добрый Фараон вернулся от стен Кадеша с такой большой охотой до нежного женского мяса, какую я не встречал ни у одного другого мужчины за все свои четыре жизни. Вероятно, к Нему перешло семя убитых Им хеттов, ибо чресла Его уподобились прибывающим водам Нила, и Он не мог взглянуть на привлекательную женщину без того, чтобы не овладеть ею. Но при этом Ему могли приглянуться также и уродины. Однажды, после ночи с маленькой царицей из Дома Уединенных, которая была столь уродлива, что я не мог на нее смотреть — она походила на лягушку, Он сказал мне: „Согласно равновесию Маат, в противовес внешнему уродству Я надеялся найти красоту внутри и оказался прав. Рот этой женщины овладел секретами меда".
После Кадеша, если у тебя была жена, то она была и Его женой. Принадлежать ко Двору Усермаатра-Сетепенра значило, что в твоей семье будет Его ребенок, именно так, и часто такой же красивый, как наш Фараон. Разумеется, во время многочисленных охотничьих прогулок Он все еще вскакивал на попадавшуюся Ему крестьянку. Вдоль каждой дороги в Египте было известно, что Усермаатра может извергнуться дважды за то время, что требуется другим, чтобы проявить себя хоть раз. Он желал познать в день стольких женщин, сколько случалось промежутков между Его обязанностями — словно великий плуг Египта вспахивал его поле. Именно в те годы Он зачал наше племя Рамессидов, то самое, что расплодилось так, что уже во время моей третьей жизни Город мертвых был закрыт для всех, кроме тех, в ком текла кровь Усермаатра-Сетепенра. Его семя — в семени всех нас. Ни один человек не оставлял после себя столь многочисленного потомства, но именно поэтому красота благородных египтян известна во всех землях. Говорю вам, Он был прекрасен. Ночью, когда Царская Лодка скользила вниз по Нилу, волна, которую она оставляла позади, разбивалась о берег с таким прекрасным звуком, что, ощущая волну, омывающую берег при ее прохождении, женщины поворачивались в своих постелях, так оно и было. Однажды я спал, когда мимо проходил Его Величество, и моя женщина перевернулась на живот и предложила мне себя сзади».
«Как замечательно!» — сказал Птахнемхотеп.
«Осмелюсь сказать, Божественные Два Дома, что Его любили, но не все без исключения».
«Кто мог не любить Его, кроме Царицы Нефертари, тебя да горстки ревнивых женщин?» — спросила моя мать.
«Никогда не следует забывать о Своем гареме», — сказал Птахнемхотеп.
Мененхетет наклонил свою голову семь раз, но так легко, словно не хотел потревожить мерцание светлячков. «Твоя мудрость божественна», — сказал он.
«Вовсе нет, — сказал наш Фараон. — Как тебе известно, в Доме Уединенных был заговор нескольких цариц, собиравшихся убить Моего Отца».
«Это я отчетливо помню, — сказал Мененхетет. — Суд над теми женщинами проводился втайне, но стал предметом разговоров в Мемфисе и Фивах. О Твоем Отце говорили, что Он не знал ни Своих вельмож, ни, как держать в руках корни их преданности.
Но могу сказать Тебе — Усермаатра это было известно. Во время Его правления Сады были заполнены женщинами из благородных семейств. Я не думаю, что мой Фараон когда-либо долго думал о какой-то женщине или мужчине, но Он понимал гордость этих семейств. Он знал, какой разлад вносит в их жизнь каждый раз, когда избирает одну из их дочерей для Садов Уединенных. Поэтому Он понимал и то, что такую семью следует держать близко к Себе. Для преданности нет большей зависимости, чем та, что покоится на стыде, и при этом стыд этот должно называть почестью.
Твой Отец не был настолько искушен в этих делах. Слишком часто Он пренебрегал семьями. Многие из Уединенных, будучи ущемлены в своей гордости, взывали к своим отцам или братьям. Думаю, именно так начались заговоры с целью убить Твоего Отца. Заговор, который провалился, и заговор, который, возможно, увенчался успехом. Ибо смерть Его была странной».
«Да, — сказал Птахнемхотеп, — Я и Сам об этом думал».
«Это было двадцать пять лет назад, — сказал Мененхетет, — но у нас уже были и Рамсес Четвертый, Пятый, Шестой, Седьмой и Восьмой — только подумай об этом, великий Птахнемхотеп: за семь лет Твоего Правления Ты оставался на троне дольше, чем любой из Твоих родных и двоюродных братьев».
«Да, у Меня тоже была такая мысль. — Он улыбнулся. — Помню, что мой полубрат, Рамсес Четвертый, боялся больше всех. Он не желал видеть среди Своих Уединенных ни одной девушки из хорошей семьи. Он не хотел умножать врагов. В Свой первый год Он закрыл гарем, а когда открыл Сады вновь, заметьте — все девушки были крепкие, сильные и простые, а у их отцов не было высоких титулов. Одни купцы и торговцы.
Приятного там было мало. И никто из Моих родственников не улучшил положение дел. Как только Я оказался на Своем троне, Я посетил Сады и был поражен. Столько же толстых женщин, увешанных драгоценностями! И все дышат тебе в лицо чесноком! Теперь в Доме снова мило, хотя, как Мне известно, не настолько, как в те времена, когда тебя перевели с должности Командующего-всеми-Войсками, сделав Управляющим Домом Уединенных сто с чем-то лет назад?»
Мой прадед не ответил сразу, и я притворился, что сплю. На меня нахлынула грусть. Я смотрел на светлячков. В течение всей этой ночи они летали по клетке, из которой им никогда не удастся выбраться. Я прдумал о болотах поблизости от Дворца. Должно быть, несколько сотен рабов с быстрыми руками стояли этим вечером на мелководье, вылавливая их по одному. Моя грусть разрасталась, выходя из меня, покуда я не почувствовал себя таким же большим, как взрослый мужчина.
Именно тогда я осознал, что мое сочувствие было значительно усилено грустью, скрывавшейся за улыбкой моего прадеда, и эта глубокая печаль сложилась из многих составляющих, самой первой из которых было, должно быть, понимание того, что ему придется продолжать и поведать нашему Фараону еще больше. Несмотря на все Свои улыбки, мой Фараон был изощренно жесток, а мой прадед, при всем его спокойствии, все еще желал стать Визирем и поэтому был вынужден удовлетворить любопытство Фараона.
«Да, — ответил он, — прошло сто тридцать лет с тех пор, как я стал Управляющим Дома Уединенных».
«И был ли ты доволен этой великой переменой в твоей жизни?»
«Я был ошеломлен. Помню, я как раз отпраздновал свое пятидесятилетие. Не знаю, для чего я себя сохранил, но мое тело радовало глаз своей силой и для меня самого было прекраснее любого другого жилища. Я был Командующим-всеми-Войсками, однако мне казалось, что моя жизнь едва ли началась. Я все еще жил в казарме, но теперь думал, что уже готов к блестящей женитьбе — оставалось лишь выбрать госпожу. Все для меня было впереди.
Но как плывущее облако закрывает солнце, так тень жизни Усермаатра встала между мной и моим беззаботным благополучием. Ибо у моего Фараона в сердце жил страх, подобный унынию, что нашло на меня от источавших мирру деревьев в Храме Хатшепсут. С той лишь разницей, что, вспоминая об этом, я думаю не о хеттах, а о Его собственной жене Нефертари, и такому мрачному расположению Его духа была причина. Он сделал Своей новой Царицей хеттскую Принцессу. Надо сказать, что на самом деле, еще до Кадеша, Он женился на другой Принцессе, которую нельзя было сравнивать с Нефертари. Хотя Она была дочерью последнего Верховного Жреца Амона, служившего до Бакенхонсу, и происходила из высокопоставленной семьи, так что их свадьба породнила Храм Амона с Сыном Ра, все же эта вторая Царица, Истнофрет, была уродливой, и Усермаатра вскоре перестал давать ей хоть какое-то место рядом с Нефертари. Вместо этого Он предпочел построить для нее дворец ниже по течению реки, в маленьком городке, названном Себа-Хут Истнофрет — Запечатанные Двери Истнофрет, и это было хорошее название. Он не утруждал Себя частыми посещениями, а бывал там время от времени и не дольше срока, достаточного, чтобы зачать ребенка. Нефертари делила с ним трон в Фивах как единственная Царица. На протяжении многих лет говорили, что Усермаатра скорее отважится навлечь на себя неудовольствие Храма Амона, чем гнев Своей Первой Супруги.
И все же когда Усермаатра осмелился наконец жениться на третьей Принцессе, Его выбор был столь же отважен, как и Его способ править колесницей. Дело в том, что Его новая жена была дочерью Хаттусила Третьего, к тому же молодой и прекрасной. Ее мать, Царица Пудухеппа, была арийкой из Медеса, и все, кто видел ее дочь, говорили, что светло-белокурые волосы хеттской Царицы светились ярче луны».
«Здесь Я вынужден тебя прервать, — сказал Птахнемхотеп. — Сколько времени ты уже был Командующим-всеми-Войсками, когда произошла эта третья свадьба?»
«Пять лет. Царица Маатхорнефрура прибыла в тридцать третий год Правления Усермаатра, через двадцать восемь лет после Битвы при Кадеше и тринадцать лет спустя по заключении договора. Я хорошо помню эти даты, так как стал Командующим-всеми-Войсками через восемь лет после подписания договора».
«Меня все же смущает одно обстоятельство, — сказал Птахнемхотеп. — Ты говоришь о проявлениях ярости Нефертари. Однако во время заключения договора, за тринадцать лет до этого, было уже решено, что хеттская Принцесса станет Его женой».
«Ты действительно хорошо знаешь все подробности», — сказал мой прадед.
«Недостаточно хорошо. Я не понимаю, отчего Нефертари согласилась на эту третью женитьбу?» — спросил наш Фараон.
«Тогда хеттской Принцессе было всего семь лет, к тому же не все условия договора соблюдались с одинаковым уважением. Более того, в те годы Нефертари не могла еще рассчитывать на силу Своего старшего сына. Однако к тому времени, когда Усермаатра женился на хеттке, Принц Аменхерхепишеф стал великим Полководцем и мог представлять опасность для трона. Кроме того, в тот момент женитьба на этой Принцессе не имела никакого смысла: ведь в Кадеше уже не было достаточно средств даже для того, чтобы выплатить те деньги, которые одолжил Хаттусил Третий при подписании договора. Хаттусил Третий послал Маатхорнефруру в качестве дани, не более того. Усермаатра даже не принял Ее. Она прибыла после трудного путешествия, и, в знак презрения к Ее отцу, была помещена в Царский гарем в Фаюме. Там Он и встретил Ее. В Фивах все только об этом и говорили. Дело в том, что при первом же взгляде на эту Принцессу Усермаатра был покорен Ее красотой — так я слыхал — и взял Ее из Своего гарема, женился на Ней, привез Ее в Фивы. Хуже того, Он дал Ей имя Маатхорнефрура, чтобы оно было ближе к Его собственному — Усермаатра, и все звали Ее Нефрура, что напоминало Нефертари. Те, кто знал Нефертари, говорили, что это было худшим из оскорблений.
— Мененхетет свел руки вместе и положил лицо в чашу, образованную ими, как будто желал пить из прошлого.
— Таковым было тогда положение наших дел: с каждой стороны Усермаатра имел по Царице. Нам предстояли большие перемены. Однако я не ожидал, что первая же свалится на меня. Усермаатра пришел к решению отослать Аменхерхепишефа подальше от Дворца. Его Первая Царица и старший сын должны были быть разъединены. Однако Он не осмелился отправить Его на новые войны в Ливию без повышения по службе. Поскольку мой чин был выше, чем у Принца, Усермаатра решил передать его Ему».
«Не сказав тебе ни слова?»
«Мне надлежало войти в Его бедственное положение. Он строил далекоидущие планы относительно Своего Третьего Празднества Празднеств, до которого еще оставался почти год, но предполагалось, что это будет самый крупный из праздников за Его правление. И вот Он жил в страхе, что умрет в том году, так как носил большую тяжесть в душе из-за того, что делал. Для праздника Он строил огромное помещение — Зал Царя Унаса, однако Он пришел в ярость, когда обнаружил, что для того, чтобы добыть камень в верховьях реки и доставить его из каменоломни, потребуется два года. И Он принял решение разобрать Храм Тутмоса в Фивах и, что еще хуже, Храм Сети в Абидосе. Он собирался использовать камни собственного Отца! Лишь они да камни Тутмоса оказались подходящим белым камнем. Не могу вам описать, какое количество жрецов должно было ежедневно присутствовать при этих разрушительных работах, пока вынимались камни, а их проклятья снимались с помощью молитв жрецов. Иногда старые надписи скалывали. Еще молитвы! Бывало, что исписанной стороной камень поворачивали к стене, и тогда высеченные на нем слова оказывались спрятанными от глаз. Сколько великих имен было таким образом захоронено в Праздничном Зале Царя Унаса!
Итак, к страху, который Он испытывал перед Нефертари, добавился ужас от того, что Он осмелился сдвинуть эти огромные глыбы. Помню, как в день, когда Он взял меня с Собой на эти работы с камнем, позже Он провел меня в Свою спальню в Маленьком Дворце — великая честь, ибо обычно туда никого не приглашали, кроме Его Первой и Второй Царицы. Все же перед тем, как перейти к сути разговора, Он долго говорил о заговорах и кознях.
Надо сказать, что сердце моего Фараона было не таким, как у других людей. Если наши сердца сделаны из веревок, то ни у кого не нашлось бы на них таких крупных узлов, как у Него. Его гнев и Его страх, Его дыхание и Его наслаждение — все это переплелось друг с другом так крепко, что Он никогда не знал причины того, что делал, но делал все с огромной силой. Мощь всего, что проходило через Его сердце, была столь велика, что могла ранить сам воздух. Не думаю, что Он ощущал хотя бы дуновение Своего истинного страха перед Нефертари или Аменхерхепишефом, и все же, не ведая его подлинной причины, Он чувствовал ужасный страх. Страх этот был так велик, что Он даже заговорил со мной о нем: „Придет день, — сказал Он, — все три времени которого будут нести Мне ужасное несчастье. В те часы кто-то попытается убить Меня". Он верил, что кто-то из женщин в Его Доме Уединенных мог знать убийцу.
Я ощутил Его ужас. Он не вонзался Ему в грудь, подобно острию меча, но скорее отравлял Его мысли. В тот день Он вновь и вновь говорил о заговорах, и хотя тогда я этого еще не понимал, теперь я могу говорить о природе Его страха. Из-за того, что перед Фараоном проходят столь многие, Его память не может быть хорошей. Для того чтобы помнить, человек должен быть в состоянии оглянуться назад. Но Фараона толкают вперед те, кто думает о Нем каждое мгновение. Их мысли постоянно освещают темноту впереди, ибо они желают дать Ему силу истинного видения того, что грядет. Лишь Фараон в состоянии быть нашим проводником. Однако Усермаатра жил в таком страхе, что походил на человека, который глядит на поле, сверкающее на солнце, и принимает его за реку. И действительно, это река, но река света, а не воды. Итак, ухо Усермаатра было настроено на предательские голоса, а нос — на обнаружение любого заговора против Его славы, но Он мог почувствовать запах горелого мяса еще до того, как разожгли огонь. Усермаатра видел так далеко вперед, что даже усмотрел заговор, который возник сто лет спустя, против Твоего Отца. Сто лет для Бога как промежуток между двумя вздохами. И Он увидел, что удар наносят Ему.
Именно поэтому Он перестал доверять Дому Уединенных. Он не раз умолкал, пока наконец сказал мне, что решил направить меня туда. Он полагал, что в Двух Землях я единственный достаточно мудрый человек, чтобы разузнать: действительно ли заговор существует или нет. „Ведь при Кадеше, — сказал Он, — только ты смог угадать мысли Муваталлу. — Он взял меня за руку. — Нет службы, — сказал Он, — более важной, чем забота обо Мне. Это благородное занятие для любого Полководца", — и Он принялся говорить о великих военачальниках прошлого, ставших Фараонами. Дыхание Его было могучим!
Однако Он посылал меня туда, где не было никого, кроме женщин. Когда я не осмелился отказаться, я понял, что воин в Его душе, несмотря на то что это был Его собственный приказ, должен презирать меня.
Теперь мне оставалось гадать: не является ли моя новая должность — Управляющего Садами Уединенных — также и Его намеком на то, что хотя и прошло тридцать лет, но Он не забыл, как я, подобно женщине, кровоточил в тот день, когда Он раздвинул мои ягодицы. Для других я мог быть Полководцем, но с высоты Его положения я был маленькой царицей. Большой Нянькой Его гарема Неужели он смеялся надо мной? Ярость сдавила мне горло.
Покинув Дворец, я сразу же начал молиться: „Пусть против Него будет заговор, — просил я, — и я сам возглавлю его!"».
V КНИГА ЦАРИЦ
ОДИН
«В Садах Уединенных я узнал то, чему меня не могли научить в других местах, и столкнулся с занятиями столь же отличными от войны, сколь роза отличается от топора. Притом что мне трудно судить, как выглядели бы те Сады сегодня, но тогда в них обитало около сотни женщин, и это было самое очаровательное место во Дворце. За его стенами располагалось много красивых домов, и из каждой кухни доносились веселые голоса, так как многие маленькие царицы любили поесть и радовались при виде еды на столе. И, разумеется, они любили выпить. Но все же каждый день походил на предыдущий. Маленькие царицы вставали много позже того времени, когда звуки из Дворца за стенами Садов будили всех, кроме них, и все утро они одевали друг друга, вели длинные разговоры о том, что они друг у друга позаимствуют, и рассказывали истории о том, что случалось им оставить друг другу навсегда. Потому что если Фараон навещал маленькую царицу в тот момент, когда на ней было одолженное ожерелье, оно становилось ее вещью. Поскольку Царь видел его на ней, не могло быть и речи о том, чтобы отдать его назад. Нечего и говорить, что Его подарки не подлежали столь легкомысленному заимствованию. Конечно, украшения, полученного от Усермаатра, не должен был касаться никто другой. Однажды одна из маленьких цариц нарушила это правило, за что ей пришлось заплатить страшную цену. Ее маленький пальчик был отделен от ее левой ступни. Одолжить какой-то из Его подарков было все равно что мгновенно уничтожить первую колонну храма, построенного Рамсесом Великим. После этого та маленькая царица уже не танцевала, собственно, она почти не двигалась, но чтобы уменьшить боль в обрубке своего маленького пальчика, все ела да ела лакомые кусочки, как будто это были засахаренные птичьи крылышки, и стала такой толстой, что ей дали прозвище Медовый-Шарик. Мне рассказали о ней, когда я впервые явился на службу в гарем.
В те дни — неужели я устал от своего старого поста командующего больше, чем догадывался? — я становился на колени, чтобы рассмотреть цветы на краю каждого царского пруда. Там был один цветок, похожий, как мне казалось, на орхидею, но оранжевого оттенка, с которым я говорил много раз, то есть я делился вслух своими мыслями, а цветок знал, как мне ответить, хотя я и не могу с уверенностью сказать, что именно он мне говорил. В воздухе не чувствовалось и дуновения ветерка, но он дрожал, когда я подходил к нему, а иногда принимался раскачиваться на стебле, и его волнообразное движение походило на танец маленькой царицы, действительно, его лепестки дрожали в моем присутствии, подобно девушке, которая не в состоянии скрыть своей любви. И все это происходило, когда в неподвижном воздухе остальные цветы пребывали в полном покое. Казалось, у стебля этой орхидеи корни скрыты на той же глубине, что и мысли моего сердца, и я мог разделить дыхание с тем же Богом, которого мы узнали этой ночью, когда Он свел вместе два куска черной-меди-с-небес. Не знаю, что за дух обитал в том цветке, но на моих глазах нити его тычинок скручивались, крошечные пыльники начинали набухать под моим взглядом, и вскоре выделялась пыльца.
Глаза маленьких цариц походили на такие пыльники, когда им хотелось, чтобы ты прочел в них обожание. Не уверен, что еще до конца того года осталась хотя бы одна из них, которая не была бы готова смотреть на меня таким образом. Думаю, любой мужчина, если он не был евнухом, счел бы неестественным служить в Садах Уединенных и сознавать близость такого количества женских тел. Поскольку они принадлежали Усермаатра, даже вдыхать их благовония с близкого расстояния представлялось делом столь же немыслимым, как пить из Его золотой чаши. Быть пойманным с одной из тех женщин означало смерть. Притом что я видел смерть уже раз двести и часто — с возгласом радости — то было на войне. Смерть в момент твоей славы может показаться объятием солнечных рук, но теперь я был слаб от сознания того, что хочу жить, и не имел ни малейшего желания отправиться в мир иной с проклятьем Фараона на своей спине.
Поэтому я говорил с маленькими царицами, словно они были цветами на берегах прудов, и изо всех сил изображал Полководца с каменным лицом. Каждый шрам на моих щеках походил на след, оставленный резцом на скале.
Разумеется, такой страх совсем меня не радовал. Каждое утро я просыпался в Доме Уединенных со все большим желанием узнать, как живут эти прекрасные женщины. Я понял, что мое крестьянское происхождение, как бы ни было оно облагорожено воинскими доблестями, совершенно не способно помочь мне разобраться в привычках важничать и глупых спорах гарема, Управляющим которого я теперь был, особенно потому, что я не знал, так ли обычны здесь их искусства: поддерживать свою красоту, рассказывать истории, играть на музыкальных инструментах, танцевать и по-царски соблазнять, — как осел и плуг для крестьянина, или они имеют отношение к самой магии. Не мог я также решить, являются ли мимолетные ссоры, свидетелем которых я бывал ежедневно, столь же важными для Богов, как сражение двух мужчин. А велись они так яростно, что напоминали некое служение Богу! В Доме Уединенных я был таким чужаком, что поначалу даже не знал, как выбирают маленьких цариц и много ли среди них дочерей из самых благородных семейств всех сорока двух номов. Дело в том, что женщина, которая могла бы мне все о них рассказать, почтенная дама весьма преклонного возраста, служившая их надзирательницей, совсем недавно умерла».
«Мне не нравится, как ты рассказываешь нам о гареме, — сказала Хатфертити. — Поскольку я никогда не бывала в Доме Уединенных, я не могу себе представить, как он выглядел. На самом деле, — сказала моя мать, выказывая все признаки раздражения, — в твоих мыслях нет лиц, вообще ничего, на что мы могли бы посмотреть».
Мой прадед пожал плечами.
«Ты ведь не устал, — сказал Птахнемхотеп, — именно теперь, когда мы подошли так близко к рассказам о любви, которые гораздо любопытнее военных историй».
«Нет, я не сказал бы Тебе-Кому-принадлежат-Два-Великих-Дома, что мои мысли притомились, но все же я в некотором замешательстве. Это непросто описать. Мне кажется, этот год оказался самым необычным в моей жизни. Знаете ли вы, что раньше у меня никогда не было дома? Теперь он у меня был в Садах, вместе со слугами, поддерживавшими там порядок. Я мог уйти из гарема в любой момент, когда бы только пожелал. Если бы я захотел, то мог бы навестить одну из своих знакомых за стенами Садов, и тем не менее я походил на некое существо, удерживаемое черной-медью-с-небес. Я не осмеливался покинуть Сады. Похоже, я боялся, что все, чему я старался там научиться, мгновенно исчезнет в тот самый миг, как я выйду за ворота и окунусь в шум фиванских улиц. К тому же я не был полностью свободен. Существовало молчаливое приказание Усермаатра-Сетепенра. Ему бы не понравилось, если бы Его Управляющий оказался вдали от Уединенных в любой необъявленный момент, когда Он захотел бы туда прибыть.
Более того, все годы моей жизни, вплоть до того часа, предстали предо мной, и я мог размышлять о них. — Мой прадед выглядел печальным. — Ах, — сказал он со вздохом, — крошечных пташек надо расшевелить», — и махнул рукой у ближайшей к нему клетки.
Светлячки продолжали дремать. За тонкой, прозрачной тканью я едва различал их движение.
Мой прадед умолк, и мы сидели в молчании. В ту ночь я так часто слушал его голос, что мне больше не нужно было его слышать. Я был в состоянии живо представить все, о чем он говорил. И действительно, то, что он мог рассказать, предстало предо мной отчетливее, чем его голос, иными словами, я стал видеть многие места в Садах Дома Уединенных и женщин, когда их образы являлись в его мыслях. Я словно стоял на маленьком мостике, переброшенном через один из прудов в тех Садах, и слушал, как маленькие царицы говорят друг с другом. Я мог также видеть лицо своего прадеда, каким оно было тогда (как он и говорил нам, оно действительно было суровым и с отметинами от ударов меча), но теперь мне не надо было держать глаза открытыми, так как его мысли исполнились такой силы, что я мог слышать голоса не только маленьких цариц, но и его собственный, и он звучал внутри меня, как самая толстая струна лютни.
Лежа на подушках в этом покое, я всем казался спящим, а тем временем мое тело пребывало в столь же приятном состоянии, как сам сон, и с закрытыми глазами, оставив одну щелочку под ресницами, я мог видеть так, как не способен был делать это никогда раньше Точно так же, как я удивлялся, глядя на изображения Богов на стенах многих храмов и гробниц, куда меня приводила мать, потому что такие люди никогда не попадались на улицах, где нельзя было встретить, например, никого с таким длинным птичьим клювом, как у То-та, ни Себека, Бога с челюстями крокодила, так и сейчас я понял, что порой голова одного человека может являть множество лиц. И мой прадед, пока я смотрел на него, становился по очереди теми, о ком он думал, и я оказался свидетелем его истории, словно те люди находились в этом покое, я мог бы даже ходить среди них, если бы теперешнее положение моих членов не устраивало меня больше. Похоже, эти мысли более не принадлежали моему детству в той мере, насколько они были, должно быть, мудростью, которую, я полагал, можно обрести лет в двадцать, но подобным богатством понимания я был обязан, как мне представлялось, воспоминаниям моего прадеда о прошлых мечтах, которые проходили через сознание присутствующих, а уж потом доплывали до меня. Таким образом, крытый внутренний дворик Фараона вскоре превратился в множество комнат, и ни одна его часть не была какой-то определенной величины. Там, где прежде я видел диван, теперь была дорога, а арка между двумя колоннами стала походить на огромные двери, которые увидел Мененхетет при входе в Дом Уединенных. Я даже заметил двух каменных львов по обеим сторонам Ворот Утра и Вечера и знал (эти Сады Уединенных предстали мне столь же великолепными, как и Мененхетету впервые дни его пребывания там), что эти львы были подарком Фараону из места, расположенного ниже по течению реки и называемого Городом Львов. И меня провели мимо этих зверей из отполированного белого камня, и я вошел в Сады. Я даже смог разглядеть прекрасные тела четырех черных евнухов в золотых шлемах, стоявших на страже у ворот. Зубы у них были такими же белыми, как полотняные одежды Фараона.
Затем мы оказались в гареме, где было такое множество деревьев, а лужайки пестрели коврами цветов, тех, которых я мог узнать и которых я ни разу раньше не видел, что я подумал, должно быть, здесь их цветет больше, чем во всем Египте, — этих красных, и оранжевых, и бледно-желтых, и золотых, и золотисто-зеленых, и цветов многих оттенков фиолетового, и розового, и кремового, и алого, с лепестками такими нежными, что, когда они появлялись в мыслях Мененхетета, мне казалось, что губы маленьких цариц шепчут что-то у моей щеки. Никогда раньше не видел я таких разноцветий, ни этих черно-желтых мостков с перилами из серебряных столбиков и соединяющих их золотых шестов, перекинутых через пруды, раскинувшиеся под ними. Зеленый мох покрывал берега — такой же блестящий в этом мягком свете, как изумруд. Это было самое прекрасное место, по которому я когда-либо бродил. Цветы и фруктовые деревья источали густой аромат, даже голубой лотос сладко благоухал. Поскольку обычно у него нет запаха, я не мог понять, почему я его ощущаю, покуда не увидел черных евнухов, стоявших на коленях и умащавших голубые лотосы смешанными с благовониями маслами. Они натирали этими душистыми маслами основания рожкового дерева и сикомор, даже корни финиковых пальм, чьи кроны наверху делали тень в Саду еще более глубокой. Невозможно было даже увидеть небо из-за веток и листьев низких фруктовых деревьев и увитых виноградом беседок, и эта тень возвращала воспоминания о лавандовом отсвете вечера, видимом человеку, сидящему в пещере.
Повсюду с дерева на дерево перелетали птицы и скользили над царскими пальмами. В прудах плавали утки самых разных цветов, даже бронзового оттенка с шафраново-гранатовыми крыльями, и черная лебедь с ярко-красным клювом, которую звали Кадима, тем же именем, что носила высокая черная Принцесса Кадима-из-Нубии, одна из обитательниц Садов.
Никогда я не видел столько птиц. Летая над нашими пустынями и нашей рекой, с высоты небес они, вероятно, заметили зеленый глаз этих садов и явились сюда во всем своем великолепии и смятении, оглашая все вокруг таким нестройным хором голосов, что я бы не смог услыхать Мененхетета, если бы он все еще говорил, так как все они — гуси и журавли, фламинго и пеликаны, воробьи и голуби, ласточки, соловьи и аравийские птицы (более быстрые, чем стрелы, и маленькие, как бабочки) — покрывали лужайки, болота и ветки. Здесь каждое дыхание было наполнено жужжанием, хлопаньем и барабанной дробью птичьих крыльев, и вот сила этих властных звуков переполнила мою грудь и вырвалась из нее, подобно дыханию, которое я больше уже не мог сдерживать, и тучи их взлетели в облаке крыльев, тогда как другие опустились на землю. Вверху, над пальмами, дрались другие птицы, и до нас долетал звук и этих сражений. Зимородки парили, коршуны парили, вороны кувыркались в воздухе, а тем временем внизу порхали все более мелкие птицы, и каждая полнилась посланием к другой, словно все, что еще только должно было произойти в нашем гареме и нашем городе, пребывало в этом щебете, перелетавшем от одной птицы к другой. Были часы, когда в Садах стоял такой же шум, как на базаре.
Затем, словно цветы знали, как успокоить воздух, покой, исполненный щебетом множества маленьких милых птичек, нисходил на нас, и можно было ощутить прохладу дня и услышать бормотание воды. Теперь мы могли слышать журчание ручья, чей поток подымали из Озера Газелей. Снизу, сквозь льющиеся сверху песни и споры птиц, доносился равномерный стук шадуфов, расположенных один над другим, они поднимали воду из пруда в ложе ручья, по которому она стекала в другой пруд. Этот звук, достигший моих ушей в тот поздний час ночи, показался мне таким прекрасным и ласкающим меня на всех гранях моего сна, как неспешное биение моего собственного сердца, ибо никакой звук не исполнен такого целительного покоя, как журчание воды, поднимаемой усилиями рабов. Потоки были прекрасны. Вода текла по глазированным глиняным кирпичам и драгоценным камням, вставленным в эти кирпичи. Ручей отражал цвета этих камней. Я видел воду красную, как рубин, а также фиолетовые струи и золотой водопад, там, где поток низвергался вниз, переливаясь через золотые пластины. Я видел ручьи, ложе которых было выстлано перламутром, а один грот был розовым, как заходящее солнце, хотя и находился в густой тени. У его берега, поскольку на воду не падал свет, под благоухающей сенью апельсинового дерева можно было заметить проплывающую рыбу. Ни одна из этих рыб не была больше моего пальца, и стоило мне протянуть к ним руку, как все они одновременно поворачивали — то были серебряные пескари, которые переливались в воде, подобно лунному свету. Я мог бы поклясться, что от их серебристого сияния по Саду разливалась прохлада.
У одного пруда не было деревьев, и лужайка на его берегу зеленела, как мох, потому что весь день ее поливали черные евнухи. В полдень здесь было слишком жарко, но в сумерках прохладно, и маленькие царицы рассаживались на небольших золотых стульчиках, принесенных их слугами, и наблюдали, как мимо них проплывает Кадима. Лебедь также предпочитала скользить по этому пруду в сумерках, словно и она желала любоваться вечерними превращениями неба, а птицы в это время успокаивались. Затем евнухи, рабы шадуфов, оставляли шесты, и бадьи с водой замирали. В это время маленькие царицы поднимали листья, накрывавшие блюда с фруктами. Запах персика, готового к тому, чтобы его попробовали, смешивался с благоуханием цветов, а перья лебедя поднимались и оставляли рябь в темнеющем воздухе. Все это говорило мне о том, что наступил час, когда маленькие царицы приходят в движение: некоторые идут купаться к пруду, другие возвращаются в свои дома, к своим слугам и детям. Вскоре в каждом углу ночи послышатся звуки лютен и смех их игр. Некоторые маленькие царицы начнут собираться в свой ежевечерний пивной дом. В этот час Мененхетет шел через Сады, следуя за потоком от одного пруда к другому, а вода теперь, когда ушли евнухи, опрокидывавшие бадьи шадуфов, не журчала, и вся ее поверхность была темной, за исключением того ручья, дно которого было выстлано золотом. Там, в лунном свете, тени были светлыми, как отполированная медь, и Мененхетет, проходя вдоль ручья, смотрел на серебряных пескарей, и в темноте он был окружен музыкой и звуками веселья, доносившимися из пивного дома. Стоя у золотого ложа потока, который тек из Пруда Возлюбленной Мудрости в Пруд Голубого Лотоса, он дрожал в вихре неясных звуков, доносившихся из домов маленьких цариц. В их голосах слышалось неповиновение, название которому он не мог подобрать, звучала расположенность друг к другу, в которой не было и следа благоговения перед Усермаатра, словно Его отсутствие несло радость! Непокорность шевельнулась тогда и в душе Мененхетета, и его дыхание стало неслышным, как вода. Он был болен желанием обладать маленькими царицами. Очевидным позором было пребывание среди такого множества женщин, где не было и одного мальчика старше десяти лет, поскольку к этому возрасту всех родившихся здесь детей отсылали на обучение жрецам. Все, что он слышал, — это голоса женщин, у которых не было ни мужа, ни друга, ни даже любовника, кроме Доброго и Великого Бога Усермаатра. Хуже того, его окружали все эти растолстевшие евнухи, чьи черные мускулы лоснились в этих дивных Садах, где им так легко жилось. Поэтому они будили вожделение у всех — у сотни женщин и Мененхетета, — их притягательность сильно волновала его чувства. Его чресла болели, горло пересыхало, а его рот так мучил голод, что он не мог смотреть через их окна на пиво, которое готовили маленькие царицы. Он вздрагивал в темноте от каждого дуновения ветерка, точно конь, уловивший в шорохе листвы присутствие смертоносного зверя. В этот час в Садах оставались одни евнухи, они ласкали друг друга пальцами и губами, их детский визг слышался повсюду, и плоть Мененхетета воспламенялась. Желание удовлетворения приходило к нему, подобно жажде кровавой резни, что приходит вслед за битвой. Но он не мог и близко подойти к евнуху. Они сплетничали, как дети. Об этом узнал бы каждый войсковой командир. Находиться рядом с сотней цариц и возлечь с евнухом. Мененхетет обходил Сады, и я шел вместе с ним, словно мы с ним были призраком часового, неспособного изменить привычному воинскому долгу.
Утром было легче. Маленькие царицы пели, расчесывая друг другу волосы. Они перерывали друг у друга сундуки, разыскивая одежду для обмена, играли со своими детьми, отдавали распоряжения своим слугам. Поскольку сами они не могли выходить, на рынок за припасами отправлялись их повара, которых по возвращении бранили за любой изъян в луковицах или мясе. В середине дня маленькие царицы вместе ели в одном или другом доме, обменивались подарками, состоявшими из фруктов и масла, затем украшали друг друга цветами и пели новые песни. Они занимались со своими ручными борзыми, кошками и птицами, рассказывали друг другу истории о своих семьях, учили своих детей именам Богов своих номов, и Богов разных планет, пяти органов чувств, и четырех ветров, и Богов разных часов дня и ночи. А в конце дня, проспав самую жару, маленькие царицы размышляли над книгами по магии или смешивали свои благовония. Они возносили молитвы, а некоторые шли в гости к другим маленьким царицам.
Бывало в сумерках они собирались у беседки и принимались ждать Усермаатра. По ночам, во время полнолунья, Он чаще всего приезжал именно в тот час, когда на Его Колесницу падал свет взошедшей луны, и Мененхетет наблюдал из башни над воротами, как впереди Усермаатра по улице бежали Царские Скороходы, потом, когда створки дверей распахивались, они падали на обочины и целовали каменных львов. Затем въезжал Он, оставляя позади два отряда Царской Охраны, Смотрителя Опахала, Знаменосца и копейщиков, и они в свою очередь кланялись свите из Принцев и знати, которые разворачивали свои колесницы и отправлялись по домам по улицам Фив, стоя рядом с возницами в почти полной темноте, а их тела сотрясались в такт стуку колес.
Теперь Он был внутри. Случалось, что о Его приезде знали все, в иные же ночи Его появление было неожиданностью для всех, кроме самых мудрых из маленьких цариц. Однако, когда Он оказывался в Садах, никто не мог определить Его настроения. Ему доставляло удовольствие напускать на Себя суровость, когда Ему бывало приятно, либо Он бывал очаровательным с маленькой царицей, а затем оставлял ее плачущей в своем покое на многие ночи. «Теперь уходи, — мог сказать Он, — твое дыхание нечисто».
Иногда, приехав рано, Он сидел у беседки и кормил Кадиму, когда та проплывала рядом, часто Он так и оставался на той лужайке, разговаривая то с одной маленькой царицей, то с другой далеко за полночь. Иной раз Он выбирал женщину и отправлялся в ее дом на остаток ночи лишь после того, как поднималась луна. Он мог выбрать до семи женщин, а случались праздничные ночи, когда Он веселился в обществе дважды по семь, однако в ночь, которая не отличалась от других, в обыкновение Усермаатра не входило появляться слишком поздно. Поэтому, когда Он не приезжал, маленькие царицы, с нетерпением ожидавшие Его, поскольку их Боги подали им благоприятный знак, теперь были вынуждены считать, что вмешались другие Боги, или, может, молитвы были вознесены недостаточно чистым голосом? Они взмахивали рукой, делая знак своему слуге, чтобы тот унес их золотые стулья, и, негодуя на выбранные благовония, которые также могли послужить причиной их неудачи, спускались к озеру и купались при луне, смывая ароматы своего поражения.
Были такие маленькие царицы, которые тщательно одевались каждую ночь и все же ни разу не удостоились разговора с Царем. Мененхетет понемногу понял, что они до некоторой степени становились похожими на побежденных воинов и не пытались вновь очаровать Царя на протяжении многих месяцев, но оставались в своих домах, учили детей и ожидали смены времени года. Если они терпели неудачу в Разлив, то зачастую ждали на протяжении всего времени Всходов и Жатвы до тех пор, пока поля вновь не становились голыми. Некоторые вообще не предпринимали второй попытки. Были и такие маленькие царицы, кто жил в Садах Уединенных по десять лет и ни разу не видел Его Великолепия — им было достаточно, если удавалось стать подружкой маленькой царицы, которая какое-то время была Его любимицей. Разумеется, избранницы менялись.
Однажды, во время засушливого времени года, много месяцев спустя после того, как Мененхетет стал Управляющим Дома Уединенных, Усермаатра прибыл в Сады ночью так поздно, что разочарованные женщины уже купались в озере. Он был пьян. Никогда еще Мененхетет не видел Его таким. «Я уже три дня пьян от колоби, — сказал Усермаатра, — а это самое крепкое питье в Египте». Здесь я открыл глаза достаточно, чтобы увидеть, как Птахнемхотеп кивнул, как будто напиток вошел в Его сознание со всеми своими огненными свойствами в тот же момент, когда он вошел и в мое. «На, выпей со Мной колоби», — сказал Усермаатра, войдя в Ворота, а Мененхетет поклонился и сказал: «Нет выше чести», — и отхлебнул из поданной ему золотой чаши. Усермаатра спросил: «Что, тяжело проглотить колоби? — Когда Мененхетет не ответил, Он сказал: — То, что Я говорю — дурно пахнет? Пей!»
В эту ночь Усермаатра спустился к озеру. Он не бывал в этом месте все то время, что провел в Садах Мененхетет, и потому удивил нескольких маленьких цариц, купавшихся в лунном свете. На самом деле они резвились перед евнухами, которые ожидали на берегу, держа в руках их одежды. Теперь раздались визг и крики и плеск купальщиц, которые пытаются спрятаться. Усермаатра смеялся так долго, что в воздухе запахло выпитым Им пивом.
«Выходите из воды и развлеките Меня, — сказал Он. — Пора бы уже наиграться».
И вот они появились, и некоторые были прекраснее в лунном свете, чем могли бы показаться при свете солнца. Кто-то дрожал. А некоторые самые скромные из маленьких цариц не были рядом с Усермаатра очень давно. Одной из женщин, Хекет, получившей свое имя от Богини Лягушек, случалось бывать Его избранницей, а другая, толстая, Медовый-Шарик, ходила даже в любимицах, покуда ей не отрезали пальчик. Теперь она поклонилась Ему, но с таким блеском в глазах, что даже в ночной тьме ее белки сверкнули ярче отбеленной ткани. Хотя Медовый-Шарик была очень толстой, двигалась она так, будто среди всех маленьких цариц занимала самое высокое положение, а в тот момент выглядела не толстой, но величественной. Ее бедра напоминали зад лошади.
Наконец все они вышли из воды, а их евнухи придвинули золотые стулья, чтобы они сели полукругом вокруг Усермаатра, а Он спросил: «Кто выпьет со Мной колоби?» И изо всех них протянула руку лишь Медовый-Шарик. Он подал ей чашу, она отпила и вернула чашу обратно, и Мененхетет налил Фараону еще колоби.
«Расскажите Мне истории, — сказал Усермаатра, — Я пил этот египетский напиток три дня, и лучше бы глотал кровь мертвеца. Каждое утро Я просыпался, чувствуя в Своей голове удар, нанесенный призраком, но Я не знаю, что это за призрак, хотя и могу поклясться, что он — хетт, правда, Мени? Хетты носят топоры. — Тут Он прочистил горло и продолжал: — Однажды в горах Ливана Я пришел в долину, которая пересекала другую долину, а в центре той долины стоял холм. С этого холма текло четыре ручья. Ну вот, Я рассказал вам историю. Теперь вы расскажите Мне историю».
Запах выпитого Им вина стлался в ночном воздухе, источаемый ранами виноградной лозы. Легкие Усермаатра могли дышать среди языков настоящего пламени, однако горла сидящих вокруг Него маленьких цариц наполнились невидимым дымом. Тяжек был их страх огня, скрытого в вине.
Маленькая царица по имени Меретсегер, невысокого роста и с громким голосом, отозвалась первой. Названная в честь Богини Молчания, она бывала самой шумной в любом сборище. Там, где другие могли хранить молчание, испугавшись, она спешила заговорить и сейчас попыталась рассказать историю о бедном Царе, блуждавшем со своим конем в темноте, так как все звезды были закрыты облаками. «О, Тот-Кто-доставляет-великое-удовольствие-алтарю-находящемуся-между-бедер-всех-прекрасных-женщин, слушай мой рассказ, — произнесла Меретсегер своим забавным голосом, выходившим из ее носа и смахивавшим на звуки тростниковой дудки. — Этот Царь был несчастным и бедным».
«Правителем какой страны он был?» — спросил Усермаатра.
«Страны, которая далеко на Востоке», — ответила Меретсегер.
«Продолжай рассказывать, но погромче. У тебя голос лучше, когда ты его не теряешь».
«В темноте этот Царь не мог видеть, — сказала она. — Он не знал, в какую сторону идти. Однако небо было видно под копытами его коня. Сверху неба не было видно, но внизу сияли звезды. Царь спешился, и — о диво! — он стоял на небе. Звезды были у него под ногами. И вот он преклонил колени, поднял одну звезду и увидел, что это драгоценный камень, и в его сиянии пребывает Бог. Это навело его на мысль собрать много других камней, и при их свете он смог вернуться в свое царство и вновь стал богатым».
Усермаатра разбил воздух, громко икнув. Все засмеялись над Меретсегер.
«Я хочу услышать более интересную историю. Здесь на берегу темно. Нам пригодилось бы несколько драгоценных камней. — Прищурившись, Он оглядел каждую из женщин. — Кто здесь у нас? Я вижу Стройность и Белое Полотно, и Гиппо… — Он кивнул Медовому-Шарику, и несколько маленьких цариц захихикали при звуке имени, которое Он только что ей дал, — и Нубти, и Аментит, и Хекет, и Сливки. И Кролика. Кролик, у тебя есть история?»
Кроликом звали самую высокую из маленьких цариц, одну из самых молодых и застенчивых. Она только отрицательно покачала головой. «Оазис, что ты можешь Мне рассказать?» — спросил Он. Вопрос был обращен к Бастет, названной в честь Бает, Богини всех кошек. Глаза ее были прекрасны и походили на два колодца, поэтому все звали ее Оазис.
Она вздохнула. У нее был прекрасный голос, и пользовалась она им умело. Сейчас она стала рассказывать о девяти полных лунах, которые должны пройти перед тем, как родится ребенок, и о девяти вратах, которые ему надо преодолеть во чреве матери. Усермаатра-Сетепенра стало, однако, так скучно, что Он прервал Оазис и сказал: «Я больше не хочу слушать», — после чего сделал глоток колоби. Наступило молчание.
«Хекет, — сказал Он, — пришла твоя очередь развлекать Меня». Он снова рыгнул. Царицы прыснули. Этот звук мог бы омыть край Его огня и притушить пламя. Однако этой ночью Он выпил так много колоби, что они смеялись в великом сомнении, не будучи уверены — унимает ли их веселье Его гнев или воспламеняет его.
«Великие и Благородные Два Дома, — сказала Хекет, — я хотела бы рассказать историю, которая не вызовет Твоего неудовольствия».
«Тогда не рассказывай историй о лягушках. Ты сама слишком похожа на одну из них».
Усермаатра всегда говорил с Хекет именно в таком тоне. Было очевидно, что Он не может выносить ее вида. Она была самой уродливой из всех маленьких цариц, собственно говоря, среди множества женщин ее сочли бы самой некрасивой. Ее лицо покрывали пятна, шея ее была толстой, и ее тело не отличалось совершенством. Кожа ее выделяла влагу. Среди маленьких цариц у Мененхетета не было друга, который рассказал бы ему правду, но некоторые евнухи всегда готовы были плести свои небылицы, и если им верить, хотя хихикали они даже больше женщин, то на самом деле раз в году, в дни самой высокой воды Разлива, через Сады проходили полчища лягушек и копошились на полу в каждом доме. И в одну из таких редких ночей Усермаатра шел в ее покои и проводил с Хекет часы в темноте. После этого ее дом смердел от любовных трудов. Евнухи знали, потому что им приходилось там убирать, и в одну из таких ночей, два года назад, случилась буря с градом, и во внутреннем крытом дворе ее дома нашли наполовину развившихся лягушек, мертвых и умирающих, которые походили на неправильно сложенных мужчин и женщин — тьма их появилась из слизи. Услышав эту историю, Мененхетет рассек рукой воздух, словно обнажил меч против слов евнухов, желая разрушить образ Усермаатра и Хекет за столь омерзительным занятием.
Теперь в темноте, у берега озера, Хекет сказала: «В Сирии, к востоку от Тира, многие мужчины покупают невест на торгах. Самые красивые приносят немалое богатство своим семьям, но за уродливых женщин, которыми никто не интересуется, отец невесты должен платить жениху. Итак, в торге наступает час, когда деньги начинают течь в обратном направлении, точно так же как волны Великой Зелени то набегают на берег, то откатываются назад. Отец самой уродливой невесты платит много денег».
Этой истории удалось завладеть Его вниманием. Маленькие царицы стали перешептываться. «Случилось так, — продолжала Хекет, — что одна из женщин оказалась такой уродливой, что ее новоиспеченный муж, взглянув на нее, заболел. Однако вскоре после женитьбы она подружилась во сне с Богиней Астартой. Добрый и Великий Бог, наша Астарта — самая прекрасная из всех Богинь в храмах моей страны, мы даже говорим, что для нас Она то же, что Исида для египтян. И вот Астарта сказала: „Я устала от красоты. Я нахожу ее обычной. Поэтому я заметила тебя, бедную уродливую девушку, и подношу тебе эти магические слова власти. Они будут защищать твоего мужа и детей ото всех болезней, кроме тех, что предназначены убить их". Затем Астарта исчезла. Муж же той уродливой женщины исполнился такой жизненной силы, что любил свою уродливую жену каждую ночь, и у них родилось много детей, которые также были здоровы. Когда, наконец, муж умер от болезни, которой было предназначено убить его, женщина попросила, чтобы ее вновь выставили на торги. К тому времени ее способность приносить богатство самым близким ей людям стала так широко известна, что на торгах за нее назначили самую высокую цену. За нее уплатили больше денег, чем за самую очаровательную из невест. Так что в тот день перевернулись все понятия о красоте. Теперь в моей стране никто не может отличить уродливую женщину от красивой, и в особом почете длинные крючковатые носы».
Она поклонилась. Ее рассказ был окончен. Некоторые маленькие царицы захихикали, а Медовый-Шарик зашлась хохотом. Ее веселье выходило из мощного горла, однако звук был столь сочным в своем основании и так явственно говорил о воспоминаниях о прошлых удовольствиях, что Мененхетету он показался прекрасным.
«Выпей еще колоби, — сказал Усермаатра. — И глотни хорошенько. Твой рассказ — следующий».
Медовый-Шарик поклонилась. Ее талия была шире талий любых двух присутствовавших женщин, но поклонилась она достаточно хорошо, чтобы коснуться своего колена.
«Я слыхала о Богине, — начала она, — с розовыми волосами. Никто не знал Ее имени».
«Хотел бы я увидеть эту Богиню», — сказал Усермаатра. Его голос был исполнен той же силы, что и у нее.
«Великий Осиамандиас, — сказала она, и в том, как она произнесла Его имя, таилась насмешка столь же утонченная, как взмах крыла, поскольку именно так называли Его восточные народы, если бы Ты увидел эту Богиню с розовыми волосами, Ты бы обнял Ее, и тогда Она перестала бы быть Богиней, но превратилась бы в обычную женщину, как все мы».
Маленькие царицы захихикали с превеликой радостью. Оскорбление было так надежно облечено в лесть, что Усермаатра мог лишь ответить: «Рассказывай свою историю, Гиппо, пока я не сжал твой живот и берега этого озера не покрылись маслом».
«Миллион и несметное число извинений, — сказала Медовый-Шарик, — за то, что задержала Твое развлечение. О, Великий Осиамандиас, кожа этой Богини с розовыми волосами была белой, и поэтому Она любила лежать в болоте среди зелени влажной болотной травы. Однажды туда пришел пастух, который был красивее и сильнее прочих мужчин. Увидев Богиню, он тотчас же возжелал Ее, но Она сказала: „Сперва мы должны помериться силой в Моем пруду". Желая подразнить Ее, он спросил: „И что же, если я проиграю?" „О, — ответила Она, — ты отдашь Мне одну из своих овец". Пастух схватил Ее за волосы и притянул к себе. Ее голова пахла так же восхитительно, как роза, но его руки попали в капкан из шипов, таившихся в Ее волосах. И вот Она обхватила его бедра, бросила его на землю и села ему на голову. Тогда он обнаружил шипы в волосах другого леса. О, его рот стал кровоточить еще до того, как Она отпустила его. Ему пришлось отдать Ей овцу. На следующий день он пришел бороться снова, и проиграл, и отдал другую овцу. Он бился каждый день, покуда не исчезло его стадо, а его губы не превратились в сплошную рану».
Тут Медовый-Шарик принялась смеяться и не могла остановиться. Сила ее голоса, подобно первому подъему нашего Разлива, была способна втянуть в себя все находящееся на берегу. Одна за другой, остальные маленькие царицы тоже начали смеяться, а за ними и евнухи, покуда все не разделили настроение истории.
Может быть, дело было в колоби, или то явилась одна из прихотей Царя, однако когда веселье маленьких цариц не прекратилось, принялся смеяться и Сам Усермаатра, Он осушил половину кубка и передал то, что осталось, Медовому-Шарику. «Маатхерут, — сказал Он, — в твоем голосе действительно пребывает Истина». И по тому, как я услышал это ухом Мененхетета, в котором ее голос отдавался, как звон колокола, я понял, что Маатхерут называли ее в те дни, когда она была стройной и прекрасной, и звук этого имени вызвал в их мыслях — у моей матери, моего отца и моего Фараона — легкий возглас изумления — ибо, как я только что узнал, имя Маатхерут даровали лишь самым великим и мудрейшим из жрецов, лишь тем, кто действительно обладал Голосом-Истины, только тем, чей голос, произнося сокровеннейшие молитвы, звучал несравненно ясно и твердо (поскольку тогда они в состоянии, подобно тому как обращается в бегство наступающее войско, заставить отпрянуть в смятении всех Богов, которые могут помешать молитве). Лишь Верховных Жрецов удостаивали подобного знака уважения. Однако здесь присутствовала Медовый-Шарик, которая получила имя Маатхерут. Это могло означать только Та-в-чьем-голосе-пребывает-Истина.
«Усермаатра-Сетепенра, — сказала Медовый-Шарик, — если мой голос исполнен ясности, то причина ей — то благоговение, которое я чувствую при звуках Твоего имени».
Приглушенные голоса маленьких цариц добавили к сказанному свое согласие. Их благочестие смешалось с туманом над озером. Считалось, что совершенно безукоризненное произнесение всего множества имен Усермаатра являет собой силу, достаточную для того, чтобы поколебать землю.
«Хорошо, — сказал Усермаатра. — Надеюсь, ты всегда произносишь Мое имя с осторожностью. Мне очень не хотелось бы отрезать тебе палец на второй ноге».
Одна маленькая царица неожиданно так судорожно глотнула воздух, что это услышали все. Другие перестали смеяться. Медовый-Шарик, словно уклоняясь от удара, повернула голову. И все же она пробормотала: «О, Сесуси, я стану в два раза толще».
«Тогда в Доме Уединенных не найдется кровати, которая смогла бы выдержать тебя», — сказал Он ей.
«Что ж, кровати не будет вообще», — ответила она, и ее глаза вновь сверкнули. Мененхетет был восхищен. Этой ночью ее осанка разительно отличалась от других дней, в которые ему приходилось видеть ее, когда она выглядела обыкновенной толстухой, ковылявшей по тропинкам Садов на постоянно болевших от давившего на них веса ногах. Теперь же, когда она восседала на золотой скамейке, так как золотые стулья были для нее слишком узкими, ее тело казалось тяжелым, но выглядела она величественной, как Царица, по крайней мере в этот час.
«Расскажи другую историю, — сказал Усермаатра, — и расскажи ее хорошо».
«Повинуюсь, и если мне это не удастся, Великий Осиамандиас, — сказала она, — я сама отдам свой палец». Несколько маленьких цариц не смогли сдержаться и рассмеялись вслух от ее дерзости, и громче всех Нубти, маленькая богиня золота, которая получила такое прозвище оттого, что в последнее время стала носить светлые парики — иными словами, шерсть рыси, посыпанную золотой пудрой, и все говорили, что делает она это с целью побудить Фараона, когда Он находился среди Уединенных, видеть в ней сходство с Маатхорнефрурой.
«Пусть эта история будет длинной, — сказал Усермаатра. — Я больше люблю длинные истории».
«Есть одна история, в которой говорится о двух чародеях, — начала Медовый-Шарик. Речь ее была подобна ветру, что удерживает парящих птиц в полете, настолько полнилась она звуком ее голоса. — Первым, кого я назову, был Хор с Севера. Еще до рождения ему было позволено спать у ног Осириса.
Другого мага звали Хор с Юга. Он был черным. Имя ему дали нубийские жрецы, укравшие много свитков папируса из Храма Амона у Первого Порога. Вернувшись в свои нубийские пустыни, они усвоили это знание и использовали его тысячу лет, покуда не обрели необычайную мудрость. Затем они стали наставниками черного мага, Хора с Юга, до того времени, когда он отправился в Фивы, чтобы напугать Фараона».
«Какого Фараона?» — спросил Усермаатра.
«Великий Возлюбленный Солнца, я не могу этого сказать, чтобы не навлечь на Египет несчастье».
Он выглядел разгневанным, но не посмел настаивать. «Продолжай свою историю, Маатхерут. Посмотрим, стану ли Я счастливым, когда ты закончишь».
В темноте над головами женщин пролетела шальная белая бабочка, а тишина над озером была настолько глубокой, что мне показалось, что я слышу трепет ее крыльев.
«По пути ко Двору, на всем его протяжении от раскаленных пустынь Нубии до Фив, этот Хор с Юга каждую ночь не забывал вынимать из своей книги, где была собрана мудрость магии, папирус и растворять его в вине. Затем он выпивал это вино, и магические слова, записанные на папирусе, проделывали путь внутрь его мыслей. Таким способом Хор с Юга исполнился необоримой мудрости. К тому дню, когда он появился при Дворе, о Хоре с Юга можно было сказать, что в блеске его глаз пребывало Тайное Имя Ра. Однако когда он постучал в Двойные-Врата, у них уже стоял колесничий, чтобы схватить его. Дело в том, что прежде него примчалось много свидетелей, предупредивших о приближении чужака-нубийца, от которого исходит запах колдовства. Так оно и было. Никто не может проглотить слишком много магических слов, чтоб от него не разило корнями и камнями».
«Мне нравится этот рассказ», — сказал Усермаатра.
«Хор с Юга сказал стражнику: „Никакие путы не удержат меня". — Он поднял палец, и веревка, связывавшая его кисти, разорвалась на маленькие кусочки, которые поползли прочь, подобно червям».
«Ты видела это?» — спросил Усермаатра.
«В своем сне, Великий Повелитель, в нем я видела это».
Усермаатра отхлебнул еще колоби и шумно выдохнул. «Гляди, — сказал Он, — на Мою магию. Даже белую бабочку опалил огонь из Моего рта». Пролетавшая бабочка на самом деле покачнулась в полете. Маленькие царицы захихикали.
Медовый-Шарик подождала, пока ее молчание не стало сильнее звуков, которые издавал, глотая Свое колоби, Усермаатра. Затем она сказала: «Поскольку никакие веревки не могли удержать его, Хор с Юга прошел через парадную площадь и сказал Фараону „Я — Хор с Юга. Я пришел в Египет, как чума. Ни у одного мага нет силы противостоять мне. Я возьму Тебя с собой обратно в Нубийское Царство, и мой народ будет смеяться над Тобой"».
«Аиииии!..», — взвизгнула одна из маленьких цариц, но Медовый-Шарик не прервала повествования.
«Не успел Фараон что-либо ответить, Хор с Севера вышел из Дома Уединенных и сказал: „Моя магия столь же могущественна, как и эта чума!" Фараон взмахнул Своей плеткой семь раз, объявляя, что хочет посмотреть на единоборство этих магов, однако Его приближенные стали умолять Его подождать. Они знали Хора с Севера как сына одной из маленьких цариц, не более того. Они не видели его спящим у ног Осириса в Стране Мертвых. Но Фараон знал, — сказала Медовый-Шарик, и все маленькие царицы захлопали в ладоши, восхищаясь Его мудростью. — Хор с Юга, однако, вовсе не казался испуганным. Он протянул вперед пустую руку, и — представьте! — в ней оказалась палка. „Меду, — сказал он, — слово, означающее палка. Оно также значит слово. Поэтому я черчу этой палкой магическое слово. — И дальше он забормотал скороговоркой: — Меду есть это меду для меду, как и меду, меду. Посредством которого меду может произвести меду". Но концом палки он начертил треугольник, из которого вырвалось пламя и разгорелось в воздухе с таким ревом, что все, бывшие при Дворе, отшатнулись назад». Теперь Медовый-Шарик замолчала и очень торжественно взглянула на Усермаатра, прежде чем продолжить.
«Хор с Севера спокойно встал и очертил круг, заключив в него своего Фараона. Пламя отступило назад. Теперь в другой руке мага с Севера появилась золотая чаша с небольшим количеством воды. Хор с Севера подбросил эти несколько капель в воздух, и они вернулись на землю проливным дождем, который загасил пламя. Хор с Юга оказался мокрым, как река, что принесла его сюда, но Хор с Севера и его Фараон остались сухими. Тем не менее, когда все приближенные принялись смеяться, Хор с Юга рассмеялся им в лицо, причем от всей души, а затем без промедленья начертил в воздухе непристойный кружок заднего входа. Это тот круг, что напоминает спицы в колесах захваченных Тобой колесниц, великий Усермаатра. Он был отвратителен! Круг этот наполнился могучим ветром тех самых страшных пустынь, из которых пришел этот нубиец, и в нем пребывала вся вонь мерзких ветров, исторгнутых нубийскими властителями в знак презрения ко Двору Фараона. — Помимо своей воли, несколько маленьких цариц захихикали, но Медовый-Шарик сделала вид, что не заметила этого и продолжала: — В ответ Хор с Севера покрутил концом своей палки, словно закручивал спираль, и все ветры, выпущенные нубийцем, скрутились вокруг его палки в тугой моток. Пуф! Хор с Севера вытащил свой посох из этих связанных ветров, и моток объяло пламя.
Теперь Хор с Юга показал свои зубы, и его голова стала уродливой, как у змеи. Он сказал Фараону: „Слушай меня: Твой Двор станет Твоей могилой!" — и с этими словами бросил свою палку в воздух. Долетев до верхней точки его броска, она отказалась падать обратно, но стала плавать наверху, растекаясь вширь, пока не превратилась в огромную каменную плиту у всех над головами. Тогда Хор с Юга сказал: „Эта крыша упадет, и Ты погибнешь под ней, если не согласишься отправиться со мной в Землю Нубии".
„А что произойдет в Нубии?" — спросил Фараон.
„Мои люди увидят Тебя на коленях".
„В таком случае я никогда туда не пойду", — сказал Фараон. „Погибни!"
В великом страхе все ждали, что сделает Хор с Севера. Тот был бледен, но цвет его глаз стал серебряным, и он улыбнулся под тенью огромной каменной крыши, закрывшей солнце. Издав крик, он также бросил вверх свою палку, превратившуюся в баржу, которая стала подниматься вверх, покуда не подошла прямо под огромную каменную крышу, а затем, сотрясаясь и тяжело скрипя, она наконец подняла ее обратно в небо.
Тут Хор с Юга сказал три странных слова. В тот же миг он стал невидим. Однако его это не защитило. Немедленно Хор с Севера повторил те три слова наоборот, и Хор с Юга был вынужден вновь появиться. Теперь он превратился в хлопающего крыльями черного петуха. В этом облике он мог лишь издавать леденящие душу жалобные крики».
«Как они его похоронили?» — спросил Усермаатра.
«О нет, великий Сесуси, это еще не конец. Хор с Севера вызвал воина, чтобы тот отсек часть тела, жившую между ногами петуха. При этом Хор с Юга наделал много шума. Он стал умолять Фараона спасти жизнь между его ногами.
„Я спасу тебя, — сказал Фараон, — если, соблюдая равновесие Маат, ты согласишься с тем, что я буду превращать в евнухов всех плененных Мною нубийцев. Предоставляешь ли ты такое право Мне и сыновьям Моих сыновей на тысячу лет?"
Хор с Юга зарыдал. „Я пропал, — вскричал он, — поэтому пропала и вся Нубия! Делай то, что Ты хочешь. Обещаю не возвращаться в Египет тысячу лет". Когда Фараон кивнул, Хор с Севера сделал знак. У петуха отросли перья, и он улетел прочь. Но нога между ног всех плененных нубийцев была потеряна, и они научились прислуживать в Доме Уединенных всем грядущим Фараонам».
«Это так, — сказали евнухи маленьких цариц, — наверное, это и есть правдивая история, объясняющая то, почему мы здесь», — и у них вырвался вздох.
«Ты закончила свой рассказ?» — спросил Усермаатра.
«Почти, остался самый конец». Будто для того, чтобы показать, что этой ночью с ней пребывают многие Боги, весь свет, который только могла дать убывающая луна, ложился на ее лицо, и глаза, нос и рот Медового-Шарика были прекрасны, или, по крайней мере, могли бы быть такими, если бы их не окружала полнота ее лица, круглого, как сама луна. Но на этом лице глаза ее были большими и темными, нос необычайно изысканной формы, а линия рта изогнутой и очень мягкой для столь сильной женщины.
«Каков же конец?» — спросил Усермаатра.
«О, великий Сесуси, — сказала Медовый-Шарик, — с тех времен, о которых я рассказала, прошло более тысячи лет. Теперь Хор с Юга, возможно, готов вернуться».
«Если это так, то как же Мне найти Хора с Севера?» — спросил Усермаатра. Он говорил легко, но Его голос был тяжел от выпитого колоби.
Она пожала плечами. В темноте сила ее движения ощущалась в воздухе. «Позволь мне вознести молитву Ка Хора с Севера. Великий маг может пожелать найти себе преемника».
Теперь в моих ушах звучал уже голос не Медового-Шарика, но Мененхетета. Я вдруг сел прямо, как будто меня дернули за волосы. Я настолько углубился в его мысли, что его голос напугал меня, как неожиданный крик животного рядом с палаткой. «И стоило ей заговорить о преемнике, — произнес необыкновенно ясно мой прадед, — как меня охватила дрожь. Я трясся всем телом той теплой ночью. Одна из маленьких цариц указала на меня и воскликнула: „Почему тебя напугал этот рассказ?!" Я сказал ей, что мне не страшно, а просто холодно. Но мне было страшно, Медовый-Шарик не раз обращала на меня свой взгляд, и я осмелился посмотреть ей прямо в глаза. В тот же миг от нее ко мне пришла мысль. Мысль эта была такая: „Я обучу тебя кое-чему из этого искусства магии"».
ДВА
Теперь, когда его голос тем не менее вновь поднялся на поверхность его мыслей, мой прадед выглядел гораздо бодрей и принялся вслух рассуждать о некоторых тонких ощущениях.
«В тот час Его опьянения, — сказал мой прадед, — Усермаатра, я думаю, был сильно взволнован этим рассказом о двух магах. Ведь, как вам известно, Он считал, что Его убьют в Садах Уединенных. Если бы я сказал вам сейчас, что Он был прав в Своих подозрениях, когда все было совсем не так, я мог бы вызвать недоумение. Он не умер насильственной смертью. Однако, если взглянуть на это иначе, я бы мог утверждать, что в тот год Его чуть не убили, и сделать это должен был я, хотя, как мы все знаем, Он дожил до весьма преклонного возраста; было даже расхожее выражение „Рамсес Второй-старый-как-Ра", и в последние годы Его Правления я даже стал Верховным Жрецом. Он ведь умер за несколько лет до того, как закончилась моя вторая жизнь. Я все еще помню, как дети говорили на Его похоронах „Умер Бог" и удивлялись, как может без Него сиять солнце. Он был Фараоном шестьдесят семь лет. Однако после той ночи, хотя Ему и предстояло царствовать еще тридцать четыре года, не думаю, что нашлось бы хоть одно время года, когда бы Усермаатра не боялся возвращения Хора с Юга.
Разумеется, той ночью я не знал этого. Он ничем не выдал своего страха. Если история, рассказанная Медовым-Шариком, и оказала сразу же какое-то воздействие на моего Правителя, то состояло оно в том, что она пробудила Его желание. Сияние в Его животе было почти ощутимо. Оно разгоралось в моем великом Фараоне, подобно пламени под испарениями колоби. Евнухи запели в такт своим движениям. Их руки ударяли по бедрам в определенной последовательности легких хлопков в таком быстром ритме, что я мог слышать треск сверчков и цокот лошадиных копыт. Один из этих евнухов мог даже так искусно перебирать пальцами по своим коленям, что слышалось журчание ручейка или плеск маленьких волн. При этих звуках из темноты объявилось множество мошек и бабочек, они влетали нам в уши и вылетали оттуда, словно мы были водорослями, а они — стайками маленьких рыбок. Медовый-Шарик принялась напевать без слов, и голос ее был таким звучным, что я вновь не мог узнать женщину, которую видел перед собой. Иной раз она выглядела бесформенной в своих одеждах, но с того момента, когда этой ночью она вышла из воды, тело ее казалось крепким, а сама она — не лишенной очарования. Подобно некоторым толстым людям, когда она пребывала в унынии, кожа ее была дряблой, но, когда чувствовала себя счастливой, ее тело становилось упругим.
В эту ночь она пела песню о любви крестьянки к пастуху, нежную, невинную песенку, и Усермаатра пил под ее звуки колоби и утирал слезы. Подобно многим могучим людям, Он любил немного всплакнуть, слушая что-то нежное и чувствительное. Но не слишком долго. Вскоре Медовый-Шарик запела следующий куплет. Мелодия была та же, но теперь пастух не интересовался девушкой, а вместо этого рассматривал задницу своей овцы — гадкая песня. Медовый-Шарик начала издавать крики удовольствия, подражая блеянию животного, которым овладел пастух. „О, — стонала она голосом, который будоражил всех нас, — О", и воздух пульсировал.
Теперь Усермаатра был готов. „Пойдем, — сказал Он ей. — Ты, Хекет, Нубти, Оазис! — Голосом, в звуках которого Он не потрудился скрыть жар Своих медленных огней той ночью, Он добавил: — Пусть это будет дом Нубти. — Затем, словно в Его руку пришла новая мысль, как бывало, когда Хер-Ра стоял рядом с Ним и лизал Его пальцы, Усермаатра сказал: — Мени, ты пойдешь со Мной" — и Он взял меня за руку, и этот путь мы прошли вместе.
Удивительно, но в Его глазах я превратился в Хер-Ра. Это льву, а не мне Он предложил Свою дружбу. Я же при этом чувствовал себя нелепо. Под всеми данными себе клятвами познать сладость мести я за все эти годы так истосковался хоть по какому-то знаку Его расположения, что, без сомнений, был готов рычать как лев, только бы Он подольше не отнимал Своей руки.
Тем временем, пока мы шли, произошли странные вещи. Если для Него я уподобился Хер-Ра, то могу лишь сказать, что рядом с собой я чувствовал быстрый стук копытец дикого кабана. Что за попутчик! В первый момент я подумал, что этот кабан — подарок Медового-Шарика, тогда я еще не знал, что ошибаюсь, ведь после ночи, проведенной в доме Нубти, дикий кабан часто бывал рядом со мной, пока его не убили, о чем я вам тоже расскажу, но позже. Когда же на следующий день я шел по лужайке, вдоль которой в сумерках плавно скользила черная лебедь, дикий кабан, несомненно, был со мной, и он так же был рядом, когда я останавливался у дома маленькой царицы, чтобы посмотреть, как одна укладывает волосы другой. Постепенно я разглядел его морду и знал ее хорошо, но никто, кроме меня, не мог видеть это существо. Он ходил за мной повсюду, но вызывать его я не мог. И хотя, чтобы он появился, было достаточно представить себе его морду, иногда он все же не появлялся, и в те ночи, когда я был один, мне трудно было выносить звуки, доносившиеся из пивного дома. Шумы, производимые в темноте маленькими царицами, казались мне оскорбительными. Конечно, привыкнув к обществу этого молчаливого существа, в его отсутствие я бывал необычайно строг.
Я уже знал, что эта сотня маленьких цариц не всегда ожидала, когда наш божественный Рамсес подарит им удовольствие, иногда кончалось тем, что они любили друг друга. Это открытие вызывало во мне протест, притом что их поведение должно было показаться мне знакомым. Я вырос среди толпы мальчишек, которые постоянно лезли друг на друга. Нашим выражением, обозначавшим сильного покровителя, было „тот-кто-у-меня-на-спине". Так что с малых лет не осталось ничего, чего бы я не знал о том, как оседлать других, хотя моей гордостью, поскольку я был сильным, служило то, что никто не бывал на моей спине. Тем не менее мне было невыносимо думать о том, что эти женщины делают друг с другом и каким образом более сильные маленькие царицы обходятся со слабыми — как будто те их рабыни. В те ночи, когда Его Колесница не въезжала в ворота и не было слышно громов Его любовных утех, вместо них раздавались более нежные крики, резкий визг, стоны и прочая музыка многих женщин во многих комнатах. Обычно, когда женщины занимались подобными играми, одна из них перебирала струны лютни, сопровождая развлечения других. Я же, слыша эти звуки, не мог избавиться от образов, возникавших в моих мыслях. Видеть одну маленькую царицу у сладкого мяса другой было равносильно тому, чтобы упиваться собственной кровью. Но при этом у меня не возникало неуважения к моему царственному Повелителю. Все мы знали, что Он любит наблюдать, как Его маленькие царицы резвятся друг с другом. „Ну да, — часто говорил Он, — ведь они — струны Моей лютни и должны учиться звучать согласно".
Однако я, в особенности когда рядом не было кабана, частенько думал об этом как о части той грязи, которая поднимается на поверхность воды во время разлива, чуме, возникающей от этих женщин, а иногда даже осмеливался задавать себе вопрос: любят ли они Его так же, как постепенно привыкли любить друг друга? Бывало, две маленькие царицы на самом деле жили в одном доме как муж и жена или брат и сестра, а их дети говорили об обеих как о родителях. Мне казалось, что для женщины любить другую женщину больше своего Фараона равносильно молитвам о ниспослании ужасного бедствия. Так проходили во мне легионы всех этих преданных Фараону мыслей, но, когда я шел по Саду с кабаном, я становился другим человеком, был терпим к их играм и страстно желал сам обладать ими. Настолько, что даже любил наблюдать, как они ели, как танцевали, как пели песни, расчесывая волосы друг другу, или рылись в ларцах друг у друга, выискивая подходящие для себя украшения. Конечно же, тогда я, подобно Нефхепохему, мог назвать любое средство, которое они использовали для украшения себя или поддержания своей красоты».
«Есть ли что-то, чего я не знаю?» — спросила Хатфертити.
«Нет ни одного цветочного масла, из которого ты не готовила бы притирания», — ответил он.
«А травы?» — настаивала она.
«Отбирались только лучшие и нежнейшие благовония. У них не было необходимости в горечи гальбанума или кассии».
«Да, — сказала моя мать, — но как насчет душистого нарда?»
«Им они пользовались, а также шафраном и корицей и сладким вином, которое оставляет аромат самой любви, когда его втирают в бедра с маслом и небольшим количеством сока жареного мяса».
Теперь уже Птахнемхотеп сделал нетерпеливое движение. «Ты уже начинаешь грешить тем, что говоришь слишком мало, — сказал Он. — Я хочу знать: что произошло в доме Нубти?»
«Я не знаю, как рассказать Тебе об этом, — сказал Мененхетет, — без того, чтобы не выставить себя дураком».
«Это вряд ли возможно, — сказал Птахнемхотеп. — Раз уж Я слушал тебя так долго, это значит, что ты таковым не являешься. Однако Мне трудно себе представить, что ты был на высоте в каждую ночь своих четырех жизней. Даже Фараон может вести Себя как глупец. Ну вот, я сделал совершенно недопустимое замечание».
«Что ж, если мне приходится об этом говорить, то я сделаю это быстро», — сказал мой прадед и наклонился вперед, словно для того, чтобы даже начать это нежелательное для него дело, ему нужно было пуститься вскачь.
«У маленькой царицы Нубти была фигурка Амона, живот которой был не больше моей ладони. Однако тот жезл, что располагался между Его золотыми ногами, не был сокрыт, совсем наоборот — он был воздет кверху на высоту в половину роста Самого Бога, и Усермаатра преклонил колени перед этим маленьким Богом, воздел Свои собственные руки, словно говоря, что весь Он, Он Сам и каждый Ка из Его Четырнадцати, служат Амону. Затем Он сомкнул Свои губы вокруг золотого члена, самого жезла Бога Амона.
„Ни один человек никогда не входил в Мой рот, — сказал Усермаатра, — но я счастлив, целуя меч Амона, познавая вкус золота и рубинов". Действительно, на конце этого члена, на самой его головке был укреплен большой рубин.
Затем Он встал, а Хекет и Оазис сняли с Него нагрудную пластину и льняную юбку. „Ну-ка, Мени, — сказал Он мне, — помолись Мне, будто Я — меч Сокрытого", и Его член предстал перед моим лицом, и, проглотив его, я ощутил, как наш Нил поднимается в Нем. Моя голова прыгала, подобно лодке на сильной волне, а маленькие царицы хихикали, в то время как жар Его колоби ворвался в мое горло и прошел внутрь моей груди и через все в ней вниз, до пупка, и теперь я знал, отчего со мной был кабан. Ни одна из маленьких цариц не осмелилась бы коснуться своим накрашенным ногтем моей кожи, но кабан держал свой толстый нос между моими щеками и не преминул бы проглотить семя моего Царя, если бы оно прошло сквозь меня так быстро. Итак, я не был обожжен жаром чресел Усермаатра, но лишь Его презрением. Вот, я рассказал вам самое худшее», — сказал мой прадед, — о первом унижении из тех, что мне суждено было познать той ночью в глазах моего Фараона, и это после того, как я поклялся, что больше никогда не потерплю от Него стыда. Именно это мешало мне приступить к повествованию, об этом так тяжело было поведать. Но теперь у меня такое ощущение, будто камень поднят, и я расскажу вам остальное. Ибо произошло многое.
Они умастили Усермаатра. В ту ночь, как и в другие ночи, когда меня там не было, Он сидел, подобно Богу Амону, в то время как маленькие царицы служили Ему так же, как Язык и Чистота, под чем я подразумеваю, что они, как было заведено, очень нежно вытирали Его лицо и наносили на Его глаза новую краску, снимали с Него украшения и переодевали в свежие одежды, а затем они произносили стихи над теми украшениями, которые на Него надевали. Каждый снятый предмет маленькая царица целовала точно так же, как и каждый предмет одежды, в который они Его облачали. Поскольку в те дни я не совсем понимал разницу между поцелуями и едой — да и какой крестьянин понял бы это? — то думал, что они производят эти негромкие звуки, чтобы показать, что ткань вещей, надеваемых на Фараона, хороша на вкус.
И вот в ту ночь, как и во все предыдущие, они окропили благовониями Его брови и брызнули несколько капель в свои рты, и каждая из этих цариц, одна за другой, приняли Его меч, а другие в это время бормотали: „Боги украшают Себя, и имя Твое — Украшение".
К моему изумлению, Он отдался маленьким царицам, словно был женщиной. Он лег на спину и поднял вверх Свои мощные бедра, разведя колени шире Своих могучих плеч, а мою руку сжимал в Своей с такой силой, что я вряд ли смог бы высвободиться. Однако это было лишь началом. Я все еще был преисполнен страха и ожидал, что дом Нубти с ревом охватит пламя, но стены вокруг нас просто дрогнули, словно от удара, и остались стоять — возможно, на самом деле — это просто дрожало мое тело. Тогда я все еще продолжал жить в страхе перед грядущим несчастьем, однако, когда его не случилось, мой ужас уменьшился, и точно так же ослабело и пожатие Его руки.
К концу Его рука обмякла, и я мог чувствовать волны Его удовольствия, по мере того как они прибывали в Нем, накатываясь из искусных ртов маленьких цариц. Да, даже сейчас я могу сказать Тебе, великий Птахнемхотеп, обо всем том, что пребывало в Усермаатра на пути к моменту, когда Он был готов извергнуться. В те мгновения мне было дано познавать Его так, как никто, кто не был Фараоном, не может знать столь Доброго и Великого Бога. Среди того удовольствия, когда четыре маленькие царицы преклонили колени перед великим и прекрасным телом Усермаатра, я познал Его. Хекет прильнула ртом к Его ноге, и ее язык скользил между Его пальцами, подобно серебристой змее, струящейся между золотыми корнями, Оазис же, искушенная в искусстве осыпать его легкими прикосновениями своего языка и долгими поцелуями, владела мечом Усермаатра, в то время как кончику языка Нубти принадлежали Его уши, нос и веки. Да, и все эти ласки, подаренные Ему Хекет, Оазис и Нубти, проходили через Его пальцы ко мне, и я ощущал себя более прекрасным, чем все цветы в Садах Уединенных, и парил в переливах радуги, тогда как Он лежал, раскинув ноги и согнув колени. Именно в тот момент Медовый-Шарик приблизила свои губы к тому рту Усермаатра, что жил между Его ягодиц, и когда она целовала Его там, ее язык входил в Его врата, и она познала вход, ведущий в Его недра. Он лежал там, и, пребывая в Его руке, я был с Ним. И я ощутил, каково находиться в Лодке Ра, плывущей вверх по реке Дуата в Стране Мертвых, и из той Лодки она представала дивным местом — со змеями и скорпионами за каждым поворотом, пламенем в пастях зверей, ужаснее которых я никогда не видел, и с Полями Тростника, трава на которых казалась мягкой даже ночью. Усермаатра плыл через Страну Мертвых, и я был с Ним, а кабан — у моих членов, дающих жизнь. Он видел в Солнце и Луне Своих двоюродных братьев. Затем река стала подниматься к рубину Его меча, что был в сладких губах Оазис, и я услышал, как Он воскликнул: „Я есть, Я есть все, что будет!", — и в тот самый миг, когда раздались крики женщин, Он извергся, и огненный дух колоби зажегся во мне красным и изумрудным светом.
Так я извергся рядом с Ним, когда все силы Его подъема хлынули в меня через Его пальцы, но затем мое излияние было отброшено назад рылом того кабанчика, и я почувствовал, что мной обладают — от рта до заднего входа — Великий Царь и странная свинья были хозяевами обоих концов реки, протекавшей через меня, точно так же, как Осирис повелевает входом и выходом из Страны Мертвых.
У меня не нашлось повода веселиться. Как только Усермаатра извергся, как женщина, Он тут же был готов выступить как мужчина, и теперь Его не интересовал ни один рот, пребывающий между бедер Его четырех маленьких цариц. Он взял мои несчастные щеки, в которых всю ночь проторчало кабанье рыло, и перед женщинами Он вновь сделал из меня женщину. „Аиииих, Казама", — хихикая, выкрикивали они, и тогда я узнал, что они прозвали меня „Казама". Употребляя между собой это имя, они говорили: „Погонщик-Рабов", однако теперь погонщик рабов сам превратился в раба. „Аиииих, Казама", — кричали они, смеясь. Но я не смеялся. Держа Его руку, я жил в благословенных водах. Но не так было с Его мечом. Он причинял мне боль. У меня не было видений. Я дал клятву, что если это был второй раз, когда Он проник в мои внутренности, то третьего не будет, пусть даже Он отрежет у меня все и оставит внутри ограды с евнухами».
При этих словах голос Мененхетета умолк, и я, слушавший его с закрытыми глазами со всем своим вниманием, теперь широко открыл их и увидел свою мать в другом конце покоя на коленях перед Птахнемхотепом, и я подумал, что Его меч находится у нее во рту. Однако, что бы ни происходило между ними, все закончилось, как только я сел. Тем не менее моя мать все еще урчала как кошка. Мой отец спал. Во всяком случае, он не двигался, и его глаза были закрыты. Он громко и страдальчески храпел. Светлячки сияли так ярко, что мне показалось, я могу разглядеть выражение на лице моего прадеда, а он находился далеко от нас. Это было поистине так. В следующее мгновение он заговорил голосом Медового-Шарика.
ТРИ
Я знал, что это звуки ее голоса. Все то время, что я жил в мыслях своего прадеда, я слышал, как она говорит. Теперь глаза его закатились, как у мертвеца, а из горла раздался голос Медового-Шарика.
«Казама, я не видела, как ты уходил, — сказала она. — Но я смеялась с остальными, потому что Он превратил тебя в женщину. Ты болтался, как червяк, на крючке Его силы. Однако теперь я думаю не о Сесуси, но о ране в твоем гордом сердце. Ты ощущаешь себя податливым, как земля, по которой течет река. Скажи мне, что это не так».
«Это так», — произнес мой прадед своим собственным голосом из самого сердца этих чар, и тем не менее в убывающем мерцании светлячков я знал, что он вновь обрел спокойствие, но его голос стал голосом такого дряхлого старика, какого я никогда не слышал, а выглядел он на сто, больше чем на сто лет. Во внутреннем дворике пахло старым камнем. Я пытался вспомнить, есть ли в моих собственных челюстях хоть какое-то отверстие, в промозглом воздухе этого склепа я не мог дышать. Однако голос Медового-Шарика заговорил снова, и меня вновь обступили приглушенные звуки той ночи. Я слышал, как она говорила устами Мененхетета: «Как ясно я ощущала боль в твоих мыслях. Они испытывали страдания, подобные судорогам в животе при рождении ребенка. Правда, Казама?» «Да, это так», — сказал Мененхетет.
«В тот час ты не знал — мужчина ты или женщина. Ты мог только спрашивать себя: отчего мужчина превращается в женщину, а женщина — в мужчину?»
Когда затихло последнее эхо ее голоса, голова Мененхетета поднялась, и он посмотрел на всех нас, словно до этого спал сто лет. Его лицо обрело свои прежние черты, утратив приметы старости, проступившие на нем. Никогда ранее я не видел, чтобы он выглядел таким молодым — сейчас перед нами был мужчина лет шестидесяти, которому среди нас можно было дать и сорок, на вид он был сильнее колесничего. Мой отец перестал храпеть и проснулся, а у моей матери на губах играла улыбка удовлетворения, как будто она попробовала саму сердцевину тайны.
«Да, — сказал Птахнемхотеп, — расскажи нам еще об этом Медовом-Шарике, ибо она вызывает у Меня почти такое же любопытство, как и Мой великий предок, да приветствует Он Меня на Полях Тростника. — И Он громко чмокнул губами, чтобы напомнить, что сегодня — все еще Ночь Свиньи, и благочестие — не столь надежная защита, как кощунство. — Да, — сказал Он, — расскажи нам о ней, пока рассвет не обжег наших глаз. Вероятно, вскоре Хатфертити и Я захотим отыскать наш сон». Со смехом, в котором прозвучала великая радость — первый искренний звук настоящего счастья, который я услыхал от Него, — наш Фараон встал на ноги и поцеловал моего отца в бровь.
«Это так», — сказал мой отец.
«Снова говори голосом Медового-Шарика», — крикнул Птахнемхотеп моему прадеду, будто и Он пил колоби.
«Божественные-Два-Дома, я на мгновение заснул и теперь чувствую себя хорошо отдохнувшим. Ты слышал ее голос?»
Птахнемхотеп рассмеялся.
«Вероятно, так оно и было, — сказал Мененхетет. — Сейчас я думаю о ней».
«Да, продолжай, — сказал наш Фараон, — Я с удовольствием послушаю».
«Насколько я припоминаю, — сказал мой прадед, — когда я вышел из дома Нубти, стояла безлунная ночь, в моих несчастных глазах она была столь же черна, как самые ужасные из моих мыслей. Я отыскал пруд, в котором любила оставаться на ночь черная лебедь, и попытался поговорить с ней, однако не мог думать ни о чем, кроме своего стыда. Тогда я дал вторую клятву. Стыд, как и любой другой яд, нуждается в соответствующих ему необычайно сильных лекарствах. Я решил искать мужества, даруемого самим безумием, дерзнув сделать то, на что не осмелился никто другой — забраться в постель к одной из маленьких цариц.
Храбрость состояла уже в том, чтобы продолжать думать о столь немыслимых вещах на протяжении второго вздоха. Ибо другие узнавали о том, что ты подумал, именно во время него. И все же я знал, что должен произнести клятву отчетливо. Поэтому я сказал себе эти слова, но дрожал так сильно, что затрепетала и лебедь. Она захлопала крыльями, и от их взмахов по всему пруду пошли маленькие волны, так что вода в нем громко заплескалась. Я был уверен, что нарушил сон в каждом доме в Садах Уединенных. Затем пруд вновь успокоился. Я стал думать о Медовом-Шарике. Из грудей этой округлой женщины поднималась нежность ко мне, подобная прибывающим водам реки, когда земля еще суха, а затем позади меня возник пятачок кабана, ткнувшийся мне в бедро.
Позвольте мне не говорить о тех днях, что прошли перед моим первым посещением, а также о всех тех страхах, которые мне удалось победить лишь для того, чтобы споткнуться о новый страх. Все подобные истории похожи друг на друга. Не думаю, что смог бы войти в ее дом, если бы в своих мечтах я не шел к нему постоянна Как я желал, подобно Усермаатра, лечь на спину и почувствовать ее рот у своих нижних врат.
Можно сказать, что меня тянуло к ней, подобно одному из кусков черной-меди-с-небес, которого соблазняет другой, ибо в ночь, когда Усермаатра не пришел в Сады Уединенных, я предстал перед ее дверьми. Хотя в тот раз я даже не попытался сесть рядом с ней, уходя, я спросил: смогу ли прийти завтра? И она согласилась, но сказала: „Никто не должен больше видеть тебя здесь ночью" — и провела меня к дереву у стены в ее саду, по ветвям которого я мог выбраться от нее. Таким образом, я мог войти, не разбудив ее служанок или евнухов. Прикоснувшись к ветке, я вспомнил ночь, когда сидел, опершись спиной о другой ствол на пути в Кадеш, и я кивнул, и она положила свою руку мне на шею и медленно потерла ее. Из ее пухлых пальцев ко мне пришла сила, подобная той, что я однажды получил от ливанского дерева.
После того как я ушел, я уже не мог заснуть. Той ночью я был во власти ее притяжения. Мне никогда не нравились такие грузные женщины, и все же мысль о подобной полноте словно ласковый ветер шевельнулась в моем животе. Признаюсь, я ощущал себя едва ли не равным одному из тех яиц в середине навозного шарика, которые толкают перед собой вверх, на речной берег, наши жуки-скарабеи, ибо посреди попыток заснуть я был богат, как Сам Хепри, и теплым, и полным земли, и снова ощущал запахи нашего египетского навоза, столь богатого всем тем, что гниет и умирает, но все еще разит застарелой алчностью, и подумал: не окажется ли этот запах запахом плоти Медового-Шарика, когда улетучатся ее благовония. И в то же время я чувствовал себя наполненным золотом, и видел за закрытыми глазами золотое небо, и слышал, как из него раздается гром, точно свету Ра мало дарить себя зерну, тростникам, отблескам на реке и самой драгоценной руде земли — самому золоту, но он желает также согреть всю грязь и проникнуть в самый центр той печи, сжигающей навоз, которая и представляла собой мое удовольствие. При этой мысли я сел на постели. Я ненавидел низменную притягательность, которую, возможно, нашел бы в ее объятиях, но все же был тверд в своем намерении познать ее, ибо я был хуже мертвого, стыд, который я носил в себе так много лет, теперь воспламенился.
Итак, я поднялся, прошел по Садам и взобрался на дерево напротив ее стен, преодолел по ветке ограду и спрыгнул в ее сад. Она ждала меня в своей комнате, но я упал в ее объятия с таким страхом, что мой меч уподобился мыши. Она показалась мне больше самой земли. Я думал, что заключил в свои объятия гору. Той ночью у меня не было сил войти даже в ягненка. Та струйка, что была вызвана из меня, ничем не напоминала пламя огнедышащего змея или сияние Ра, и не птица несла меня на своих крыльях, но меня вытаскивали из самого себя, и, конечно же, тянула меня вперед она, ее рука дергала меня вверх и вниз, покуда воды не были подняты до конца моего живота и за его пределы. Я узнал, что такое извергаться в страхе. Когда мы закончили, я даже не ощутил стыда, только огромное облегчение. Вскоре я готов был уйти.
Однако она вовсе не так спешила выпроводить меня. Лежа рядом со мной, она вздохнула так тяжело, словно ощутила, что тень большой птицы легла на ее тень, и сказала: „Я доведу тебя до дерева". Но, когда я надел сандалии, она повела меня в другом направлении, и, пройдя через дверь, мы вошли в комнату, наполненную запахами праха многих давно умерших зверей и животных. В углу, рядом с углублением в стене, стоял маленький алебастровый горшок с маслом и горящим фитилем. В его свете она взяла из другого горшка три щепотки праха, перемешала его с вином, отпила половину и дала оставшуюся половину мне. Я ощутил вкус, который был старше гробового камня.
Она рассмеялась мне в лицо. Смех был достаточно громким, чтобы разбудить других обитателей ее дома, но она положила тяжелую руку мне на плечи, как бы говоря, что ее слуг не удивит никакой шум, который она производит по ночам, и я понял — поскольку она говорила со мной почти без слов, что то, что мы выпили, послужит мостом от ее горла к моему. По нему будут идти мои мысли. Я также понял, что комната рядом с ее спальней представляла собой убежище, где она укрывалась каждую ночь, когда не могла сомкнуть глаз, а затем мой нос так же быстро поведал мне о небольших жертвах, которые приносили здесь. Я увидел алтарь, стол из гранита и вдохнул застарелую кровь многих маленьких животных, отдавших ей свой последний страх. Затем я понял, что ту же силу, что имеет жук Хепри, заставивший, когда я лежал в постели, шевелиться мои внутренности, имел и прах пойманного ею и засушенного (после удаления головы) навозного жука, смешанный с вином. Она, вероятно, растолкла его, просеяла, а затем произнесла над ним магические слова. Сейчас мы оба выпили это вино, что вновь заставило меня подумать о навозном жуке. Мы испытываем такое благоговение перед его силой, что не исследуем более тонкие особенности его поведения. Но в детстве я провел не один день на речном берегу, где у меня не было другого развлечения, кроме наблюдения за жуками, и я видел, как они толкают шарики вверх по берегу к норкам, где их закапывают. Этот навоз послужит пищей для яиц, отложенных внутри. Однако, если сбить двух жуков с толку и подменить им шарики, они все равно выполнят свои тяжкие обязанности, обойдясь точно так же с чужим шариком. Говорю это вам потому, что тогда, стоя рядом с Медовым-Шариком, я понял, что она складывает наши цели воедино и смешивает наши мысли до такой степени, чтобы Усермаатра никогда не смог представить нас рядом друг с другом. Той ночью, перед тем как я ушел, видимо, для того, чтобы иметь надо мной большую власть, чем Он, острым маленьким ножиком она отрезала кончики моих ногтей, собрала их, смешала и измельчила их своим ножичком. Затем она съела их у меня на глазах. Я не знал, кто передо мной: женщина, Богиня или животное. „Если ты пришел сюда из любви ко мне, — сказала она, — твои руки научатся ласкам. Но, если ты послан Усермаатра, твои пальцы разделят боль прокаженного, перед тем как отвалятся. — И вновь она улыбнулась, увидев выражение моего лица. — Ну-ну, — сказала она, — я верю тебе, немножко", — и она поцеловала мои губы. Я говорю — поцеловала, так как то была первая ночь, когда я на самом деле испробовал это. Я знал тайную блудницу Кадеша, свою женщину в Эшуранибе и многих крестьянок, и я испытывал приятное чувство, когда смешивались наши дыхания. Крестьяне говорят друг другу: „Благородные едят с золотых блюд, поэтому они знают, как касаться друг друга ртами". А тут она наложила свои губы на мои, и они остались прижатыми к моим. Я ощутил себя спеленутым, как мумия, только бинты были из самой тонкой ткани, какой я только касался. Ее язык был слаще любого пальца, но одновременно, когда он входил в мой рот, казался маленьким мечом. Нет, пожалуй, он более походил на маленькую змейку, извивающуюся в меду.
„Приходи ко мне завтра ночью, если Его не будет", — сказала она и повела меня к дереву, но только я отправился обратно, ко мне вернулось желание. Однако когда я пришел следующей ночью, то снова был слаб. Подобно шадуфу, ее рука снова помогла поднять меня над самим собой. И вновь я узнал лишь стены ее тела, но не смог войти в ее врата. Однако она была снисходительна и в ту вторую ночь и сказала: „Приходи ко мне, когда сможешь, и в одну благоприятную ночь ты станешь таким же храбрым, как Сам Усермаатра". Будто для того, чтобы сказать, сколько ночей потребуется для обретения этого знания, она представила меня своим скорпионам. Их у нее было семь: Тефен, Бефен, Местет и Местетеф, а также Петет, Тхетет и Метет. Я не мог поверить, что она знает каждого из них по имени, поскольку в коробке, служившей им гнездом, они двигались, словно нищие, которые ничего не должны друг другу. Но она брала их своими пальцами и клала на глаза и губы и совсем не боялась, что они ее ужалят. „У них те же имена, что у семи скорпионов Исиды, — сказала она мне, — и они происходят от тех по прямой линии". В свете ее масляной лампы я мог видеть, как те скорпионы покрывали семь врат ее головы: глаза, уши, ноздри и рот. Затем она сняла их, посадила обратно в коробку и поцеловала меня. Она сказала, что предки этих семи скорпионов создали семь наших душ и духов. Затем она отослала меня домой. Началось мое обучение.
Теперь, как я уже говорил, я был единственным мужчиной, живущим в Садах, который не был евнухом. Поэтому мне не хотелось думать о том, каким прекрасным поводом для веселья станет в домах маленьких цариц, когда они, одна за другой, узнают об этом, рассказ о той моей ночи с Усермаатра. Я оставался за стенами моего собственного сада и больше не ходил целый день от одного дома к другому. Такие походы были весьма полезны из-за сплетен, которые обсуждали в каждом доме, но благодаря евнухам и Главному Писцу Садов, также евнуху — о нем я расскажу вам позже — не было ничего, что случилось бы с Принцем, Управляющим, Верховным Жрецом, Царским Судьей, Третьим Надзирателем при Визире или даже, — он кивнул в сторону моего отца, — Помощником Первого Смотрителя Ящика с красками для лица Царя, что не дошло бы до нас в Садах. Я говорю — до нас, но евнухи узнавали слухи первыми, от них — маленькие царицы, а я, в лучшем случае, последним. Но даже так, обо всех счастливых событиях и несчастьях, случавшихся со всеми в Фивах, я знал больше, чем в прежние дни, когда, будучи колесничим, проносился по городу на всем скаку. Так что было весьма приятно посещать маленьких цариц, угощаться их пирогами, вдыхать их разнообразные благовония, восхищаться принадлежащей им посудой или золотыми браслетами, ожерельями, мебелью, свободными одеждами, детьми, до тех пор, пока не были исчерпаны все полагающиеся любезности и мы не переходили к самому интересному — сплетням, и я узнавал многое о разных высокопоставленных особах. Однако в конце все они всегда говорили о Царицах — Нефертари и Маатхорнефруре. Разумеется, у всех маленьких цариц были свои симпатии, подобно школам жрецов, которые возносят молитвы в разных храмах, так можно было услышать, что Маатхорнефрура останется в милости лишь на это время года, или, с не меньшей легкостью, что Она будет Его возлюбленной в течение долгих лет. Вскоре я увидел, что эти слова были лишь отражением того, что маленькие царицы рассказывали друг о друге. Этим сплетням можно было доверять. Послушать рассказ одной — значило поверить, что другая маленькая царица только что впала в немилость.
Таким образом я узнал немало их секретов и еще до того, как стал навещать по ночам Медовый-Шарик, начал понимать ее, чем отчасти был обязан рассказам ее подруг, а также тех маленьких цариц, которые не принадлежали к их числу. Слушать две стороны одной и той же истории было все равно что есть одновременно два блюда — они одновременно переваривались в животе. Я знал о ее утрате задолго до того, как я взобрался на ее дерево или услышал ее пение у озера. Конечно, все, что я смог услышать, было лишь эхом. Я видел, как людей убивают тысячами, а их тела пожирают, но согласно равновесию Маат выходило, что все эти ужасы легче, чем горе этих маленьких цариц из-за одного отрезанного пальца. В Садах Уединенных Медовый-Шарик была Его любимицей — с этим были почти готовы согласиться ее друзья, и те, кто ее не любил. Тогда она не была толстой, и даже евнухи не осмеливались смотреть на нее во время купания — настолько чувственной была ее красота. Она носила имя Маатхерут совершенно заслуженно. Но она была тщеславной, слишком тщеславной даже для маленькой царицы. Да, после всего хорошего и плохого, что я услышал о ней, я пришел к такому твердому убеждению. Она была тщеславной. И вот она выменяла у Хекет — самой уродливой из всех маленьких цариц! — нечто на ожерелье, когда-то принадлежавшее матери Усермаатра. Затем она осмелилась дразнить нашего Фараона. Она сказала Ему, что обменяла то ожерелье на вазу из алебастра, так что не может ли Сесуси найти ей вторую вазу, которая была бы парой этой? Когда она Ему это сказала, они были одни в ее постели. Он встал, схватил Свой нож и, удерживая ее ногу за щиколотку, отрезал ей палец. Меретсегер, эта Богиня Молчания, никогда не закрывавшая свой рот, говорила мне, что в тихую ночь над поверхностью многих прудов все еще можно услышать те вопли Маатхерут, а ее враги рассказывали, как она помчалась, чтобы приказать спеленать, а затем забальзамировать свой палец. Некоторые говорили, что после той ночи изучение магии стало ее постоянным занятием. Она растолстела, а в ее саду разрослись редкие и обычные травы, ее комнаты заполнились тем, что она собирала. Место некогда самых красивых из всех принадлежавших какой-либо маленькой царице изделий из алебастра заняли теперь выщербленные горшки. Она много возилась с корешками, шкурами и порошками, которые в них растирала. Дурно пахнущие дымы постоянно поднимались из утвари, стоявшей на огне в покое, где она занималась своей магией, и можно было унюхать вонь от испражнений птиц и ящериц или змей, которых она держала во множестве в разных клетках. Нечего и говорить, что она знала имена не только всех этих животных, но также и всевозможных камней и веток, которые хранила, не говоря уже о собранных здесь мотках паучьей паутины, пряностях, травах, змеиных шкурах — цельных и измельченных, сосудов с солью, сушеных цветов, благовоний, цветных ниток, освященных папирусов и многих горшках с маслами — египетскими и иноземными, некоторые из которых были извлечены из незнакомых мне растений и трав, причем одни надо было использовать при свете луны, а другие — когда солнце в зените. Она знала названия многих редких полевых корней, которых я никогда не встречал, у нее было множество различных волос и среди них завитков со лба многих маленьких цариц и больше чем нескольких евнухов.
Каждое утро она рисовала для себя новый талисман на папирусе, приобретенном накануне днем евнухом Кики, которому она доверяла более других, имя этого евнуха означало масло касторовых бобов. Притом это было женское имя, но какая разница — евнуха можно назвать как угодно. Касторовое-Масло было столь же подходящим именем, как и имя ее второго любимца — Себека из Саиса, названного так по причине его прискорбного сходства с крокодилом. Прислуживая ей во время утреннего обряда, эти два евнуха так смотрели друг на друга, что можно было подумать — крокодил боится, что его зажарят в касторовом масле. Такой благоговейный страх внушала Медовый-Шарик. Ведь эта женщина могла зачаровывать змей, которых она держала в своем доме, всего лишь движением своих тяжелых рук, которые сами были так похожи на больших змей, или известными ей магическими словами. Именно эти последние она использовала, чтобы вызывать духов, поскольку, как она объяснила мне позже, никакой дух не может устоять перед своим Тайным Именем — ведь он слышит его так редко».
«Мне знакомы многие описания духов, что окружают нас, сказал — Птахнемхотеп, — но в твоем рассказе они предстают какими-то странными птицами или зверями».
«Маатхерут не раз повторяла, что наши мысли, смешиваясь с дыханием Богов, становятся некими существами. И хотя они и невидимы, но все равно твари. Некоторые духи даже живут вместе, как птицы одного семейства, или объединяются и становятся такими же сильными, как войска. Они могут собираться во множестве, подобном горам или великим городам на реке».
«Это правда, — сказала Хатфертити. — Я испытывала чувства столь властные, что они будут жить еще долго после того, как меня не станет». — И она взглянула на Фараона, раскрыв всю глубину своей способности выказать подобное чувство.
«Да, — сказал Мененхетет, — для тех, у кого сильные чувства, создать несколько духов — не редкость. Однако, сотворив их однажды, мало кто из нас в состоянии отозвать их обратно. Дело в том, что мы не знаем Тайного Имени. А вот Маатхерут имела власть приближать и отдалять духов, зная, какие вещества при этом надо употреблять. Можно сказать, что она умела выбрать между кровью быка и кровью лягушки. В то время как слышать чужие мысли в тот самый момент, когда они только возникают, — царский, даже Божественный дар, Медовый-Шарик знала, как в одиночку путешествовать по тем невидимым рекам, которые образуются из мыслей всех нас. Когда во время своей второй жизни я был жрецом, то научился приближаться к той могучей силе, что поднимается к небесам, в то время как слуги Амона и те, кто присутствует на церемонии, совместно постигают Сокрытого. Когда мы плывем по водам общей молитвы, наши мысли столь же схожи, как маленькие волны на реке. Жрецы таким образом могут служить кормчими на судне своего большого храма.
У Медового-Шарика не было постоянных посетителей ее храма, на которых можно было бы опереться. Однако она знала, как вызывать отдельных духов и побуждать их, чтобы они призывали других.; Должен сказать, что трудилась она усерднее любого жреца».
«Расскажи нам тогда о тех чудесах, которые она творила», — сказал Птахнемхотеп.
Мененхетет семь раз коснулся головой своей руки. «Я не говорю об истинных чудесах того века, который, возможно, знал битвы Хора с Севера и Хора с Юга. Нет, вместо этого я расскажу Тебе о Садах Уединенных и о ее доме с садом в них. Дом был небольшим по меркам Уединенных, за пределами гарема располагался Дворец и все храмы Усермаатра.
Итак, чтобы должным образом оценить работу Медового-Шарика, ее нужно сравнить с огромным числом молитв, которые возносили жрецы. Какая полноводная река духов постоянно текла между Усермаатра и славным солнцем Амоном-Ра.
Тогда как Медовый-Шарик отправляла лишь свои обряды. Однако она занималась ими большую часть дня, а иногда и за полночь. Порой, когда я являлся к ней ночью, она пребывала в комнате, где держала свой алтарь. Много времени могло пройти в соблюдении чистоты ритуала, прежде чем я мог заговорить. Все это время она не делала ни одного несовершенного движения, и если вы спросите, что я имею в виду, то я не смогу вам сказать ничего, кроме того, что треугольник, который она чертила иногда в воздухе острием тонкой палочки, оказывался не обыкновенным треугольником, но на моих глазах был готов вспыхнуть языками пламени. Когда она произносила заклинания, в ее голосе слышались звуки открывающихся и закрывающихся дверей, падения огромных камней на плоские ложа других камней, скольжения ящериц и хлопанья крыльев, как бывает, когда множество птиц вдруг одновременно взмывает в небо. Вздох ветра входил в ее грудь, когда она делала глубокий вдох, а когда она говорила, рычание льва выходило из ее горла, однако все это было всего лишь частью ее привычной работы, у нее было много других дел. Так, на огнях ее алтаря стояли горшки, и составляющие зелья, предназначенные для закладывания в эти горшки, должно было укрепить магическими словами. Иногда, готовясь к обряду, она проводила весь день за чтением отрывков из свитков папирусов, которые Касторовое-Масло или Крокодил приносили ей из хранилищ рукописей храмов, и она делала выписки на свой собственный папирус. Из всех маленьких цариц она была единственной, кто мог писать так же хорошо, как Главный Писец, иногда я брал некоторые из тех старых храмовых свитков и разворачивал их листы, выпуская на волю пребывавших в них маленьких птичек, и папирус говорил мне о многом, чего я не могу назвать, — настолько сильными были мысли, содержащиеся в нем.
Наблюдая за тем, как она пишет, я думал обо всех знакомых мне маленьких писцах, занятых подобным трудом, и поражался силе этого действия, и спрашивал себя: отчего столь тщедушные люди наделены такой великой способностью обращаться к Богам, несмотря на то что, когда они, большинство из них, говорили, их голос никогда не был голосом Истины, но всегда ломким, как тростник, скрипучим голосом. Однако те слова, что они наносили на папирус, обладали властью вызывать силы, покоившиеся в молчании. Таким образом, они могли взывать к силам, которые пребывают вне досягаемости того, кто обладает голосом Истины. Ведь говорить — значит оскорблять силу молчания.
Она уважала эту силу. Однажды я увидел на внутренней стороне ее предплечья две ранки — маленькие надрезы, сделанные в одном направлении рядом друг с другом, — это она наказала себя за то, что произнесла слово, когда поклялась хранить молчание. В другие дни она разговаривала, но не упоминала себя. Собираясь обедать, она говорила слугам: „Начался обед". При необходимости она могла пожелать жить вне своего тела, словно находиться вне покоя, перемещаться из своего тела в свой Ка, так что ее Двойник мог выходить и глядеть на нее.
Это позволяло ей трудиться для достижения многих целей. Некоторые из них были важными, другие — незначительными, как, например, возмещение какого-то ущерба. Как и все в Садах, она знала способ отгонять москитов и была столь искусной в подобных делах, что ей вовсе не нужно было обводить круги вокруг своей головы или произносить вслух надлежащие молитвы. Вместо этого при первом звоне этих маленьких тварей она поднимала сжатый кулак и раскрывала его. Те тут же улетали. Можно было слышать писк, который они издавали, обращаясь в бегство».
«У меня есть мази с такими сильными запахами, что москиты никогда не подлетают близко, — сказала Хатфертити, — и я пользуюсь ими, когда не могу вспомнить молитву, предназначенную для начертания круга, или мои пальцы чувствуют слабость. Не вижу, в чем твоя Медовый-Шарик превосходит меня в этом искусстве».
«Поскольку она потеряла расположение Царя, а ты, возможно, приобрела его, твои слова во многом справедливы», — ответил мой прадед.
Птахнемхотеп был счастлив. «У членов твоей семьи всегда находится ответ, — сказал Он Хатфертити. — И все же Я бы поостерегся говорить слишком пренебрежительно об этой Маатхерут».
«Велика мудрость Девятого, — сказал Мененхетет, — ибо так оно и есть. Маленькая царица, чьи слова о Медовом-Шарике были слишком жестоки, могла получить укус от ее скорпионов. Поскольку Ка Медового-Шарика знал, как покидать ее тело, она временами даже навлекала на себя укусы многочисленных москитов. Сколько раз я видел, как она, совершенно беспомощная, спала на своей постели, если только так можно сказать, поскольку ее тяжелое тело было покрыто таким количеством москитов, что любого другого они могли убить. По возвращении ее Ка она пользовалась их ядом, остававшимся в ее венах после одной из таких ночей. Одна из маленьких цариц, плохо отозвавшаяся о Медовом-Шарике, была так искусана самыми крупными москитами, что в течение многих дней не могла выйти из своего дома. Настолько распухло ее лицо.
Для того чтобы рассказать о ее способностях, не стоило говорить о таких пустяках. Позвольте предложить вам более достойную историю. Каждую ночь, когда Усермаатра оставался вдали от Садов, я просыпался в темноте и с кабаном, тыкавшимся рылом в мое желание, и, влекомый ее притяжением, пробирался к ветке, по которой перелезал через ее стену. Хорошенько оглядевшись и удостоверившись, что поблизости не было евнухов, я отрывался от земли, на которой был Управляющим, и спрыгивал в сад внутри Садов, где росло так много незнакомых мне растений и где сила покидала меня. Каждую ночь я держал ее в своих объятиях, но мой меч был подобен змее со сломанной шеей, и, когда она целовала меня, я не знал, как жить в биении ее губ. Полновесность ее губ имела тяжесть меда, вливаемого в мед.
В такие моменты я не мог ощущать удовольствия. Слишком отчетливым было воспоминание о ее лице у врат Усермаатра. Теплое чувство поднималось во мне, когда я видел ее рот на Нем, и я вновь ощущал себя женщиной — столь насыщенным было мое удовольствие, но я ничего не чувствовал как мужчина — так мало я мог расшевелить себя. И все это наслаждение лишь крутилось во мне, подобно маслу, которое никогда не выливают из горшка. Я стал ненавидеть свою способность ясно видеть ее губы на Нем, во мне даже поднималась неприязнь к ней, к этому тупому весу ее тела, к запаху, несмотря на благовония, исходившему от ее подмышек. Как это бывает у толстых женщин, он стекал с ее влажных ресниц.
Но однажды ночью, после семи ночей неудач, она сказала: „Ты живешь в Его ярости. Я сделаю лодку, чтобы подняться над Ним". На моих сомкнутых веках, закрытых от усталости, граничившей с отчаянием, она легко, но твердо нарисовала своим ногтем корабль. В темноте эти линии предстали перед моими закрытыми глазами так отчетливо, словно были огненными. И по мере того как я узнавал каждую часть корабля, она произносила ее обычное название своим собственным голосом, которому отвечало шепотом ее Тайное Имя. Казалось, звучание этого второго голоса возникало из скрипа дерева, натяжения веревок, хлопанья полнящегося ветром паруса. Я слышал стоны весел в уключинах и не смел открыть глаз из страха, что образ этого судна исчезнет.
„Я — Киль, — говорила она, и другим голосом ответила: — Мое Тайное Имя — Бедро Исиды. — Затем первый голос сказал: — Я — Руль, — и тут же пришел ответ: — В моем имени есть Нога Нила".
Чем напряженнее я вслушивался, тем меньше слов она говорила, покуда ей стало достаточно сказать: „Весла, — и ответ приходил из скрипа самого судна: — Пальцы Хора».
Вскоре она говорила лишь для одного уха, а Тайное Имя я слышал в другом. „Нос, — сказала она, и ответ был: — Управляющий Земель". „Мачта", — сказала она. Я услышал шепот: „Небо".
„Столб Привязи", — сказала Медовый-Шарик, на что последовал ответ: „Пребывающий в Святилище".
„Насос, — объявила Медовый-Шарик, и тогда ее собственный низкий голос произнес: — Рука-Исиды-стирает-кровь-Хора". При этом ее рука взяла мою несчастную мертвую змею и стала сжимать. Подобно ветру, касающемуся воды так мягко, как это могут кончики Твоих пальцев, дыхание ее ноздрей пронеслось по поверхности всего, что она держала на ладони, покуда наконец она не сказала: „Мачта, — и, не двигая рукой, пробормотала: — Приведи-госпожу-назад-покуда-она-не-ушла". С этими словами она взяла в рот вялую головку моей несчастной змеи, которая больше не была мертвой, но скорее напоминала раненый меч. Затем, по мере того как лодка стала продвигаться по воде, ее рот заскользил вверх и вниз по волнам, и я не знал, Ра ли это, которого я увидел в своем теле, или царское удовольствие Усермаатра, но она легла на спину и потянула меня на себя. Это произошло так быстро, что я погрузился в ее плоть. Я даже вскрикнул. Огонь и камни бросали меня из стороны в сторону, затем, когда я извергся, выкинули меня из нее, но моя лодка перелетела через край неба. Она целовала мой рот. И я понял. Моя плоть осмелилась войти туда, где мог пребывать один Фараон. Я все еще был жив. Как только Усермаатра прочтет мои мысли, я, конечно, тут же умру. И все же никогда мое дыхание не было исполнено такого восторга.
Но Медовый-Шарик начертила круг Исиды над моей головой — двойной круг — и врата моих мыслей закрылись. „Иди, — сказала она, — и возвращайся завтра"».
ЧЕТЫРЕ
«Никакая опасность, которой я бросал вызов в Битве при Кадеше, не могла сравниться с этой, — сказал мой прадед, — так как, когда сражение завершилось, с ней было покончено, теперь же мне предстояло быть настороже каждый день своей жизни. И все равно я не мог дождаться следующей ночи. Пока я управился со своими мелкими обязанностями, которыми мне пришлось заниматься в то утро, я ощущал такой прилив сил, что едва удержался, чтобы не схватить нескольких маленьких цариц. Мне казалось, что я все еще в лодке — или в том, что еще оставалось от моей лодки! — и плыву вместе с солнцем.
Тем вечером Он прибыл в Сады, так что я не смог увидеться с ней. Усермаатра проводил время с другими маленькими царицами, но все же я не рискнул навестить Медовый-Шарик. Его присутствие заставляло бодрствовать всех евнухов, и они копошились в каждом кусте. Кроме того, сами маленькие царицы прислушивались к каждому звуку. Ночь походила на заполненное тьмой ухо. Все же я мог бы попытаться, но в присутствии Усермаатра, находившегося на расстоянии одного-двух домов, рядом с ней я мог оказаться таким же оцепеневшим, как сама эта жаркая темнота, а испытать такой стыд еще раз мне не хотелось. И вот всю ту ночь мне пришлось слушать Его громкий смех и хрюканье, вылетавшее из Его горла. Подобно Ра, Он был близок к животным, и Сады наполнил рев льва и буйвола, вой шакала и лай крокодила, из Его горла вылетало голубиное воркование и даже такие высокие крики, которые способны издавать немногие птицы. Я не мог заснуть, а мой кабан подобрался поближе и дышал у моих чресел.
На следующую ночь Усермаатра оставался вдали от Садов, и я был с Медовым-Шариком, готовый к нашей встрече. Как только мы легли, я уже оказался в ней, при первом ее движении — я уже не мог остановиться, и еще до того, как ее тело перешло в галоп, я проскакал до конца пути. На этот раз это я услышал всхлип, крик, короткий яростный стон и падение, отозвавшееся во всем ее теле.
К тому же мои ощущения приятно отличались от прежних. До этой ночи стоило мне только извергнуться, и я уже был готов покинуть ее объятия. Однако в эту ночь я захотел сделать это снова, и вскоре мне это удалось, и в этот раз было еще лучше. Наконец-то я овладел своими чувствами. Память о том, что ее рот был рабом Усермаатра, вызывала во мне достаточное отвращение к ней (и к себе), сдерживавшее мои порывы и, к моей радости, позволявшее раскачиваться вперед-назад, как бы нежась в лодке, и даже пронести ее бедра через вздымающиеся волны, взять ее в настоящее путешествие обоих наших тел по реке ночи, покуда каждый шорох животных в клетках ее сада не превратился в прибрежные звуки, и даже любопытная мышь перестала бегать по щелям в стенах. Я отведал искусства поцелуев, в котором она столь преуспела, и хотя всего несколько дней назад на ее губах был вкус членов Усермаатра (что вселяло в меня великое отвращение, поскольку Он был мужчиной), однако Он был также и Богом, а все, происходящее от Бога, годится для пиршества, собственно, как говорили, наша плоть сотворена из отправлений Амона, а благовония есть сладкие ароматы Его разврата. Поэтому в тот момент я был в состоянии поочередно предаваться то обожанию, то отвращению, отступая всякий раз, когда был готов извергнуться, и в конце мы уже скакали в едином ритме, заставляя другого раскачиваться с одинаковой силой, а после ощутили истинное отдохновение в объятиях друг друга, и маленький кабан вновь был при мне, но очень нежно.
Могу сказать, что, начиная с той ночи, мое теплое чувство к ней стало более сладким. Ибо в моих глазах она была прекрасной. Даже ощутимый вес ее бедер говорил мне о мощи крупных животных, а в ее талии пребывала жизненная сила дерева. Я обожал ее спину. Она была крепкой и состояла из прекрасных мышц, которые я когда-то ощущал в лапах Хер-Ра, а ее руки походили на бедра молодых девушек и вели меня к ее рту, исполненному меда. Бедра Медового-Шарика, когда я брал их в обе руки, наполнялись таким же удовлетворением, как талии двух молодых девушек, если бы я обнимал их одновременно.
Теперь с каждым разом я узнавал ее лучше и потому чувствовал себя все более несчастным по вечерам, когда приезжал Усермаатра. В одну из ночей, когда Он выбрал Медовый-Шарик вместе с другими маленькими царицами, звуки их наслаждения так взволновали меня, что я чуть не ворвался к ним. Такой конец был бы вполне мирным по сравнению с той жестокой пыткой, которую я вынес, прислушиваясь к доносившимся до меня звукам. Ибо вместе с муравьями я ползал по спекшейся пустыне своего сердца.
На следующий вечер Он снова был в Садах, но, зная голоса маленьких цариц, я понял, что на этот раз Он не выбрал ее. Не будучи уверен, быть ли довольным этим или презирать ее за недостаток чар, чтобы пленить Его во второй раз, я отбросил всякую осторожность, перелез через стену, лег к ней в постель и, когда она заговорила, познал ревность. Она сказала, что предыдущей ночью была свидетельницей всего, что Он делал, но не участвовала ни в чем сама. Когда Он спросил, отчего она стоит перед Ним с таким целомудренным видом, она ответила, что, готовясь к священному ритуалу, общалась со злыми духами и желала бы избежать опасности привлечь внимание этих невидимых людоедов-великанов, которые могут находиться поблизости к Его божественной плоти. Тогда Он спросил о цели ее обряда, и она ответила, что он предназначался для Жизни-Здоровья-Процветания Двух Земель. При этом Он хмыкнул и сказал: „Могла бы выбрать и более подходящий день", — но больше вопросов не задавал.
Такова была рассказанная ею история. Я не поверил ее словам. Страдая предыдущей ночью, я много раз слышал ее смех. Кроме того, Усермаатра не отличался терпением по отношению к тем, кто не мог доставить Ему удовольствия. Когда я собрался ей об этом сказать, она приложила пальцы к моим губам (хотя, уверяю вас, мы говорили так тихо, словно молчали) и прошептала: „Я сказала, что если не коснусь Его плоти той ночью, то смогу дважды наполниться от Него". Медовый-Шарик хихикнула в темноте. Хотя она уже не раз начертила над нами двойной круг Исиды, чтобы ни одна ускользнувшая мысль не смогла перейти в голову кого-то еще, все же она еще раз сделала это, дабы охранить нас от кары за то, что мы смеялись над Ним. „И что Он сказал?" — спросил я.
„О, — ответила она, — Он сказал, что окажет мне двойное внимание, когда взглянет на меня в следующий раз, — и с похабной ухмылкой она заговорила языком улиц, а губы ее касались моего уха. — Он сказал, что, будучи Повелителем Двух Земель и дважды Царем Египта, Он отымеет меня и спереди и сзади".
„А что ответила ты?" — прошептал я.
„Великие-Два-Дома, потребуются усилия всех маленьких цариц, чтобы отцеловать тебя дочиста. Он принялся смеяться, да так, что никак не мог остановиться. Все Его удовольствие было почти разрушено. Это единственный способ говорить с Ним".
„Ты сделаешь это?" — спросил я.
„Я сделаю все возможное, чтобы этого избежать", — ответила она, но с тем же непристойным весельем на губах. У меня возникло искушение ударить ее, но вместо этого я схватил ее ногу.
До этого, как бы мы не обнимали друг друга, она никогда не подпускала меня к своим ногам. Для такой крупной женщины они были крошечными — это я смог заметить, такие же крошечные, как ноги ее матери, которая считалась самой изящной среди богатых и благородных дам Саиса и была очень хрупкой женщиной. Медовый-Шарик сказала мне, что маленькие ножки — признак благородной крови, а когда я спросил, к чему такая изысканность, она посмотрела на меня с презрением. „Если наши волосы способны чувствовать шепот ветерка, наши мысли могут быть столь же изящными, как птички". „Да, — ответил я, — но, в соответствии с равновесием Маат, наши ступни должны быть огрубевшими, как земля". Она за смеялась: „Сказано крестьянином!" — и, снова рассмеявшись, разомкнула круг, образованный соединенными большим и указательным пальцами, с тем чтобы я смог войти в ее мысли. Тогда я увидел себя, болтающимся, как кукла, на конце меча Усермаатра. Я так разозлился, что готов был ударить ее, однако я этого не сделал. Иначе она никогда больше не позволила бы мне войти в свои мысли. „Милый Казама, — сказала она, — земля удерживает в себе самые глубокие мысли. Через наши пальцы, если они достаточно совершенны, входят крики из Страны Мертвых".
Все было просто. Вполне понятная причина для того, чтобы иметь маленькие ноги. И я бы никогда не коснулся их, если бы она, снова смеясь, не стала издеваться надо мной. И если бы не эта кукла, что стонала и хныкала и дергалась на крючке Усермаатра, я увидел Его в радости ее рта и схватил ее за ногу.
По тому, как она старалась вырваться, я сразу понял, что совершил что-то ужасное. Но я был слишком поглощен борьбой, чтобы понять причину этой молчаливой ярости (ибо мы сражались так бесшумно, что ни один слуга не проснулся бы), — именно на той ноге, которую я схватил, отсутствовал палец. Затем, поскольку я держал ее обеими руками, а она била меня другой ногой по запястью и голове, все, что я мог сделать, — это рассмотреть то несчастное место, где когда-то был маленький пальчик, и сейчас оно так же сияло под кончиками моих пальцев, как культя, оставшаяся от запястья на месте отрубленной руки грабителя. Однако как только я на самом деле прикоснулся к этому месту, то тут же понял, что совершаемое мной насилие — единственная возможность обольстить ее, и другой у меня никогда не будет. Ощущая себя сильным, как дерево, я просто позволил ей наносить удары по моему черепу, а сам стал осыпать поцелуями то маленькое сияющее место. Но от ударов ее ноги моя голова звенела так сильно, что я увидел, как мимо меня в изысканной лодке проследовала вся ее семья — золотое украшение на широких водах Дельты. И вот ее ярость иссякла, и Медовый-Шарик разразилась слезами. Ее всхлипывания стали самыми громкими звуками, что раздавались в ночи во всех Садах, и, подобно журчанию бегущей воды, принесли утешение их тяжкой тишине, ибо разве был в тех Садах хоть один дом маленькой царицы, где бы не плакали? Усермаатра никогда бы не обратил внимание на такие звуки. Тело Медового-Шарика вновь стало мягким, и я лежал, держа ее ногу, как добычу, и впитывал всю печаль, исходившую от нее, даже запах маленьких каверн между пальцами ее ноги был исполнен грусти, и я узнал, какое несчастье носила она в своей душе, и наконец встал, и поцеловал ее в губы, ощутив все ту же грусть, ах, в моей груди появилась такая жалость, какой я никогда не знал.
С того часа я стал видеть в ней сестру. У нас в деревне говорили: „Ты можешь проспать в постели женщины сто лет, но никогда не познаешь ее сердца, пока она не станет дорога тебе как сестра". Мне это высказывание никогда не нравилось, я не находил удовольствия в чувствах, навечно определявших ход дел, однако теперь, мне казалось, я понял, отчего Медовый-Шарик так растолстела. Нужно было лишь дотронуться до маленького обрубка ее пальчика, как это сделал один я, чтобы ощутить пребывающую в ней утрату: эта шишечка, оставшаяся от ее пальчика, была подобна скале в море молчания, и я мог чувствовать, как ее мысли бьются об эту скалу. И тогда я понял, что в ее мыслях лишь малая толика любви к Усермаатра смешивалась с ненавистью к нему, ненавистью, превосходившей мою. Она плакала, а я обнимал ее, и ее сердце говорило со мной, и мы принадлежали к одной семье: во всех Садах Уединенных не нашлось бы других мужчины и женщины, сжигаемых подобной жаждой мести. Только вдвоем мы смогли признаться в одной такой мысли, и мы высказали ее своим дыханием, не издав ни одного звука. Даже издалека Его чуткие уши могли уловить мысль, как сеть ловит птицу, и никто никогда не знал, когда Его нос может повернуться к врагу настолько легкомысленному, чтобы произносить проклятия вслух. Теперь, умудренный своими четырьмя жизнями, я могу лишь поражаться отваге, с которой мы поделились этими мыслями об отмщении, ведь если бы не охранительные круги, что она начертила над нашими головами, даже птицы побоялись бы шевельнуться».
«Все же мне ее несчастье кажется чрезмерным, — весьма самоуверенно заявила Хатфертити. — Безусловно, она была очень избалованной женщиной, чтобы продолжать вести себя таким образом».
«Я никак не могу согласиться с твоим мнением, моя внучка, и хотел бы заметить, что не изложил пока всех причин, которые у нее для этого были. То наказание, что представляется тебе ничтожным, было тем не менее столь болезненным для Медового-Шарика, что изменило всю ее жизнь и удвоило ее вес. Когда Усермаатра вынул Свой короткий нож, схватил ее за ногу — почему, как мне кажется, она и сопротивлялась столь отчаянно, когда я сделал то же, — и единым взмахом лезвия отделил ее палец, затем Он вернул ей маленький окровавленный обрубок, размером в половину червя.
Говорили, что она закричала и убежала — она мне это подтвердила, но она также выдержала его семьдесят дней в соляном растворе, забальзамировала и хранила в маленькой золотой коробочке, по форме напоминавшей саркофаг. Это поступок женщины, ценящей себя чрезвычайно высоко, но следует понять, что для ее семейства она была не просто маленькой царицей, но Царицей. Ее мать часто говорила: „За Нефертари следует Маатхерут". Разумеется, на самом деле этого никогда не было, но в глазах ее семьи все обстояло именно так. Поэтому оскорбление, нанесенное ее ноге, поколебало Небеса. Так ей это представлялось, и, чтобы привлечь к себе духов, она принялась в огромных количествах есть сало редких тварей: лебедей, больших змей и домашних кабанов».
«И все-таки я снова спрошу: из-за потери одного пальца она пожертвовала своей стройностью?» — настаивала моя мать.
«Она часто говорила, — ответил мой прадед, — что сделала это, подчиняясь воле Маат. Обретя немалые силы благодаря заботам о своем утраченном пальчике, теперь она была обязана носить их в себе. Больший дом — за большее богатство. Так она объяснила мне происшедшую в ней перемену, но я бы сказал, что она чувствовала себя очень уязвимой. Это не пустяк — сойти по царским ступеням от Первой Избранницы среди маленьких цариц до положения женщины, имя которой Он произносил дважды в году. Думаю, что, подобно мумии, ей приходилось прикрывать себя тройной оболочкой гробов.
Кроме того, она навлекла большое бесчестье на свою семью. Она рассказала мне, что в Саисе среди благородных семейств о ее потере ходило столько слухов, что одной из ее сестер, сосватанной за знатного молодого человека, совершенно неожиданно пришло сообщение о том, что тот решил войти женихом в другое семейство. Медовый-Шарик вздохнула, говоря: „Они с тем же успехом могли бы похоронить меня в овечьей шкуре".
И вот в те дни она заговорила о том, что могло бы явиться ее новым унижением. Она не знала, будет ли приглашена на Великие Собрания. Не понимаю, отчего те вечера носили столь царское название, однако у Усермаатра была привычка раз в году устраивать в Своем Дворце небольшое развлечение для нескольких маленьких цариц, во всяком случае в той его части, которую мы называли Маленьким Дворцом. Он даже приглашал некоторых приближенных из Фив. Как проходили те вечера, я знал, поскольку посещал их, будучи Главнокомандующим: ничего особенного — маленький пир, певцы и танцоры. Но для избранных маленьких цариц это была редкая возможность выйти за пределы Садов.
Поскольку за последние два года Великих Собраний не устраивалось, предстоящее стало поводом для надежд на веселье. У многих маленьких цариц были надежды. Были они и у Медового-Шарика. Она даже произнесла несколько небольших заговоров, хотя дым был слишком густым, как она мне сказала, а ее мысли слишком рассеянными. Самые сильные из подвластных ей духов не появлялись, когда она призывала их. Она сказала, что ее никогда не пригласят. „Не знаю — хочу ли я там быть", — с горечью добавила она Я, разумеется, ей не поверил. Для нее это значило слишком много. Последний раз, три года назад, все еще стройная, все еще обладающая всеми своими пальчиками, она была первой из десяти маленьких цариц, представленных Нефертари, и Царица указала ей на место рядом с Собой. Нефертари даже сделала замечание о голосе Маатхерут: „Говорят, твое горло столь сладостно, что побуждает к пению других", — заметила Царица. Я поразился этим словам, но Медовый-Шарик вспоминала тот вечер с удовольствием.
Теперь же, когда мы узнали, кто будет приглашен в этом году, я знал, что ее сердцу нанесен тяжелый удар. „Пустяк, — сказала она, — но боль немалая". Я почувствовал, что она по-настоящему горюет. В этом году, с приближением Празднества Празднеств, которое должно было ознаменовать Тридцать Пятый Год Его Правления (а кто из нас не знал, что у каждого он останется воспоминанием о величайшем празднике в его жизни), для некоторых маленьких цариц, и среди них Медовому-Шарику, безусловно, в первую очередь было необходимо получить приглашение на Великое Собрание, чтобы удостовериться, что их не обойдут на Празднестве Празднеств.
Надо сказать, что ее страхи пропустить это гораздо более значительное событие были не лишены оснований. Большинство маленьких цариц смогут каждый день покидать Сады Уединенных и общаться со знатью в только что отстроенном Зале Царя Унаса — или во Дворе Великих — редкая возможность для меленькой царицы пригласить своих родителей в Фивы. Однако все это зависело от того, была ли она матерью Его детей. Его сыновья и дочери должны были присутствовать и видеть своего Отца в Его Божественной Славе. Соответственно, поскольку таких маленьких детей было очень много, любая маленькая царица, не родившая Ему ребенка, никак не могла быть уверена, что ее пригласят. Следовательно, дорогу к такому приглашению могли открыть лишь Великие Собрания. Уныние Медового-Шарика было глубоким.
Думаю, что столь сильная боль была вызвана неудачей ее магии. Наша близость росла, и она вела себя скромней и уже не всегда стремилась показать свои возможности; собственно, бывали ночи, когда она оставалась моей сестрой и говорила о небольших обидах и маленьких огорчениях. И часто с ее губ срывалось старое выражение, которое можно было услышать в Фивах, в отношении людей, живущих в Дельте: „Те, кто населяют болота, пребывают в неведении". Значение этих слов было настолько самоочевидным, что я ни разу не усомнился в их правильности: жить в болоте — означало быть постоянно мокрым, облепленным насекомыми и слабым от жары. Все там росло слишком легко. Отсутствовало равновесие Маат. Человек существовал в каком-то оцепенении и ничего не сознавал.
„Это верно, — сказала Медовый-Шарик, — верно, но только не в отношении тех, о ком так сказать нельзя". И она стала рассказывать мне, как ее семья, на протяжении двадцати поколений жившая в городе Саисе, имела достаточно гордости, чтобы превозмочь оцепенение тех болотных краев. „Наше неизменное желание, — говорила она, — сохранять равновесие в противостоянии тем соседям, которые пребывают в неведении". После этого мне приходилось выслушивать ее размышления о глубине Нила и звездах в небесной вышине, о Богах в глубоких водах речных русел и Богах отмелей, о предостережениях звезд, глаза которых никогда не закрывались, и звезд мерцающих. Как она досадовала, что я не знал даже месяца своего рождения. При этом она разворачивала папирусы и показывала карты, по которым, зная час своего рождения, можно было вычислить время собственной смерти. „Сколько ты проживешь?" — спросил я ее, и она ответила: „Много лет. У меня длинная жизнь. — Затем она вздохнула и сказала: — Но я лишусь большего, чем мой маленький пальчик, и очень скоро. Так говорят звезды". — Вздох ее был тяжек.
Даже после того, как прошли Великие Собрания, и я смог заверить ее, что это не было значительным событием, и ни Царица Нефертари, ни Царица Маатхорнефрура на нем не присутствовали, настроение Медового-Шарика не улучшилось. Поскольку Оазис и Меретсегер рассказывали о прошедшем празднике как исполненном света и воодушевления, говорили, что им были оказаны всяческие знаки внимания, Медовый-Шарик сказала: „Сесуси не ценит меня, потому что я родом из Саиса". Причиной столь мрачного настроения было то, что в течение последних нескольких дней, дабы уравновесить безразличие к себе Усермаатра, она много сил отдавала магии, но из этого мало что получалось. Каждую ночь она исполняла ритуал Сворачивания-головы-Усермаатра, выкрикивая имена Богов, имевших большую силу, и голос ее дрожал от возбуждения. Однако на следующий день на ее лице проступали красноречивые следы усталости от всех ее бесплодных усилий.
Я стал спрашивать себя, как какой-то чародей мог бы свернуть Ему шею? Усермаатра был способен призвать тысячи Богов и Богинь: над Ним Их были мириады, а после женитьбы на Маатхорнефруре — мириады хеттских Богов под Ним.
И все же каждую ночь, лежа рядом с ней и чувствуя себя так, словно ее магия гораздо скорее могла свернуть шею мне, чем нашему Фараону, я не раздражался ее подавленным настроением и любил ее. Мы оба были в состоянии испить от грусти друг друга. Я лежал рядом с ней, положив свое лицо между ее грудями, и погружался в торжественность и глубокую решимость ее сердца до тех пор, когда уже не мог считать глупостью ее страдания по поводу Великих Собраний, но понял, что она воспринимает это как очередной ущерб, причиненный ее семье. Было бы настоящим несчастьем, если бы она не смогла пригласить их на Празднество Празднеств. Я начал понимать, что эта семья вознесена в ее сердце выше Усермаатра. В двух ее больших грудях жило все, что она была готова лелеять: ее отец, ее мать, ее сестры и я. Ощущая себя в ее плоти, я думал, что, хоть ее и трудно расшевелить, и я, возможно, уже никогда не смогу насладиться живостью, испорченностью и любовью к танцу, которые способны привнести в постель женщины с распутными грудями, это не может перевесить нашу сладкую и глубокую тишину, ее плотское предупреждение о том, что любовь, которую я обрету в этом лоне, не будет малой и пройдет нескоро. Вслушиваясь в тайные намерения ее сердца, стук которого доносился до меня из глубин ее плоти, я знал, что она, наперекор всему, решила довериться мне, что могло означать лишь то, что теперь она должна насылать чары из моего так же, как и из своего сердца, связать нас так крепко, что любая ошибка в магии, которой я научился, проделает прореху в ее колдовстве. И я также понял, что если я прямо сейчас не встану в темноте и не покину ее комнату, чтобы уже никогда не оставаться с ней наедине, то потеряю способность управлять тем, что еще оставалось от моей воли. Однако столь велика была сила ее сердца, что я не ощущал никакой тревога и желания двигаться и на самом деле уже был ее рабом и близким ей человеком.
В ту ночь она посвятила меня, и я сделал первые шаги к тому, чтобы стать Хором с Севера. Разумеется, такие занятия исполнены предательства и опасности. Теперь, глядя на результат, я не знаю, правильно ли я был наставлен на путь, ведущий к силе и мудрости чародея».
ПЯТЬ
«В том квадратном покое, где помещался ее алтарь, не было окон. Высота потолка равнялась длине пола. В центре стоял камень, украшенный разноцветными вставками — широкий круг, окаймленный узкой полоской ляпис-лазури, а по всем четырем стенам располагались низкие столы из черного дерева с ящиками и длинные сундуки с ее одеждами. Кроме двери, единственным отверстием была тяга, ведущая на крышу, через которую мог подниматься дым с алтаря.
Я помню каждое действие той ночи, когда она посвятила меня, но не стану излагать их в том же порядке из опасения, что ими могут злоупотребить. Я знаю, что Ты, Добрый и Великий Бог, можешь быть недоволен, если я не смогу рассказать всего, что произошло, и в должном порядке, однако суть магического ритуала познается лишь при его отправлении. Точно так же, как я доверился Тебе, открыв случившееся, о котором не знал никто в моей четвертой жизни, так и Ты теперь должен поверить мне и знать, что во всем, о чем я говорю, мое первое желание — охранять Твой Трон и Две Земли, над которыми он поставлен».
Птахнемхотеп наклонил голову. «Твои слова вежливы, но в них сквозит непочтительность, ибо они подразумевают, что мы равны и должны доверять друг другу, тогда как ты знаешь, как в действительности обстоит дело. Это ты должен верить Мне. Однако Я буду слушать то, что ты скажешь, и не потребую большего. Магия, к которой стремлюсь Я, — высшей природы, а не та, о которой повествуешь ты. В той мере, в которой ты переносишь тайны прошлого в Мои мысли (так что оно, это прошлое, пребывает в Моих членах, как Моя собственная кровь), ты исполнишь почетную работу высшей магии. Так что теперь Я не возражаю, если ты скроешь точный порядок ритуала своего посвящения».
Мененхетет семь раз коснулся своего лба. «Я благодарю великую мудрость Твоего ума, — сказал он. — Расскажу то, что безопасно: Медовый-Шарик очистила свой круг, окаймленный ляпис-лазурью, многими предварительными обрядами, и призвала дружественных Богов быть нашими свидетелями (хотя имена некоторых из Них я никогда ранее не слыхал). Потом, перед тем как мы начали, она спросила: „Готов ли ты присоединиться к моему Храму?" Когда я сказал „да", то почувствовал, что грудь мою переполняет шум, превосходящий рев битвы, и тогда она спросила вновь, и еще один раз, а затем внимательно прислушалась, как будто биение моего сердца могло сказать ей больше моего голоса, и наконец обратилась к своим Богам: „Ему были заданы три вопроса, и три раза он знал один и тот же ответ".
Теперь мы встали в круге, обведенном ляпис-лазурью, и она благословила мое обнаженное тело в строжайшем соответствии с ритуалом. Об этом я также скажу: она поднесла благовония к моему пупку и лбу, к моим ногам и горлу, к моим коленям и моей груди и, наконец, к волосам в паху. Затем она умастила те же места капельками воды, посыпала щепотками соли, поднесла к ним пламя свечи — достаточно близко, чтобы согреть меня, и, наконец, капельками масла. Теперь я был благословлен и подготовлен.
Она взяла с алтаря нож с прекрасной рукояткой из белого мрамора и острием таким тонким, что, если смотреть на него долго, глаза начали бы кровоточить. Затем она сняла свои белые одежды и стала рядом со мной такая же обнаженная, как и я. Этим ножом она уколола меня в живот, прямо под пупком, и смешала мою кровь со своей, так как произвела то же самое действие и с собой, в том же месте. Начав с этого места, она повторила каждый шаг благословения, беря по капельке крови из моего и своего лба, из моего и своего большого пальца ноги, из моей и своей правой груди, и по капле нашей крови из места чуть выше волос в паху. И каждая капля держалась на кончике ножа, как слеза, пока ее переносили в ту же точку ее тела, так что, когда мы закончили, наша кровь смешалась в этих семи местах своего пребывания, и мы стояли у алтаря, серьезные, нагие, одинаково отмеченные.
Теперь я был готов к посвящению в служители ее Храма. Она велела мне лечь на камень в круге, освещенном лишь мерцанием фитиля в плошке с маслом, затем подняла плеть и ударила меня дважды, затем четыре раза, и еще четырнадцать раз.
Меня часто пороли, когда я был мальчиком. Потом оставляли, и я уползал туда, где мог найти грязь, которой останавливал кровь.
В моей первой жизни, независимо от того, насколько высоко было мое положение, никто никогда не мог бы ошибиться, приняв меня за человека благородного происхождения — слишком много рубцов было у меня на спине. Мне был знаком вкус хлыста. Однако удары Медового-Шарика отличались от всех остальных. Ее хлыст легко касался тела, но боль от ее ударов проникала глубоко. Если бросить в пруд камешек, а со следующей попытки суметь попасть вторым точно в центр расходящегося круга как раз в нужный момент (так, чтобы не нарушить волну, а лишь придать ей силу), то результат будет близок искусству Медового-Шарика. Боль расходилась во мне так, как благовоние проникает в каждый уголок одежды. В другие ночи она обучила меня многому из искусства поцелуев, и я жил в богатстве тех объятий и узнал, почему поцелуи — развлечение знати. Теперь же мне пришлось пройти через долину хлыста. Мои мысли закружились в каком-то сладком опьянении, иными словами, я ощутил упоение собственной болью, ибо чувствовал, что она очищает меня от всякого бесчестья. Притом что я едва мог переносить эту боль и, казалось, сейчас пряну в небо от пытки искусных прикосновений хлыста, тем не менее от нее исходила нежность. Как мне объяснить одновременное переживание таких противоречивых чувств? Могу только сказать, что она наносила удары с совершенством: по разу по каждой обнаженной ягодице, затем — дважды по каждой из них, затем по разу по каждой из четырнадцати терзаемых болью частей тела Осириса, которые, как я ощущал, стали теперь настолько же моими, насколько они принадлежали Богу. Она хлестнула меня раз по лицу с закрытыми глазами и раз — с открытыми, затем — по разу по каждой ступне, по рукам, по кулакам, по спине, по животу, по груди и по шее. В конце удары были нанесены по чреслам и раз плеть обвилась вокруг моего слабого червя. Пребывая высоко в облаках пламени, я даже слышал, как после каждого удара ясным голосом Маатхерут провозглашала: „Я освящаю тебя маслом" — и она наложила масло на те четырнадцать пылающих мест, которых коснулась плеть, и огонь утих настолько, что стал напоминать тепло моего тела. Затем она сказала: „Я освящаю тебя вином" — и наложила на четырнадцать костров терпкое вино, и моя кожа вскрикнула вновь. Тут она слегка омыла меня прохладной водой, и, когда пламя унялось и из моего сердца поднялся пар, она сказала: „Я освящаю тебя огнем", — но просто поднесла дымящуюся плошку с благовониями к каждому месту, где пребывала боль. Затем она наконец сказала: „Я освящаю тебя моими губами" — и поцеловала меня в брови, когда глаза были открытыми и еще раз — с закрытыми глазами, затем — по разу в каждую ступню, в большие мышцы на сгибах рук, поцеловала костяшки пальцев и спину, и живот, грудь, шею, а в конце ее язык медленно обошел вокруг моих чресел и очень нежно — по оконечности моего меча, который начал подниматься из зыбкого болота моего паха, пока не стал могучим, как крокодил. Затем она сказала: „Я делаю тебя Первым Жрецом Храма Маатхерут, Пребывающим в Осирисе. Поклянись, что будешь преданным, поклянись, что станешь служить". И, когда я вскричал, что все исполню (ибо это была последняя из четырнадцати клятв, которые она требовала от каждой из моих четырнадцати частей), она снизошла на меня, подобно дивному храму сладкой содрогающейся плоти, и прошептала мое Тайное Имя, и, когда переполнились все четырнадцать оазисов, поглотившие влаги моей боли, моя река исторглась потоком.
Это был конец обряда, но лишь начало наслаждений той ночи. Теперь уже я хлестал ее по ягодицам, и они были большими, как луны, и, к тому времени как я закончил, красными, как солнце. И, говорю вам, я научился искусству наносить удары, ибо не моя рука держала плеть, но ее сердце само направляло ее на себя, так что я чувствовал, будто бью прямо по ее сжавшемуся сердцу, а затем, к моему изумлению и ужасу, поскольку до этого я ничего подобного не делал никому (даже Усермаатра), я схватил два огромные холма ее сильно иссеченных ягодиц и склонился лицом к складке ее истинного седалища и с безумной ненасытностью поцеловал ее в то место, в котором все, что вскоре умрет, источает наиболее сильный запах. А от всех этих усилий ее запахи были сильней, чем у любой лошади. Она сделала то же самое мне, и мы катались по полу, а наши лица были погружены в днища друг друга, и мы соединились посредством этого обряда, и уже никогда не стали бы прежними. Затем она так много раз поцеловала врата моих ягодиц, что благодаря ее ласкам я почувствовал себя Фараоном, лежащим на спине, и уже не знал, кем считать себя — мужем ли или женой всего Египта. Уносимый этими чудесными течениями, я вновь ощутил, что существуют некие цели, о которых она не говорит, и я стал слугой ее обширных намерений.
Я употребил слово обширных, и оно соответствует сути. Ночами, которые последовали за этой, я лежал подле нее, счастливый, как человек, спящий в лодке, однако в тех огромных грудях шевелились мысли, возносившие нашу лодку на вершины высочайших скал, и мы просыпались, прижавшись к камню. Ибо я знал цель наших магических действий — теперь это была наша магия, — она состояла в том, чтобы лишить силы Усермаатра, и часто, когда я глядел ей в лицо, я мог видеть совершенный ум, пребывающий в глазах самого сурового Бога — Осириса, и тогда я во многом ощущал себя весьма близким Хору с Севера. Действительно, когда мы глядели друг другу в глаза (а, подобно Царице Хатшепсут, она часто надевала длинную и узкую бороду), Маатхерут выглядела как Повелитель Осирис».
«Каким, — спросил Птахнемхотеп, — было твое Тайное Имя?»
Я не ожидал, что мой прадед ответит так быстро, однако, к моему удивлению, он сразу сказал: «Разумеется, Тот-кто-поможет-свернуть-шею-Усермаатра, и вскоре отраженным ударом оно поразило меня. Мне пришлось от него отказаться».
«И ты расскажешь нам об этом?»
«Да. Но, с вашего позволения, позже. Конечно же, я знал, что это опасное имя. Она ведь была совершенно откровенна в этом отношении. Если я желал стать великим слугой ее магии, я должен был быть готовым умереть. Она часто говорила мне это и всегда добавляла: „Но уже никогда — как крестьянин". Нет, теперь я должен был научиться умирать согласно полному обряду бальзамирования. Подобно искусству обучения поцелуям, смерть принадлежала знати. Я часто смеялся над ней. Это мне-то необходимо укреплять для этого волю? Мне, который смотрел на тысячу топоров? Но ей было видней. Она понимала, как вскоре понял и я, что умереть мирно — может быть, самая опасная из смертей, поскольку в этом случае ты должен быть готов к путешествию через Херет-Нечер.
Снова и снова она принималась уверять меня, что ни один из слуг ее тела и сердца, и уж точно не я, не потеряет покровительства Маатхерут. Ни в этом мире, ни в следующем. Я рассказал ей, что, когда я был мальчишкой в деревне, мы знали, что лишь благородные и очень богатые могут путешествовать по Стране Мертвых, хоть сколько-нибудь надеясь достичь Полей Тростника. Для бедного крестьянина змеи, встречающиеся на пути, были так велики, огни такими испепеляющими, а пропасти — такими бездонными, что гораздо благоразумнее было и не пытаться даже думать об этом. Намного проще отдыхать в песчаной могиле. Конечно, как я сейчас вспоминаю, многие из умерших в нашей деревне не принимали такого покоя, а возвращались назад в облике призраков. Ночами они проходили по нашей деревне и разговаривали с нами во снах до тех пор, пока погребальный обряд в наших краях не стал весьма суровым: умершим отрезали голову и калечили ноги. Тогда призраки не могли уже преследовать нас. Иногда мы даже закапывали мертвеца, положив голову между его колен, а его ноги — к ушам, чтобы совершенно его запутать. Когда я ей все это рассказал, она рассмеялась серебристым смехом. Лунный свет пребывал в ее мыслях, придавая им нежность, какими бы они ни были.
И тогда она встала с нашей постели и взяла в руки саркофаг — не длиннее моего пальца, но на его крышке были нарисованы лицо и фигура Маатхерут. Внутри находилась мумия размерами с коротенькую гусеницу, столь тщательно завернутая в прекрасную ткань, что ей не нужна была смола: на самом деле, ее прикосновение было подобно лепестку розы. Я держал в руках аккуратно завернутую мумию ее маленького пальчика. Но раньше, чем я успел решить, коснулся ли я чего-то чрезвычайно ценного или, наоборот, чего-то, что неприятно взять в руку, она принялась говорить о странствиях ее маленького пальчика сквозь врата и по устрашающим путям Херет-Нечер, и, когда я пробормотал, что не понимаю, как может какая-то часть тела, а тем более пальчик, путешествовать самостоятельно, она вновь рассмеялась своим серебристым смехом. „С помощью обряда, известного лишь в моем номе, — сказала она. — Иногда те, кто живет в Саисе, знают не так уж мало. — И она снова засмеялась. — Моя семья сделала так, что Ка этого пальчика обручили с Ка жирного и богатого торговца из Саиса. Да, они даже снабдили его нужными свитками папируса". Я знал ее достаточно хорошо, чтобы понять, что все, что она говорит, правда, и наконец она рассказала мне эту историю. Из письма своей матери Медовый-Шарик узнала, что тот торговец умер в ту же ночь, в которую она потеряла свой пальчик. Так что, когда пальчик лежал в маленькой вазе с солевым раствором, торговец тоже пребывал в своем растворе соли, и оба они были выдержаны в соли семьдесят дней. Произошел обмен посланиями с тем, чтобы убедиться, что они были завернуты в один и тот же день и уложены в отдельные саркофаги — большой и маленький — в один и тот же вечер: пальчик в Фивах, а жирный торговец в Саисе, в десяти днях пути вниз по реке; но таково природное безразличие Ка к любой величине расстояния, что ее пальчик был готов предпринять путешествие в Херет-Нечер вместе с ним.
Затем она рассказала мне о том, как ее матери пришлось помогать семье жирного торговца во время приготовлений. Вдове были даны наставления, какие заказывать ушебти и кто в Дельте самый лучший мастер. Ушебти может весить не более чем кисть твоей руки, но стоять в деревянной лодке она должна правильно. Эта несчастная женщина даже не знала, куда ставить фигурку, когда ее муж был уже в гробнице. Ужасно, когда семейство богатеет столь быстро, что к золоту не прилагается никакого знания. Они не представляли, какие свитки папируса покупать. Вдова также не могла понять, что она обязана купить Исповедь-Отрицания, сколько бы та ни стоила.
„Исповедь-Отрицания", — с умным видом повторил я, но Meдовый-Шарик знала, что я столь же невежествен, как и семья того толстяка.
„Да, — сказала она, — вдова жаловалась на высокую цену. Она была скаредной! Наконец моей матери пришлось заплатить самой.
Она не собиралась отправить Ка моего маленького пальчика бродить по Херет-Нечер, пока у него не будет Исповеди-Отрицания. В ночь перед похоронами моя мать наняла двух жрецов, и к рассвету они должным образом написали ее на трижды освященном папирусе. Вот теперь торговец мог, по крайней мере, показать Богам, злым духам и зверям, что он — хороший человек. Папирус свидетельствовал, что он ни разу не согрешил. Он не убил ни мужчины, ни женщины, а также ничего не крал из храмов. Он не оскорбил никакой собственности Амона. Он никогда не говорил неправды и не изрекал проклятий, и ни одна женщина не могла заявить, что он прелюбодействовал с нею, а также никакой мужчина сказать, что он обладал другим мужчиной. Он не жил с сердцем, исполненным ярости, никогда не подслушивал, что говорят соседи. Никогда не крал он желанной земли, никогда не клеветал на других, никогда не совершал развратных действий с самим собою. Он никогда не отказывался выслушивать правду и мог поклясться, что никогда не перегораживал воды, предназначенной течь в чужие наделы. Он никогда не богохульствовал. Он даже не повышал голоса. Он не совершил ни одного из сорока двух грехов, ни одного. Он наверняка никогда не занимался никаким, колдовством, направленным против Царя".
Сказав это, Медовый-Шарик рассмеялась, и я впервые услыхал такое удовольствие в ее голосе. „Аиииих, Казама, какому дрянному человеку мы помогли! Не было такого греха, который бы он ни совершил. Мнение о нем сложилось столь зловонное, что все в Саисе звали его Фетхфути, хоть и за глаза"».
При звуке этого имени и Хатфертити, и Нефхепохем вздрогнули, но ни один из них не промолвил ни слова, а Мененхетет продолжил свой рассказ. «„Понимаешь, — сказала мне Медовый-Шарик, — силы этой Исповеди-Отрицания столь велики, что Ка моего пальчика находится в безопасности. — Она кивнула. — Так мне постоянно говорят в моих снах. Фетхфути преуспевает в Стране Мертвых, и мой маленький пальчик — рядом с ним".
„Преуспевает?" — спросил я ее. Я совершенно запутался. Предыдущей ночью, желая удивить меня тем, как много мудрости она обрела от тех путешествий ее пальчика, она сказала, что ни один жрец не сможет лучше научить меня, что говорить яростным зверям и хранителям врат. Она не только знала имена змей, но была также знакома с обезьянами и крокодилами на берегах Дуата, а ее Ка разговаривал со львами, из зубов которых вырывалось пламя, а также с рысями, клыки которых походили на мечи. Она знала, как использовать магические заклинания, которые помогали миновать озера с горящим маслом, и выучила, какие травы надлежит есть, проходя в темноте зыбучие пески за каждыми вратами.
Более того, она умела освятить любой амулет, который мог пригодиться мне в Херет-Нечер. Амулет сердца, например (благословленный должным образом, он придал бы моему Ка новые силы), или двух золотых пальцев (с помощью которых я смог бы взобраться по лестнице, поднимающейся на Небеса). Она даже знала, как очистить амулет девяти шагов (ведущий к Трону Осириса). Но это, еще не все — она была готова нанести на папирус слова многих заклинаний, которые могли бы понадобиться мне, и стала говорить мне названия некоторых из них: О-Выхождении-в-День, О-Жизни-после-Смерти, Заклинание-о-Прохождении-через-Спину-Змея-Апопа, Гимн-Западу, Заклинание-Побуждающее-Человека-Помнить-Свое-Имя-в-Подземном-Мире, Заклинание-Отражения-Крокодила и Заклинание-Препятствующее-Краже-Сердца-Человека. Не уверен, что я мог следить за ходом ее мысли — этих названий было так много: Заклинание-о-Жизни-в-Воздухе, Заклинание-о-Неумирании-во-Второй-Раз, Заклинание-о-Неядении-Отбросов или Об-Удержании-Паруса (с тем, чтобы судно, на котором находится твой Ка, могло проскочить место с самым омерзительным запахом). Там были также: Заклинание-о-Превращении-в-Принца-среди-Сил, В-Лилию, В-Цаплю, В-Барана. И это еще было не все. Существовали: Заклинание-об-Изгнании-из-Человека-Дурных-Воспоминаний и Препятствующее-Душе-быть-Запертой. Также Заклинание-Обожания-Осириса, а потом — Молитва-для-Навоще-ния-Луны. Каждый раз, когда я думал, что она подошла к концу, она вспоминала что-то еще: Заклинание-об-Освобождении-из-Се-ти и Книгу-Установления-Столба-Джед. Она говорила тихим голосом, но эти имена зазвучали в моем сознании так же громко, как крики торговца.
„Ты не уступаешь Царской Библиотеке Усермаатра", — сказал я.
„Я готова сделать все это для тебя", — ответила она, и я услышал столько любви в ее голосе. Она действительно могла хорошо позаботиться обо мне в Стране Мертвых. Она желала, чтобы я не испытывал никакого страха перед этим местом. Тогда при отправлении ее обрядов я бы не испытывал такого ужаса.
Теперь я окончательно запутался. Она говорила о том, что для меня необходимы все эти амулеты и заклинания, а Фетхфути дали всего один маленький кусочек папируса, в котором не было ничего, кроме вранья, и который благословили неизвестно какие пьяные жрецы, всю ночь развлекавшиеся друг с другом.
„О, — сказала она, — трижды благословленная Исповедь-Отрицания была написана не для одного Фетхфути. Она предназначена также и для Ка моего маленького пальчика".
„Ты можешь сказать, что не совершила ни одного из тех сорока двух грехов?"
„Достоинство папируса состоит не в истинности или ложности его содержания, — призналась она наконец, — но в силе семейства, которое его приобрело".
Ее слова легли на меня тяжким грузом. Маатхерут могла заявлять, что готова дать мне многое, но, похоже, гораздо ближе к истине пребывала уверенность в том, что нам обоим грозит опасность.
Я сказал ей об этом. Собственно, мог бы этого и не делать. Она знала мои мысли.
„Нас обоих могут убить". Она сказала это спокойно, когда мы лежали рядом в ее постели.
„Тогда зачем ты говоришь мне названия всех этих Исповедей? Тебя не оставят в живых, чтобы записать их для меня".
„Именно поэтому, — сказала она, — тебе следует их запомнить".
„Все?"
„Это возможно".
„Тебе ведь это удалось", — согласился я.
Должно быть, Маатхерут знала, как запомнить молитвы, которые ей могли понадобиться, но ее память превосходила мощь моих мышц. Я не ощущал даже желания попытаться совершить такие подвиги. Она мбгла быть мудрой, как Царская Библиотека, но при этом была столь глупа, что не представляла, что для меня не будет никакого солевого раствора. Усермаатра разрубит меня на сорок два куска и велит разбросать их».
Как раз в этот момент моя мать (чьи мысли теперь блуждали в годах ее молодости) спросила: «Кто этот Фетхфути?»
Мененхетет, раздраженный тем, что его прервали, даже не посмотрел на нее. «Не тот, о ком ты подумала, — сказал он, — но другой Фетхфути, в прежней жизни, точно так же, как и я, сейчас не тот, кем был вчера. — Не сказав ей ничего больше, он продолжил: — Именно в тот час, говорю я вам, я вспомнил мудрость еврея Нефеш-Бешера. Быть может, и мне следовало бы со своим последним дыханием совершить бросок из себя в чрево своей женщины и родиться с новым телом в новой жизни. Но, как только ко мне пришла эта мысль, мне захотелось вернуться в свою постель. Там я мог нарисовать над своей головой сорок два круга, чтобы удержать в ней эти мысли. Действительно, как только я покинул Медовый-Шарик и вернулся в свой дом, я принялся пить колоби и вскоре выпил все содержимое кувшина. Грустная правда состояла в том, что я не был уверен, желаю ли окончить свою жизнь ребенком в ее чреве. Хотел ли я стать сыном женщины, познавшей вкус отправлений другого мужчины?
Именно тогда я узнал, до какой степени женат на Медовом-Шарике и насколько силен гнет ее воли. Даже в собственной комнате я не осмеливался думать о чем-либо. Говоря это себе самому, держа в руках почти пустой кувшин из-под колоби, чувствуя себя таким же пьяным, как Добрый и Великий Бог Усермаатра, я обвел сорок два круга над своей головой и свалился от головокружения. Испытания и подстерегающие меня засады Страны Мертвых перепутались в моем сознании так же, как кольца моих внутренностей.
Когда на следующее утро я проснулся все еще одурманенный колоби, то перевернулся на своей постели и сказал себе: „Злые духи ночи — за пределами моего жилища". Ибо, будучи под защитой своих сорока двух кругов, я все еще ненавидел Медовый-Шарик и был очень счастлив, что имел хоть несколько мыслей, до которых она не могла добраться.
Все это время в моих ушах раздавались крики детей, игравших у стен моего дома. Как же много их тут! Дух колоби вызывал дурноту, но до меня доносились (гораздо отчетливей, чем когда-либо) звуки их игр, перекрывавшие даже крики птиц. Эти детские крики разлетались во всех направлениях. Теперь я слышал, как они купались в прудах, гонялись за гусями или залезали высоко на деревья, чтобы поговорить с птицами. Над моей головой неслась брань нянек и выговоры матерей, долгие всхлипывания и самый разный смех — и все эти дети, до единого, были сыновьями и дочерьми Усермаатра. Наблюдая за ними, я почувствовал, что у меня на глаза навернулись слезы. Такие же удивительные и сладкие, как внезапный дождь в пустыне. Я вспоминал свою дочь, рожденную от Ренпурепет, умершую уже так много лет назад. Я все еще представлял себе ее ребенком. Затем меня тронула мысль о том, что Медовый-Шарик — одна из немногих маленьких цариц, не родивших Усермаатра ребенка. Возможно ли, что она столь отличается от всех остальных, что не любит Его чресла, а на самом деле предпочитает мои? В тот миг я ощутил себя во власти своего сердца и больше не мог ее ненавидеть. В конце концов, она ведь была готова умереть со мной.
Итак, если проснулся я в мрачном расположении духа, то теперь вновь мог дышать. Сердце мое затрепетало от ее щедрости. Казалось, я понял, причем впервые, что никто не позаботится о моих будущих странствиях так хорошо, как эта женщина. Эти чувства привели меня к пониманию истинной силы семьи. Подобно тому, как у Ра есть Его божественная Лодка, чтобы плыть по темной реке Дуата, жена с детьми — это золотое судно в этих странствиях. Нас с Медовым-Шариком связал тайный брачный ритуал: познав ягодицы друг друга, мы разделили собственность нашей плоти. Теперь я решил, что у нас с ней будут дети. Да, сказал я себе, мы должны бежать с ней из этих Садов. Я, подобно Моисею, совершу с ней побег в Восточную пустыню. Оттуда мы доберемся до Нового Тира. С ее великими познаниями — неужели мы не добьемся процветания в таком удивительном городе?»
С этими словами Мененхетет поднял голову, чтобы взглянуть на мою мать и Птахнемхотепа, желая узнать, согласятся ли они с его глубокой верой в добродетель брака, но, к его удивлению и моему, ибо я слушал лишь голос своего прадеда, я мог теперь засвидетельствовать, что они, без сомнения, ушли. Они покинули покой, пока он говорил. Мой бедный отец все еще спал.
ШЕСТЬ
Я не только продолжал ощущать присутствие своей матери, но знал, что она неподалеку и что наш Фараон с ней. Тем временем, поскольку, кроме меня, у него не осталось других слушателей, голос моего прадеда умолк. Теперь его мысли погрузились в молчание ночи, где они были открыты Богам и духам, пребывавшим в темноте, вне мерцания светлячков. Я знал, что, в каком бы покое, в каком бы уголке сада ни была моя мать, история о моем прадеде и Медовом-Шарике доходила до нее каждой молчаливой тропинкой ночи с благоуханием цветов и легким ветерком, колышущим пальмы. Я знал даже, что, несмотря на очевидное желание моей матери уйти, мой прадед не был сильно недоволен, поскольку он все еще мог ощущать внимание нашего Фараона, жаждавшего слушать его рассказ. И действительно, никогда еще ночь не была исполнена такого настороженного ожидания.
И вновь я стал терять всякое представление о собственном возрасте, подобно тому как эхо может гадать, является ли оно самим звуком. Так я сидел во власти его молчания, слушая приглушенные звуки давно умолкнувших голосов, даже шепот маленьких цариц, когда по пути к озеру они проходили мимо царственных пальм, и в то же время, пока он сидел, молча взирая на меня, я чувствовал себя столь близким своему прадеду, что обступившие его воспоминания поднялись, подобно водам источника, и я стал мудрее в своем постижении этих событий, чем был, когда он говорил вслух, и увидел его той ночью, когда он пересек Сады, чтобы спросить Медовый-Шарик: готова ли она бежать с ним в Новый Тир? Именно тогда он вспомнил историю, рассказанную Хекет, про некрасивую женщину, оградившую своего мужа ото всех болезней, и он громко рассмеялся. Лицо Медового-Шарика было прекрасно, когда он обнимал ее, а ее тело — велико, как богатство Усермаатра, и все же он знал, что, должно быть, именно она — та уродливая женщина, про которую рассказывала Хекет. Живя с ней, он будет неуязвим для зла, равно как и их дети. Она защитит их всех. И он любил ее за эти сокровенные знания, и когда поздно ночью проскользнул назад к своему дому, то не смог заснуть, настолько ясными были переполнявшие его чувства. Он мог вдыхать пронизывающую свежесть каждого утра, которое они встретят на долгом пути из Мегиддо в Тир, и даже опасности представлялись ему удовольствиями. Он сможет показать Маатхерут, как велика его храбрость, когда они окажутся в лесах. Более чем когда-либо раньше он ощущал себя храбрым, подобно Богу.
Поэтому следующей ночью, в сладкой тишине, наступившей за любовью, в порыве самых благородных чувств и совершенно уверенный в том, что они обнялись без магического обряда как этой, так и прошедшей ночью, но слились со всем невозмутимым взаимным стремлением брата и сестры, он взял ее лицо в свои ладони и, живо чувствуя над ее домом огромное небо, где их, должно быть, слушали Боги, прошептал, что они смогли бы пожениться и завести много детей. Говоря это, он знал о тяготах путешествия, ибо понял, насколько понадобится им ее знание магии, чтобы достичь любой другой земли.
Она ответила: «Здесь лучше».
Глядя ей в глаза, он ясно видел все то, от чего ей пришлось бы отказаться: кувшины и шкатулки, в которых лежали ее амулеты, порошки и шкуры животных. Они представлялись ей равными городу, более того, крепости ее сил, но как только он был готов сказать ей, что все это будет у нее в другом месте, она спросила: «Насколько дороги будут тебе дети?»
«У нас их должно быть много».
«Тогда ты не захочешь бежать со мной», — сказала она. В ее глазах не было слез, а в ее голосе грусти, когда она рассказывала свою историю. Однако закончив ее, она принялась плакать. Ребенок Усермаатра находился в ее чреве, сказала она. И она потеряла этого ребенка, своего первого ребенка, в ночь, когда Усермаатра отрезал ее палец.
«Я не верю этому», — сказал он.
«Это правда. Я потеряла ребенка и утратила в себе то, что рождает детей. — Ее голос был тверд, как корни самого могучего дерева в Садах Уединенных. — Такова, — сказала она, — истинная причина моей полноты».
Он слушал ее с болью, и мысли проносились в его голове, подобно лошадям без всадников.
Она поднялась с постели и зажгла плошку с благовониями. С каждым вдохом воскурения росла его уверенность в том, что с каждым новым ароматом, проникшим в его горло, его жизнь становится короче и приход его самого несчастливого часа приближается с каждым выдохом. Его последнее семя умрет внутри ее чрева.
Не будучи в состоянии перенести всю горечь их молчания, он снова принялся любить ее, ощущая переполнявшее его оцепенение. С тем же успехом он мог бы спать в болоте, и он лежал рядом с ней, размышляя, сможет ли сила круга, сорок два раза очерченного вокруг его головы, сохранить в тайне от нее, насколько гадки ямы его настроения.
Она хранила молчание, но на них, подобно тяжкому духу старой крови, лежала тяжесть ее намерений. Никакая любовь никогда не смогла бы стать ей дороже торжества ее искусства магии. Молча лежа рядом с ней, он провел эту ночь в ожидании часа перед рассветом, когда он должен был уйти. Он не желал оставаться, но глубина ее мыслей (в которые он не мог войти) придавила его, точно туша зверя, и действительно они провели эту ночь, как два тяжело израненных животных.
Все же в последний момент, перед тем как он ушел, она еще раз позволила ему приблизиться к своим мыслям. Так же как путешественник на барже может слышать бормотание Нила и чувствовать присутствие духа воды, так и он понял, что она ищет в своей мудрости ритуал, который позволил бы ей нанести Усермаатра сильный удар.
И наутро, вернувшись в ее дом, он не был удивлен, поняв по характеру приготовлений, что она собирается исполнить Обращение к Исиде.
Медовый-Шарик говорила ему, сколь опасной может быть эта церемония. Ее выбор был так же смел, как его собственный план побега, и дыхание любви вернулось к ним. Возможно, его дерзкий замысел воодушевил ее. И вот Мененхетет не принял никакой предложенной ему в тот день пищи, не прикоснулся ни к дыне, ни к бобам, ни к гусятине, а пораньше пошел в дом Медового-Шарика. Для Мененхетета было обычным делом обедать с той или иной маленькой царицей, это даже считалось хорошим предзнаменованием. Появление Управляющего могло повлечь за собой приход самого Сесуси. Однако в тот вечер ни он, ни Медовый-Шарик не съели ничего, кроме особо приготовленной пшеницы, поданной им на тарелках из папируса. Затем, на виду у ее евнухов и всех маленьких цариц, которым в тот момент довелось пройти мимо дома Медового-Шарика, он вышел от нее. Он даже задержался на лужайке у стен ее сада, где разговаривал с другими маленькими царицами и ждал темноты. Эта ночь обещала быть безлунной, и визит Сесуси был маловероятен. Как только Медовый-Шарик отпустила своих евнухов, он перелез через стену и вернулся в ее дом.
На Медовом-Шарике были белые сандалии и одеяние из прозрачного полотна. Ее благовония говорили о белых розах, а ее дыхание было слаще ее благовоний. Он гадал, не знак ли это присутствия Исиды, явившейся из съеденной ими пшеницы. Дыхание Медового-Шарика могло источать запах расцветшего бутона, а порой быть исполненным гнусных проклятий, ночами он не раз ощущал зловоние Дуата. Однако этим вечером ее дыхание было спокойным, а красный амулет Исиды, повязанный вокруг ее талии, придал ей уверенности в себе.
И вот она приступила к исполнению обряда вызывания духов. Медовый-Шарик собиралась взывать к Исиде голосом Сети Первого. Маатхерут могла пользоваться уважением множества сил и духов, но лишь Фараон мог быть услышан в тех высях, где пребывала Исида. Разумеется, Медовый-Шарик нашла в Царской Библиотеке Усермаатра заговор, дававший возможность призвать всю полноту сил Исиды, если к ней обращались голосом умершего Фараона. Таким образом, ей надо было вызвать такого Ка. Облеченная в Его присутствие, она обретала способность разговаривать как Царь.
Итак, она вышла из круга, чтобы снять свою тунику, и вынула белую юбку, золотые сандалии и золотой нагрудник, достаточно большой, чтобы закрывать ее груди. Затем, к изумлению Мененхетета, она открыла другой сундук и достала оттуда Двойную Корону высотой более локтя из прекрасного плотного полотна, сделанную, как он понял, ее собственными руками. Она возложила ее себе на голову, накладная борода закрыла ее подбородок, и к тому моменту, когда она вступила в круг и положила на алтарь красный амулет, ее полный рот превратился в твердо сжатые губы Сети — по крайней мере таким его знал Мененхетет по многочисленным изображениям на стенах храмов.
Затем властным голосом она принялась возглашать заклинания, которые должны были вызвать Ка этого Фараона.
Пока Мененхетет лежал на спине, прислонившись головой к алтарю, а ее нога попирала его грудь (так что вверху он видел тело и лицо, исполненные той же ярости и мощи, какие были у великого Фараона, Отца Усермаатра), Медовый-Шарик начала произносить строки заклинания:
Четыре стихии, Пребывающие в своих рассеянных членах, Обратят свои сердца К этим событиям. Да явится Ка Сети, Да познает Ка Сети нашу землю. Воздух, вода, земля, огонь, Зерно, корень, дерево, плод, Дыхание, потопление, похороны, рождение, Воздух, вода, огонь, земля, О, Сети, посети меня.Она произносила эти слова, а попираемый ею Мененхетет вторил ей, и голоса их звучали согласно, и строки были произнесены много раз. При этом она подкладывала щепотки благовоний в масло, горящее в плошках рядом с его телом, покуда комната не наполнилась густым дымом, а жар ее сердца не разгорелся. Ее голос проходил сквозь воздух столь густой, что от ее дыхания дым клубился, подобно облакам.
«О, Ты, — сказала она, — Который был величайшим из Фараонов и Отцом Великого Усермаатра, Чье величие дважды превосходит силу этого Фараона, Твоего Сына, Которого называют Рамсесом Великим, познай же звук моего голоса, который взывает к Тебе, ибо я — Маатхерут, дочь своего отца Амоса из Саиса, который был рожден в Твое Правление.
Великий Сети, Величайший из всех Фараонов, дай познать Себя в Своей Силе, Своей Ярости и Славе Своего Правления. Ибо Твой Сын, Усермаатра-Сетепенра, разрушил Твой Храм в Фивах. Он повернул к стене все великие слова, говорящие о Его Отце Сети. В этих Храмах хвала Его Отцу умолкла. Камни заставили замолчать. Если Ты слышишь меня, да снизойдет на меня, подобно накидке, Твой Первый Ка. — Она помолчала. — О, Сети, приди ко мне».
Она говорила ясным и совершенным языком Фараона, ее левая рука была простерта перед ней к Северу — к алтарю, к Северу — к землям Саиса в Дельте, и Мененхетет почувствовал, как Ка мертвого Царя снизошел на нее, подобно накидке из тончайшего полотна, и она-в-Ка-Сети стояла, попирая его ногой. Он увидел зеленый круг на полу, вспыхнувший таким же красным цветом, как амулет на алтаре. Крики птиц прорезали молчание небес времен Сети, и Мененхетет сел, чтобы рука Отца Усермаатра могла схватить его за волосы, и на самом деле его волосы ощутили рывок, и он почувствовал великую силу Отца Усермаатра в руке, державшей его за волосы и лежавшей на нем тяжестью бронзовой статуи.
Затем Мененхетет услыхал голос Ка Сети, взывающего к Исиде. «О, Великая Богиня, — сказал голос, — Ты — мать нашего зерна, Госпожа нашего хлеба. Ты — Богиня всего, что Зелено. Ты управляешь всеми облаками, болотами, пшеничными полями и всеми цветущими лугами. Потому Ты сильнее всех Храмов Амона». При этом от алтаря поднялся туман, и в воздухе разлился свежий запах полей.
«Великая Богиня, услышь о позоре Сети Первого. Ибо Сын Его сдвигает камни Его Храма. Гранитные глыбы перевернуты.
Надписи о славных деяниях Сети повернуты к стене. То, что раньше смотрело вперед, сейчас смотрит назад». «Это правда», — сказал Мененхетет.
«Старые запахи исходят от этих изувеченных камней. Они говорят из земли, что погребла их. Да падут эти камни на Рамсеса. Да сокрушат Его Сердце камни Сети».
Волны изошли из Ка Сети и прокатились через Мененхетета. Волны прошли сквозь ветер и воду, волны пламени и великих судорог плоти, и все это было в руке над его головой.
«Твой рот повелевает Ра. Луна — Твой Храм. К Твоим стопам склоняются все горы».
Амулет на алтаре светился бледным светом — белым, словно пламя над расплавленным металлом. Мененхетет не мог дышать. Алтарь дрожал, шатался и рушился, как камни храма Сети. В его ушах оборвался резкий крик пойманной птицы. Теперь Мененхетет сотрясся от великой ярости, и, когда упал алтарь, Ка Сети перешел в него из Медового-Шарика, и, хотя в каждом ее наставлении ему говорилось, что в конце он должен оставаться неподвижным, чтобы помочь ей поблагодарить Исиду (и таким образом способствовать Ее уходу), а затем подняться, чтобы поблагодарить Ка Сети, вместо этого Мененхетет взревел, точно зверь, и, словно дикий кабан, Ка Сети, пребывавший в нем, исполнился ярости. Там же, рядом с разрушенным алтарем, он оседлал Медовый-Шарик и обладал ею так, как никогда раньше, и она была под ним сладким блаженством, даже когда Мененхетет извергся с криком достаточно громким, чтобы разбудить Хора с Юга (поэтому поутру многие маленькие царицы говорили, что, должно быть, прошедшей ночью через Сады прополз змей, дух всяческого зла), и Мененхетет узнал, что руки тысячи и одного Бога, Которые окружали Усермаатра, уже более не соединены. Ибо в звуке его собственного громогласного рева гремел голос Сети, исполненный возмущения тем, что камни в Его Храме повернуты, и вновь в ярости Мененхетет обладал Маатхерут, и перевернул ее, чтобы войти в нее через каждый из ее ртов: Рот ее Цветка, Рот ее Рыбы и Рот Ямы, и дал ей оба своих рта, чтобы она как следует познала его. Он мог ощущать, как гнев Сети входит в искалеченные камни новых храмов за стенами Уединенных, на широких площадях, и в садах Высокого Дворца, и Маленького Дворца, до самых Фив и вниз по реке. И Мененхетет знал, что покой Усермаатра был потревожен, подобно поверхности морской воды перед бурей.
Однако, когда все закончилось, Медовый-Шарик сказала: «Я не знаю, что произошло. Ка Сети Первого не должен был перейти из меня в тебя».
На протяжении ночи она была очень возбуждена из-за непредвиденного поворота в ходе ритуала и сильно подавлена все следующее утро.
СЕМЬ
Меж тем к следующему вечеру в Садах не осталось ни одного человека, кто бы не слыхал о том, какая напасть случилась с Фараоном. В середине дня во время посещения Дворца Нефертари, Он обедал со Своей Царицей, когда дворецкий опрокинул на Него чашу с таким горячим супом, что от него шел пар. Слуга бросился на кухню, преследуемый Царским Охранником, который, слыша, как их Фараон ревет от боли, начал так жестоко избивать беднягу, что тот умер еще до того, как зашло солнце. Среди Уединенных разговорам об этом происшествии не было конца, а в смехе Медового-Шарика звенела такая сладчайшая радость, какой Мененхетет не слыхал в ее голосе уже много недель. «Силы Исиды действуют незамедлительно», — сказала она.
Не прошло и двух дней после печального происшествия, как Усермаатра приказал написать магические заклинания на огромном количестве свитков папируса, и Царские Писцы работали так долго, что уже не могли сосчитать, сколько изготовлено амулетов.
Мененхетет, по наущению Медового-Шарика, предпринял одну из своих редких поездок за пределы Садов и посетил Большой Зал, где трудились Придворные Писцы. Пятьсот человек сидели со своими баночками и коробочками с краской, рисуя знаки посланий своим братьям-писцам в Храмах, Доме Золота, Доме Зерна, в Войсках, писцам Дворов Закона, писцам, если попытаться перечислить их, занимавшимся каждым царским делом в каждой провинции царства — само помещение, походило на некое подобие храма: в нем не было стен, а лишь одна крыша со многими колоннами, а писцы не только работали, но переходили с места на место, чтобы посплетничать друг с другом, и Мененхетету стало казаться, что многое в их работе напоминает порхание птиц, летающих между небом и землей и приносящих послания Богам и зверям. Как малочисленны, по сравнению с их усилиями, были мысли Маатхерут. Но как велика была их сила!
В тот день, обменявшись сплетнями с некоторыми из Старших Писцов, Мененхетет узнал, что качество изготовляемых амулетов перестало устраивать Фараона. Заведенный в палате Царских Писцов порядок был нарушен. Многие писцы, привыкшие к составлению писем должностным лицам в далеких номах, считали это новое занятие весьма неудобным.
Когда Мененхетет рассказал об этом Медовому-Шарику, она вновь рассмеялась. «Силы Исиды действуют также и медленно», — сказала она и добавила, что сознание Усермаатра, должно быть, помутилось. Полагать, что неопытные писцы могут изготовлять амулеты — нелепость. Самым главным в деле изготовления любого папируса такого рода является точность и последовательность действий. Нет амулетов лучше тех, что делаются в Саисе, где она научилась этому искусству, а в этом городе говорят, что одна ошибка в амулете портит двадцать других. Писцы, которым только что поручили эту работу, хороши лишь для учета скота или записи числа гусей, принесенных в жертву на празднике, они — писцы. Она презрительно хихикнула — для нее они были не лучше обезьян или евнухов. Если уж они никогда не могли сказать слова, которое осталось бы тайной, то куда уж им составлять амулеты?
Затем Мененхетет рассказал ей весьма необычную историю, которую услыхал в этот день. Ему поведал ее Стет-Спет, известный под кличкой Пепти, который, будучи Главным Писцом Дома Уединенных, был также, по необходимости, евнухом — конечно, единственным среди писцов, и это сделало его несравненным сплетником. Поскольку у них нет собственных детей, которых надо защищать, евнухи всегда готовы говорить о запрещенных вещах. Но то же самое, сказал он Медовому-Шарику, верно и в отношении писцов. Проводя большую часть жизни в одной комнате, писцы питают естественную зависть к тем, чьи обязанности заставляют их бывать в оживленных местах. И поэтому они блудливо сплетничают о тех, чьему положению завидуют. Что же тогда, согласилась Медовый-Шарик, можно сказать о человеке, являвшемся одновременно и евнухом, и писцом? Они вместе посмеялись над этим. На самом деле, в его присутствии они не осмелились бы так шутить. Стет-Спет был человеком, которого не стоило иметь в числе врагов. Всего лишь несколько лет назад он был одним из ничтожнейших младших Писцов Царя при Надзирателе за земледельческими работами, но его желание подняться по служебной лестнице было столь велико, что он попросил сделать ему операцию, превратившую его в евнуха, и выжил после нагноения ран в столь увлажненных частях тела Мененхетет отнесся к этому с уважением. Египтянину пережить такое непросто. Египтяне менее выносливы, чем нубийцы, и не всегда способны выжить после свирепого воспаления, возникающего в результате оскопления. Тем не менее возможностей стать Главным Писцом было так мало, сказал ему однажды Стет-Спет, что он помчался испрашивать разрешение на операцию, как только узнал, что прежний престарелый Писец Уединенных — нубиец, что тоже было исключительным случаем — уже почти полностью ослеп.
Теперь Стет-Спет служил в Садах, то есть изо всех писцов занимался самым лучшим делом. Он ел в домах всех маленьких цариц и мог лентяйничать в гареме больше, чем работать, но ни одна мелочь в его службе не представлялась ему слишком незначительной. Поэтому он узнавал о каждой любовной истории между маленькими царицами и даже знал ласковые прозвища, которые они давали одна другой. В свою очередь, женщины тоже придумали ему кличку Пепти, приняв во внимание старое имя Стет-Спет, означавшее Дрожащий-Шест. Стоило им лишь вспомнить о перенесенной им операции, при разговоре с ним они слишком часто начинали хихикать. Естественно, что, будучи евнухом, да еще пиршествуя в стольких домах, Пепти так растолстел, что стал таким же тучным, как Медовый-Шарик. Говорили, что никакие другие два человека не могли сравниться с каждым из них в мудрости, однако из них двоих Медовый-Шарик была мудрее. Знания Пепти пришли к нему от природы его занятий. Поскольку ни одна женщина в Садах никогда не забывала сообщить Писцу Уединенных, что предыдущей ночью получила семя Усермаатра (дата попадала в его точные записи, чтобы относительно времени зачатия не возникало никаких вопросов), у Пепти был список всех маленьких цариц, избранных Усермаатра за те три года, что он служил Писцом в этих Садах. Таким образом, ни одна маленькая царица не могла пасть или возвыситься в глазах Фараона без того, чтобы Пепти об этом не узнал.
Он узнал и о том, что произошло с Мененхететом в доме Нубти. К утру Пепти уже сообщили все подробности — а-и-и-и-х, Казама! Хекет и Медовый-Шарик рассказали ему обо всем еще до того, как легли спать, поскольку пришли в его дом, чтобы записать обретение семени Усермаатра. Разумеется, Пепти не оставил эту историю при себе, и по Садам пополз смех, жестокий, как кольца серебряной змеи. Проходя мимо своего Управляющего, евнухи прижимали ладони к губам. Мененхетет представлял себе, как Писец Уединенных рассказывает эту историю, и видел, как веселье сотрясает его жирное брюхо, но все же его ненависть не горела тем огнем, что подогревает жажду мщения. Мененхетет знал, что эта история все равно будет рассказана так или иначе. К тому же в Садах такие истории скоро устаревали, как гниют опавшие фиги. Более того, он не осмеливался превратить Пепти во врага, ибо тогда Писец мог бы приказать евнухам следить за ним. И он продолжал оставаться с ним любезным. К тому же, будучи единственными высшими должностными лицами в Садах, они были обязаны часто говорить друг с другом относительно записей. Все покупки, сделанные евнухами на базаре, должны были быть записаны Писцом и проверены Управляющим.
После этого Пепти передавал Мененхетету сплетни. Пепти рассказывал их всем. Нерассказанная история — то же, что и не съеденная еда. Так что в то утро, когда Мененхетет прошел через Зал Писцов и встретил евнуха, болтавшего со старыми друзьями, он пригласил его проехаться с ним в колеснице. Пепти, болтавший чуть тише грохота колес по камням площадей и их скрипа в колеях грязных дорог, обладал способностью вставлять слова между криками торговцев и рабочего люда на базаре Фив, так что Мененхетет услыхал еще кое-что о чаше с супом. Судя по всему, обед был испорчен с самого начала, ибо в то утро Аменхерхепишеф вернулся в Фивы после поразительно быстрого и успешного похода в Ливию. Более того, он уже был у Нефертари, когда вошел Усермаатра, а затем Принц без должного приглашения сел близко к Своему Отцу и настолько нарушил настроение за столом, что, когда чаша перевернулась, никто особенно не удивился. Усермаатра даже обругал Своего сына за ожог на Своей груди, где под золотым с эмалью нагрудником уже начал набухать волдырь, а затем ушел. Он направился прямиком во Дворец Маатхорнефруры. Хеттка определенно стала Его любимицей, уверял Мененхетета Писец. Некоторые из Уединенных говорили Пепти, что имя Маатхорнефруры чаще слетало с Его уст в момент излияния, чем имя Его Первой Царицы. Более того, с той ночи Он не разговаривал с Нефертари, а Царица — с Ним. Нефертари решила носить траур по забитому насмерть слуге. Похоже, он был Ее дворецким на протяжении многих лет. Разумеется, для Усермаатра этот траур был ужасным укором. К тому же в эти дни присутствие Аменхерхепишефа являлось величайшей угрозой.
Услыхав об этом, Медовый-Шарик весьма воодушевилась тем, что Усермаатра пребывает в столь расстроенных чувствах, и сказала, что надо призвать Ка слуги Нефертари. Когда Мененхетет спросил, какой прок в Ка простого слуги, когда приходится иметь дело с Усермаатра, Медовый-Шарик ответила, что внезапная смерть, причиной которой стала несправедливость, придает Ка значительную силу независимо от того, насколько низкого происхождения был его хозяин. Итак, она собралась вызвать Ка слуга.
Но только она принялась размышлять об этом, Мененхетет подавился костью, которая вошла в его горло так глубоко, что его глаза вылезли наружу и стали похожи на два яйца. Медовый-Шарик немедленно крикнула своих слуг, и Касторовое-Масло с Крокодилом перенесли его в ее круг из ляпис-лазури.
Без дальнейших приготовлений Медовый-Шарик громко закричала:
«О, кость быка, поднимись из его живота! Поднимись из его сердца! Поднимись из его горла! Из его горла выйди ко мне на ладонь. Ибо голова моя достает до неба, а ноги покоятся в бездне. Кость Бога, кость человека, кость зверя — выйди мне на ладонь!» — Кость изверглась из его горла вместе со рвотой, и он вновь смог дышать, но Медовый-Шарик также стало тошнить. Боги, Чьих имен она не знала, напали на слугу ее сердца — Мененхетета.
Позже той ночью он почувствовал себя достаточно окрепшим и отправился в свой дом, но, оставшись в одиночестве, так затосковал, что решил вернуться к Медовому-Шарику, однако по пути слабость настолько усилилась, что он едва смог одолеть дерево у стены ее садов, а когда вошел в ее покои, нашел ее угрюмой и опухшей, словно она плакала с того самого момента, как он ушел.
«Все пошло не так, как я хотела, — сказала она. — Я поняла это в ту ночь, когда Ка Сети перешел в тебя».
Когда Мененхетет стал говорить о том, что сожалеет, что не подчинился ее наставлениям, она ответила: «Нет, это моя вина. Я совсем забыла об этой твари».
Он никогда не говорил о кабане, хотя всегда предполагал, что тот пришел от нее. «Это ты его послала, — спросил он, — с тем чтобы я пришел к тебе?»
Она кивнула. И сказала со вздохом: «Он не всецело принадлежит мне. В него также облеклись и злые мысли Сесуси. Теперь же эта тварь в состоянии нарушить любой наш обряд».
Он понял, что, после того как это сказано вслух, ей надо действовать быстро.
Взяв маленький квадратик чистого полотна из одной из своих коробочек слоновой кости, она тщательно обернула кусок кости, застоявшей в его горле, и вложила ее в полый живот фигурки, вырезанной из бивня слона, размерами не более ее руки, но с лицом Птаха, короной Секера и телом Осириса. Затем она быстро положила ее на свой разбитый алтарь и развела огонь из сушеной травы хесау. Наконец, из пояса своего платья, поддерживавшего ее грудь, она извлекла небольшой комочек воска и сделала из него фигурку Апопа.
Она сказала: «Да поразит тебя огонь, Змей. Пламя из Глаза Хора пожирает сердце Апопа». Язык пламени взметнулся с алтаря к отверстию в потолке, и в комнате стало очень жарко. Мененхетет сидел, скрестив ноги, в луже влаги, струившейся с его кожи, а Маатхерут расстегнула пояс на груди так, что стали видны ее большие груди. В этом освещении они казались красными, как огонь. «Вкуси своей смерти, Апоп, — сказала она. — Вернись в пламя. Конец тебе. Назад, злой дух, и никогда не восставай вновь». Затем она обернула восковую фигурку Апопа в кусочек папируса, на котором только что извержениями своих кошек нарисовала змея. После этого она положила подношение в огонь на алтаре, плюнула на него и произнесла: «Великий огонь испытает Тебя, Апоп, огонь пожрет Тебя. Тебе не суждено иметь Ка. Ибо душа Твоя съежилась. Твое имя похоронено. Молчание пало на Тебя».
Отек в поцарапанном костью горле самого Мененхетета еще не прошел, глаза болели, легким не хватало воздуха. В голове своей он ощущал гнев многих Богов, но не жаловался. Он не смел. Войска Богов сошлись в битве на полях, которые он был не в состоянии увидеть. Но в дыму от кошачьих испражнений в траве хесау он различал запах мертвых и раненых. Битва была начата, а он был неопытным воином, однако он никогда не покинул бы Медовый-Шарик в такой час. «О, Глаз Хора, — воскликнула она, — Сын Исиды, заставь имя Апопа смердеть». И Мененхетет ощутил в зловонном дыму запах мертвых и раненых Богов. Когда Медовый-Шарик обняла его, ее губы были скользкими, как змеи, а дыхание столь же отвратительным, как и дым. Его пересохшее, саднящее горло снова сдавили позывы рвоты.
Она сделала шаг к алтарю и сказала: «Восстань, Кабан Запретного Мяса. Войди в Круг. Исполнись зловония Семи Ветров». Затем она запела на семь голосов, причем каждый голос издавал лишь один звук, и каждый последующий — ниже предыдущего, как будто она спускалась по лестнице в яму, где держали Кабана. «И», — пела она, покуда ее лютня, висящая на шнуре на стене, не стала дрожать; «и-и», — пела она, пока он не услышал, как дребезжат ее алебастровые миски; «эй», — и у него заболели зубы; «о», — и судорога прошла по его животу; «о-о», — вошло в его чресла, а при «ю-у», — земля дрогнула у него под ногами. Самым низким голосом, звуки которого были исполнены подлинного удовлетворения, ниже, чем могли бы промычать глотки зверей, живущих в болотах, она пропела «у-х-х-х», — и в конце он услыхал отчетливое хрюканье и почувствовал жесткую свиную щетину на рыле кабана, тычущегося между его щек точно так же, как в те ночи, когда Мененхетет бродил в одиночестве по Садам.
Теперь, стоя у алтаря, она подняла свой нож острием вверх и сказала: «Я призываю Тебя, Бог разрушения. Я призываю Тебя, Чье имя Сет. Я называю Тебя всеми именами, которых не знают другие. — Она стала произносить имена, и более странных он не слыхал никогда. — Тебя, имя Которому Сет, я называю Иопакербет и Иоболхорет, Иопатанакс и Актиофи, Эресхигал и Небопосоалет, Лертексанакс и Этрелнот. Ты придешь ко мне, ибо я убью все злое, что есть в этом Кабане». И она повернулась в круге, выставив нож, и Мененхетет почувствовал, как язык Кабана стал острым, словно конец отрезанной ветки, затем на мгновение толкнулся вверх между его щек и выскользнул. Мененхетет ощутил кровь у себя под ногами, но, когда посмотрел вниз, пол был сухой. Однако он увидел лицо Кабана.
Он умирал, но свет не покидал его глаз, как это обычно бывает в момент смерти, когда кажется, что вода медленно уходит в песок Свет оставлял глаза Кабана, вспыхивая и сменяясь внезапными тенями, подобно потоку, падавшему на камни, и Мененхетет различил много менявшихся выражений. Он увидел страх на лице Усермаатра, запомнившийся ему с того дня при Кадеше, когда хетт сломал Ему нос, и великую гордость, дикую, как отблеск в глазах дикого кабана, отразившуюся во влажных ноздрях зверя. Затем животное умерло, и его морда приобрела округлые черты Медового-Шарика, когда ее глаза спали в круге ее лица. Он больше не видел Кабана.
Эта церемония отличалась от остальных. Теперь он уже не ощущал желания обладать Медовым-Шариком. Страсть ушла. Кабан был мертв, и с ним ушло неистовство его члена и удовольствие его сердца. Мененхетету стало грустно.
«Я не собиралась убивать Кабана, — сказала Медовый-Шарик, — но лишь ту его часть, которую не сотворила сама».
«Кто в состоянии сказать — что будет?» — медленно произнес он.
Она улыбнулась, но не ответила, и Мененхетета тронула ее следующая мысль. «Между нами все кончено», — сказала она себе и дала ему ощутить всю глубину своей любви, что пребывала в той волне грусти, которая захлестнула ее. Именно тогда он понял, что потерял также и свое Тайное Имя. Оно — Тот-кто-поможет-свернуть-шею-Усермаатра — больше не принадлежало Мененхетету, и ему нечем было противостоять своему Фараону.
ВОСЕМЬ
И вот следующей ночью Мененхетету пришлось держать руку Усермаатра в Доме Хекет, когда Фараон Двух Земель лежал на Своей спине, распростертый, как долина перед разливом реки, а маленькие царицы любили Его. Херуит и Хатиби — пальцы Его ног, а Амаит и Таит — Его грудь. Река начинала подниматься, и Его соски следовало ласкать, покуда они не нальются, как у Хапи, Бога Нила, имевшего женские груди. Язык Анхер, названной в честь духа соразмерности, медленными кругами скользил по изгибам Его живота, и Мененхетет, державший Его за руку, мог чувствовать, как Его пупок вздрагивает, подобно уху, а Хекет лизала Его меч, и губы ее были словно палатки из розовых лепестков на Полях Тростника, поскольку красота ее рта была равна уродству ее лица. Склонившиеся у Его головы Джесерет, Возвышенная, и Тантануит целовали Его, когда Он поворачивал Свое лицо то к одной, то к другой, и все эти восемь маленьких цариц были так преданы Его телу, словно молились рядом с Ним в храме, и их языки двигались согласно. В свете фитиля, горевшего в плошке с маслом, их глаза были наполнены золотом, словно глаза льва, а их тела светились.
И все же Мененхетет ощущал и Его горечь. Черным, как грязь на дне Нила, был лежавший глубоко мрак, и он шевелился в недрах Его тела, подобно чудовищу в невидимых пластах речного ила. Старые застоявшиеся запахи самого ужасного страха проникли в ноздри Мененхетета от камней, повернутых лицевой стороной к стене. К похоти Усермаатра, мощной, словно биение сердца жеребца, примешивалась ужасная тяжесть в Его животе от движения этих потревоженных камней, и сквозь многие годы в Его сознание пришла мысль. Ясно, словно голосом, который Мененхетет смог бы услышать, Усермаатра сказал Себе: «В давние дни, когда Я любил Нефертари, Я чувствовал, как внутри Меня поворачивается Мое Царство».
Пальцы Мененхетета уловили пришедшее к нему, вдоль по руке Усермаатра и сквозь все Его тело до самого меча, ощущение, и Мененхетет почувствовал, как Усермаатра вошел в Нефертари, как тогда, когда она была такой же юной, как Маатхорнефрура, так же, как тогда, Усермаатра познал Нефертари благодаря губам Хекет, услаждавшим Его меч. Так Мененхетет мог пребывать во чреве юной Нефертари, и чувство это было таким же нежным и царственным, как вечер в последних розовых лучах солнца. Мененхетет не смог сдержаться, его чресла изверглись, и он стал мокрым, подобно рабу в поле, застигнутому Надсмотрщиком за мелким воровством.
Усермаатра стряхнул с Себя поцелуи Своих маленьких цариц и спросил: «Какое великолепие заставило тебя извергнуться?»
«Я не знаю, мой Повелитель».
Камни предков Усермаатра размалывали Его внутренности, причиняя Ему страдания, подобные мукам роженицы, но Мененхетет извергся и больше не ощущал боли своего Царя. Вместо этого он остался наедине со своими несчастными мокрыми бедрами. Однако, даже закрыв глаза, он мог видеть, как на этой неделе были снесены большие каменные двери Храма Сети, в его ушах стоял звон молотов, сбивающих надписи.
Таким путем Надзиратель за Уединенными вернулся в мрачные мысли Своего Фараона, и благодаря Хекет Мененхетет еще раз ощутил, как близко была Царица Нефертари, однако в Ней пребывал Амон, и в маленькой роще между Ее бедер меч Сокрытого был подобен сияющей радуге. Мрак, что, словно грязь, лежал на сердце Усермаатра, носил имя Аменхерхепишеф, ибо этот Принц был сыном Амона. Именно Амон занял место Усермаатра между бедер Нефертари.
Кровь помчалась по жилам Усермаатра, исполненная отчаяния зайца, попавшегося в челюсти льва. Член Усермаатра во рту Хекет обмяк, ибо радуга, которой был Амон, прошептала юной Нефертари: «Ты родишь Принца, Который убьет Своего Отца». Нефертари застонала от великой боли и большой радости, а Амон извергся обильно и в блеске, тогда как Усермаатра ничего не излил в рот Хекет. Скорбь, пребывающая в самых черных пещерах Секера, лежала у Него на сердце. Он увидел сына, который желал убить Его.
«Я отрежу нос всякому, кто будет плести заговоры против Меня», — сказал Усермаатра восьми маленьким царицам, и в Его глазах сверкнула такая ярость, что в тот вечер не осталось ни малейшей надежды на веселье. Он снова лег на спину, погруженный в Свои мрачные мысли, и держал Мененхетета за руку, пока маленькие царицы хлопотали над Ним, а Хекет теперь стала около Него, пытаясь призвать Богов, Которых Он желал иметь рядом.
«О, Великий Фараон, — произнесла Хекет, — Царь Тростника и Пчелы, Повелитель Двух Земель, Принимающий в Своем Доме Тота, Избранник Птаха, Сын Ра, мы умастим Твое тело». Хекет наложила масло, освященное в Главном Храме Амона, между пальцами Его ног, а другие маленькие царицы — на отверстия Его тела и на мышцы Его груди, подобные волнам Великой Зелени. Однако отчаяние Сесуси было глубоким.
«О, Золотой Сокол, — сказала Хекет, — Ты, Который есть Хор, Сын Осириса, Ты объединяешь небо и землю Своими крыльями. Ты говоришь с Ра в небе и с Гебом на полях. Ты есть Хор, Который живет в теле Великого Усермаатра». Хекет положила свое лицо на пах Сесуси, но Царь не пошевельнулся. Он лежал, словно в Своей гробнице.
«О, Царь Верхнего и Нижнего Египта, — продолжала Хекет, — Властитель Двух Богов, Хора и Сета, речь Твоя подобна пламени…»
«Я не знаю огня, — сказал Усермаатра. — Я холоден. Амон сокрыл Себя».
«Амон сокрыл Себя от людского предательства. Но никто не может уничтожать Его, — сказала Хекет. — Ибо Он создал небо и землю, и Он рассеял тьму по воде. Амон сотворил день со светом и не знал страха. Амон создал дыхание жизни для Твоих ноздрей».
«Для Моих ноздрей», — сказал Усермаатра.
«Амон, — продолжала Хекет, — создал плоды и травы, и дичь, и рыбу для Твоих подданных. Он поразит Своих врагов так же, как поверг всех, кто осмелился поносить Его. Но когда плачут Его дети, Он слышит их. О, Ты, Чья речь подобна пламени, Ты есть Сын Амона». Хекет взяла в рот все, что пребывало в паху Усермаатра, и Царь издал громкий стон, но ничто не шевельнулось в Нем.
Затем Мененхетет, державший пальцы Усермаатра, ощутил новый страх. Ибо его Фараон услышал семь звуков так же отчетливо, словно присутствовал предыдущей ночью при Казни-Кабана, и эти семь звуков разом обрушились на Него в тот момент, когда Усермаатра вновь ощутил, как суп пролился на Его грудь. Ярость воспламенила Его сердце, и у Него внутри поднялся пар от такого жара. «Я должен собрать Свои силы, — произнес Он вслух, — чтобы суметь усмирить разлив». Зачем же еще Он лежал на Своей спине, как не затем, чтобы направить Свои мысли ко всем мыслям в Его Царстве, которые смогут усмирить разлив? В этом году вода не должна была подняться слишком высоко. И все же Он не мог успокоить Свои мысли. Он был исполнен ярости и чувствовал усталость. Он тяжело вздохнул. Никакая ласка не могла освободить Его от тяжкой тоски, сжимавшей Его грудь. «Никогда не пытайся отравить Фараона, кроме как во время разлива», — пробормотал Он, и страх перед Аменхерхепишефом вернулся, как зловонный дым. Усермаатра сел, чтобы посмотреть на каждую из маленьких цариц, стоявших перед Ним. Он взглянул на Херуит и Хатиби, Амаит и Таит, Анхер и Хекет, Джесерет и Тантануит, и Он подумал о других маленьких царицах, которые отсутствовали: о Меретсегер и Мерит с Севера, об Ахури, которая так искусно заглатывала меч, и о Маатхерут — равной Хекет в таких обязанностях. Его пальцы жестоко сжали руку Мененхетета, как только в Своем сознании Он увидел лицо Медового-Шарика. Но Его мысли перенеслись на Оазис и Тбуибуи, и Пуанет, на Белку и Зайчика, и Кремовую, и многих других. Подобно цветам, качавшимся перед Ним на краю пруда, где в сумерках плавала Кадима, маленькие царицы предстали одна за другой пред мысленным взором Усермаатра, и Он подумал — которая из них наслала исполненные злобы слова?
Он остановил взгляд на безобразном лице Хекет и сказал: «Ты из Сирии. Поэтому ты должна знать молитву Моей молодой Царицы Маатхорнефруры. Скажи это хеттское заклинание против демонов, которые более многочисленны, чем пылинки».
«Говоришь ли Ты о заклинании против червей, Добрый и Великий Бог?»
«Именно о нем, — ответил Усермаатра. — Скажи его до того, как враги, находящиеся в воздухе, смогут ускользнуть».
«Этих червей невозможно увидеть, — сказала Хекет. — Но в тихую ночь во Дворце слышен их вой».
«Я слышу их», — сказал Усермаатра.
«Их можно найти под стропилами каждой крыши. Никакие врата не удержат их. Они проходят под дверьми. Они отделяют жену от мужа».
«Призови Богов, которые прогонят их. Обратись к своим Богам», — сказал Усермаатра.
«Я взываю к Нергалу, — сказала Хекет, — который сидит на гребне стены. Я зову Наруди, который ждет под этим ложем. Он благословит нас, если мы дадим ему пищу и питье».
Теперь Усермаатра встал. Когда маленькие царицы начинали подносить свои дары, Он обычно не поднимался с ложа, прежде чем не извергался многократно, но в ту ночь, будто встревоженный Нилом, бормотание которого доносилось через все сады и лужайки, вновь взволнованный Своими причинявшими Ему боль тревожными мыслями, Он встал и приказал Хекет принести пищу и питье, чтобы поставить под кровать для сирийского Бога Наруди. Затем Усермаатра схватил Мененхетета на глазах у всех четырех маленьких цариц и воскликнул: «Исиду — вот кого Я желаю!»
Мененхетет не знал, был ли тому причиной его собственный ужас, но дурнота сначала заставила ослабеть его ноги. От страха он утратил дар речи. Несмотря на сорок два круга молчания, Усермаатра оказался близок к его мыслям.
«Знает ли кто-нибудь из вас, — спросил Усермаатра, — Обряд Приглашения Исиды?»
Маленькие царицы молчали.
«Ты, Хекет, безобразная, как лягушка. Ты — сирийка и знаешь магические слова на двух языках. Призови Близость Исиды».
«Великий Сесуси, — ответила она, — этот обряд предназначен лишь для Фараона или Верховного Жреца».
«Нужен Верховный Жрец? — спросил Усермаатра. — Тогда будешь служить ты, Мененхетет. В этот час. Не более. Сверх того будет оскорблением для Амона».
«Повелитель Двух Земель, — прошептал Мененхетет, — я не знаю слов».
«Слова скажет Хекет. Ты будешь их слышать». Его рука грубо схватила Мененхетета за волосы. Затем Усермаатра снова лег на ложе и подвел нос Мененхетета к проходу между Своих ягодиц.
«Молись», — сказал Усермаатра, и Мененхетет услыхал крик Исиды, вырвавшийся у Нее, когда тело Осириса было разъято на четырнадцать частей.
Однако первым плодом такой молитвы стал ясный голос самого моего прадеда. Мененхетет вновь принялся говорить вслух, как будто его голос не только был в состоянии достичь наших ушей, но мог также путешествовать сквозь ночь и быть услышан Хатфертити и Птахнемхотепом, где бы те ни находились.
«Да, — сказал мой прадед, с большим расположением глядя на моего отца, словно говоря, что он, Нефхепохем, — спит тот или нет — лучше, чем кто-либо, поймет чувства, что возникают, когда лижешь Царские ягодицы, — ты должен разбираться в подобных вещах». Да, никто лучше него не мог знать, что чувствовал мой прадед.
«Ощущая позолоченные ногти Рамсеса Второго, — сказал мой прадед, — направляемый Его царской, благоухающей ладонью, я уже вошел в некоторые из великих и исполненных силы залов Его мыслей, но все это было ничем по сравнению со входом в Его Царство, которым служил Рот Ямы. Непокорности во мне было не больше, чем у раба. Я даже приготовился к тому, чтобы вдыхать зловонные испарения болот, но ничего подобного не произошло. Ибо в конце большого золотого покоя я увидел свет Ра. Это совсем не походило на обмен грязными ласками с Медовым-Шариком, когда, казалось, я лакал помои из расставленных мне ловушек, хотя, отдавая дань равновесию Маат, она зарывалась в меня своим ртом, добрая свинья — в другую свинью; нет, меня влек вперед кончик моего языка. Подобно собачьей лапе, скребущей землю в поисках все новых таинственных находок, я вздрагивал, целуя ягодицы Усермаатра. Даже страдая от того, что моему носу пришлось уподобиться плугу, а языку — заступу (ибо рука Его была груба!), я не ощущал себя погребенным в египетской грязи, нет, скорее это походило на вхождение в храм, клянусь, Он был так сильно умащен, и столь многими маленькими царицами, что источал благовония, и, входя, я познал захватившие меня царские страсти столь же быстро, как крючок бальзамировщика, входящий в нос в поисках высохших мертвых остатков мозга. И вот ко мне перешла Его ярость и Его царские желания. Так Он лежал, окруженный другими, кто служил Ему, омываемый их языками от Его ушей до Его живота, а Хекет была при Его мече, основа которого терлась о мою голову, как колонна, когда она вбирала его и хлестала меня, как львиный хвост, когда она покидала его на время, достаточное для того, чтобы произнести: „О, Богиня Всего, что Зелено, Великая Исида, Сестра Осириса, Нефтиды и Сета, дитя Земли и Неба, Повелительница Болот", — так лились слова, покуда ей надо было вновь вбирать Его меч в рот, но я, зарывшись в яму, подобно животному, был единственным, кто знал мысли Усермаатра, и могу вам сказать, что Он грезил о том, как пожрет всех Богов в Стране Мертвых, по крайней мере всех Тех, Которые были Его врагами. Он путешествовал на судне, подобном Лодке Ра, и то судно проплывало мимо огненных печей на берегах Дуата. Я мог видеть отчаянное копошение в ямах, в то время как Богини изрыгали великое пламя из горящих скал, чтобы оно испепелило души и тени тех, кто были врагами Усермаатра. Мне даже показалось, что в языках пламени я узрел тело Аменхерхепишефа. Я совершенно определенно увидел злых духов тумана и дождя, а также чудовищ облаков и темноты.
В той лодке вместе с Усермаатра находился другой Великий Фараон, и Он был столь же силен и прекрасен, столь же высок, как Усермаатра. Я знал, что это Его древний предок, Фараон Унас, в честь которого строился Зал Празднеств. И вот, в сопровождении Унаса, Усермаатра причалил лодку, и Они вступили на берега Страны Мертвых, чтобы поохотиться на других Богов. Я увидел погоню. Многие из тех Великих Богов были вскоре пойманы, и слуги Унаса и Усермаатра разрубили Их на куски, которые затем сварили в громадных котлах. Я видел, как Усермаатра ест этих расчлененных Богов, а Его предок Унас тоже поедал лучших и прекраснейших, тогда как более старых Богов, плоть Которых была сухой, просто ломали, подобно дереву, и Их хрупкие кости использовали как дрова. Но духов и души лучших Богов Усермаатра принял в Себя, и Он приобрел Их черты. Теперь я видел Его рот, Его нос и Его глаза такими, какими Он получил их от Богов. Он был Хором, сыном Осириса, и в то же время Он был Самим Осирисом, и Усермаатра сидел с Повелителем Мертвых бок о бок, там, с Осирисом на Великом Троне, сделанном из чего-то более прозрачного, чем вода, и более яркого, чем свет. Усермаатра сидел на месте Исиды.
Все это пребывало в сознании моего Фараона, Великого Рамсеса Второго, Усермаатра-Сетепенра, возлежавшего среди нас со Своим умащенным телом, нашего собственного Бога, Сесуси, в тепле Своей плоти, и я, облитый кровью огней, которые Он видел, и яств, которые Он поглотил, озаренный сиянием пламенеющих полей, где цветы на стеблях из зерен блестели, подобно золотым звездам, был близок к тому, чтобы поверить, что уже никогда не вздохну — так сильно Его ягодицы сжали мой нос, и тем не менее я чувствовал облегчение, поскольку Он больше не подозревал меня, а просто получал удовольствие, поедая тех Богов. Его мрачные мысли ушли. Основа Его меча содрогнулась у меня на лбу, когда Он извергся в рот Хекет. Затем Он безмятежно возлег на поле золотых колосьев. Меня Он, однако, не захотел отпустить.
Потому я продолжал целовать и лизать, стараясь доставить удовольствие Тому, Чей голод лучше всего утоляла плоть Богов, и в покое, снизошедшем теперь на всех нас, когда Он больше уже не пребывал в мрачнейшем из Своих настроений, я таким образом отправился в деревню своего детства, и снова был мальчиком, хотя, конечно, не новорожденным, и был возвращен к спокойным воспоминаниям прошлого — столь же ясно ощутимым и определенным, как камни или глина, обожженная солнцем. Я жил не только в сердце своего Фараона, но также и в своем, и это походило на пребывание в Двух Землях. Одно являет собой знание всего, что осталось позади, а другое, должно быть, наше видение того, что еще случится. В этом смысле мое сознание являлось двумя сознаниями, а каждая из моих рук держала одну из ягодиц Моего Царя, и их щеки были столь же крепкими, как зад коня. Из Его сердца и в мудрость моих рук — так стал я жить в отчаянии и радости, которые Он знал от Своих двух Цариц: Нефертари и Маатхорнефруры.
Хотя мне довелось быть рядом с Царицей Нефертари всего лишь раз, и ни разу рядом с Маатхорнефрурой, теперь они уподобились Двум Землям двух Его ягодиц, и сжимая в своей руке Его правый холм, я медленно поплыл в потоке Его самых сладких воспоминаний о Нефертари, ибо мысленно Он вернулся в год Своего воцарения. Однажды, когда молодой Царь размышлял над трудами Своего усопшего Отца Сети, ища способов превзойти Своего Отца, Он стал думать о высохших колодцах на дорогах, что ведут к золотым рудникам Икаита. На пути к ним не могли найти воды, и половина рабочих погибала при каждом переходе. Из Икаита не пришло золота, чтобы прославить Правление Сети.
И вот в одну из первых недель воцарения Усермаатра случилась ночь, когда Он так глубоко вошел в Свою молодую жену, что пиво в кувшинах, стоявших рядом с Их ложем, вспенилось. Позже, когда Они лежали бок о бок, Нефертари сказала: „Из скалы на дороге в Икаит выйдет вода". Услыхав уверенность в Ее голосе, Усермаатра приказал вырыть колодец, и там была найдена вода, и ее поток дал возможность рабочим добыть много золота в первые годы Правления Рамсеса Второго. Поэтому, сжимая в своих объятиях Нефертари, Он поклялся, что никогда не полюбит другую женщину.
Однако затем, оставляя Его правую ягодицу, чтобы коснуться левой, я смог увидеть Маатхорнефруру так же отчетливо, как и Нефертари. И Маатхорнефрура теперь была не старше, чем та в дни их юности, и, думая о Маатхорнефруре, Он исполнился нежности, как молодой влюбленный.
Будучи дочерью хетта, в Своем детстве Маатхорнефрура встречала лишь мужчин с бородой, а воспитали Ее женщины с носами более кривыми, чем лезвие меча, однако Сама Она, Маатхорнефрура, была прелестна, как ясное утро на нашей реке. И вот я понял, отчего Она была возлюбленной Усермаатра. В Ее объятиях Он слышал пение птиц на рассвете и видел ясный свет во дворе Своего Дворца, когда солнце стоит высоко. Ночью от Нее исходила нежность самых маленьких цветов в Его саду. Все это я узнал, когда мои пальцы касались Его левой ягодицы. Ибо чаша Его счастья перешла в мое сердце. Грубые страсти моего Царя не занимали всего Его сердца. Блеск волос Маатхорнефруры напоминал Ему свет, падающий на прозрачный Трон Небес. При этом Его чувства были столь совершенны, что Он не мог быть с Маатхорнефрурой, когда Его сердце омрачал страх, иначе бремя Его сердца причинило бы Ей страдания.
Позже той ночью, когда Усермаатра оседлал тела каждой из восьми маленьких цариц и Его страсть пылала огнем, призванным похоронить огни Херет-Нечер, извергаясь каждый раз, как Бог, Он стал наконец столь же покоен, как вода в пруду, и Он оделся вместе со мной, и мы вышли в Сады рука об руку. Давно уже Он не был так спокоен. В Его дыхании чувствовалось сильное присутствие колоби, и я понял, сколь близки мы были на протяжении той ночи к телу Исиды. Ибо все, содержащееся в зерне, принадлежит Ей, равно как и все, пребывающее в винограде. А также все то, что нисходит на нас при подъеме реки.
На этот раз все было не так, как тогда, когда Он сперва колебался, прежде чем сказать мне, что я больше не буду Командующим-всеми-Войсками, но стану Управляющим Дома Уединенных. Он сказал: „Я не мог принять решения много месяцев, но этому пришел конец. Завтра ты станешь служить Доверенным Правой Руки Нефертари".
Когда я спросил: „А кто станет Управляющим?", Он ответил: „Я отдаю Сады Пепти. Он там хорошо справится. Но твое место — во Дворце Моей Первой Царицы. У тебя достаточно мудрости, чтобы хорошо служить Ей, а Мне служить еще лучше. — Он кивнул, словно был обладателем величайшей мудрости. — Ты будешь находиться при Нефертари. Ты не оставишь Ее. Если ты услышишь, что Я мертв, у тебя есть единственный приказ: убей Ее на месте".
Затем Он поцеловал меня. „Убей Ее, — сказал Он, — даже если в следующий момент другие убьют тебя".
Я поклонился. Рассвет был так же мил мне, как мысль о моей собственной жизни. „Это самая лучшая смерть для тебя, — сказал Он. — Ты сможешь сопровождать Меня в Золотой Лодке".
Он был моим Царем. Поэтому я не осмелился сказать Ему, что, возможно, мнег предстоит блуждать по Херет-Нечер, а не быть приглашенным Им в какую-либо лодку. Я снова поклонился».
ДЕВЯТЬ
Однажды, сидя с матерью в ее спальне, я увидел, как она взяла круглую серебряную пластину с золотой ручкой и затем поднесла ее к моему лицу. Я едва сдержал крик. Там, на полированной поверхности, плавал мой Ка, смотревший на меня в ответ. Я не раз видел это лицо в воде пруда в безветренный день и узнал, что не могу дотронуться до этого Ка, потому что, как только я протягивал к нему руку, он разбегался множеством маленьких волн. Теперь же мать сказала: «Это-завеса-Ка-который-пребывает-неизменным», итак оно и было. Когда я поднес палец к поверхности пластины, напротив моего появился другой палец, но лицо не сдвинулось с места — оно пребывало там, такое же строгое и почтительное, как и мое собственное. В тот момент я почувствовал себя столь же несхожим с шестилетним мальчиком, по крайней мере по возрасту и уму, как сам мой прадед. Я знал, что нет такой редкой мысли, которую я не смог бы понять, если бы достаточно долго вглядывался в серебряный свет „завесы-Ка-который-пребывает-неизменным". Ибо, когда мое собственное лицо пребывало предо мной, я исполнился мудрости Богов — хоть только на тот миг.
Теперь же какая-то часть знания, обретенного мною тогда, вошла, должно быть, в мое дыхание, потому что, когда я открыл глаза в том крытом внутреннем дворике, ожидая, не знаю почему, увидеть собственное лицо, я вместо этого обнаружил, что мой взгляд погружен в глаза моего прадеда, и мы смотрели друг на друга, пока я не потерял всякое ощущение местоположения горизонта в эту темную ночь. Теперь я мог быть уверен в том, что нахожусь здесь, не больше чем в том, что стою на коленях в каком-то каменном покое в центре каменной горы, и мой рот открыт, а глаза моего прадеда неотрывно смотрят на меня. Тишина окружала нас.
Я начал проникаться ощущением пустоты этого позднего величественного часа ночи. Я все глубже погружался в сошедшую на нас темноту, покуда перестал верить, что когда-нибудь снова увижу солнце. Светлячки едва шевелились, и испускаемый ими свет был таким тусклым, что ткани на их клетках почти не было видно. Затем мой отец пошевелился во сне, и с его губ сорвался стон. Впервые я почувствовал себя близким ему, а затем — не знаю, может, он действительно проснулся или заговорил во сне, — его рука коснулась моей, и поток всех его чувств с его пальцев потек в мои, хотя и не так, как из сердца Великого Сесуси. Моего отца мучила обыкновенная боль в горле, столь же резкая, как у Мененхетета, когда тот проглотил кость, и я узнал, что мы вступили в час, когда Птахнемхотеп и моя мать лежали, сжимая друг друга в объятиях, и соприкосновение их плоти, обнаженной в соитии, мгновенно наложило свой отпечаток на чувства моего отца, столь же жестокий и сильный, словно их захлестнул поток крови. И тогда я узнал, сколь велика власть красоты моей матери над моим отцом. И глубина его страдания не уменьшалась от болезненного удовольствия сознания того, что она отдала себя (и все богатство своей любви) человеку (и Богу всех Богов), к которому мой отец был ближе всех. Поэтому казалось, что из-за любви к моей матери и любви к Птахнемхотепу в душе моего отца кипела испепеляющая схватка одного обожания, сошедшегося с другим, и потому теперь он страдал, подобно льву, пожирающему собственные внутренности. И все же — как схоже со львом! — его сердце знало также и славу.
Именно тогда, как я уже сказал, я вошел в его мысли. Мне случалось уловить некоторые из них и до той ночи, но лишь подобно тому, как палка для метания может ранить птицу, когда та вспархивает у вас над головой. В воздухе носится столько ощущений, что нужно лишь усилие, чтобы уловить одно из них, точно так же палка не может пролететь сквозь облако птиц, не сломав крыла. В эту ночь, однако, я узнал, что если кто-то, подобно Маатхерут, может обладать голосом-Истины, то также можно обладать и истинной-мыслью и плыть в потоке чужих размышлений. Именно таким образом я был унесен в сны моего отца и понял, что он увидел ту же палку для метания (из прекрасного черного дерева, выгнутую наподобие змеи), только что запущенную в небо моими мыслями. Однако эти проделки сознания настолько чудесны, когда не твои собственные глаза видят то, что находится перед тобой, но чужая мысль, что та же самая черная палка для метания на пути вниз вызвала несказанное удовольствие моей матери. Она вскрикнула от восхищения мастерством Птахнемхотепа, и подпрыгнула бы от радости, если бы не стояла рядом с ним на необычайно хрупкой лодочке из папируса, пучки которого были искусно сплетены.
Однако лишь после того, как я увидел, как палка упала, а затем снова взлетела вверх, я осознал, что моя мать выглядит моложе, чем я когда-либо ее видел, и исполнена той дерзкой радости жизни, которая сияет в глазах молодой Принцессы, когда она наслаждается, притом узнал я все это без малейших усилий. И все же, лишь увидев ее сандалий, сделанные из пальмовых листьев и папируса столь же прекрасного, как и папирус их лодочки, и соединенных вместе таким же недолговечным способом, я понял (и лишь благодаря ладони отца, сжимавшей мою руку), что вижу солнечный свет дня семилетней давности, а Птахнемхотеп, под стать ее жизнерадостности, еще молодой Принц, коронованный и ставший Фараоном в том же году и исполненный царственной изысканности, присущей очень молодому Царю, поэтому, когда Он заигрывал с ней и они разговаривали, склонив головы друг к другу, Он, даже в той маленькой лодочке, стоял выпрямив спину, и Его глаза улыбались более, чем Его рот. Ибо к Его подбородку была прикреплена длинная тонкая борода, которую мог носить лишь Фараон.
«О, посмотри, — воскликнула она, — на обезьян!» В тот момент, когда они предоставили лодочку течению и она медленно плыла сквозь тростники (пока птицы, которых они вспугнули, опускались на траву в других местах), ослепительный солнечный свет засиял на цепочке столбов, ограждавших один из Его садов. Там, высоко на деревьях, обезьяны собирали для евнухов фиги и деловито бросали их вниз. Трудно было сказать, кто больше смеялся — садовники или обезьяны. И те и другие приветствовали Его, когда Он, направляя лодочку шестом, проплыл мимо, что, в свою очередь, побудило рассмеяться и Хатфертити. Впереди на болоте солнце сияло на небольших пространствах чистой воды и на цветах, венчавших стебли папируса. Вновь наступила тишина. Они приближались к другому гнездовью птиц, и, чувствуя малейшее колебание лодочки, стоя прямо, бок о бок, они ловко удерживали равновесие, Он врезался в тростник, воздух дрогнул, утки взмыли в небо с набирающим силу криком, подобно табуну лошадей, скачущему вверх по холму, и с ними взлетела Его палка. Птица упала.
Так прошел день. Столь же быстро, как облако, проплывающее под солнцем. Звуки смеха моей матери дважды поранили сердце моего отца. Он любил ее почти каждую ночь в свои пятнадцать, шестнадцать и семнадцать лет и всегда знал, что женится на ней, и все же, когда она стояла в лодочке и прелесть ее стройного тела соответствовала ладной фигуре спокойно стоящего рядом Птахнемхотепа, в ее счастье присутствовала утонченность, которую Нефхепохем никогда не замечал в отношениях с ним. Все это время он подсматривал за ними из ветвей дерева, росшего на краю болота, и его щеки все больше распухали от комариных укусов. Вечером она снова будет смеяться над ним. Поскольку эти нелепые вздутия у него на щеках свидетельствовали о совершенно бессмысленном дне, проведенном на дереве, где он оказался застигнут комарами. Кроме того, она была в ярости. Ее разочарование было безмерно, ведь Птахнемхотеп, приведя лодочку обратно, не попытался склонить ее преступить пределы легкой игры, несмотря на то что дрожь разбуженной Им страсти пробегала по ее бедрам чаще, чем биение птичьих крыльев. Затем, после их затянувшегося прощания, в сумерках ее схватил тот, кто был ее любовником с тех пор, как ей исполнилось двенадцать лет, и теперь в этот день снова овладел ею со страстью четырех Фараонов, и Мененхетет мог бы умереть как раз тогда, когда был готов извергнуться, если бы не понял, как влекла ее застывшая улыбка хранившего молчание Птахнемхотепа. Дважды отвергнутая — первый раз, получив слишком мало, второй — слишком много, Хатфертити, наконец, выплеснула всю свою жестокость, рассмеявшись в лицо своему брату, в то время как тот обладал ею с яростью и вожделением столь же великим, как и у ее деда или любого Фараона, и они обошли почти всю комнату, когда их тела катались по ее полу. Может быть, я был зачат в тот час. Или, может быть, часом раньше, моим прадедом. Или также возможно, что то, что принадлежало в моем зачатии моей матери, родилось в ней от любви во взгляде молодого Фараона? Все, что я знал в тот момент, — это боль сердца моего отца. Он все еще вглядывался в залитое солнцем болото и рыдал в душе, ибо видел мою мать и Фараона в объятиях друг друга и был сломлен тем, что его Фараон, вдохновленный доблестью Своего предка, в эту ночь если и не сравнялся с Усермаатра, то по крайней мере был Его потомком. Исполненные возвышенного счастья, крики моей матери вонзались в уши моего отца, как кинжалы.
Разумеется, к этому моменту я был настолько погружен в сердце своей матери, что мог обходиться без посредничества отца. И вот я увидел его так, как видела его моя мать, узнал плотскую связь и удовольствие их брачных уз и понял, что моя мать наслаждалась любовью моего отца больше, чем ей хотелось бы, в сущности, они были прилеплены друг к другу. Поэтому мой отец — и отчасти в этом заключалась причина его боли — должен был хорошо представлять себе, что, когда он был в ней, моя мать наслаждалась всеми богатствами Египта, однако с таким низменным вожделением, что удары их тел друг о друга отдавались в ее ушах, как чавканье прибрежной грязи. Оттого никогда не было такого случая, чтобы она не ловила момент, чтобы изменить моему отцу с моим прадедом. В объятиях Мененхетета за одну ночь она узнавала больше Богов, чем видела за год с моим отцом. Возможно, запах Мененхетета, будучи запахом благовоний и таким сухим, как далекая пыль, что лежит на самых одиноких скалах, выжженных солнцем, был чужд ей, но он мог быть разными людьми. После она говорила Нефхепохему (поскольку мой отец всегда понимал, что отчасти в этом состоит ее наслаждение, со всей мстительностью старшей сестры — рассказать, да, рассказать ему), что она не только отдалась Мененхетету, но что ее дед уподобился Фараону, и поэтому она могла чувствовать себя Царицей Фараона, тогда как со своим мужем, ах, мой дорогой, это всего лишь твоя низменная привлекательность! С ним она чувствовала себя так же хорошо, как хорошо полю под дневным солнцем, но при этом она не видела ничего лучше крестьян, разбрасывающих семена. Говоря это, она совала свою полную грудь в его голодный рот, перед этим порядком пересохший от услышанной правды ее признаний, и мой отец с жадностью начинал сосать ее, как младенец, как младший брат, как уязвленный муж, и сжимал ее ягодицы с отчаянием любовника, способного проявить силу, но не искусство своей страсти. Хатфертити начинала мяукать, подражая голосу своей любимой кошки, и схватив его несчастный, наполовину поднявшийся маленький член, слабый в этот час, начинала втягивать его губами и выпускать из своего рта, а ее совершенно расслабленный, сладкий в своей искушенности язык был способен сказать и говорил ему, как она делала это и многое другое Мененхетету, и она пробовала густые извержения моего отца и сосредоточенно и лениво растирала их по своему лицу и грудям, а в воздухе пребывал запах слюны его рта и ее рта, и всех других ртов в тех узах, что все еще намертво связывали их и напоминали им о тех радостях, что они познали, когда ей было пятнадцать, а ему тринадцать, и они занимались этим во всех укромных местах. В те дни она считала, что изменяет своему деду со своим братом. Теперь же она изменила им обоим, и даже я, подобно им, жил в богатстве плоти моей матери, когда Фараон пребывал внутри нее, исполненный празднества нашей Свиньи, наш добрый Фараон, Рамсес Девятый, необычно радостный после того, как послушал истории Мененхетета. Подобно Усермаатра, теперь Птахнемхотеп ощущал сонмы Богов в Своем теле. Воодушевленный этими бесчисленными взлетами, мой отец прилепился к телу Хатфертити, но ему, моему бедному отцу, приходилось целовать ноги и ягодицы Фараона на протяжении всех этих семи лет, да, поля и небеса всех Его подданных и Его предков были соединены, когда мой Фараон схватил налитую, готовую взорваться плоть Хатфертити и извергся из самого истока Нила, Птахнемхотеп поднялся, оставив позади пороги, и ощутил, как мощным потоком низвергается в устье Дельты, чтобы быть похороненным там, в Великой Зелени, вместе с Хатфертити, стонущей под ним, подобно львице. Потом Он закончил, а она все еще металась в неистовстве, способном затопить берега любой реки, и запечатала Его рот поцелуем.
В ознобе, всегда охватывавшем Птахнемхотепа после извержения, Он почувствовал отвращение к этой низкой женщине, жене Его Смотрителя Ящика с красками для лица Царя, супруге слуги (с ног до головы покрытой плотью этого слуги), и ее губам, прилепившимся к Его губам, словно слизь, появляющаяся при варке костей — все в ней было отвратительно Ему, но соединение было полным, как настоящая женитьба, с условиями договора, записанными на папирусе. Словно их рты были скреплены такими брачными печатями, подразумевавшими рабство, погребение в одной гробнице, соединение Его Двойного Трона с ее неутолимой алчностью.
Так, вместе с Его наслаждением, холод Его мыслей тоже вошел в мое сознание, но уже не от моей матери, нет, со мной говорило сердце Фараона, и его слышала ночь, оно звучало в ночи, в боли моего отца, превратившейся в открытое ухо. От своего отца я узнал о его чувствах, а знание о том, что его презирают, удвоило боль моего отца.
Однако Хатфертити не знала ни одного из этих мрачных движений души ее Фараона, но лишь бремя Его власти. Она исполнилась Его царственной усталости. Никогда прежде не испытывала она к мужчине такой нежности. И я ощущал эти ее чувства с такой ясностью, словно она говорила о них, и понял — если вообще когда-то сомневался в этом, — что значит обладать двумя разными глазами и двумя ушами, двумя руками, двумя ногами, двумя губами для вкуса (одна для хорошего вкуса, другая — для дурного), двумя ноздрями для дыхания (Боги с одной стороны, Богини — с другой), а также и то, что Египет — страна, состоящая из Двух Земель, соответственно у Фараона была Двойная Корона и Двойной Царский Трон, у Нила — два берега, что есть день и ночь, и так же мой ум был способен принимать мысли двоих людей сразу. В объятиях Птахнемхотепа моя мать пережила самые упоительные минуты любви в своей жизни, даже слаще любви ко мне, тогда как чувства Фараона теперь лихорадила ярость из-за властного наслаждения, что давали Ему прелести этой женщины, эта печать ее губ, ее крепкое тело, мягкое в каждом уголке, который можно было сделать Своей добычей, даже острое касание жестких волос, росших, подобно листве на влажном мясе, между ее бедер, ее притягательность раздражала Его. Он снова овладел ею со всем искусством, приобретенным в Своем маленьком гареме из десяти принцесс, каждую из которых, Он мог сказать, Он знал гораздо лучше, чем Усермаатра любую из сотни Своих. И, конечно же, не было ни одной ласки, которую бы Он не познал, но Ему не было дано ощутить хотя бы подобие присутствия Богини, которой Он мог бы поклоняться, а Хатфертити вовсе не была Богиней, но она пробуждала в Нем такое ненасытное вожделение, которого Он никогда не знал за время тех семи разливов Нила, что случились с момента Его восхождения на Двойной Трон. И пока Он ласкал ее плоть, Птахнемхотеп думал не столько о ней, сколько о Мененхетете.
В ознобе, последовавшем за Его извержением, Он вновь увидел, как могучий член Усермаатра входит во врата между ягодиц Его Управляющего Садами, и это воодушевило Птахнемхотепа. Со вдохом через одну ноздрю Он обрел крепость, но с тем, что вошло через другую, Он ничуть не преисполнился превосходства перед Мененхететом, поскольку теперь Усермаатра входил и в Него, пусть даже лишь посредством языка Хатфертити, вновь заигравшей свою музыку. Теперь, ощущая под одной рукой ее влажную грудь, а под другой — расселину ее ягодиц, вспоминая вид ее раскрытых бедер, какими Он увидал их в свете пламени масляной кадильницы, когда Боги сияли во влажной плоти среди ее волос, Он познал второе наслаждение, и Его жизнь вздрогнула внутри ее живота и начала вытягиваться, уподобляясь Нилу, и заполняться мраком, словно Дуат. Точно Божественное покрывало мощь члена Его предка Усермаатра покрыла Его собственный член. Вероятно, в тот момент Его Тайное Имя открыло дверь, и Боги вошли и вышли из Него во второй раз. Ибо в миг, когда Он извергался, мимо Него пролетела Лодка Ра. Внизу дрогнули Две Земли. Он посмел говорить с Богами с тела жены слуги, и в то мгновение, когда эта ужасная мысль пронзила Его сознание, моя мать вновь увидела огромный каменный обелиск, что мы встретили в то утро на реке, и ощутила в своем животе силу тех мужчин, что гребли вверх против течения, преодолевая громадный вес каменной глыбы, ибо меч Птахнемхотепа походил на тот обелиск и обладал золотым наконечником. В его блеске она поднялась по небесной лестнице.
И действительно Хатфертити поднялась так высоко в сияние собственных чувств, что, несмотря на все мои старания, я не смог оставаться в ее восторге, а соскользнул вниз в мысли моего прадеда, продолжавшего пристально смотреть на меня. Он стремился проникнуть в сознание Птахнемхотепа, и я подумал: не заснул ли наш Фараон, или — не захватил ли Его поток собственных темных мыслей, потому что я больше не мог ощущать Его присутствия, но лишь потревоженную память моего прадеда о Царице Нефертари, хоть я и знал, что подобные вспоминания должны быть столь же бурными, как соленые воды вокруг островов Нового Тира. И все же он, вероятно, нашел те мысли Фараона, которые искал, поскольку мой прадед был так спокоен и тверд, что сперва я не понял, что до наших ушей не доходит ни одного звука, а лишь одни мысли, и если бы вошел слуга, он подумал бы, что мы сидим в молчании. Так оно и было, если не считать отчетливости каждого до единого непроизнесенного слова, что я услышал.
ДЕСЯТЬ
«Признаюсь Тебе, Великий Девятый из Рамсесов, — продолжил свой рассказ мой прадед, — что та Царица Нефертари, что живет в моих мыслях, не похожа на изображения, существующие в виде Ее последних статуи. В них скульптор, желая вернее передать сходство, придал Ей многие черты Самого Усермаатра. Я вижу тот же длинный нос с царственными изогнутыми ноздрями, изысканной формы губы, и, возможно, это удачное решение скульптора, поскольку Она была сестрой Усермаатра. Но я знал Ее очень хорошо, и Она выглядела не так, не совсем так. И все же — и это одна из самых любопытных трудностей существования с воспоминаниями, прошедшими через четыре жизни, — теперь я не могу быть уверенным, действительно ли то лицо, что возникает предо мной, когда я думаю о Нефертари, то самое, которое я любил, когда знал, что такое желать женщину всем своим существом, проникнутым влечением к Ней до кончиков пальцев моих ног, словно, подобно дереву, я мог набираться силы от земли. Я знал Ее лицо, да, и все же, вспоминая Ее сейчас, могу сказать, что Она не была лишена сходства с Медовым-Шариком. Безусловно, Она не была толстой, и тем не менее это была чувственная женщина, по крайней мере в то время года, когда я знал Ее, и лицо Нефертари, как и лицо Медового-Шарика, украшал короткий, отлично вылепленный нос, также дивно изогнутые губы, теплые, как фрукт, они могли быть нежными, веселыми или жестокими — в зависимости от перемен Ее настроения.
Разумеется, волосы Нефертари были темными и блестели как ни у одной другой женщины, а Ее глаза были глазами Богини. Они были темного цвета, но не карие и не черные, а скорее густого темно-фиолетового оттенка или, может быть, то был цвет индиго? Они были пурпурными, как царская краска, которую привозят с берегов Тира, и говорили о самом богатстве как отличии царей, глядя в них, казалось, что твой взгляд мог бы вечно любоваться небом поздним вечером. Так я помню Ее, и все же не могу быть уверенным — Ее ли прекрасное лицо я вижу или просто то, что припоминаю».
Мой прадед всплеснул руками — весьма необычный для него жест, поскольку он редко делал неточные движения, и все же этот неуверенный взлет и падение его рук говорили о грусти, порожденной сознанием того, что невозможно узнать все, что знать необходимо, и поэтому новой ошибке вечно суждено возникать из старой.
«Я помню, однако, — продолжил он, — что в то утро, когда я впервые вошел в Тронную Комнату Нефертари в Ее Покоях Царской Жены (которые представляли собой дворец среди многих дворцов Горизонта Ра) и там был представлен Ее Двору как Доверенный Правой Руки, солнечный свет, проходя в просветы между колоннами за Ее спиной, слепил мне глаза, отражаясь от каждого резного льва и кобры, украшавших Ее золотой трон.
Позволь сказать, что Ее стража быстро провела меня к Самой Царице. Мой новый пост, обладавший очевидным и значительным весом среди Ее Придворных, открывал передо мной одни ворота за другими, и я прошел сквозь большие двойные двери и вступил в золото и великолепие Ее огромного покоя. Я был готов встретить ослепительное сияние трона; маленькие царицы, которые могли рассказывать обо всем, чего сами никогда не видели, говорили мне много чудесного о великолепии утреннего света, когда Она сидит у восточного ряда колонн, но я не собирался падать в обморок. Я провел столько часов с Усермаатра, что считал, что и в Ее Присутствии буду твердо стоять на ногах. Это было не так. Я упал на живот и поцеловал землю, что в те времена, как и теперь, являлось принятой формой поведения при первом представлении ко Двору Великого Двойного Дома или Его Супруги (впоследствии надлежало лишь отвесить глубокий поклон), но в ту первую встречу ни один вельможа, каким бы гордым он ни был, не преминул бы ощутить на своих зубах грязи, в данном случае до блеска отполированного пола из белого египетского известняка. Однако мои зубы застучали по камню. Я находился в присутствии существа, приближенного к Сокрытому. Не Усермаатра, но Амон пребывал с Ней в том покое, и я могу лишь сказать, что, когда бросился на землю, на меня сошло облако, мои глаза затуманились, я облился потом, а мое сердце — именно тогда я понял, что значит это выражение, — находилось уже не в груди, нет, оно вылетело наружу, подобно Ба.
„Поднимись, благородный Мененхетет", — вот первые любезные слова Царицы Нефертари, обращенные ко мне, но мои члены превратились в воду, в которой нет сил, чтобы поднять волну, но пребывает лишь одна тяжесть, и все же, будто, как Аменхерхепишеф, я должен был учиться взбираться на самые крутые скалы, я поднял голову, и в молчании наши взгляды встретились.
Я ощутил прилив сил. От маленьких цариц я слыхал о замечательном цвете Ее глаз и был подготовлен, но я не ждал, что красота их цвета придаст мне силы подобно тому, как умирающий познает счастье, когда ему подносят лепестки роз. Итак, наши глаза встретились, и я жил с Ней во всем том волнении Нила, что возникает, когда его течение разделяет остров — настолько значительную перемену произвели во мне Ее глаза цвета индиго, но тогда мы не просто поприветствовали друг друга, а затем вновь замкнулись в себе, но сошлись, подобно двум облакам разных оттенков, которых несут встречные ветры, и в разделявшем нас воздухе заплясал невидимый вихрь. В тот первый момент Ее лицо и тело походили на мозаику из искрящихся драгоценных камней, я даже не был в состоянии разглядеть Ее целиком, но знал, что люблю Ее, и буду служить Ей, и стану Ее преданным Доверенным Правой Руки. В Ее глазах сверкнуло счастье, и Ее радостный смех прозвенел как заливистый колокольчик, словно — подумать только! — предстоит более благоприятный день, чем обещали все приметы.
Во время церемонии представления мы больше почти ничего не сказали друг другу. Я произнес надлежащие слова негромко, с глубоким почтением, и больше, чем просто почтением, но, что более отвечало такому случаю, невольно прозвучавшим в моем дрогнувшем голосе восхищением Ее красотой, об этом говорило звучание моего голоса, затем я встал и отвесил, как представлялось колесничему, поднявшемуся по службе из рядовых, благородный поклон, такой изысканный и характерный, как мне предстояло тут же узнать, для определенного нома, что Царица спросила: „Не родился ли ты, мой дорогой новый друг Мененхетет, в Саисе?"
„Нет, Великая Супруга Царя, но я жил среди людей из Саиса".
„Говорят, что некоторые маленькие царицы происходят из Саиса".
Я поклонился. У меня не было ответа. Я был слишком смущен. Право, я не смогу сказать вам, сколько придворных находилось в покое — пять или пятнадцать, — я видел лишь Ее и себя.
Позже в тот же день, когда в мое владение был передан Дом Царского Доверенного, и я увидел золото своих стульев и столов и платяных ящиков, мою новую полотняную одежду и золотые браслеты и фаянс моего нового нагрудного украшения, на котором каждый из тысячи и одного кусочка голубого камня был оправлен в золото, и когда я вдохнул запахи отборных благовоний, присланных мне в дар от Царя — а может, они были от Самой Нефертари? — когда я увидел своих новых слуг, а их было пятеро, и прошел по прекрасным комнатам моего нового дома, по всем семи (чтобы в каждой держать скорпиона!): кухне, столовой, приемной для гостей, личной комнате для размышлений и омовений (как объяснил мне новый хранитель моих ключей, писец с лицом, как у Пепти, названный для смеха Худые-Палочки — он был такой толстый!), спальне и двум маленьким комнатам в глубине для моих слуг: повара, хранителя ключей (а также счетов и писем), конюха при золотой колеснице, садовника и, наконец, домоправителя, который одновременно был дворецким и слугой, — тогда я понял, что мне даровано положение более высокое, чем у Командующего или Управляющего, и теперь я живу не в маленьком доме, но в большом.
Поэтому я был счастлив на своем новом месте, хоть и не дольше одного дня, поскольку по прошествии нескольких первых дней я уже сник, как парус, когда ветер дует с обеих сторон, ибо если Дворец Нефертари и пребывал во всем великолепии игры солнечного света на его золоте, то о Ее людях нельзя было сказать того же. Окружавшие Ее военачальники были посредственностями, Командующим нельзя было доверить войска, Управляющие больше ничем не управляли (как и я сам!), а от бывшего Визиря теперь несло колоби, и он докучал всем длинными историями о своих осмотрительных решениях в начале Правления Усермаатра. Приближенные к Ней жрецы погрязли в пороках, главным из которых была алчность, а Ее красивые когда-то служанки были не моложе Ее Самой. Их ограниченный ум, как я понял, узнав их поближе, был занят лишь судьбой их Царицы, их семействами и собственными развлечениями. В то же время они гораздо меньше знали об искусствах и утонченном поведении, чем маленькие царицы, — сказав это, я понял, что нарушил последовательность дней, поскольку так много о Дворе не узнают так скоро, но все же, думается, мне помогли годы военной службы.
На посту Командующего мне было достаточно провести в новом соединении не более часа, чтобы составить однозначное мнение: войска готовы, либо — слишком слабы для достижения моей цели. В первые часы своего пребывания при Ее Дворе я увидел много роскоши и стал свидетелем изысканного поведения многих вельмож, но я также понял, что Усермаатра нечего бояться Ее окружения — их честолюбие обернулось себялюбием, а почести поблекли. Этих придворных гораздо скорее могла бы обеспокоить возможность потерять то, что они имели, чем когда-либо увлечь мечта о наградах за смелые действия. Здесь не мог родиться никакой заговор.
Много лет спустя и в другой жизни, когда я был Верховным Жрецом и знал все тонкости жизни царского двора и богатых людей Египта так же хорошо, как линии на своей ладони, мне хватило бы одного взгляда, чтобы понять то, на что тогда у меня ушло много времени. В моей второй жизни, став придворным Нефертари, я сразу сказал бы себе: „Они здесь не занимаются ничем, кроме сплетен", и был бы прав. Я снова услышал все истории, уже известные мне от маленьких цариц, но при Ее Дворе их рассказывали с теми небольшими подробностями, что бывают дороже самих украшений и преподносятся друг другу как подарки. Поэтому во Дворце Нефертари мне приходилось больше слушать о Маатхорнефруре, чем о Первой Царице. И притом что в первый же визит в мой дом бывшего Визиря, любителя колоби, я узнал, что Нефертари постоянно смеется над Маатхорнефрурой, потому что та носит только светлые парики, Нефертари в свою очередь пришлось узнать из хвастовства Самого Усермаатра — и в тот вечер, когда был пролит суп! — что собственные волосы между бедер Маатхорнефруры также светлые. Ни одному мужчине не доводилось видеть такое. Услыхав это, Нефертари сожгла все Свои светлые парики. Здесь Визирь умолк, прикрыв один мудрый, грустный, сильно затуманенный глаз, а когда открыл его, подмигнул мне. „Однако голова Маатхорнефруры станет такой же лысой, как моя", — пробормотал он.
Это был первый посетитель в моем доме, а за ним последовали и другие. Правила приличия в Садах Уединенных были такими строгими, что я ни разу не коснулся руки маленькой царицы, за исключением той единственной, которой касался. Здесь я мог обладать пятью чужими женами в течение того же количества дней, а они хорошо усвоили искусство обольщения. Ведь оно — единственное развлечение, оставшееся у тех, кто более не хорошеет. Нечего и говорить, что они прекрасно умели обнажить ядовитое жало передаваемой сплетни. Таким образом, Нефертари постоянно слышала о юности и красоте Маатхорнефруры или о том, что Он, Который раньше называл Нефертари „Та-Кто-видит-Хора-и-Сета", теперь говорит те же слова Маатхорнефруре. Женщина, рассказавшая мне это, издала приглушенный стон от ужаса, что ей придется общаться с Нефертари после произнесенных слов.
Итак, мои обязанности в качестве Доверенного Правой Руки заключались в том, чтобы быть рядом с Царицей. Предполагалось, что я должен сопровождать Ее каждый раз, когда Она покидала Дворец, что случалось не каждый день, но достаточно часто, поскольку Ей нравилось отыскивать редкие святилища по всем Фивам. В отличие от Усермаатра, Она поклонялась не только Амону, но и Богам, почитавшимся в других городах, таким как Птах из Мемфиса или Тот из Хмуна, не говоря уже о культе Осириса в Абидосе, здесь же у этих Богов были маленькие храмы с преданными жрецами, и к тому же было немало других Богов, которых моя Царица отыскивала во множестве других храмов, зачастую в самых отвратительных местах — где-нибудь на задворках одной из грязных улиц в бедном квартале Фив, где дети были такими грязными и невежественными, что при виде Ее даже не склоняли голов и не оказывали Ей никаких знаков почтения, а лишь пялили на нас глаза. И все же (когда дорожки оказывались слишком узкими для Ее повозки) иногда Она шла пешком, прекрасные ноги в золотых сандалиях несли Ее до самого конца тенистой улочки, где жрецы ветхого маленького храма омывали их пальцы, будь то храм Хатхор, или Бастет, или Хонсу, или в более красивых местах, по широким улицам, мимо ворот особняков с колоннами, собственной стражей и вырезанным на заказ небольшим каменным Сфинксом, мы могли пройти между редкими мраморными колоннами „чудесного маленького храма", как Она их называла, чтобы поклониться Богине Мут, Супруге Амона, или зайти в храм Саиса-в-Фивах, где поклонялись Богине Нейт. Мне было трудно запомнить названия всех этих храмов — Нубт-в-Фивах, Эдфу-в-Фивах, Джеда-из-Дельты-в-Фивах, или храма Пта-ха-в-Аписе, где поклонялись Богу, облекшемуся в тело быка Аписа С этими новыми храмами мне хватало хлопот, к тому же там собиралось немало верующих, которых приходилось оттеснять плечом. Часто при Ее неожиданном появлении жрецы так нелепо терялись, что мешкали сами расчистить Ей путь к храму.
Затем Она отправлялась за покупками. Мы ехали небольшой процессией колесниц, Ее охрана позади, а я вместе с Ней в золотой Повозке-Супруги, и останавливались, чтобы заглянуть к ювелиру или портному, но эти красивые места в торговой части города интересовали Ее меньше, чем грязные маленькие храмы. Думаю, она хотела привлечь на свою сторону многих Богов. Как я страдал во время таких поездок. Будучи Ее Доверенным, я должен был защищать Ее, и хотя, согласно тайному приказу, я был самым приближенным к Ней врагом, однако я едва ли думал о Ее смерти, когда во время тех небольших поездок замечал одного-двух людей, могущих представлять опасность для Ее жизни.
Помимо этого существовала еще одна трудность. Если Аменхерхепишеф не воевал где-то, то именно Он сопровождал Ее на рынках и в храмах. Теперь же я замещал Принца. Он мог быть Командующим, заменившим меня на посту, но для Него это не имело значения. Первым же взглядом, которым Он встретил меня, Он дал мне понять, насколько желанным явилось мое присутствие. Каждое утро я ожидал, что Он остановит меня у двойной двери Ее спальни и скажет: „Сегодня Я буду сопровождать Царицу. Тебе ехать незачем". И я не знал, найду ли, что ответить. При Кадеше Он был еще мальчиком, хотя уже достаточно неистовым, чтобы умереть, прежде чем Он проиграет сражение, но на протяжении многих лет я знал, что я не в силах тягаться с Ним. Конечно, Он был все так же высок и прям, и солдаты называли Его Ха! — так стремителен был свист воздуха, рассекаемого Его копьем! Стоило лишь взглянуть на Амен-Ха, и все Боги в тебе отшатывались назад. Так что я не осмелился бы возражать Ему прямо — и все же я никогда бы не смог смотреть, как моя Царица отъезжает со Своим сыном. Ибо именно в такой день мог быть осуществлен заговор против Царя. В тот самый час, когда Добрый Бог стал бы истекать кровью на прекрасном полированном каменном полу Своего собственного Дворца, Она могла бы находиться в безопасности вместе с Аменхерхепишефом в одном из сотни особняков вельмож или далеко, в каком-нибудь тайном укрытии в лабиринте фиванских улиц. Я находился рядом с Ней, чтобы охранять Ее, но в то же время я должен был быть готов пронзить Ее ребра, а в следующее мгновение — Ее сердце. Подобно своему Повелителю, я одновременно пребывал в двух землях. Разумеется, в любой из дней, когда Аменхерхепишеф приказал бы мне остаться, а я осмелился бы отказаться сделать это, Принц мог убить меня еще до того, как разнесется эхо моих слов. Затем Он рассказал бы любую подходящую историю. Так что в своем новом доме я не нашел покоя.
И все же как я радовался каждому дню, проведенному с Нефертари. За все те часы, что я был с Медовым-Шариком, я так и не научился тому, как вести себя с ней. Она была в равной степени жрецом, зверем, воином-соратником и принадлежавшей мне женщиной, и, кроме того, мы все время совершали то один, то другой обряд. Во всяком случае, так я вспоминал нашу совместную жизнь после пятнадцати дней разлуки. Ночами я продолжал беспокойно ворочаться в постели, пока мне не начинало казаться, будто я попал в шторм на море. Не знаю, я ли желал ее или она тосковала по мне, однако, несмотря на Заклание-Кабана, оставалась какая-то неутоленная жажда, и я вновь понял, как она страдала от потери своего маленького пальчика, так как теперь внезапность нашего расставания сказывалась в многочисленных странностях моей жизни. Однажды утром я даже проснулся с ощущением, что ее маленький пальчик с болью шевелится в моем собственном пальце. Так я узнал, как взволнована Медовый-Шарик и то, насколько мы еще не были разъединены, да и находясь с Нефертари, я чувствовал, как Медовый-Шарик то оказывает мне услуги, то лишает меня своей благосклонности. Я мог налить вино с таким достоинством, словно какая-то Богиня собиралась пить из Собственного пруда, и знал, что именно рука Медового-Шарика направляет спокойную размеренность струи вина, или точно так же мог оставить влажный кружок на столе от донышка золотого кубка и знал, что моя прежняя любовь позволила нескольким каплям упасть с моей губы.
Однако стоило мне провести один час наедине с Нефертари, и я бьи счастлив. Она так прекрасно говорила. Я познавал магию слов. С Медовым-Шариком я иногда чувствовал, особенно когда бывал сильно удручен, что магия — тяжкий обряд, отправляемый по большей части в кавернах ночи. Сидя же рядом с Нефертари, я узнал о другой магии, которая рождается из птичьего пения или волнообразного покачивания цветов. Несомненно, Она пленяла воздух сладостью Собственного голоса.
Предмет разговора едва ли имел для Нее значение. Ей приходилось так много времени проводить со Своими придворными, что Она находила большое удовольствие в самой незначительной беседе со мной и хотела знать о тех часах моей жизни, о которых я не сказал бы никому другому. Вскоре я понял, что за все годы Ее супружеской жизни с Усермаатра Она ни разу достаточно долго не говорила ни с кем из обитателей Садов Уединенных, поэтому Она всегда желала послушать про маленьких цариц. Там не бьио ни одной маленькой царицы, чье имя было бы Ей незнакомо, потому что Она многое знала о них от членов их семей, всегда готовых говорить о ранних годах жизни своих маленьких Принцесс, потерянных для них. Она вела большую переписку, и часто я сидел в Ее крытом внутреннем дворике с Ней и Ее писцом — карликом по имени Соловей, чья спина была горбатой, но чья маленькая рука отличалась изяществом, и я смотрел, как они пишут письма. Часто он читал их Ей, а Она отвечала Сама, Своей собственной рукой, окуная кисточку в краски, и Ее искусство письма было подарком для глаз того, кто прочтет папирус. Иногда Она показывала мне Свою работу, и я был так очарован, что чувствовал, будто меня нежно приласкали. Совершенство Ее божественных маленьких палочек, и силков, и чаш, и изгибов тех значков, что выходили из-под Ее руки, краски Ее писем и драгоценная жизнь нарисованных Ею птиц заставляли папирус дрожать в моей руке, точно крылья птиц, сложенные на странице Ее прекрасной кистью, теперь расправились и в полете могли скользить между моих пальцев. Золотыми были те часы, когда я сидел подле Нее, пока Она составляла те письма.
Однажды вечером Она пригласила на ужин Аменхерхепишефа вместе со мной с очевидной целью — помочь нам стать друзьями, либо, если этого не получится, дать нам понять, что каждый из нас служит Ее «великой цели», как Она наконец сама это назвала, и именно тогда я осознал нечто в отношении особ, занимающих столь высокое положение. Нельзя быть Царицей, не имея „великой цели". Собиралась ли Она навредить Маатхорнефруре, или обратить Свое мщение на Усермаатра, или обеспечить Принцу, Ее сыну Аменхерхепишефу, преемственность трона Его Отца — кто мог это знать? Я вспоминал воинов со страшными ранами живота. Если они могли сносить боль, то их достоинство становилось их высшей доблестью. Казалось, вокруг них собирались наиболее почитаемые ими Боги. Я подумал об одном колесничем, говорившем со мной, пока всходила луна, самым спокойным тоном, а затем он умер. Он ничем не выдал своей боли, хотя я ощущал всю ее тяжесть.
За столом Нефертари рассказывала нам о всяких пустяках, о любовных подвигах Своего охотничьего пса по прозвищу Серебряное-Сердце, который, пока Она говорила, сидел подле Нее и смотрел по очереди на каждого из нас, и моя Царица стала рассуждать о том, что Серебряное-Сердце грустит о своем семействе, оставленном в стране ладана к востоку от Красного моря. Услышав такие слова, Серебряное-Сердце загрустил и на самом деле завыл, словно желал угодить своей госпоже, и Она снова рассмеялась. В этом звонком смехе было все Ее несчастье, все, что я назвал Ее великой целью, которой я, сидя в мягком свете ее вечернего стола, был готов преданно служить.
Но я подозревал, что Аменхерхепишеф вряд ли станет моим другом. Как и у Нефеш-Бешера, один Его глаз косил, и Его взгляд никогда долго не задерживался на тебе, но перелетал через твою голову, подобно летучей мыши. Он заставил меня также вспомнить того хетта, который вызвался один на один сразиться с Усермаатра — меч против меча. Хотя у Аменхерхепишефа была такая же длинная переносица, как и у Его Отца, изгиб Его ноздрей был более жесток, чем у кривого меча, — нет, Он никогда не полюбит меня. Слишком сильно Он любил Свою Мать, и не тем ртом, как говорили среди колесничих. И в самом деле, Она даже называла Аменхерхепишесра Его уменьшительным именем, как будто в Ее мыслях Он был неотделим от Его копья. „Аменха, — произносила Она, — отчего Ты так хмуришься?", — и, сидя посредине длинного стола, я ощущал себя меньше ростом, чем был на самом деле, и уж совсем ничем — в разговоре. Он говорил Ей только о таких делах, о которых я не имел никакого представления: о Его братьях и их женах, об охотах в пустыне, в которых Она сопровождала Его, о том совсем недавнем дне, когда Она стояла рядом с Ним в папирусной лодке, а Он сбил восемь птиц пятью бросками Своей палки для метания, и последняя птица упала Ей на колени: между Ними существовало такое совершенное взаимопонимание, в котором мне не было места.
Она сделала несколько попыток вовлечь меня в разговор. Когда я похвалил красоту Ее письма, мне было дано небольшое разъяснение относительно того, сколь особенной была та школа, куда Ее послали в детстве. Это был один из очень немногих египетских Домов Наставлений, куда разрешалось ходить девочкам, и с некоторыми из них наставникам приходилось очень нелегко. Все ученицы были Принцессами или, по крайней мере, дочерьми Номархов (как, например, Медовый-Шарик, дочь Номарха Саиса, учившаяся, как я узнал при этом, вместе с Нефертари), и учителя едва ли могли их сечь. „Все же, — говорила Она, — как тебе скажет любой писец: «Уши мальчика находятся в его седалище, и учится он лучше всего, когда хорошенько наказан». Но по каким местам можно бить Принцессу? Нет, такого случиться не могло. Тем не менее мы страдали. Уши девочки — в ее сердце, и мы плакали, когда делали ошибки, а Я никак не могла научиться считать. Каждый раз, выписывая знак семерки, Я не могла думать ни о чем, кроме небольшого шнурка, соединяющего полы Моей одежды. В конце концов, написание у этих слов то же самое".
„Сефех, — сказал Аменхерхепишеф. — Я никогда об этом не думал".
„Сефех, — сказала Она. — Это то же самое. Я всегда путала одно с другим, а после этого у Меня в голове расходились все швы. Все развязывалось!" — „Сефху!" — произнесли мать и сын одновременно, и Их веселье могло резвиться возле этого приятного слова, столь близкого другому слову, но оно означало „снять с себя одежду". Я попытался улыбнуться, но Они знали слова, неизвестные мне, и смех гулял между Ними, подобно ветру, не долетавшему до меня. Разумеется, не впервые мне приходилось задуматься о том, что в нашем языке слишком много тонкостей, ибо я прекрасно себе представлял — меня не раз на этом ловили, — что наиболее образованные египтяне из самых высокопоставленных семей знали, как придать одному и тому же звуку много значений и умели несколько раз записать его по-разному. Я думал: „В Их глазах я все равно что навоз, и это притом что Они произносят те же звуки, говоря «отбеленное полотно». Кто в состоянии понять, что Они имеют в виду? Изменяя значения слов на противоположные, Они многое скрывают от тех, кто по рождению ниже Их".
И все же, если уж говорить об этом, вернувшись далеко в прошлое, к моим первым дням службы колесничего, скажу, что я еще тогда заметил главную отличительную черту людей благородного происхождения, присущую им даже в большей степени, чем их четкое произношение, — своеобразную живость ума. Простой колесничий, я часто совсем не знал, о чем они говорят. Да и как я мог понять, когда каждое слово в нашем египетском языке имеет столько значений? Они могли произнести менти — „груди", но имели в виду глаза. Но есть и другое слово для обозначения глаз — уджат, „глаз-Бога", которое, при небольшом изменении тона, будет означать „неприкасаемый". Приходилось соображать, служа этим господам, поскольку они могли играть с таким количеством значений для каждого звука. И все-таки никто не делал это лучше Нефертари. Изменив ритм звучания слова в Своем горле, произнося хем-т, Она могла превратить „гиену" в „драгоценный камень". И это тоже была магия — Ее великолепное мастерство замены звуков внутри слов до такой степени, что в каждом переливе Ее голоса начинали сверкать искорки. Как Она умела переходить от одного значения к другому! Кхат, — могла сказать Она с отвращением, и лишь по выражению Ее лица следовало понимать — говорит ли Она о „болоте", „каменоломнях" или „Царстве Мертвых".
Тем не менее в тот вечер эти игры продолжались не слишком долго. При всех Своих царских повадках Аменхерхепишеф был больше воином, чем вельможей, и не мог играть столь же хорошо, как Его Мать, конечно, предоставленный сам себе, Он тут же погружался в Свои напыщенные и упрямые мысли. Несмотря на все попытки говорить о том, к чему я не имел отношения, Ему наконец пришлось, не без помощи Ее благосклонности ко мне, вернуться к предмету, относительно которого и я мог бы сделать несколько замечаний, и все же не могу сказать, что я стал счастливее оттого, что Она повернула разговор на военные темы, поскольку Его подвиги обычно заслуживали больше славы, чем мои. „Безрассудно отчаянный" — так обычно называли Его самые близкие мне военачальники, но даже тогда, когда они рассказывали мне о Его худших проявлениях, в каждом отдельном случае, я не мог не знать, насколько Он храбр, а в Садах Уединенных никогда не видевшие Принца маленькие царицы обожали Его.
Несмотря на мое горячее желание не замечать Его достоинств, я был вынужден признать, что никогда еще ни один полководец не добивался такой громкой славы своими успешными осадами городов. Когда я был Командующим-всеми-Армиями, мы старались, чтобы войско Аменхерхепишефа неизменно находилось подальше, на границах с Сирией, но мне постоянно приходилось выслушивать сообщения о взятых Им городах, некоторые из которых представляли собой неприступные дотоле крепости. Он строил укрепления и катил их вперед на деревянных колесах, и одно такое сооружение достигало высоты трех домов, чтобы Его воины оказались вровень со стеной, которую им предстояло преодолеть. Никакие труды не были для Него чрезмерными. Он возводил валы вокруг городов, чтобы из них не могли выскользнуть женщины и дети — стоны умирающих с голода придают силы Его войскам, заявлял Он. Однако маленькие царицы говорили не столько об этих жестоких и целеустремленных уловках, сколько о Его отваге. Так, зная эту историю еще с времен своей военной службы, я еще раз услыхал ее в Садах: как Он не только взбирался по отвесным скалам, чтобы приучить Себя ко всем трудностям, с которыми Ему предстояло столкнуться на зубчатых крепостных стенах, но и выучил целый отряд Своих колесничих делать это почти так же хорошо, как и Он сам. Во время Своей последней осады в Ливии, куда Отец послал Его в надежде, что Он не скоро вернется, Аменхерхепишефу и Его людям удалось взобраться на стены без лестниц в первую же ночь осады, еще до того, как был вырыт первый ров! Его отряды лишь в этот день прибыли на место. Об этом говорили все. Осада, которая не продлилась и одной ночи! Было ясно, что Аменхерхепишеф желал, чтобы все в Египте знали, что Он станет более велик, чем Усермаатра.
Разумеется, в Садах постоянно сплетничали о Его будущем. Взойдет ли Аменхерхепишеф на Трон? Или Фараон изберет другого Принца? Маатхорнефрура уже родила Ему двойню, и хотя один ребенок умер в первую же неделю, второй пребывал в добром здравии. Редким, однако, был тот день, и редким тот слух, в котором не содержалось бы намека на некую угрозу жизни маленького Пехти-ра, получившего это могучее имя — Лев-Ра, а Отец называл его еще и Хер-Ра. Разумеется, провести в Садах несколько месяцев значило понять (если прислушиваться к словам маленьких цариц), что ни один Принц еще не унаследовал Трон Своего Отца раньше, чем десяток Его сводных братьев от других женщин погибли внезапной смертью. Я слыхал так много историй о смерти в пивных, на поле битвы, в постелях женщин-предательниц или об удушении в колыбели, что не верил ни одной из них, покуда не увидел, сколь многочисленна стража вокруг дворца Маатхорнефруры, и внезапно обнаружил, что думаю о тех препятствиях, что ждут Пехтира, покуда Он, наполовину хетт, станет Царем Египта.
Вероятно, я все еще размышлял о подобных делах, так как в конце ужина Аменхерхепишеф застал меня врасплох. После того как Он прозрачно намекнул Своей Матери о прелестях благородной особы, которая ждет Его этой ночью в Фивах — я видел, что Он желает заставить Ее ревновать после Его ухода, — Он наконец обратился прямо ко мне. Причина была ясна, и Он высказал ее с презрением. „Ты наушник Моего Отца", — сказал Он.
„Ни один человек моего положения не может претендовать на эту роль".
Он улыбнулся. Он хотел напомнить мне, что Он еще может стать моим Царем. И Царем, который будет плохо относиться ко мне. Он сказал: „Исправно доноси Моему Отцу, Который вознаграждает тебя".
Не только Он был очень доволен Своими последними умными замечаниями, но и Его Мать захлопала в ладоши и перед уходом с чувством поцеловала Его в губы.
„Что ты говоришь Его Отцу?" — спросила Она меня.
„Ничего особенного, — ответил я. — Добрый Бог не прислушивается к моим словам. — Я вздохнул. — Грустно быть беднягой, чью ногу калечат два огромных камня". К счастью, мне удалось вызвать на своем лице улыбку, как я знал, коварную и недобрую, и Она улыбнулась в ответ. „Ты безобиден, как масло, — сказала Она, — и два огромных камня не представляют для тебя никакой опасности".
Эта шутка являла прекрасный пример того, что я имел в виду, говоря о Ее умении пользоваться нашим языком. Слова „беспомощный" и „масло" звучали одинаково и поэтому отражали природу Ее магии, легкой, как крылья скворца. Естественно, это заставляло меня задуматься над тем, отчего один и тот же звук мог позволить думать одновременно о масле и беспомощности, точно так же как слово „думать" могло означать, что ты хочешь пить, или что ты — ваза, или танцуешь, или готов остановиться. Наше слово „размышлять" стояло рядом с „богохульством", а звуки, выражавшие понятие „обдумывать" — мау — одновременно значили „свет-Бога". Или оно могло значить „задний проход". Не было числа сетям, в которые попадались наши мысли. Возможно ли, что, столь часто записывая эти слова, Нефертари знала, как изображение какого-нибудь маленького Бога или причудливой завитушки в конце слова могло увести его значение от солнечного света в самый мрачный гроб в тайниках твоей утробы? Часто Она поражала меня хрупкостью Своего приношения. Я, привыкший к требовательной силе Маатхерут, теперь смог оценить легкость прикосновений тех, кто был близок к Богам. Я знал, что, несмотря на то что Она обожает Своего высокого сына, Она также рада находиться наедине со мной, что, если подумать, было вполне естественно для Великой Царицы и Супруги Бога — вести Себя так, словно и у Нее, как и у Самого Усермаатра, действительно был не один Ка, а четырнадцать, так что в Ней жило много женщин, каждая из которых могла находить удовольствие в другом мужчине.
Осмелюсь заметить, Она знала меня очень хорошо, так как, когда мы остались одни, Она сразу же подошла к золотому сундучку, стоявшему на большом комоде, и вынула из него диск из черного дерева с рукояткой из серебристого золота шириной с человеческий лоб. Осторожно держа его в руках так, чтобы мне была видна лишь тыльная сторона диска, Она села подле меня и положила его лицевой стороной на стол. Затем Она спросила, или я так подумал: „Смотрел ли ты когда-нибудь на прекрасное откровение?".
И опять я был в затруднении. Мне не верилось, что Она может говорить о той ночи, когда к Ней пришел Амон и дал Ее чреву Аменхерхепишефа, но, по правде говоря, меня просто ошеломила прямота такого вопроса, так как я не мог себе представить, что Она имеет в виду что-то вроде „зачатия", что на самом деле тоже одно из значений слова „откровение", но нет, судя по улыбке, игравшей на Ее лице, Ее слова не говорили о близости Амона! Поэтому я предположил другой смысл слова, возможно, Она спросила: „Заглядывал ли ты когда-либо в грязь?", но снова по выражению Ее лица я понял, что вряд ли могло быть так. Наконец, и с каким облегчением, я решил, что Она сказала: „Глядел ли ты когда-либо в прекрасную реку?", потому что, конечно же, кто не видел спокойного Нила, когда вода тиха и прозрачна, и твое лицо сморщивается на поверхности от маленьких волн, поэтому я кивнул и, успокоившись, ответил: „Да, я знаю Нил почти на всем его протяжении". Тут Она протянула руку, легонько ущипнула меня за щеку, пододвинула свечу поближе к нам и перевернула диск из черного дерева. В страхе я отпрянул. В свете пламени я увидел лицо человека, несколько походившее на мое, но гораздо более знакомое, чем на поверхности всех тех рябящих вод, где я мог разглядеть его лишь наполовину. Теперь же я действительно увидел свои собственные черты на совершенной поверхности отполированного серебра, и как же я походил на тебя, Нефхепохем, муж моей внучки Хатфертити, да, у меня было выражение того, кто служит Добрым и Великим Богам, и меня поразило, сколько осторожности было теперь в том человеке, который когда-то был колесничим. Какими гладкими были мои щеки, и сколько тревоги было в моем лице. А все оттого, что о них терлись щеки Медового-Шарика! Должно быть, мое сердце подобно гробнице, приюту разложения! Это была первая мысль, возникавшая при виде моего лица, и родилась она в лучшей части моей души, самой близкой к храбрым Богам и наиболее требовательной ко мне, но, скажу я вам, следующий голос, который я услыхал, был голосом лакомых кусочков моей плоти, и они были в восторге от моего вида. Я нашел себя красивым и искушенным в женских желаниях, и действительно, я был так хорош собой, что задрожал от удовольствия и чуть не извергся, как резвящийся пес, столь пьянящим оказалось собственное отражение. Затем я преисполнился страха, потому что понял, что вижу не свое лицо, но моего Ка, жившего на поверхности этого серебра, этого полированного серебряного озера. Нефертари погладила меня по щеке, и в прикосновении кончиков Ее пальцев чувствовалась издевка. „Ах, бедняжка, — сказала Она, — не видел зеркала".
„Я никогда не видел такого зеркала", — удалось мне выдавить из себя, так как я был почти не в состоянии говорить. „Но это же, — хотелось мне сказать, — изменяет все сущее". Ибо я знал, что если каждый воин и крестьянин смог бы увидеть своего Ка, то тогда все захотели бы поступать как Боги. О, я глядел в обыкновенные зеркала, поцарапанные и тусклые, с поверхностями настолько несовершенными, что глаза и нос начинали изгибаться при изменении их положения, но это зеркало не походило ни на одно другое. Наверное, оно было самым лучшим во всем Египте, настоящим откровением — именно это слово Она употребила, — и мой Ка находился предо мной, и мы смотрели друг на друга.
Тогда-то я снова осознал, как ужасно странствовать по Херет-Нечер, не имея дома-гробницы, когда кругом — ничего, кроме берегов, чудовищ и языков пламени, испускаемого змеями. Ибо я увидел, что на самом деле мой Ка — это я сам, и вот он стоит предо мной, исполненный жизни. Именно ему предстояло быть уничтоженным в дыму и зловонии. Крик протеста против этого чудовищного будущего застрял в моем горле. Столь отчетливым было все, что я увидал в том лице, что даже свет от свечи показался мне пламенем Херет-Нечер, и я понял, что люблю своего Ка и не важно, сколько испорченности отражали его черты, когда и моя жизнь пребывала в них. И тут у меня перехватило дыхание. Поворотом кисти руки, державшей это „откровение", Она показала мне не моего, но Своего Ка, и Ее глаза, цвета индиго, синие, как вечер в свете пламени факела, глядели на меня с полированного диска, и я осмелился погрузить свой взгляд в глаза Ее Ка, по крайней мере этого, Одного из Ее Четырнадцати. И, должно быть, выражение моих глаз сказало Ей, как сильно я Ее люблю, потому что Она мигнула, будто тоже уловила тень от невидимых крыльев. Думаю, именно тогда Она поняла, что я должен убить Ее, если умрет Усермаатра. Посредством зеркала мы смотрели друг на друга, покуда у нас обоих на глаза не навернулись слезы.
Однако, мы так пристально смотрели в глаза друг друга, что сила наших взглядов позволила мне впервые войти в Ее мысли, и, пока мы не отвели глаза, я взял Ее руку — осмелился и взял Ее руку, — и через Ее пальцы (точно так же, как с Усермаатра) я вошел в Ее сердце. Там пребывали мысли далеко не суетные. Она думала о той ночи, когда Амон пришел к Ее ложу, и Она зачала Аменхерхепишегфа. Да, ревность Усермаатра имела прочные основания. От прикосновения Ее ладони к моей то же чувство проснулось и во мне. Ибо я увидал Ее на коленях у Бога, и никто не обладал силой Сокрытого. В этой скачке Ее мысли застучали в моей голове подобно топоту лошадиных копыт, явственно ощутимых тяжелых ударов, которыми приходилось расплачиваться за дерзость прикосновения к Ее пальцам, но затем Она вновь успокоилась и с недоброй улыбкой прошептала мне на ухо: „Это правда, что Маатхерут не может выпустить тебя из своих объятий?"
Теперь я уже не знал, могла ли Она слышать мои мысли, или улавливать одинокие желания Медового-Шарика, или из-за евнухов, свободно, как птицы, путешествовавших от кухонных плит одного дворца к воротам другого, все это дошло до Нефертари в виде слухов. Как же забилось мое сердце от мысли, что и мое имя попало теперь в сплетни.
Я не ответил. Я подумал, что если притворюсь не понявшим вопрос, то Царица сочтет ниже Своего достоинства повторить его. Я еще не представлял себе, настолько изысканным было Ее умение вести Себя, что желания Нефертари так же схожи с рычанием льва, как желания Самого Усермаатра. „Ну же, — сказала Она, — это правда? Так говорила Маатхерут". Теперь мне пришлось гадать, настолько ли близка Маатхерут с Царицей, что общается с Ней через доверенных друзей?
Я мог бы отделаться дурацкой улыбкой или многозначительным взглядом, но какая-то сила, идущая из сердца, некогда говорившая во мне, как в храбром человеке, вновь обратила мои глаза к зеркалу, я протянул руку и повернул рукоятку так, что теперь мы вновь могли говорить глазами моего Ка, глядевшими в глаза Ее Ка, и сказал: „Если бы не очарование, окружающее Ваше Величество, я бы часто думал о Маатхерут". В тот же момент я понял, что истинное желание отомстить похоже на змею. Если ее хвост покоился в ямах моего сна, то голова ее говорила в глазах моей Царицы. Мы оба ощущали дыхание Маатхерут, будто она не столько благословляла нас, сколько давала силы, чтобы использовать ее проклятье. Нефертари и я все еще смотрели друг другу в глаза в зеркале, но теперь оно могло бы быть и высоким берегом реки, мимо излучины которого несутся мощные воды разлива. Мы глядели друг на друга со всем тем изумлением, с каким случается разглядывать незнакомца на базаре — да, Своим чувственным телом и ладностью бедер, таких похожих на мои, эта женщина влекла меня к Себе, а также и Своим возрастом — мы с Ней были одногодками, и Ее мудрость была равной моей. Она — незнакомка, которая могла бы быть мне парой. Так я увидел Ее, и знал, что и Она увидела меня. Она как женщина, а не Богиня, и я — как мужчина, а не слуга. Я дивился тому, как это мы встретились, столь равные во всем, и так хорошо подошли друг другу. Мы обменялись ласковыми улыбками. Увы. Этот Ка был лишь одним из Ее Четырнадцати.
И все же мы чувствовали нежность друг к другу, как только что обретенные друзья, и Она вновь взяла меня за руку и принялась объяснять мне, поскольку теперь мы стали близки, то, что раньше я никогда не понимал. И многое из того, что было непостижимо для меня в Садах Уединенных, теперь встало на свое место, и из Ее слов я узнал много нового о своем Фараоне. Я понял, почему Он вернулся из Кадеша другим человеком. Ибо Она рассказала мне, как в день великой битвы, когда хетты прорвались, Усермаатра молился в Своей Палатке, и Он просил Амона дать Ему силы встретить врага, и Сокрытый ответил, что Его желание будет удовлетворено. „Ты не просишь у Меня долгой жизни, — такими были слова Амона, — и потому Ты обретешь большую силу".
„С того дня, — сказала Неазертари, — Он прожил двадцать девять лет, но Он все еще ожидает того часа, когда Амон придет за Ним.
Вот почему теперь Он с хеттской женщиной, — сказала Нефертари. — Он надеется, что Амон не осмелится вступить в войну с Богами хеттов. — Я увидел гнев в Ее глазах. — Он чувствует великий страх, когда спит с хеттской Принцессой и пытается стать близким Ее Богам. Ибо Он все еще желает Меня. — Ее голос был глубок, как ночь, и исполнен тяжести камня, который Она желала бы положить на Его гробницу. — Я презираю Сесуси, — сказала Она, — за Его страх"».
ОДИННАДЦАТЬ
«Иногда, просыпаясь посреди ночи один в своей постели в Доме Помощника Правой Руки, я чувствовал рядом с собой Медовый-Шарик. Не было ни одной летучей мыши, влетевшей в мое окно, ни одной птицы, нарушившей тишину ночи, которые не могли бы быть гостями из ее сада, и я чувствовал, как Боги пробуждаются, словно прибывающая вода разлива. Подобно тому как деревням предстояло вскоре превратиться в острова, так и то, что готовит мне судьба, должно было всплыть на поверхность высоких вод. Я знал, что должен хватать, что бы ни было мне предложено.
Я говорю это, поскольку следующее подношение было нечистым, и мне было тошно от такого колдовства. Однако ничто из плывшего мне в руки не могло лучше послужить Нефертари. Однажды, смешивая помет своей кошки с пеплом растений и кровью из своей руки, Медовый-Шарик сказала, словно обращаясь к самой себе: „Больше всего мне нужны отправления Сесуси", и я почувствовал такое сильное отвращение, что пища из моего желудка чуть не изверглась в ее магическую смесь. Но я никогда не забывал ее слов. Ибо я понимал, что они справедливы. Я много размышлял над природой человеческих отбросов, когда жил в Садах Уединенных, — да и как я мог не думать об этом? Иногда они оказывались так же близки ко мне, как земля к моим ногам. Я даже предположил, что испражнения представляют собой суть всех вещей, и именно по этой причине они оставляют нас из центра тела — результат истинной договоренности между Сетом и Гебом! Конечно, я пришел к печальному заключению, что испражнения — столь же неотъемлемая часть магии, как кровь или огонь, они — волшебный напиток вечной молодости умирающих Богов и разлагающихся духов, отчаянно желающих вновь обрести покидающую их жизнь. Однако, когда я думал обо всех превращениях, способность к которым пребывает в навозе (поскольку из него произрастает не только хороший урожай, но нельзя также забывать пожирающих его собак и кишащих на нем мух), я стал размышлять обо всех тех Богах, мелких и жестоких, как сама чума, которые обитают рядом с такими великими переменами. „Какие опасности таят в себе эти испражнения, — сказал я себе, и мне в голову пришла одна ужасная мысль, хотя объяснить ее я не мог. — Владеть отправлениями другого человека должно быть равносильно обладанию большим количеством золота или богатством".
Не по этой ли причине все, кто посещал Двор, имели обыкновение надевать на себя все золотые украшения, которые имели? Я все еще помню, как на Большой Площади между Широким Дворцом и Маленьким Дворцом золото блистало на их телах, как солнечный свет на поверхности Озера Маат. У его берега располагался внутренний двор под золотой крышей, обнесенный стенами из прекрасного белого камня, и в этом прохладном месте все обычно собирались — знатные люди и богатые торговцы из Фив, и каждый человек, занимавший достаточно высокое положение, приплывший вверх по реке от Дельты или спустившийся из номов Верхнего Египта. Они собирались там, подобно скоту, приходящему к реке на водопой, и это должно было посодействовать моему подношению.
Для входа в Широкий Дворец требовался папирус от Управления Ворот, а Маленький Дворец был закрыт для всех, кроме приближенных слуг Усермаатра. Поэтому в этом крытом дворе у Озера Маат между двумя Дворцами богатые люди Египта ждали, когда Усермаатра проследует по Своему пути от одного Дворца к другому. Его всегда несли, и носильщиками были восемь посетителей — восемь избранных из ста и более, ожидавших объявления от дверей одного из Дворцов о том, что Добрый и Великий Бог собирается появиться. Тотчас же, подобно первому мусору в поднимающейся воде, посетители превращались в беспорядочную толпу дерущихся за право нести Усермаатра в Золотом Чреве (так мы называли Его паланкин), ведь это был единственный случай, когда эти люди могли прислуживать Ему. Во время всех остальных возможных Его перемещений — из Дворца в Храм, или на улицы Фив, или к Причалу Царской Лодки — Его сопровождали начальники Его Охраны, за каждым из которых было закреплено место у паланкина, собственно, для каждого из них существовало определенное имя — Третий Носильщик Правой Рукоятки Золотого Чрева, такого рода титулы. Однако Охрану не использовали во время Его многочисленных перемещений между Широким и Маленьким Дворцами. Поэтому любой торговец, достаточно уважаемый, чтобы пройти через Двойные-Ворота на реке, мог в случае удачи получить исключительное право пронести Его те несколько сотен шагов вокруг Озера Истины (то есть Озера Маат) к дверям другого Дворца. Расстояние небольшое, но ходили рассказы о людях, прождавших весь палящий день у дверей одного из Дворцов, где они простаивали все те самые ужасные часы зноя, стиснутые друг с другом, вонючие в этой солнечной печи, если не умастили себя благовониями, — горе тому телу, неприятный запах которого донесся бы до ноздрей Усермаатра! — но в этой ужасающей давке некоторым улыбалась удача, и они захватывали честь услужить Фараону (и рассказывали об этом всю свою дальнейшую жизнь). Независимо от того, насколько измученными долгими часами ожидания они были, они были рады хором приветствовать Его, неся Его и Золотое Чрево с Его Сиденьем. Они радостно кричали даже на бегу и, казалось, никогда не боялись упасть замертво на такой скорости, в то время как другая толпа знатных людей из отдаленных номов ожидала у других дверей в надежде, что вскоре Он появится вновь.
Именно тогда я осознал, насколько высоко мое положение. Я с презрением смотрел на тех, кто выставлял себя дураками. Если, будучи в должности Командующего-всеми- Войсками, я и не имел права входить в Дом Обожания (как еще мы называли Маленький Дворец), то все же ехал в своей колеснице вслед за Его Колесницей по улицам Фив и по тем дорогам, что вели туда, где мы устраивали скачки в восточных пустынях; а когда Его путь был не столь длинным и Он предпочитал, чтобы Его переносили в Его Золотом Чреве, мое место было справа от Него, вторым у шеста, на котором несли паланкин, рядом с Его Визирем Нижнего Египта, слабым парнем, чья доля веса отчасти приходилась на мои плечи. Затем в Садах, будучи Управляющим Дома Уединенных, я держал в своей руке Его пять пальцев. Теперь, как Помощник Правой Руки, я имел право прохода в Маленький Дворец в любой час и через любую дверь. Как могло быть иначе, если мой Царь жил в страхе перед Своим Сыном и Женой? Он приказал мне рассказывать Ему все, что я слышал. Он часто призывал меня и задавал много вопросов. Однако я редко мог угодить Ему, поскольку Он не слышал того, чего бы Ему хотелось — рассказа о враждебности Нефертари или о коварных замыслах Его Сына. Вместо этого я всеми способами пытался убедить своего Царя, что не смогу узнать много, пока Она не станет больше доверять мне. Я тем не менее придавал большое значение тихим вздохам, срывавшимся с Ее губ, и жестокости, сквозившей в выражении рта Аменхерхепишефа. Преувеличивая эти мелочи, я добился, с одной стороны, того, что убедил своего Царя в моей преданности Ему — задача непростая, — и при этом позволил Ему сделать вывод, что от Его Жены и Сына не исходит явного зла. Это также доставило Ему удовольствие. Однако Царь, увенчанный Двойной Короной должен прислушиваться к Двум Своим Землям: если Верхний Египет желал услышать сказки о настоящем предательстве, то Нижний — радовался Ее верности. Но все равно после того, как Нефертари рассказала мне о Его великом и тайном страхе перед Амоном, я решил передать Ему Ее слова, несмотря на то что не представлял, как осмелюсь произнести такое признание. Он принял меня в большом покое, где обычно спал, Он возлежал на Своем ложе, и Его рука обнимала Маатхорнефру-ру, а Ее золотые волосы покрывали Его грудь, и тем не менее я сказал все, не испытывая боли от того, что предаю Нефертари. Я твердо верил, что Она знает, что я все Ему расскажу, и желает этого. Конечно, Она выросла в глазах всех нас, когда я повторил Ее слова: „Я презираю Его за Его страх".
Усермаатра закричал так, что от звуков Его голоса стены Его храмов могли бы пасть на мои уши, а Маатхорнефрура впервые взглянула на меня. Хотя до этого я дважды бывал в покое, служившем Ему спальней, когда там находилась и Она, оба эти раза я видел не более чем Ее затылок. Ни в один из тех раз Они не пошевелились, пока я говорил, и, сказав все, я просто уходил. Теперь я считал, что повторил слова моей Царицы из гордости за их прямоту, и готов был поклясться, что действовал правильно.
Конечно же, Маатхорнефрура села в постели, открыв порочность своих маленьких грудей (которые были широко расставлены), и громко выкрикнула: „Она злобная! У Нее дурной глаз!" Слова эти я с трудом смог разобрать, таким сильным было прозвучавшее в них чувство, и странно было слышать такие слова, глядя на Ее молодое, открытое, как цветок, лицо, но по боли в Ее голосе я смог понять, что Она мудрее Своего собственного гнева. Она знала, что Усермаатра не будет думать о Ней до конца этого утра. Из-за неистового желания расправиться с Нефертари за эту дерзость (неисполнимого — ведь Они не разговаривали друг с другом!) весь этот день Его мысли будут заняты Нефертари больше, чем Своей молодой женой.
Именно тогда Он приказал мне взять Золотую Вазу, стоявшую у Его ложа, и опорожнить ее в Его саду. И приказание это бьио высказано с таким презрением, что Маатхорнефрура улыбнулась мне, словно желая принять половину оскорбления на Себя — я не ожидал встретить у Царицы такой доброты. Я поклонился Ей и моему Царю, взял Вазу и вышел из покоя спиной вперед, а за дверьми ко мне немедленно подошел ждавший там жрец. Это был Надзиратель за Золотой Вазой, который назвал свою должность еще до того, как я успел повернуться. „Твои обязанности на этом закончились", — сказал он.
Я не стал спорить. Кончики моих пальцев все еще горели от стыда, что меня выпроводили подобным образом. На моих глазах не бьио слез, но во мне бушевала бессильная ярость наподобие той, какую переживают дети, ибо я ненавидел своего Фараона, но ненависть эта была бесполезна, поскольку я хотел бы любить Его. Собственно, я знал, что люблю Его, и тут ничего не поделаешь. Он будет лишь еще меньше любить меня. Как я желал уничтожить Его!
Вот такие мысли одолевали меня. Шагая рядом со жрецом, несшим Золотую Вазу, я удивлялся, отчего земля не дрожит от всех этих страшных мыслей в моей голове, но утренний свет оставался таким же золотым, как поверхность Вазы, хотя мои руки все еще дрожали от сокровенного тепла металла в том месте, где я его коснулся. Моя ладонь горела, как само солнце.
„При всем уважении, — сказал жрец, видя, что я все еще сопровождаю его, — к твоей высокой должности я вынужден сказать, что по Его повелению эти обязанности предписано исполнять в уединении".
„Это верно для всех прочих дней, — ответил я, — но в это утро мне приказано оставаться с тобой. Можешь спросить Единственного".
Я знал, что он не посмеет. Я перевел взгляд с его обритого черепа на слабое и себялюбивое лицо. Он кивнул с таким видом, будто больше всего гордился тем, что его трудно удивить. И все же я видел, что он обеспокоен. Не собираются ли упразднить его обязанности?
Мы прошли тропинкой через сад. Должен сказать, что он шел, вытянув руки вперед, как будто нес подношение к алтарю. Когда мы проходили мимо стражника, или служанки, или садовника, все они низко кланялись этой Золотой Вазе, и я заметил, что жрец склонял голову, как Сам Фараон — настолько величественным было движение его головы.
Перед зеленой деревянной дверью, на которой я увидел нарисованные черной краской очертания дикого кабана, мы остановились, и жрец достал из своих юбок деревянный ключ, открыл им дверь и еще раз посмотрел на меня. Он все еще сомневался в том, что Единственный действительно приказал мне войти в эти пределы. Но я доверительно осведомился: „Как имя этого кабана?"
„Ша-ах, — сказал жрец и, желая казаться более ученым, пояснил: — Так звали Сета, когда Он сражался с Хором, приняв облик дикого кабана".
„Да, — сказал я, — именно в эту дверь Единственный приказал мне войти". Я не знал, почему мне хочется войти, но все же сделал это, и со всей уверенностью, которая знакома тем, кто следует указаниям Богов. Иными словами, кто близок к Богам, Которые пребывают в тебе пробужденными. Кто так удачлив, что знает Их имена?
Мы вошли в скромный сад, где росло множество трав, и жрец преклонил колени рядом с маленькой бороздой, поставил Вазу, снял крышку и принялся смешивать с землей маленькие катышки, которые раскладывал вокруг корней каждого растения, покуда Ваза не опустела. Я также стал на колени рядом с ним, и, вероятно, мой вид заставил его подумать, что я собираюсь коснуться одного из листьев, так как он сказал: „Это травы мудрости, и их могу срывать только я как поставленный Им Надзиратель". Я кивнул. Мое поведение должно было убедить его, что его слова соответствуют тому, что мне было сказано, и я встал. Разумеется, он с таким подозрением глядел на мою руку, которая находилась рядом с листьями, что не заметил другую — рядом с корнями. В своих пальцах я держал теперь один из катышков, и он был таким же теплым, как кровь Усермаатра, но ведь он и появился из седалища Двух Земель. Я поклонился, а жрец стал на колени у маленького алтаря и помолился. Затем он вымыл руки освященной водой и вышел из того маленького сада, я шел всего на шаг впереди него и расстался с ним только уже на внешних дорожках и проследовал своим быстрым шагом от Маленького Дворца вокруг Озера Маат к Широкому Дворцу, а оттуда я пошел еще быстрее через другие сады мимо многих святилищ и храмов, покуда не очутился перед воротами Покоев Царской Супруги и был приглашен в Тронную Комнату Нефертари, а оттуда, как только закончился Ее утренний прием для Придворных, вошел в спальный покой, где мы сидели прошлой ночью перед Ее зеркалом, и все это время моя ладонь чувствовала ритмичное биение, как будто в отправлениях Усермаатра я держал в руке Его сердце.
Когда я показал их моей Царице, Она действовала сосредоточенно и быстро, более искусно, чем Маатхерут. Она не стала ждать темноты или сначала призывать кого-либо, а просто взяла катышек в ладонь, закрыла глаза, сказала про Себя несколько слов и вернула его мне. „Иди, — сказала Она, — к Озеру Маат и брось в него Его дар".
Я сделал так, как Она сказала. Позже, в тот же день, когда восемь носильщиков Золотого Чрева несли Единственного из Широкого Дворца в Его Маленький Дворец, как раз когда они проходили мимо Озера, не один, а двое из державших правый шест носилок одновременно упали как подкошенные, и Золотое Чрево перевернулось. Усермаатра вылетел из Своего Сиденья с высоты большей, чем если бы упал с седла лошади, и ударился головой о полированный камень покрывавших площадь плит. Он остался недвижим, и кое-кто из присутствующих подумал, что Он мертв. Все ощутили, что Он близок к смерти. Лишь едва уловимое дыхание в Его горле говорило о том, что Он жив.
Его перенесла в Дом Обожания Охрана Обожаемого, поскольку они были ближе, чем Охрана Широкого Дворца. Как только Его уложили в постель в Покое Полей Тростника, к Нему подступили четыре царских врача, жрецы из школы Сехмет. Сухие травы, сорванные в Саду Ша-ах, поставили кипятить для наложения на рану, и пар от них вошел в Его ноздри. Из челюстей нубийских львов вытащили наполовину пережеванное мясо и смешали его с четырнадцатью овощами для Его Ка, всех Четырнадцати, а Его голову умастили в том месте, где она ударилась о плиты двора. Жрецы пели молитвы, а Маатхорнефрура вошла и принялась голосить на Своем родном хеттском языке, а после того, как все ушли, его посетили Нефертари с Аменхерхепишефом, и Они сидели в молчании у Его постели, а я стоял позади Них во втором ряду с врачами от Богини Сехмет. Усермаатра не пошевелился.
И тогда, глядя на Его неподвижное тело, я понял, что Добрый и Великий Бог может умереть, и я тоже стал молиться. Ибо, если Он не выживет, я должен буду убить Нефертари, или мне придется испытать Его ярость в грядущие годы, когда я отправлюсь в Херет-Нечер.
Теперь, при каждом взгляде на Нее, я видел себя с кинжалом в руке. В то третье утро Она сидела у Его ложа на Своем золотом кресле, храня молчание. За пределами Маленького Дворца, где неподвижно лежал Царь, во всех крытых внутренних дворах и в садах неустанно бодрствовали врачи. Ни один человек не проходил через все то вымощенное благородным белым камнем пространство вокруг Озера Маат, а за стенами нашего Дворца почти в полном молчании лежал город Фивы. Итак, в молчании, что лежало на Нефертари, я сидел и глядел на Нее и думал: смогу ли я исполнить тайное приказание моего Царя.
Хотя я не мог думать ни о каких приказах, кроме распоряжения, данного мне самому, я знал, что по всему Горизонту-Ра верхушка знати и Визири плетут заговоры со жрецами, решая, кто станет „весьма-возлюбленным другом" нового Царя. Аменхерхепишеф часто бывал со Своей Матерью, но редко без Своей охраны, а они, как я предполагал, чувствовали себя как все хорошие солдаты, когда битва близка, а с ней и смерть, раны или богатство. Они были счастливы, как настоящие воины, и страдали оттого, что им приходится изображать на лицах печаль. Я знал, что сейчас они радуются жизни, как огромные животные, и от тягостного нетерпения готовы разбить друг другу головы о полированный каменный пол.
В те дни взгляд Аменхерхепишефа неизменно напоминал мне хищный глаз сокола. Он часто бросал на меня свирепые взгляды, покуда я наконец решил не отводить глаз, но позволить нашим взглядам встретиться. Мы уставились друг на друга и смотрели, пока не отбросили всякое притворство. Мои глаза не болели бы больше, если бы их сжимали Его пальцы. Но я устал от унижения. Кроме того, я сражался рядом с Его Отцом в величайшей битве всех времен, а этот Аменхерхепишеф в тот день находился не там, где следовало. Да, я вернул Ему взгляд со всей силой Богов, Которые прошли через меня при Кадеше и пребывали в заклинаниях Маатхерут, и поэтому, когда наши взгляды скрестились, мой, должно быть, был столь же яростен, как и Его. Состязание продолжалось на равных. Я думаю, мы могли бы ослепнуть, глядя в глаза друг другу, если бы между нами не встала Нефертари и не сказала спокойно: „Если Твой Отец умрет, вы оба понадобитесь Мне".
Аменхерхепишеф вышел из покоя. Он не мог перенести, что у Него обманом отобрали победу. Поскольку Он не был в состоянии вообразить, что может проиграть, вмешательство Его Матери отняло у Него награду. Так Ему это представлялось. Но я не был в этом уверен. Если бы мои глаза мигнули под Его взглядом, думаю, со следующим вздохом я обнажил бы свой кинжал, а если бы я убил Его, то следующей стала бы Она, а затем всякий, кто напал бы на меня, покуда меня бы не стало. В тот момент я вновь познал все счастье храбреца и чувствовал себя равным Нефертари. Разведя нас по сторонам, Она защищала Свою жизнь. Именно тогда я снова, как в юности, поверил, что и я истинный Сын Амона и что Сокрытый приходил к моей матери. Как иначе мои глаза смогли бы выдержать взгляд Аменхерхепишефа? Другого объяснения быть не могло. И я засмеялся тому, что ярость ослепила Его настолько, что Он, забыв об осторожности, оставил меня наедине с Ней.
Она мягко улыбнулась, но спросила: „Отчего Сесуси избрал тебя Моим слугой?"
„Спрашиваешь ли Ты оттого, что я — Твой друг?"
Она не ответила сразу, но подошла ко мне ближе. „Мне известны сомнения Аменхерхепишефа", — сказала Она.
Я поклонился. Я семь раз коснулся лбом пола. Я не знал, что отвечу, покуда слова не вылились сами: „Я должен быть здесь, раз умирает Усермаатра, — сказал я. — Таков Его приказ, данный мне".
Она кивнула. Она знала то, о чем я не сказал. Близость Ее смерти окутала Ее плечи, как одежды, поднесенные слугой.
„Отчего ты говоришь Мне об этом? — спросила Она. — Не потому ли, что ты не подчинишься Ему?"
Я чуть не сказал: „Я никогда не подчинюсь Ему. Твое сердце дороже мне, чем Его", но не произнес этого. Мудрость самых хитрых Богов коснулась моего языка, и я сказал: „Не думаю, но поклясться не могу".
Тогда Она по-другому посмотрела на меня. В Ее глазах я увидел больше, чем нежность, конечно, в них было уважение. Она почувствовала восхищение тем, что я мог бы дерзнуть убить Ее. Такая храбрость — удел Богов. Но, если подумать, как могло тянуть Царицу к такому человеку, как я, если бы через него не говорил Бог?
„Да, — сказала Она, — возможно, это правда. Маатхерут не может выпустить тебя из своих рук". И Она одарила меня радостной улыбкой, которая ясно говорила, что мне нужно просто быть достаточно храбрым, и все может произойти. Разумеется, Она была Царицей. Сердце Повелителя подобно лабиринту внутренностей. Змеи извиваются за каждым поворотом. Поэтому я знал и то, что рядом с той небольшой любовью, которую Она могла испытывать ко мне, пылал огонь Ее замужества. Как могла Она не верить в то, что Усермаатра все еще желал Ее, если Он приказал послать Ее вслед за Ним немедленно, как только Он умрет?»
ДВЕНАДЦАТЬ
«Усермаатра не умер. К четвертому дню Он открыл глаза, к пятому Он заговорил, на шестой Он поднял голову, а на следующий день Он уже мог стоять на ногах. Вскоре Он снова ездил в Своей Колеснице и посетил Уединенных. Я все еще общался с Пепти и даже неоднократно встречался с ним по утрам у ворот Садов. Мы многое говорили друг другу: он о своем, а я — о своем, и так я узнал, что, вернувшись к Уединенным, Усермаатра провел ночь с Маатхерут и звуки их удовольствия раздавались громче рычания льва и рева бегемота. На следующий день она держалась как Супруга Царя и светилась от счастья.
Я улыбался каждому слову, произнесенному проклятым Пепти (на лице которого было написано самодовольство, присущее евнухам, видимо воображающим себя самим семенем Полей Тростника), но в душе я ощутил холодное отчаяние купца, оставленного нагим в лунном бвете после того, как его караван был ограблен.
Однако, поразмыслив, я не смог прийти к определенному мнению — приобретение это для меня или потеря. Возможно, теперь некоторые из Его лучших проклятий принадлежали ей. Я не знал, что, вернувшись, обнаружу Касторовое-Масло, евнуха Медового-Шарика, ожидавшего меня у моего дома, который протянул мне длинное красное перо, а затем молча удалился. Это было послание, о смысле которого мы договорились до того, как я покинул Сады. Оно говорило, что мне следует увидеть Медовый-Шарик как можно скорее и при любых обстоятельствах.
Теперь, за те дни, когда Он выздоравливал, жизнь Дворца разладилась. Во многом причиной тому были те, кто вынашивал самые честолюбивые планы относительно того, как действовать в случае Его смерти. Эти надежды рассыпались прахом после Его возвращения к жизни. А кто взялся бы измерить, насколько была нарушена жизнь Богов? Ведь стольких из них призывали жрецы и вельможи, молясь за определенного преемника. Я знал, что за те дни, пока Он выздоравливал, многое нарушилось. Службы в Храме отправлялись недолжным образом, а в денежных отчетах, представленных Его чиновниками, стали обнаруживать ошибки. В помещениях, прилегавших к Великому Залу, была ужасная толчея. Управляющие и писцы, даже Правители номов стремились представить отчеты, которые никто не читал, пока Он болел.
По большей части я не обращал внимания на все это. И проходил мимо Зала Приемов, не заглядывая внутрь него. Я находился рядом с Нефертари даже больше, чем раньше, и Она хотела, чтобы я был рядом. Поскольку мы не знали, что бы я сделал, если бы Усермаатра умер, мы уж точно не представляли себе, что будем делать теперь, когда Он остался жив. Не было дня, чтобы Она не вынимала зеркала и мы не смотрели друг на друга, рассматривая Ка в лице другого, и я узнал многих из Ее Четырнадцати, пусть и совсем немного. Облако не успевало коснуться края солнца, а легкий ветерок — колонн в Ее крытом внутреннем дворе, а Ее Ка уже уходил, и в зеркале возникал другой из Четырнадцати. Иногда Она разговаривала со мной только подобным образом — когда наши глаза соединяло зеркало, особенно в те утра, когда по Дворцам распространялась весть о том, что Он отправился навестить Маатхор-нефруру. Нефертари даже говорила тогда: „Он не придет ко Мне, пока Я не попрошу прощения за суп, пролитый Ему на грудь, но Я не сделаю этого. Ведь из-за Него моего слугу били, покуда этот несчастный не умер". Она горестно склонила голову под тяжестью
Своего оцепеневшего от горя сердца. „Дочь умершего слуги, — сказала Нефертари, — слепа, у нее был один из лучших голосов в Моем Хоре Слепых. С тех пор как убили ее отца, она не в состоянии подражать пению птички. — Нефертари посмотрела на меня. — В этом вина той женщины с выбеленными волосами".
Так говорила Она о Маатхорнефруре. Настолько велико было Ее отвращение к Маатхорнефруре, что Она употребила слово се-шер — отбеленные, которое означало у нас также навоз. Она вплетала это сешер в Свои слова и вытягивала его из них, покуда прекрасные волосы Маатхорнефруры не превращались в испражнения белого цвета, опустошенные, выбеленные солнцем внутренности, — мне не нравилась жестокость этого Ка в лице Нефертари, так как, единожды возникнув, он никак не желал покидать зеркало. „Хеттка ненавидит Усермаатра, — сказала моя Царица. — Он страдает от несчастья, о котором не знает Сам. Он слишком силен, чтобы знать о собственном несчастье. Да что там, Он не ударился бы так сильно, выпав из Своего Золотого Чрева, если бы Его чувства не были притуплены. Вот что случается от глупой любви с этой хеттской женщиной с отбеленными волосами".
Наконец Она сказала мне: „Я хотела бы, чтобы у Нее выпали все волосы. Нет такого дара, который бы Я тогда не предложила".
Сколько силы придали мне эти несколько слов! Боюсь, я почитал Ее как Богиню. Мне не верилось, как бы я ни старался поверить, что я останусь тверд, если Она когда-нибудь сделает меня своим избранником. Возможно, я и был Сыном Амона, однако у Него имелись и более великие Сыновья. Тем не менее Она повторила: „Нет такого дара, который бы Я не предложила", и Ее глаза так ясно обращались к семени и змеям в моем паху, что впервые я возжелал Ее всем духом болот. Во мне проснулся Бог Сет. Я желал обладать Ею между Ее бедер, там, в Ка-Исиды.
Затем Нефертари сказала: „Тебе надо повидаться с Медовым-Шариком".
Я не сказал Ей, как трудно это сделать. Вместо этого я поклонился и вышел из Ее покоя, а затем поклонился снова, так как приближался Аменхерхепишеф. Теперь мы уже не смотрели друг другу в глаза. Мы больше никогда этого не сделаем, если только не обнажим друг против друга мечи. Но Он пришел попрощаться со Своей Матерью, так что мы даже переговорили (причем каждый глядел на губы другого, как на крепость, которую предстоит взять осадой), и я узнал, что сегодня Он отправляется со Своими баржами вниз по реке на одну из Своих малых войн в Ливии: придется осадить еще один город — таковы были приказания Усермаатра. Я пожелал Ему удачи со всей вежливостью, на которую был способен, и подумал, что это добрый знак, что Он будет в отъезде.
После того как Он ушел, я стал бродить у Ворот Утра и Вечера, за которыми располагались Сады Уединенных, и сказал одному из двух евнухов, стоявших на часах, чтобы послали за Пепти. Вскоре мы уже беседовали через узкий проем в стене рядом с воротами.
„Со мной мир, — сказал я ему. — Надеюсь, и с тобой мир". „Со мной мир".
Он не смог продолжать. Он принялся смеяться, что для него было почти то же, что плакать. Я заметил, что многие евнухи, казалось, не чувствуют разницы между смехом и плачем — их жизнь так отличалась от нашей. „По правде говоря, — сказал он, — в Доме Уединенных нарушен покой", — и стал рассказывать мне о ссорах между маленькими царицами и грубости евнухов. Похоже, в некоторых домах беспорядок. Та ночь, что Усермаатра провел с Медовым-Шариком, смутила многих. Он вздохнул. „Я думаю, это все оттого, что поднимается река".
„Я пришел сказать тебе о более существенных изменениях заведенного порядка. Домочадцы будут перемещены, и Великие Царицы станут спать в новых постелях".
Он зарыдал от громадности грядущих перемен, то есть на его глазах были слезы, но я не знал, плачет он или смеется. „Скоро такие изменения не произойдут, — сказал он. Я посмотрел в его глаза, большие и навыкате, они выглядели так, как будто кто-то сжимал ему горло. — Единственный, — продолжал он, — любит бледное золото солнца. Находясь с Ней, Он держит солнце в Своей руке".
„Так было. Но со времени Его падения Он стал тяготиться этой хетткой".
Пепти пожал плечами. „Он сказал Маатхерут, чтобы та дала Ему приворотное зелье, которое бы заставило хеттку больше любить Его".
„Маатхерут говорит тебе больше, чем сказала бы мне". „Я — евнух".
Я кивнул. „Ты также мудр. Я сказал Царице Нефертари, что ты самый мудрый из всех, кого я знаю. Она ответила: «Нам нужен такой человек на должность нашего Визиря!»"
Он был польщен, но не поверил мне. Для этого он был слишком умен. „Ты не был там и не слышал тепло в голосе Царицы, когда Она говорила о тебе, — сказал я. — Знаешь ли ты, как Она ненавидит нынешнего Визиря?"
„Я слыхал об этом. — Он, действительно, был мудр, но в то же время он хотел мне верить. — Единственный, — спросил он, — хоть когда-нибудь прислушивается к словам Нефертари?"
„Вскоре будет".
Пепти посмотрел на меня как на дурака.
„Нет, — сказал я, — ты ошибаешься. Другие приходят и уходят. Рано или поздно Он всегда возвращался к Ней. И когда Он возвращается, Она никогда не забывает тех, кто оставался Ей предан. Будь предан Ей сейчас, и Она вознаградит тебя высшими дарами".
Он помрачнел. „Даже если все так, как ты сказал, Единственный никогда не согласится на то, чтобы евнух стал Его Визирем".
„Нет, — сказал я ему, — ты ошибаешься. Из всех людей Сесуси доверяет только евнухам. — Я произнес это с горечью, как будто сам мог бы стать Визирем, если бы не это препятствие. — Сесуси не доверяет мужчинам, — сказал я, — только евнухам".
Вот теперь Пепти мне поверил. Из-за жестокости моих слов. В жестокость он верил всегда.
„Ты, — сказал он, и теперь слезы потекли из его глаз, — хотел бы, чтобы я стал Визирем. Тогда ты сможешь управлять Двором через меня".
„Этого не случилось бы, — сказал я. — Я бы никогда не попытался сделать это".
Он улыбнулся, как будто моя ложь представлялась ему пустой болтовней. И все же он задумался о моих словах. Я знал его расчет. Если бы он стал Визирем, я обнаружил бы, что у него хватает воли, несмотря на отсутствие меча между его ног. „Друг мой, — сказал я, — пусть придет день, когда ты станешь Визирем. Тогда мы увидим — говорю ли я через тебя или ты — через меня".
„Я не чувствую себя человеком, близким Царице Нефертари".
„Тем не менее если ты поможешь Ей сейчас, Она этого никогда не забудет".
„Как Она услышит о том, что именно я помог Ей?"
„Она велела мне переговорить с Медовым-Шариком. Она знает, что это невозможно, если ты не друг Ей".
„Если меня разоблачат, мне отрубят руки".
„Нет, все очень просто", — сказал я ему. Он может отослать одного из двух евнухов-привратников на базар. Другому можно поручить работу в доме одной из маленьких цариц, а Пепти займет его место. Тогда Медовый-Шарик сможет пройти через Сады к этому небольшому проему в стене. При всей округлости ее форм, никто не увидит ее здесь в таком густом кустарнике.
Он колебался. Даже при нынешнем беспорядке в Садах: „А прошлой ночью в пивном доме стоял такой шум, какого я и не припомню", — он все же не верил, что Медовый-Шарик сможет пройти всю дорожку от своего дома до этой стены и не привлечь к себе внимания. Медовый-Шарик не ходила по пустякам. Но все равно он поговорит с ней. Если я вернусь сюда этим же вечером, он будет ждать здесь, у нашего небольшого проема в стене.
Ни один Визирь не смог бы отпустить меня, решив дело с такой быстротой. Поздним вечером, когда мы увиделись снова, он передал мне, что Медовый-Шарик готова услужить Царице Нефертари, но взамен желает, чтобы ее любезность была по достоинству вознаграждена особым приглашением от Царицы для нее и ее семейства на Празднество Празднеств.
Нефертари была недовольна. Разумеется, Она может это сделать, но Она принялась ходить взад и вперед. От Ее спокойствия не осталось и следа. Я увидел еще одного Ка из Ее Четырнадцати.
„Я готова вознаградить Медовый-Шарик, — сказала Она. — Само собой разумеется, что она будет вознаграждена. Но Я не выношу ее семейства. В Мой последний приезд в Саис они принимали Меня — и уж слишком они просты. Очень богатые и простые люди. Они изготовляют папирус и связаны со всеми Храмами Амона в своем номе. Они держатся с величайшим достоинством. Но прабабка Маатхерут была продажной женщиной. Так говорят. И Я этому верю. Это видно по тому, как они едят. Это семейство слишком тщательно вытирает пальцы. А когда разносят вино, они спешат заговорить о своих предках. Они могут проследить свою историю на протяжении двадцати поколений. Они уверяют, что так оно и есть. У них хватает наглости — о, они на самом деле заурядны! — перечислять имена своих предков, как будто они говорят о людях с положением. И это они говорят Мне! Я чуть было не сказала им, что, если уж разговор зашел о происхождении, Я могла бы упомянуть Хатшепсут и Тутмоса. Но нет, мы не говорили ни о ком, кроме их предков. Двадцать поколений шлюх и воров! Это люди болот. Нет, — сказала Она, — Я действительно не желаю, чтобы они сидели в Моем кругу. И к тому же Я не уверена, что хочу, чтобы Медовый-Шарик была рядом со Мной. У нее прекрасное образование, и она знает о благовониях столько же, сколько и Я, ни об одной другой женщине Я этого не скажу, но Я презираю ее за то, что она так растолстела. Это грубейшее оскорбление Маат. Мне нравится Медовый-Шарик, мы знали друг друга детьми, Я обожаю ее голос. Если бы она была слепой, Я бы обходилась с ней как с Богиней — такая радость слушать ее пение, но вот что Я тебе скажу: она Мне представляется гиппопотамом и неряхой. В ней есть благородная кровь, но самого низкого сорта. Ее семейство имеет дело с собирателями дерьма".
Я не побоялся ответить: „Она пошла на это, чтобы защитить палец своей ноги".
„Который отрезал Усермаатра? — Когда я ответил «да», Нефертари, очень взволнованная моими словами, рассмеялась: — Сесуси никогда не рассказывал Мне всех этих обстоятельств. Он не умеет хорошо рассказать историю. — Она вздохнула. — Ты думаешь, что Мне следует ее пригласить?"
„Лучше, если Маатхерут будет другом, чем врагом".
„Еще лучше иметь в друзьях Меня. — Она наконец села. — Подойди сюда. Смотри в зеркало. — Ее глаза были веселыми. — Мне нравится Маатхерут. Когда Сесуси и Я были помоложе, Маатхерут была единственной маленькой царицей, к которой Я ревновала. Скажи Мне, Казама, стоило Мне ревновать?"
„Я не могу этого знать, Добрая и Великая Богиня. Подходить к маленьким царицам запрещено".
„Все знают про вас с Маатхерут. Даже ее сестра. Именно от нее Я все узнала. Она Мне пишет. Видишь, Я действительно дружна с ее семейством. Просто они заурядны".
„Знает ли Добрый и Великий Бог?"
„Думаю, да".
„И Он не гневается?"
„Почему бы? Он ведь имел тебя в задницу, не так ли?"
Теперь я увидел Ее ярость. Я осмелился передать Ей эту просьбу Медового-Шарика. Но нет, решил я, Усермаатра не мог знать о моей любовной истории в Садах. Нефертари просто наказывала меня. Я начал понимать, как глубоко Ее неудовольствие тем, что я не получил помощь Маатхерут в магии без всякой платы. Она взглянула на меня в зеркале, и я не увидел никакой любви.
„Передай Медовому-Шарику, что Я оставлю места для нее, ее родителей и одно для ее сестры. Не больше. — Она отвернулась от зеркала и взглянула прямо на меня. Словно на слугу. — Приятных снов", — сказала Она. Я их не увидел».
ТРИНАДЦАТЬ
«Я увидел Пепти на следующее утро в Широком Дворце. Он стоял по другую сторону Трона в ряду сановников, ожидавших возможности обратиться к Царю. Поэтому на вопрос в его глазах я мог лишь кивнуть. Мне пришлось ждать вечера, чтобы увидеться с ним у Хебит Хепер — возвышенное название, данное маленькими царицами провалу в стене, где я разговаривал с Пепти. Какая насмешка — Дыра Жука, Дыра Превращений. Потому что при ее посредстве не происходило никаких превращений. В лучшем случае обмен несколькими произнесенными шепотом словами между колесничим и маленькой царицей.
С помощью палочки Пепти протолкнул мне пакет от Медового-Шарика, обернутый в полотно и пахнущий благовониями. Он был длиннее и уже, чем ее аккуратно спеленутый пальчик, и запахи, исходившие от него, были мне совершенно незнакомы.
По возвращении я увидел Охранника Визиря, ожидавшего за дверьми Ее Тронного Покоя, а сам Визирь беседовал с Нефертари внутри. Это посещение привело Ее в самое любезное расположение духа. Впервые за много месяцев он появился в Ее Дворце, поэтому, представляя меня, Она слегка подшутила над ним: „Это Казама — Мой Визирь", — сказала Она. Он выслушал Ее замечание с большим вниманием. В обязанности этого человека входило наблюдение за изменчивым счастьем других, подобно тому как рулевой на реке внимательно следит за переменами ветра, и он поклонился, бросив на меня взгляд, который обещал предстоящие нам беседы. Затем он ушел, и тогда Она сказала: „Этот человек не делает много ошибок. Надеюсь, то же можно сказать и о тебе". Она взяла мой маленький сверток. В нем был кусок папируса и прядь светлых волос. Она с недовольным видом подержала в руке этот последний предмет. „Они такие же жесткие, как бычий хвост, — сказала Она и принялась читать папирус. — Что ж, — заметила Она, — это и есть волосы с бычьего хвоста, — и заглянула немного дальше. — Черные волосы, — прочла Она из папируса, — благословленные словами-силы, а затем отбеленные. По мере того как черные волосы становятся светлыми, светлые волосы выпадают. — И тут Она вскрикнула от омерзения. — Взгляни, — сказала Она, указывая на небольшой темный высохший потек на папирусе, — это не воск, а мертвый червяк! Она пишет, что Мне надо смешать это со Своей помадой и с этим спать. Спать с этим червем в Моих волосах и бычьим хвостом под кроватью. Нет, — сказала Она, прочтя дальше, — под Моим подголовником. Мне дурно".
Она выглядела не вполне здоровой. Я постарался Ее успокоить. Я объяснил, что любое колдовство, достаточно сильное, чтобы извлечь корни врага, не может не причинить значительного беспокойства. Невозможно наслать на кого-то такую болезнь, не пострадав от этого до некоторой степени самому. Я не спросил Ее, отчего, раз уж Она смогла столь искусно воспользоваться отправлениями Усермаатра, что разбила Его голову о камень, в этом случае Ей так невыносимо поступиться Своей чистоплотностью. Я, однако, все понимал. Женщина испытывает больший страх, используя свою магию против другой женщины, чем когда она вредит мужчине. Я не осмелился сказать даже о последних наставлениях, данных мне Пепти. Каждый вечер на протяжении семи дней, из которых этот был первым, я должен ходить к Хебит Хепер за новым свертком. И каждую ночь Нефертари будет получать новое послание.
И действительно, на следующую ночь все было еще хуже. Ей было сказано взять жесткие, как щетина, светлые волосы, которые Она держала под подголовником в первую ночь, и теперь во сне держать их в руке. На третью ночь Ей пришлось положить их в мешочек и обвязать вокруг Своего живота, на четвертую — вокруг Своей шеи. И, будьте уверены, на седьмую — Она спала с ними между бедер и возмущалась уже меньше. Магия оказывала сильнейшее воздействие.
К тому времени при Дворе уже не было никого, кто бы не слыхал про страдания Маатхорнефруры и ужасную рвоту, поразившую Ее желудок. На пятое утро я сам видел Ее. Царь держал Ее в объятиях, а Ее тело то скручивалось, как у змеи, то резко распрямлялось, скручивалось и распрямлялось, а тем временем Царский Лекарь держал золотую миску у Ее рта. Меня попросили выйти из покоя. Я знал, что Золотой Вазе также находилось применение. Она извергалась от корней Своего живота и от корней Своих внутренностей. Позже в тот же день я узнал, что у Нее стали выпадать волосы. Этот слух прошел по Дворцу, подобно водам поднимавшейся реки.
Усермаатра послал за Хекет. Маленькую царицу вызвали из Садов, чтобы сирийка лечила почти сирийку, и Хекет попросила достать панцирь черепахи с берегов Великой Зелени. Лекари и посыльные обошли все рынки Фив, прежде чем разыскали такой редкий предмет, и Хекет кипятила панцирь, пока он не превратился в густое варево, а затем смешала его с салом только что убитого бегемота. Они использовали эту мазь каждый день, но говорили, что Маатхорнефрура уже потеряла Свои волосы.
Нефертари постоянно говорила о Хекет. „Болезнь — сама по себе беда, — сказала Она, — но чтобы за тобой еще ухаживала женщина с лягушачьим лицом — это несчастье. Скажи Мне, Сесуси когда-нибудь любил Хекет? — Когда я кивнул, Она в восхищении покачала головой. — Он — Бог. Лишь Бог может наслаждаться Медовым-Шариком и Хекет. — Она вновь посмотрела на меня. — И в одну и ту же ночь? — Я кивнул. — Он — порождение чресел Сета, — сказала Она с самым веселым видом. — Ты должен рассказать мне все о вас с Медовым-Шариком".
„Я не смею".
„О, Мне ты расскажешь". — Трудно было судить о глубине Ее хорошего настроения.
Я подумал: отчего Нефертари так мало волновала неизменная преданность Усермаатра Маатхорнефруре? Казалось, ужасная болезнь совсем не отвратила Его от Нее. На самом деле Он ни разу не навестил Сады в дни болезни Маатхорнефруры. Однако прекрасное настроение Нефертари так незначительно ухудшилось, что я стал думать — не помешательство ли это, вызванное магией как проявление хрупкого равновесия Маат? Действительно, Н «рерта-ри в те дни стала немного прихрамывать от болей в суставе бедра, и все то время, которое я Ее знал, эта хромота не проходила. Однако, говоря о помешательстве, я не заметил, чтобы эта боль повлияла на Ее хорошее настроение, Она попросту не замечала Ее. Она была Царицей, и Ее мысли были заняты делами более близкими Ее душе. Раз Она даже сказала: „Сесуси будет постоянно уверять в Своей преданности, — тут Она рассмеялась, — но Ему очень легко наскучить. Он останется верен Ей до того дня, когда не сможет больше переносить Маатхорнефруру ни одного мгновения. Тогда Он отошлет Ее, облысевшую и все такое — назад к хеттам, в парике, в голубом парике, и они объявят нам великую войну за нанесенное оскорбление. Аменхерхепишеф обретет славу, вместо того чтобы стареть на Своих малых осадах, а Усермаатра доживет до глубокой старости со Мной. Я еще познаю власть Хатшепсут!" — Говоря это, Она держала меня за руку, и я чувствовал ее лихорадочный жар.
Другие, впрочем, тоже начинали рассуждать так же, как Она. Теперь высшие чиновники чаще посещали Ее Двор. Раньше случались дни, когда в Ее Дворце можно было никого не увидеть, кроме Хранителей Ее Покоев, Хранителей Ее Одежд, Хранителей Ее Кухни, Хранителей Ее Повозки, да еще нескольких старых, мелких и болтливых друзей. Теперь же однажды утром явился Управляющий Сокровищницы Верхнего Египта со своими писцами, их было восемь, чтобы показать, как велико его уважение, приходили Личные советники, Принцы, судьи, даже Казначей. Многие из них — пожилые люди и, на мой взгляд, не самые значительные и не самые приближенные из советников Усермаатра, скорее, как мне представлялось, старые друзья с тех времен, когда одна Нефертари была Царицей. Я был бы более уверен в повороте Ее судьбы, если бы среди посетителей были знатные люди, более близкие Маатхорнефруре.
Тем временем Нефертари жаловалась мне самым счастливым голосом. „Мои дни дарили Мне больше радости, — говорила Она, — когда ты и Я могли проводить вечерние часы, глядя в зеркало", и Ее пальцы легко касались моей шеи под ухом или пробегали по моей руке. Мне еще никогда не доводилось ощущать отзвук столь легкого прикосновения, который проникал бы так глубоко в меня — лишь в моих воспоминаниях о тайной блуднице Царя Кадеша. Ее глаза говорили теперь со мной без зеркала. Ее пальцы играли с моей шеей, и теперь, когда мы бывали одни, одежды на Ней стали более прозрачными. Я знал, что из льна можно соткать чудесные вещи и что многие дамы по торжественным случаям надевают платья из тончайшей ткани из Кусии [55], под которой их тела можно разглядеть так же хорошо, как это смогли бы сделать позже их мужья, но мне еще предстояло узнать, что даже в этих тонких прозрачных одеждах, сотканных из воздуха, еще более прекрасных, чем то воздушное одеяние, что надела этой ночью моя внучка, присутствует некая легкость, глядя на которую можно поклясться, что эту нить пряли пауки. Одежды Нефертари отличались такой нежностью красок, что трудно было понять, окрашены ли они в цвет желтой розы или то свет от свечей, но я видел золото Ее тела, и, когда красота Ее грудей касалась материи, алое золото сосков Нефертари становилось глубже по цвету, доходя в тенях до розово-бронзового оттенка.
Я содрогался, мое мощное рычание сотрясало тишину моей души. Я был безногим львом. Никогда еще я так отчетливо не сознавал ничтожество своего происхождения, чем когда ощущал отсутствие собственной силы перед Ее Ка-Исиды и знал, что, даже если бы Нефертари и помогла мне, использовав самые грубые приемы Медового-Шарика (чего Она, без сомнения, не стала бы делать), я, возможно, все равно не смог бы преодолеть оцепенения, и толку от меня было бы не больше, чем от мертвеца. Для крестьянина любить Царицу — все равно что таскать каменные глыбы на спине.
Поэтому, пристально глядя на Нее в зеркале, я стремился пылким взглядом передать весь голод своих охромевших чресел. Мои глаза говорили Ей, как я желаю Ее, мое обожание насыщало воздух вокруг нас ароматом меда. Казалось, Ей нравились такие вечера, когда все уходили и мы оставались одни. Было похоже, что Ее желание готово подняться вместе с рекой за стенами Дворца, но мои чресла напоминали землю, где в холодном тумане шли дожди. Я думал о том, как пренебрежительно отозвалась Она о семействе Маатхерут с их двадцатью поколениями, и не мог представить себе, как вообще Она может желать меня? И я пришел к выводу (не мудрость ли Маатхерут шептала мне на ухо?), что для Усермаатра не могло быть большего оскорбления, чем прикосновение плоти крестьянина к Ее плоти.
Итак, вечер за вечером Она сидела подле меня в сотканном из воздуха одеянии, тогда как я чувствовал себя прикованным к месту каждый раз, когда Ее движения открывали мне рощу ниже Ее живота, пока не стал ощущать себя скорее жрецом, готовым преклонить колени у этого алтаря, нежели воином, способным вступить в Ее врата. Видимо, все это стало доставлять Ей такое удовольствие, что наконец все-таки пришла ночь, когда Она решила рассказать, как Ее любил Амон, и я гадал: как же Она могла подумать, что я, которому никогда не суждено иметь чресла Фараона, могу восстать из пепла, оставленного Ее рассказом?
„В год, когда Я была юной супругой, — начала Она, — Усермаатра был прекраснейшим из Богов, но Я увидела Сокрытого. Его копье выросло из меча Моего мужа, подобно трезубцу, что вырастает из чресел Осириса, и Я увидела блеск молнии и диких кабанов, сражавшихся с бегемотами. Самое темное из трех Его копий вошло в ужасную пещеру Сета, однако Мой Ка-Исиды смог поглотить Тайное Имя Ра, что есть вторая ветвь, а Его третий меч, словно стрела Осириса, поднялся радугой над нашими телами, и Мы покатили в Его колеснице над солнцем. В ту ночь Я стала Царицей Верхнего и Нижнего Египта".
Я не узнавал Свою Царицу, когда Она рассказывала эту историю. Должно быть, я мельком увидел перед собой Первого или Последнего Ка из Ее четырнадцати. Еще никогда Она не была столь прекрасна. Свет в Ее глазах искрился, как море в полночь. Я преклонил колени и положил свое лицо на Ее ступни. От моего прикосновения они вздрогнули.
Щиколотки Моей Царицы пахли благовониями, которыми был натерт каменный пол, и я почувствовал в них тот же холод, что и в моих чреслах, но тогда — они подобны моим чреслам, и я взял эти ступни и, покрыв их своей короткой юбкой, положил свое лицо Ей на колени. Пальцы Ее ног зарылись в волосы в моем паху и угнездились там, словно испуганные мыши. Я ощутил, как Она одинока — словно костер в пустой пещере. Тем временем эти пальцы тихонько щипали мой куст, покуда из них не ушел холод гибнущего на камне цветка и они не стали похожими на мышей — вороватых и хитрых.
Необычный порыв ветра пронесся через колоннаду, он быстро иссяк, но все же коснулся моих мыслей, и в один из его порывов я ощутил боль, пульсирующую в волосах Маатхорнефруры, безжизненных и сухих, как высохшие листья, срывающиеся при малейшем дуновении, и, должно быть, Нефертари узнала мои мысли, потому что, когда, подняв голову с Ее коленей, я взглянул вверх, Она, казалось, почувствовала, что лучше заговорить, и рассказала мне, как поняла, что отбеленные волосы с бычьего хвоста, присланные Маатхерут, принадлежали не обыкновенному животному, но Праздничному быку Апису, за такими животными ухаживают жрецы и купают их в теплой воде. Такого быка, объяснила Она, умащают мазями со сладкими благовониями и сандаловым маслом, для таких быков жрецы еженощно даже расстилают дорогое полотно, чтобы животное могло на нем возлечь. В день заклания они ведут быка к алтарю, и вино, которое сперва пробуют жрецы, разбрызгивают по земле, как капли дождя. Затем быку отрубают голову, и полированный камень на полу у алтаря становится красным. Она подняла руку и сказала: „Я узнала, однако, что доставленный мне хвост после жертвоприношения был украден одним из жрецов. Он продал его одной богатой семье, чтобы вернуть проигранные деньги".
Она передернула плечами — движение совсем не подобающее Царице. „Я могла бы также сказать тебе, что продавший этот хвост — молодой жрец, Мой младший сын, его зовут Хаэмуас. Он — недостойный Принц и бесчестный жрец. Ты с Ним встречался".
Когда я с удивлением взглянул на Нее, Она сказала: „Он прошел вместе с тобой через Дверь Черного Кабана. Он — Смотритель Золотой Вазы".
Я не смог удержаться и спросил: „Разве эта должность подходит Принцу?" „Она не годится даже для сына маленькой царицы. Но его воровство было раскрыто. Храм приготовился бальзамировать быка, и — представь! — хвоста не было на месте. И он признался. За такой проступок жрец из бедной семьи поплатился бы своими руками, но не Принц. Вместо этого Он был назначен Смотрителем Золотой Вазы. Его отец редко говорит с ним".
Раньше, чем я успел подумать об этом странном Принце, допустившем такую оплошность в исполнении Своих обязанностей, по крайней мере со мной, Она сказала: „Всего лишь одна кража сильно нарушает колдовство, однако потом хвост был украден вторично и продан Маатхерут за большую цену. Надо сказать, что его сила чувствовалась сразу. Мне не пришлось долго держать его в руках, чтобы понять, что это животное — настоящий Апис, и поэтому Я успокоилась. Я расспросила Хаэмуаса, и Он рассказал Мне, что еще теленком он был прекрасен — черный с белым квадратом на лбу и с отметиной в форме черного жука на языке. Ни один из миллиона-и-несметного числа быков не отличается столь совершенными знаками".
Нефертари положила Свою руку мне на колени, и я почувствовал тепло Ее тела. „Когда Я была молода, — сказала Она, — за год до того, как Амон пришел ко Мне, для Празднества в честь Сети, Отца Усермаатра, был выбран Апис. По всем номам искали животное с нужными отметинами, покуда не нашли такого быка рядом с Дельтой, и жрецы переправили его вверх по реке, в Мемфис. Там под громкие приветственные возгласы быка провели по городу и кормили пирожками из пшеницы, смешанной с медом, и жареной гусятиной, а толпу мальчишек послали вперед, чтобы те славили его в песнях. Затем быка оставили пастись в Священной Роще Храма Птаха, выделив для него коров. Как он был прекрасен. Я знаю это потому, что гостила у родственников в Мемфисе перед замужеством с Сесуси. Моя тетка, отличавшаяся неутолимой пылкостью, взяла Меня с собой в Священную Рощу Птаха. Там Я видела, что никому, кроме женщин, не разрешено смотреть на этого быка Аписа, так как, когда он пасся поблизости, некоторые показывали ему себя, поднимали свои юбки и открывали глазам животного все, что имели, все, чем они были. Я видела, как делала это Моя тетка. Она была дамой необычайно высокого происхождения, почти Богиней. Тем не менее она раздвинула свои бедра и фыркала, как животное, а бык рыл копытом землю.
Я чувствовала Себя слишком юной, чтобы открыться быку, однако удовольствие Моей тетки вошло в Мой пупок, и, после того как Я вышла замуж за Сесуси, в ночь, когда ко Мне пришел Амон, в Его глазах был тот же блеск, что и в глазах Аписа, и Я раздвинула свои ноги вот так". — С этими словами Она подняла Свою воздушную юбку, открыла Свои бедра и погрузила мое лицо в Свой Ка-Исиды. Я ощутил благородный запах моря, меж Ее губ жили духи многих серебряных рыб. Я поцеловал Ее и припал ртом к тому, что мне было открыто, и по всему Ее телу прошла дрожь. Я почувствовал, как копыта быка Аписа пронеслись по Ее животу и через заросли Ее кустарника. Ка- Исиды у моего рта стал мокрым, и мне верилось, что Ее уносило в Лодке Ра.
Я же, однако, обрел не более того, что узнал о Ней с помощью своего рта. Когда Ее волнение улеглось и Она опустила юбку, находясь рядом с Ней, я был счастлив тем, что часть меня будет знать Ее вечно, но все остальное во мне было не теплее, чем прежде.
Однако, словно Она лучше меня знала, как помочь мне превзойти самого себя, Она рассказала другую историю, из которой я узнал о великой любви Царицы Хатшепсут к архитектору Сенмуту, человеку из народа, а не благородного происхождения. Но Хатшепсут обожала его, а он построил Ей много дворцов и храмов и даже доставил для Нее из каменоломни два обелиска и покрыл их вершины золотом с примесью серебра, на что пошло двенадцать бушелей этого металла.
„Она была могущественной Царицей, великой, как величайшие из Фараонов, — сказала Нефертари. — Она прикрепляла к Своему подбородку бороду, которую носят все Фараоны. И так же, как у Бога Хапи есть груди, так и у Нее, говорят, имелся божественный член Осириса, мощный, с тремя ветвями. С его помощью Она могла любить Своего архитектора". — Здесь Нефертари рассмеялась, очень довольная Своим рассказом.
„Хатшепсут была могущественной Царицей, — сказала мне Нефертари, — потому что происходила от Хатхор. Ни один Правитель, предком Которого была эта Богиня, никогда не мог проявить слабость. Ужасные наказания обрушивались на города, на которые нападала Хатхор, и столь жестоки были Ее расправы, что, случалось, кровь поднималась вверх по склонам — с такой силой гнала ее кровь, подступавшая сзади. Узрев такое неистовство, Ра понял, что никто в Египте не останется в живых. Поэтому Он послал множество Богов на поля ячменя, и Они заквасили в этой крови зерно и принесли Хатхор семь тысяч кувшинов получившегося пива. Ее львиный рот хрустел от запекшейся крови, Она все еще продолжала уничтожать войска всех народов. «Выливайте пиво», — сказал Ра, и Боги затопили луга, а Хатхор, глядя на новое озеро, принялась пить, и Ее ярость утихла, Она опьянела и стала бродить вокруг, не обращая внимания на людей, и человечество стало восстанавливаться".
Пока Нефертари рассказывала мне эту историю, я вспомнил Битву при Кадеше и запах, стоявший над полем, где ночью мы жарили разное мясо, когда прибыло Войско Сета вместе с теми женщинами, что следовали за ним. Я подумал обо всех мужчинах и женщинах, которых познал через два или три рта той ночью. Ни один меч, кроме меча Усермаатра, не был сильнее моего, а Он в то время находился на другом поле, занятый подсчетом рук. Я вновь увидел гору тех отрубленных рук и кровь на земле, красной сперва от крови из ран, а теперь — от света лагерных костров, и ко мне вновь вернулась радость, с которой я хватал незнакомых мне любовников и входил в них. И вот дым от тех костров вернулся в мою грудь, тем самым моя Царица Нефертари еще больше согрела меня. В Ее глазах, отражавшихся в зеркале, светились лагерные костры. Под паутиной Ее сотканного из воздуха одеяния Ее грудь поднялась и опала. Даже мое благоговение перед Ней уже не походило более на холодок в храме, но скорее напоминало холодный голубой огонь на алтаре, когда в пламя добавляют соль.
Затем Она отставила зеркало в сторону и обратила Свой взгляд на мою короткую полотняную юбку, только глядела Она на нее не с вожделением, но в задумчивости — так я мог бы подойти к новой лошади, еще не решив, захочу ли на нее сесть. Затем Она вздохнула. Подумала ли Она о великом гневе Усермаатра, который обрушился бы на Нее, словно каменное изваяние, если б Ему стала известна Ее мысль или мои, не столь утонченные мучения, — не могу сказать. Тем не менее Она совершенно определенно очертила над Своей головой крут, прежде чем начать следующую историю.
И снова об архитекторе. „Было это давным-давно, когда люди были темны и еще не строили памятников, в прискорбное Правление Фараона Тепнефера, слабого Царя, который хранил свою добычу под сводами склепа, построенного архитектором Сен-Амоном.
Тепнефер боялся за эти богатства, и потому стены склепа были огромной толщины, и даже камни Сен-Амон подбирал сам, так как был не только архитектором, но и каменщиком. И вот ночью, когда его рабочие ушли, он отполировал один камень и вставил его под таким совершенным углом, чтобы его можно было вынуть из стены. Так что Сен-Амон засыпал, зная, что богатства Фараона Тепнефера, при желании, могут стать его собственными. Но он был стар и ничего не украл. Он просто наведывался в склеп со своим старшим сыном и пересчитывал богатства Фараона.
Когда же Сен-Амон умер, его сын пришел туда со своим младшим братом, и они взяли столько золота, сколько смогли унести. Поскольку Фараон тоже любил пересчитывать Свои сокровища, Он вскоре обнаружил кражу. Придя в ужас, Он устроил там ловушку.
Когда грабители вернулись, чтобы взять еще золота, на младшего брата упала крышка саркофага, и он закричал: «Я не смогу выбраться! Отрежь мне голову, чтобы никто меня не узнал». И старший брат послушался.
Обнаружив обезглавленное тело, Тепнефер обезумел от страха. Царь приказал повесить его на стене у главных ворот, а страже — хватать любого, кто будет плакать над ним. Для Фараона, — сказала Нефертари, — отдать такой ужасный приказ было страшным поступком. Мы почитаем тела мертвых. Должно быть, Тепнефер был сирийцем.
Мать несчастного погибшего грабителя не плакала на людях, но сказала своему старшему сыну, чтобы он выкрал тело брата, иначе она сама потребует его выдать. И вот тот пошел вечером к стене и напоил стражу вином. Вскоре те опьянели и заснули, а он снял тело брата и убежал".
„Это — вся твоя история?" — спросил я. Я был разочарован. Камень, скользивший в гнезде, повернулся и во мне. Когда братья украли золото, я ощутил в себе первую дрожь. Но теперь мысль об обезглавленном теле легла на меня всей тяжестью крышки гроба.
„У нее есть продолжение", — сказала Нефертари. И Она поведала мне, что этот странный Царь Тепнефер, разгневанный находчивостью грабителя, не мог спать. Тепнефер даже приказал Своей дочери Суба-Себек, известной Своими широко раздвинутыми бедрами — „они точно были сирийцами", — заметила Нефертари, — открыть Свой дом и принимать всех заходивших к Ней мужчин, благородных и простых. Любой из них мог получить удовольствие в любом из трех Ее ртов, если мог развлечь Ее правдивым описанием самых отвратительных поступков в своей жизни. И вот Она узнала о похождениях самых мерзких людей, живших в Правление Тепнефера. Многие из этих историй возбуждали Ее, и мужчины познавали многие запахи плоти в трех ртах Суба-Себек, — „этой шлюхи", — теперь ясный голос Нефертари глубоко проник в мои уши. Таково было Ее возбуждение, что Ее собственные бедра разошлись, и я смог увидеть среди расступившихся волос сияющий глаз Хора. А тем временем Ее взволнованный, точно прибывающая речная вода, голос продолжал рассказывать мне об изобретательности этого старшего сына Сен-Амона. Готовясь к встрече, он отрезал руку у только что умершего соседа и спрятал ее в своих одеждах. Затем он отправился к Принцессе. В Ее Покоях он рассказал, как ему удалось украсть тело брата. Когда же Принцесса попыталась схватить его, он оставил в Ее руках лишь руку умершего, которая выскользнула прямо из его одежды, и Суба-Себек упала в обморок. И тогда, пока Она лежала под ним, грабитель вошел во все три Ее рта.
После его ухода Тепнеферу настолько понравилась его храбрость, что Он объявил о помиловании. Тогда сын Сен-Амона пришел ко Двору, женился на Суба-Себек и стал Принцем, жену которого познала половина Египта.
Теперь Нефертари опустилась передо мной на колени, подняла мою юбку, сжала мою разбухшую, но все еще спящую змею, слегка потянула Своими игривыми тонкими пальцами и сказала: „Ах, эта рука не вытягивается", — и Она стала ласкать мой член Своим прекрасным ртом. По мере того как царский рот принимал в Себя мою честь, мою страсть, мой ужас, мой стыд, мою славу, я стал ощущать семь врат своего тела со всеми чудовищами и западнями, и великий жар, подобный огненному солнцу, яростно вспыхнул во мне. Затеи я снова остался один, и пламя стало утихать. Ее рот более не касался меня. „От тебя несет жеребцом, — сказала Она. — Никогда раньше я не знала запаха неумащенного тела".
Я стал на колени и поцеловал Ее ногу, готовый, словно обезумевший пес, забрызгать слюной Ее сандалии. Я жаждал унижения. Ощущение Ее губ на головке моего члена длилось и было подобно нимбу. Мне казалось, что мой член отлит из золота. Сияние подан» мялось во мне. Теперь я мог умереть. Мне незачем было стыдиться. Женщина Усермаатра дала мне Свой рот так, что мои ягодицы снова принадлежали мне, да, я был готов целовать Ее ступни и лизать пальцы Ее ног.
„На самом деле, Казама, ты отвратительно пахнешь", — сказала Она Своим самым нежным голосом и вытерла рот, будто больше никогда не собиралась касаться меня. Но затем снова опустилась на колени, и, против Собственного желания, еще раз, поистине по-царски, дразняще, Ее язык легко, как перышко, пробежал вдоль всей длины моего древка, вниз, к напряженной мошонке и вокруг нее — мимолетное прикосновение.
„Ты воняешь! От тебя несет концом дороги", — сказала Она, что ври Дворе Усермаатра, где говорили так хорошо, было самым грубым из всех возможных названий заднего прохода, и я подумал: не сочится ли из меня нечто вроде влаги из глубин телес Маатхерут, некой жажды пропавшего Кабана или слизи бегемота, должно быть, нечто омерзительное, как я сказал бы, покуда не увидел лица Нефертари, и то было уже лицо другого Ее Ка. В Ее тонких чертах проступила их собственная жажда. Ее переполняло безрассудство».
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ
„О, Я обожаю этот отвратительный запах, — сказала Она. — Ты ходил в Царские Конюшни? Ты натер всего своего маленького красавца пеной с губ жеребца?" — Она лизнула еще раз.
Я кивнул. Я на самом деле заходил в Конюшни, перед тем как прийти сюда. Я натер себя, и это был один из коней Усермаатра, а не какой-то другой, вернувшийся после прогулки с конюхом и еще не почищенный, мне удалось наполнить ладонь влагой с жеребца, и я не знал, зачем это сделал.
„Ты — крестьянин. Простой, как Нижний Египет", — говорила Она, играя с тем, что Она благословила кончиками Своих пальцев, умных, как крылья скворцов, но и Своим языком и губами, заставлявшими трепетать мое возбужденное семя.
Я знал, как велико отмщение, которое воздавала Она Усермаатра Она продолжала ласкать корону моего древка. Она так и говорила:.корона", нараспев, почти таким же чистым голосом, как у одной из Ее слепых певиц, сказала: „О, маленькая корона Верхнего Египта", — и легкое йрикосновение Ее языка напоминало крылья бабочки.
„О, — сказала Она, — разве не хочет Верхняя Корона, чтобы Ее поцеловал Нижний Египет?" — и Ее язык извивался, как кобра, выползающая из Красной Короны, и Она смеялась над совокуплением этих двоих, словно Ей предстояло снова посмеяться, когда Белая и Красная Короны Усермаатра снова будут вместе на Его голове, а Он будет торжественно отправлять Свой ритуал. „О, не вздумай плевать на Меня, — говорила Она, — не смей, не позволяй разливаться сиянию своей злобы, не позволяй ей выпрыгнуть, не позволяй ей танцевать", — Она напевала все эти слова, осыпая мою нижнюю плоть сладчайшими быстрыми поцелуями и щекоча ее языком, в то время как кончики пальцев одной Ее руки, словно пять маленьких грехов, переползали через мое древко, добираясь до моей мошонки, и все это время Она продолжала играть со словами, как заведено среди самых высокопоставленных вельмож, но все их игры не шли ни в какое сравнение с тем, что Она говорила мне сейчас. Словно Ее сердце так долго не знало наслаждения, что теперь Ей приходится ворковать над моим грубым крестьянским членом (Она его так и называла) и давать ему много других имен, ибо после каждого прикосновения Ее языка я был: „стонущим", „жалующимся", „ножом", „гвоздем", „резчиком", „умащающим", а затем, будто этого было недостаточно, Она заговорила о моем „проводнике" и моем „грязном хетте", моей „дурно пахнущей гуще", и, поразительно, все эти слова очень напоминали звучание мта, хотя каждое немного отличалось от другого, а затем, играя с таким обычным словом, как мет, которое я слышал каждый день, Она пропела такие ласкающие слух слова, как: „Нравится ли тебе, Мой управляющий, как Я щекочу твою жилку, — и Она куснула меня зубами, — или это — смерть?" Однако, если бы мои уши не привыкли в Садах Уединенных к таким играм, я бы решил, что Она сказала: „Нравится ли тебе, как я щекочу твоего управляющего, моя смерть, или это жилка?" — подобную бессмыслицу, но мы столько смеялись и так свободно наслаждались игрой, что Она принялась шлепать моей гордой (а теперь и сияющей) короной по Своим губам, ворковать над ней и называть ее „нефер", но каждый раз — с отличным значением, так что получалось очень забавно. „О, Мой самый прекрасный жеребчик, — говорила Она, — Мой нефер, мой член, Мой медленный огонь, Мое счастливое имя, Мой сма, Мой петушок, Мое маленькое кладбище, Мой смат, — и Она заглотнула мой член настолько, насколько позволило Ее царское горло, и прикусила его у основания, покуда я не вскрикнул, или пониже, но потом Она поцеловала кончик. — Я сделала больно моему маленькому хен, Моему кормильцу, Моему хемси, Моей обители? О, он уже извергается?" И, конечно же, мое семя могло бы облить все Ее лицо, толчками извергаясь на воздушную ткань на Ее груди, и мне пришлось бы наблюдать, как Она втирает его в Свою кожу — медленно и торжественно, словно Она начертала на Своей плоти оскорбление Усермаатра — так я увидел все в Ее сознании, — но вся грубая сила моего извержения отбросила его вспять, прямо вверх по моему проходу, проникла в мою пещеру, сжала сердце и вытянула всю радость из головки моего члена назад в мошонку, и я ощутил, что мы немало потревожили покой ночи. Но я мало боялся этого. Ее Дворец не был похож на Сады Уединенных, где у каждого дома были стены, но любой звук становится общим достоянием. Здесь же, вокруг Ее комнат, не было никаких стен. Ее спальня выходила в крытый внутренний дворик, за которым начинался сад, кончавшийся беседкой, за которой был пруд. При этом сам воздух был таким по-царски прекрасным, а пение птиц таким чарующим и громким, как и клекот Ее соколов и лай собак, что Она не опасалась сплетен. Кто стал бы разносить подобные слухи? Ее слуги были не просто евнухами, словно гуси, заплывшие жиром от обилия пищи, они молчали как рыбы, поскольку их лишили и языков — изрядная жестокость, конечно, но позже я узнал, что сделано это было не для того, чтобы предотвратить сплетни, хоть это удалось, но по приказу Усермаатра, чтобы они не могли лизать Ее. Если бы это не сделало их безобразными, Он наверняка отрезал бы им и губы. Разумеется, полностью огра
Н. Мейлер использует разные географические названия: др. греч., араб, и др. егип., что отражает наличие подобного смешения в египтологии
дить Себя Ему не удалось. Однажды, некоторое время спустя, Она шепнула мне: „У них восхитительные пальцы, у этих нубийцев".
Я говорю про все это, но к тому времени разбуженная страсть полыхала во мне, как пламя, способное расплавить камень. Когда я стоял перед Ней, дрожа, едва сдерживаясь, чтобы не разлететься на куски самому и разом не разбросать свое семя во все стороны, мое древко пылало, а чресла наполнялись медом, мозг мой был воспламенен Ее историями, и я был вынужден удерживать себя на самом краю от того, чтобы кремы моих чресел не засияли на Ее царском лице. Но теперь во мне горело иное желание, великое, как Сам Усермаатра. Оно состояло в том, чтобы овладеть Ею, насладиться досыта, всласть и злобно. Она бормотала: „Бенбен, бенбенбен", — но по Ее губам пробегала дрожь и на мгновение они замирали, а дыхание было таким прерывистым, что в этом бенбен мне слышалось множество слов: „О, извергнись со Мной, маленький Бог зла, ты развратник, дай Мне свой обелиск", — ибо и это слово звучало, как бенбен, а затем Она сбросила Свое сотканное из воздуха платье, и Ее поле открылось предо мной, Ее бедра, подобные стройным колоннам, и Ее алтарь, влажный от страстей моего языка. „Хат, хат, хат, — лепетала Она, задыхаясь, как кошка во время течки, — давай сольемся, давай полетим. Приди в Мое пламя, в Мой огонь, в Мой хат, в Мой вход, попадись в Мою западню, вступи в Мой склеп. О, войди глубоко в Мое кладбище, Мой сма, Мое маленькое кладбище, соединись со Мной, прилепись ко Мне, приди к своей наложнице. О, небо и земля, хат, хат, хат"
Мы продолжали смотреть друг на друга. Она, лежа на спине, я, стоя на коленях, и я вбирал в себя все мгновения моей жизни, исполненные самого глубокого почтения, все, что помогло бы мне удержать каждую сверкающую стрелу, чтобы все они не вырвались разом: я увидел торжественность Бакенхонсу, когда тот приносил в жертву барана, и величие Усермаатра, принимавшего руки хеттов, и всеми этими мыслями, подобно дыму, я окутал свои огни, и мое вожделение вскипело на горячих камнях моей воли. Я познал все неистовство льва. „Желаешь ли Ты, — сказал я Ей, и губы мои вдруг так налились, как будто их долго били, нет, хлестали бичом. — Желаешь ли Ты, чтобы мой обелиск был в Тебе, Царица Хатшепсут?"
„В Моем входе, да, в Моей плачущей рыбе, о, говори с Моей плачущей рыбой, войди в Мою мумию, в Мои чары, греби своими веслами, наведи свою порчу, зарежь Меня, шет, шет, шет, о, войди в Мой надел, войди в Мою землю, войди в мой пруд, да, владей твоим Кат, владей принадлежащим тебе входом".
Когда я вошел, Ее груди смотрели на меня, как два глаза Двух Земель, однако, все то благоговение, что я вобрал в себя, наполнило меня болью, сиявшей, точно радуга в бурю. Сбив пламя костра моих чресел, я вошел в Нее с той торжественностью, с которой жрец ведет службу, и лег на Ее губы, но Ее губы, сомкнутые на моей плоти, были так горячи, что мое пламя чуть было не разлилось по реке. Затем все успокоилось, и Она лежала на спине. Мой обелиск плыл по поверхности Ее реки. Словно у рожающей женщины, с Ее губ слетали отрывистые звуки: ак и акак, но ясно приглашающие войти: „Ак, пожалуйста, вступи, приди в Мой восход, приди в Мой закат. О, акак соверши набег, проникни в Мой вход, взгляни на Мою уба, отдохни при Моем Дворе, прочти молитву, отдохни в Моих вратах.
Уба, уба, живи в Моей пещере, двигайся в Моей дэн, ри, ри, ри перевозчик камней, ты — перевозчик камней, хаа, ты плывешь морем, возьми Меня на свой корабль, хаа, стань Моим входом. О, — произнесла Она, внезапно замерев, — не вспыхивай, не сгорай, хаа, отгребай, хенн и хенну, о, скользни в Мои силки, хем, хем, хем, сокруши Мое величие, ху, ху, ху, пусть прольется дождь!" — я слышал все это. Она пела о красоте моих чресел (которые держала пальцами, перенявшими безъязыкое искусство нубийцев). Она направляла меня словами власти: хе, хеха, хем, и пока Она пела мне, я вошел в Страну Мертвых, которая пребывала во всей Ее жизни, и почувствовал себя человеком благородного происхождения. Она поцеловала меня в краешек рта теми губами, что придали царственность головке моего члена, и наши рты прижались один к другому, и наши языки встретились, подобно сотканным из воздуха одеждам, и Ее голос коснулся моего уха. „Нетчем и нетчему и нетчемут, — ворковала Она, — о, как радостна твоя любовь, ри, ра, рирара", — и на лице Нефертари была такая нежность, что рирара поднялась во мне, и я не мог насытиться моей нефер, моей самой прекрасной Царицей, моей нефер-хер, прекрасной, как дождь в четвертый час после восхода. Она была Богиней, Она была Ее Величеством и Она была бесстыдна. Чам, — мне принадлежала Ее юность, чам, чам, чам — Ее скипетр и Ее заря, и бедра наши двигались вместе, и Она закричала: „Шеп, шеп, шепит, и все прочие слова, такие как шепу, и шепа, и шепот. О, свет, о, сияние, о, блеск, о, слепота, о богатство и стыд, блевотина и кораблекрушение, шеф, шеф, шеф, вломись в Меня, наливайся во Мне, дай Мне свое оружие, дай Мне свою силу, шефеш, шефеш. Я владею твоим мечом, во Мне — твой дар, дай Мне свое зло, дай Мне свое богатство. Кхут, кхут, кхут, техет, техет, техет. О, во имя священного столба Осириса, дай Мне чам, чам, чам, кеф кеф, кеф, покажи Меня Моему Ка, мертвенно-белую, мертвенно-черную. Я — крепость, ай, ай, какой свет, какое великолепие, глубже, ты — обелиск, дай Мне славу, возьми Меня в пламя, Я богата, о, стой, Я — огонь и свет, Я — твоя грязь, твои отбросы, твои духи тьмы, твои друзья, твой проводник, о, хорошо, хорошо, хорошо, дай Мне твой бенбен, насильник, нек, некк, некк, возьми Меня, изрежь Меня, убей Меня, аар, аар, аар, Я — твой лев, твоя птица, твой локон волос, твой грех, Я кончаю, о, Я кончаю, Я исхожу, Я — Фараон".
И, когда я поднимался в небесный город у поля золотых тростников, чтобы познать превращение столь же великое, как сама смерть, я услышал низкие звуки внутренностей и высокие звуки дыхания, вылетающие из моего горла, крики моего сердца, ревущего в водах, поднимающихся во мне, и я рванулся прочь, чтобы лететь в небеса или разбиться о скалы, и увидел бесчисленные войска Страны Мертвых и мириады лиц — все те проклятые и ставшие совершенными души, которыми могла повелевать Не4)ертари, и тараном ударил в последние врата Ее чрева со стоном и рычанием крестьянского члена, сияние Амона ярко пылало во мне, подобно Сокрытому солнцу в животе моей матери, и Она металась подо мной, как зверь, а Ее волны накатывали на мои с силой Усермаатра, и меня вынесло ввысь, но не столько Ее прибоем, сколько гневом моего Фараона, Который поднял меня, как перышко, над пламенем и бросил вниз, словно камень, а затем ударил меня еще и еще о стены Ее царственной пещеры, моей гробницы. Я извергся, пребывая в Ней, пока буря еще бушевала, и Она омыла меня. Она изошла из каждого великого пространства, что оставил в Ней Усермаатра. Ее сила далеко превосходила мою».
Произнеся вслух эти последние слова, мой прадед Мененхетет упал со своего кресла наземь, и его тело забилось в судорогах. Голова его ударялась о полированный пол. Из своих чар он продолжал говорить, но теперь уже голосом Птахнемхотепа
И когда я узнал звуки голоса моего Доброго Царя Рамсеса Девятого, судороги прекратились и тело моего прадеда стало неподвижно. Но голос продолжал исходить от его лица, отточенный и благородный, усталый и задумчивый, как Сам Птахнемхотеп.
VI КНИГА ФАРАОНА
ОДИН
«Мне невыносимы объятия этой женщины. Ее члены слишком тесно обвиваются вокруг Меня. Я ощущаю Себя спеленутым искусным бальзамировщиком. Ее плоть душит меня. И все же Я льну к ней. Мои пальцы проникают в ее глубины. Мой рот припечатан к ее губам».
Это был Его голос. Я слышал его в своих ушах, голос Птахнемхотепа, выходящий из горла Мененхетета, однако я так долго пребывал в мыслях моего прадеда, что эти странные звуки доходили до моего сознания волнами лепета.
Сладкий запах поднимался из крытого внутреннего дворика, запах благовония, такой же приятный для меня, как аромат, исходивший от Нефертари, и на протяжении всех часов той ночи я помнил запах розы на щиколотках Птахнемхотепа, когда я целовал Его ноги. Поэтому я знал, что это Его мысли. Откуда еще было взяться такому благоуханию? Да, подобно тому как вода окрашивается в цвета попавших в нее красок, меня подхватило благоухание Его умащений и несло в нахлынувшем на меня потоке чувств моего Фараона, и теперь я слышал и голос своей матери, так как они с Птахнемхо-тепом разговаривали, точнее сказать — смеялись. Я мог слышать, как они ласкали друг друга: звук легкого шлепка Его рук по ее бедрам, исполненное гордости легкое чмоканье ее рта, коснувшегося Его уха, словно Он был не просто сокровищем из сокровищ, но также дорог ей как ребенок, как я. Там был знакомый мне звук обладания. Я даже уловил момент, когда Его голос утратил суровую сдержанность, и Он перестал ощущать тяжесть ее членов, но блаженство, именно тогда я понял, что моей матери удалось прогнать Его мрачные заботы, усталость, даже Его отвращение, сила ее обожания вобрала все это в ее сердце. Она размягчила Его тело ласками, пока Он не стал подобен полю, готовому принять семя. Она обнимала
Его до тех пор, покуда Его плоть (после каждой волны страха) не стала дышать спокойствием ее пор — как хорошо я знал эту способность своей матери! — и теперь уже из уст моего прадеда исходил голос Хатфертити, хотя мне не приходилось гадать, что она скажет. Я слышал ее в своих мыслях, и в этот момент она говорила о том дне, семь лет назад, когда она и Фараон любили друг друга.
Она лгала. Меня не могли обмануть искренность и простодушие ее голоса. Моя мать умела лгать с таким искусством, что правда играла на ее губах, и Птахнемхотеп почти поверил ей, хотя и помнил, что между ними ничего не было. Действительно, Он все еще мог вызвать в памяти прикосновение Своей руки к ее руке. Вот и все, чем была способна овладеть Его робость в день, когда Он относился к Хатфертити с немалым недоверием. Еще будучи жрецом в Храме Птаха, Он слыхал о ее вольностях с братом и дедом. Об этом сплетничал весь Мемфис. Из всех женщин, показывавших себя быку Апису, она, самая юная, была самой бесстыдной. Теперь же, когда Его руки глубоко погрузились в некоторые из ее сокровищ, Он сказал Себе, что если золото столь же податливо, как и плоть, то ее плоть — золото. Ибо в Нем крепло ощущение, будто лучшее, что она может предложить, еще впереди — прямо под кончиками Его пальцев. Поэтому Он не стал опровергать ее, когда она заговорила о том, как они предались любви семь лет назад на берегах пруда, после того как сошли с папирусного плота. Он даже не покачал головой, когда она вдохнула в Его ухо слова: «В тот час был зачат мой сын».
Но затем Он перевернул ее и, положив руки на ее груди и прильнув ртом к ее губам, рассмеялся и сказал: «Ты ошибаешься. Я стал Фараоном, так и не познав женщины, и оставался таким весь Свой первый год. — Он снова засмеялся. — Вот так-то, — сказал Он, хорошенько шлепнув ее по бедрам, — ты — первая, кто узнал об этом».
«Я узнала об этом в тот день, — сказала она. — Ты был так прекрасен. Я еще не встречала юношу, который бы так волновал меня. Знаешь, тогда я не думала о Тебе как о Царе, но как о жреце».
«Как же тогда ты можешь говорить, что мы любили друг друга?»
«Я могу только прошептать это Тебе на ухо».
Я жил в ее шепоте. Я не хотел слушать странные звуки, подобно сломанным словам, доходившие до меня из сновидений моего прадеда, пусть даже в них и был голос моей матери, ведь я находился достаточно близко к ней, не важно, сколько площадей Дворца нас в тот момент разделяло, чтобы знать, что теперь она говорит Ему, что в тот день они любили друг друга не так, как сегодня. Настоящая любовь, ради которой человек должен быть готов умереть, сказала она, как теперь она готова умереть за Него — нет, такой любви не было. Он не вошел в нее, это правда. Однако из ласкового прикосновения воды, скользившей под их плотом весь тот золотой день, они чувствовали такую близость друг к другу, что, когда они вернулись на берег, она стояла рядом с Ним, исполненная такой радости, что Он оставил в ее руке Свое семя. Тогда она умастила им себя. Его семя в ее ладони стоило больше, чем семя всех остальных.
«И ты умастила себя у Меня на глазах?»
«Не знаю. Я не скрывала того, что делала, но Ты мог и не заметить. Мы глядели в глаза друг другу так долго, что были готовы заплакать — так я любила Тебя в тот день. Твои глаза разожгли во мне желание более страстное, чем сила других мужчин».
В те дни, думал Он, Он оставлял Свое семя в руках многих женщин. Говорили, и Он знал об этом, что женские ладони Ему ближе, чем их рты. Такие сплетни, должно быть, были общим достоянием. Так что теперь она могла и лгать. Разумеется, она обладала волей, чтобы скрыть истину (которой не существовало) в своей голове. Когда Он попытался проникнуть в ее мысли, то не увидел ничего, кроме моего лица. Затем она прошептала: «Он — Твой сын. У него Твоя красота, и Его разум обитает в Твоем».
Мой Фараон вспоминал те годы, когда Он оставлял Себя в женских ладонях. То, что Он сказал затем Самому Себе, я ясно услыхал из уст Мененхетета. «Ты говоришь, что он — Мой Сын?»
«Он был зачат в моем сердце», — сказала она и потерла Его ладонь о свои груди.
В это мгновение Нефхепохем внезапно выскользнул из своего страдания. Яростный храп, исходивший из его горла, прервался. Лежа между мною и моим прадедом, он закричал во сне: «Ты обладаешь всем! У меня же нет ничего! Ты отнял мое сокровище!»
На меня навалилась тяжесть. Я ощутил вес крышки гроба. Она придавила меня с такой силой, что я не мог двинуться, иначе коснулся бы Нефхепохема и попытался успокоить его. От его боли нельзя было отмахнуться. Мне подсказала это скорее та мудрость, что я обрел, чем накопленная мной любовь к человеку, который был моим отцом первые шесть лет моей жизни, а теперь, возможно, стал не более чем моим дядей, братом моей матери! Я испытывал к нему добрые чувства, но страха в них было столько же, сколько и каких-либо сладких воспоминаний моего сердца. Скажем так: я боялся Богов, Которых он мог бы призвать на помощь. Своего нового Отца я хотел защитить больше, чем прежнего.
И пока я лежал там, будучи не в состоянии двинуться, я вновь ощутил всю силу мыслей моего Фараона. Он думал обо мне. Я был Его сыном. Он собирался признать меня Своим сыном. Я ощущал силу в Его груди, отличную от Его прежних мрачных мыслей. Раз Он решил стать моим Отцом, у меня не было сомнений относительно причин такого выбора. Теперь, через мою мать, Он, безусловно, становился ближе ко всему, что мог знать Мененхетет, и таким образом ближе к тому, чего желал более всего, а именно — пребывать в сердце Усермаатра. Жить в звуках голоса Великого Фараона означало обрести силу для того, чтобы более походить на Великого Фараона, от Которого происходила и Его Собственная плоть. Поэтому, когда раздались звуки Его голоса, вышедшие из горла Мененхетета, то они уподобились голосу Дворцового Глашатая, объявляющего прибытие Фараона. Однако то был не просто громкий и звучный голос — поражало содержание сделанного заявления. Он сказал:
«Через Хатфертити, происходящую от Богини Нефертари, Я, Рамсес Девятый, избрал войти в мысли Бога, Ее мужа Усермаатра-Сетепенра в первый день Его Великого Празднества. Именно тот Третий Праздник, Его Божественный Триумф, обновил силы Его коронации на Тридцать Пятый Год Его Правления и после всех этих лет Его Правления должен был стать величайшим Празднеством, которое Он когда-либо устраивал.
Через Хатфертити, происходящую от Мененхетета, который в этот час уподобляется Моей левой руке, и по крови Моей правой руки, что непосредственно от Усермаатра-Сетепенра течет ко Мне, Я ищу пути, чтобы войти в грудь Истинного и Великого Бога Рамсеса Второго на рассвете первого утра Его Празднества Празднеств».
Итак, я слушал голос моего Отца. Если моя кровь была Его кровью (а теперь даже я не был уверен в том, что моя мать солгала), тогда моя кровь происходила от Бога. Я же происходил от Фараона Рамсеса Девятого, Который, кроме всего прочего, был Богом. Таким образом, он был не просто моим отцом, но моим Отцом, стоящим неизмеримо высоко — Добрым и Великим Богом, человеком и Богом. Теперь я слышал все то, что было в Его голосе от Бога, и знал, что Он стремится подняться до величия, которое позволит Ему войти в пределы владений Своего предка и ощутить силу Правления Великого Усермаатра. Из горла моего прадеда раздался голос моего Отца, и Птахнемхотеп сказал: «Входит Его Величество Хор. Могучий Бык, Возлюбленный Маат, Его Величество Хор, Повелитель Двойной Короны теперь входит, Египет защищен, а чужеземцы подчинены. О, Золотой Хор, великий в победах, Царь Верхнего Египта, Царь Нижнего Египта, войди!» И, когда Он это говорил, я ощутил ток крови в своих собственных членах, и великая сила вошла в меня, будто я действительно был Принцем моего нового Отца, и я был с Ним, когда Он чувствовал, что вступает в знание Его предка Усермаатра, умершего за шестьдесят или даже более лет до рождения моего Отца. Да, мудрость моего прадеда, соединенная с богатством плоти моей матери и царским происхождением, дали крылья Хора нашему Фараону. Теперь Он мог принять участие в пятидневном Празднестве Празднеств, происходившем сто тридцать лет назад, когда Усермаатра-Сетепенра предстояло вновь искать Силу-Правления.
Именно к этой великой силе направил теперь мой новый Отец, мой Птахнемхотеп, Рамсес Девятый, Свое обретенное знание, полученное вздох за вздохом в течение этой ночи от моего прадеда (а в последний час сильно укрепленный в этом стремлении моей матерью), самым головокружительным усилием, какое Он только прилагал за Свое несчастливое Правление. Ибо Он желал оставить тяготы Своего Трона и взойти в божественный восторг Своего предка. К исполнению именно этого желания вел Он Мененхетета этой ночью. И к этой цели, как я смог теперь понять, так как узнал это в тот же миг, как Он стал моим Отцом.
Если существовали три пути преумножения Его знания, первым из которых были уроки Его жизни, а второй открывался, благодаря расположенности к Нему Богов (и правильному использованию Их Обрядов), то величайшим был третий. Собственно, первый и второй являлись не более чем подготовкой к третьему, поскольку им была божественная власть правления Египтом. Даже тайны мертвых не могли сравниться с этой божественной властью, которая могла происходить лишь из сердца великого Царя. И вот я проследовал со своим вновь обретенным Отцом в божественную и исполненную восторга душу, пребывавшую в груди Ве-ликой-Справедливости-Ра, Избранника-Pa, Усермаатра-Сетепенра, Его собственного Усермаатра, и я был со своим Отцом в час, когда Он вошел в Рамсеса Второго в тот момент, когда Великий Царь проснулся утром в день Своего Празднества Празднеств и пошевелился в Своей постели, перед тем как пересечь вымощенный до блеска отполированным белым камнем двор Своего Дворца и омыться на рассвете в Своем священном пруду, неподалеку от того места, где Он вылетел из паланкина головой вперед — на камни, с проклятием Нефертари на Своей спине.
ДВА
В то первое утро Усермаатра проснулся в темноте и вошел в пещеры, пребывавшие внутри Него. Там, объятый тяжелыми руками Своего страха, Он ощутил близость силы всего-что-недвижимо. Он возлежал в неподвижности, что покоилась на Его членах, во тьме, которой ненавистен свет, в месте, где холод сковал все, что было теплым, и познал благоговейный трепет перед великой силой Атума. Первый Бог — Атум — был способен подняться против мрака и неподвижности, когда приказал силам небытия низринуться в Страну Мертвых. Так все сущее обрело дыхание. Теперь и Усермаатра приказал всем силам небытия оставить Его.
Так, проснувшись и ощутив бодрость в Своем теле, Усермаатра стал в Священном пруду, воды которого были невозмутимы, как равновесие Маат (отчего он и был назван Оком Маат), и приготовился вознести молитву восходящему солнцу, а пруд простирался перед Ним на Восток. Стоя в пруду, Усермаатра ждал, когда золотой лик солнца, воспламененный огнями Дуата, поднимется из воды.
Ибо каждое утро на протяжении этих пяти дней подготовки перед началом пяти дней Празднества Он поднимался из той же тьмы, чтобы на рассвете совершить омовение, и ждал, пока плечи и крылья Бога покажутся за огненной короной в те самые мгновения, когда голова Ра поднимется над горизонтом.
Каждое утро из этих пяти Он совершал омовение на рассвете и, закончив, стоял в серебряном свете — последний в череде Царей, пришедших до Него, и предшественник Царей грядущих, и знал, что в этот первый день Празднества солнце не встанет на Востоке без Его согласия. И потому дыхание Его было потревожено, когда Он устремил Свой взор к Восточной части неба. Ибо в тот миг, когда на темном горизонте показались огни Дуата, Он ощутил, что прошел через века Фараонов, и вздрогнули все мертвые Цари, и Он познал первый день творения, и увидел, как Первый Холм поднялся из вод, когда еще не было суши, и стал виден, подобно тому как этот Первый Холм теперь всегда можно видеть в Великой Пирамиде Хуфу.
Усермаатра представил себе миллионы людей и бесчисленное множество передвинутых камней, и — о, чудо! — всем владела та же мысль, что и Фараоном Хуфу: должна быть воздвигнута пирамида такая же большая, как Первый Холм. Теперь все храмы Египта освящали пригоршней земли от подножия Великой Пирамиды, и эта земля закладывалась в их основание, окропленная кровью жертвенного животного. Затаив дыхание, Усермаатра наблюдал, как кроваво-красная голова Ра, словно корона, увенчала горизонт, а свет отдал свое первое тепло серебряной воде и всем птицам, говорившим с Богами. Усермаатра увидел восход солнца, тот же, что и в первый день творения, и Атум было имя, данное Ра за этот первый свет солнца, явившийся до рождения людей, чтобы они могли видеть его. Теперь Усермаатра закрыл Свои глаза, а солнце, являя себя, поднималось все выше и показалось на горизонте таким раскаленным, что Он познал собственное тепло, и Фараон перешел от Прекрасного Бога, Который проснулся, к Великому Богу, Который стоял в воде Священного Пруда, и Он изрек Свое имя, сказав: «Я есть жизнь Хора и мне подвластны Две Госпожи. Я — Обожаемый Той, Которая есть Кобра Нижнего Египта, и Возлюбленный Той, Которая есть Коршун Верхнего Египта. Я — Золотой Хор. Я Тот, Кто принадлежит Тростнику и Пчеле. Я — Сын Ра!» И Он ощутил кровь первых Фараонов во всех Своих членах, и то, что принадлежало Менесу, было в Его руках, а мощь Нармера пребывала в Его ногах, тогда как Великий Хуфу жил в Его горле, а Унас, способный поглотить многих Богов в Стране Мертвых, занял место в Его сердце. Он произнес строфы, обращенные к Унасу:
О, Хор, Он берет к Себе мертвого Царя Унаса. Он очищает Унаса в Озере Шакала, Он омывает Унаса в Озере Рассвета, Он умиротворяет плоть Ка Унаса.Он стоял в пруду, ощущая на Своей груди солнечное тепло, подобное огням Кадеша в Своем сердце, Он называл Себе имена каждого из Богов, произошедших от Атума, начиная с Шу и Тефнут — детей Атума и родителей Ра, и было это так, поскольку Ра приходился внуком Атуму, притом что Сам Ра являлся Атумом. Так оно и было. Бог порождает Бога, Который станет Его Отцом. Ибо Боги живут во временах минувших и в грядущем.
Так стоял Усермаатра в великом золоте солнца, отделившегося от горизонта, и всматривался в отражение его огней, парившее, подобно пламеневшему островку, в Оке Маат. И Усермаатра-Сетепенра подумал о маленькой пирамиде из золота, венчавшей величественный обелиск Хатшепсут в Храме Карнака, которая сияла, как капля золотого семени Атума, породившая Первый Холм.
И пока Он размышлял, между Ним и солнцем пролетела птица, и Усермаатра-Сетепенра вспомнил тот час, когда упал паланкин. Шепот ветерка донесся до Него по глади Ока Маат. Огонь на островке пламени дрогнул. И к Нему пришло другое воспоминание — о глади вод реки в далекий год, тридцать пять лет назад, когда Он впервые взошел на трон. Вода в том году стояла низко.
Теперь, в Тридцать Пятый Год Его Правления, Нил был полноводен, и приток воды уже начал спадать. Этот день, первый день Божественного Торжества, был первым днем первого месяца времени Разлива. На всем своем протяжении река поднялась, и земля пребывала в таинствах высокой воды. Птицы умолкли. Наступил разлив. Чистые воды пришли давно — все те молодые воды, что пролились, как слезы Исиды, как влага с рук Осириса и все соки, что истекли из Его мертвого тела, чтобы унести гнилости земли. Усермаатра стоял в нежном огне ранней зари, и тепло пребывало в Его голове и Его груди, а руки Его простерлись к золотому жару в красном сердце солнца, и Он погрузил Свои мысли в его сияние.
«Я взошел, — разнесся голос Усермаатра-Сетепенра над гладью Ока Маат, и Его слова слились со щебетом птиц в вышине, — Я взошел на Свой трон как Хор, а после смерти Я соединюсь с Осирисом. Я стану Осирисом. Каждый Ка из Моих Четырнадцати отправится к каждой из четырнадцати частей тела Осириса, и Я буду жить в Нем». — И тяжесть стала покидать дыхание Усермаатра-Сетепенра, и, укротив страх смерти, Он вышел из воды.
Смотрители за Омовением Фараона и за Одеждами Царя приблизились и обтерли Его полотняными простынями, и Он покинул пруд и пошел через Свои сады. Мимо сикомор и финиковых пальм, шелковиц и персей, кустов тамариска, мимо фиговых и гранатовых деревьев проследовал Он на рассвете. И повсюду был запах дыма от огней, горевших прошлой ночью. На протяжении всех пяти священных дней последних приготовлений к Божественному Торжеству, что должно было начаться сегодня и длиться пять следующих дней, происходило Возжигание Огней. И в каждой деревне и в каждом городе Двух Земель, на каждом перекрестке каждой широкой улицы в Фивах, перед многими лавками и домами было предписано зажигать факелы пять дней этого года, которым предстояло стать Празднеством, какого не было за все Тридцать Пять Лет Его Правления.
Теперь Усермаатра шел через Двор Великих, а солнце поднялось уже достаточно высоко, чтобы осветить его пространство, и отблеск серебра без следа исчез с его полированного каменного покрытия, и оно стало белым, а когда Усермаатра подошел к ступеням Зала Царя Унаса, который Он построил в последний прошедший год из камней усыпальниц Своего Отца Сети и Тутмоса Великого, каждая из этих новых стен вызвала жуткую дрожь в Его недрах, словно потревожили Ка этих плит.
Он остановился на ступенях перед Большой Дверью в Зал Царя Унаса, и она отворилась, и жрец выступил из глубины, что была темной, как ночь, и этот жрец возгласил:
«Входит Его Величество Хор, Его Величество Хор, Могучий Бык, Возлюбленный Маат. — Затем жрец поцеловал левую ступню Рамсеса Второго во имя Амона и правую — во имя Ра, потом он семь раз поклонился во имя Геба, и Нут, и Исиды, и Осириса, и Сета, и Нефтиды, и Хора-брата, и жрец сказал: — Он — Ра, Сильный Истиной и Избранник Ра. Он — Сын Ра. Он — Ра-месес, Возлюбленный Амоном. Он — Хор. Он — Престол Двух Земель. Он восседает на Своем Двойном Престоле среди людей, в то время как Ра, Его Отец, восседает на небесах».
Покуда Усермаатра слушал приветствия, солнце всходило по ступеням. И когда оно поднялось достаточно высоко, чтобы заблестеть сквозь квадратное отверстие в центре крыши, из глубины, из мрака внутри Зала Царя Унаса, явился столп света. Свет изливался в открытую дверь, сияние Ра ослепило Усермаатра, и Он склонил Свою голову перед Великими Золотыми Устами.
«Он, — произнес жрец, — прекрасный серебряный Сокол Двух Земель, Он распростер сень Своих крыл над человеком. Хор и Сет живут в равновесии Его крыл. Амон сказал: „Я создал Его. Я посеял истину на ее месте". О, Великий Фараон, при звуке Твоего имени из гор выступает золото. Твое имя прославлено во всех землях. Все знают о победах, добытых Твоими руками. Царь Верхнего и Нижнего Египта, Великий Фараон, Сильный Истиной, вышедший из чресел Ра, Повелитель Корон, Ты — наш Хор, Который есть Рамсес, Возлюбленный Амоном».
Он вошел в дверь, и трепет Его силы прошел по Залу, и Он знал, что вздрогнут все, кто увидят Его. Царь, который может носить Двойную Корону Египта, вступил в Тронный Зал — а это было большое помещение: пятьдесят больших шагов на тридцать. И еще до того, как Его глаза привыкли к полумраку, также приветствуя Его, навстречу Ему хлынуло благоухание ладана, и Он глубоко вдохнул его.
ТРИ
Свет в Тронный Покой проникал через отверстие в крыше и ложился на золотой стол. Теперь, когда солнце поднялось, он переместился, и жрецы передвинули золотой стол, чтобы свет продолжал сиять на Коронах Верхнего и Нижнего Египта, поставленных рядом друг с другом, и когда Он подошел близко, Двойная Корона придала Ему такую силу, что Он снова почувствовал Себя юношей, приближающимся к Своему Отцу, Фараону Сети, и для Него длинная высокая Белая Корона Верхнего Египта и Красная Корона Нижнего Египта были живыми, словно два существа. Теперь же, когда Он вложил Белую Корону Верхнего Египта в Красную Корону, Он почувствовал, насколько разъединены были Две Земли на протяжении ночи, в каком смятении пребывали во тьме. Теперь они были слиты воедино, и покой сошел на Египет, когда Он поднял Свою Белую Корону и Свою Красную Корону, превращая Их таким образом в Свою Двойную Корону, принадлежащую Двум Госпожам: Коршуну, кем была Нехбет, и Кобре, кем была Уаджит, и Он приготовился возложить Их Себе на голову. И Он сказал:
Да пребудет ужас от Меня, как есть ужас от Тебя, Да пребудет страх от Меня, как есть страх от Тебя, Да пребудет трепет от Меня, как есть трепет от Тебя, Да пребудет любовь ко Мне, как есть любовь к Тебе, Да соделаюсь Я могучим и Повелителем духов.Верховный Жрец возложил Двойную Корону на Его голову, а придворные и жрецы, стоявшие подле Него, пали ниц. Сила, которую Он познал при омовении на рассвете, вернулась к Нему многократно умноженной. Ибо так же, как Он вобрал свет от Ра при Его восходе, так и Двойная Корона исполнилась за ночь силой Кобры и Коршуна, и Они встрепенулись, познав Свою мощь, и дышали жизнью на Его голове.
Он прошел в Покой Облачений, находившийся в глубине Зала Царя Унаса и представлявший собой большую комнату со множеством комнат поменьше и выгороженных квадратных помещений, в которых толпились придворные. Они вышли и окружили Его, а Он приветствовал их, пользуясь особыми древними титулами, которые Он пожаловал им на эти пять дней: одним из них был Смотритель Одежд Царя, другим — Специальный Хранитель Сандалий, находившийся здесь для возглашения гимнов Гебу над всем, что касалось ног Усермаатра. Был здесь и Надзиратель за Омовением Фараона (сопровождавший Его к Оку Маат), и все Смотрители Париков и Нижних Одежд, Короткой Юбки, Верхних Одежд также находились в Комнате Облачений, равно как и Хранители Головных Уборов, и все они были сыновьями номархов. А сын Визиря был здесь как Хранитель Двойной Короны Богов, и он надевал на голову Фараона и снимал с Нее большой Головной Убор из Рогов Хну-ма с двумя его Кобрами, двумя большими перьями и диском. Были здесь и другие знатные придворные: Главный Прачечник, который должен был надзирать за чисткой всего ношеного и убирать каждое пятнышко с тканей царских одежд. Главный Мастер Царских Драгоценностей и прочие придворные, толпившиеся в Покое Облачений. И подле каждого придворного, носившего особый торжественный титул, находился искусный слуга для исполнения соответствующих обязанностей. И так должно было быть на протяжении всех пяти предстоящих дней: Усермаатра будет заходить в Покой Облачений и выходить переодетым для каждого отдельного обряда, в котором Он примет участие в святилищах Двора Великих Царей, вне Зала Царя Унаса. Поэтому на полках и столах, а также за перегородками лежали воинские шлемы и сосуды с притираниями, чаши для вина и курильницы для ладана, посохи, хлысты, короны, ритуальные головные уборы и плетки, золотые львы всевозможных размеров, амулеты, ожерелья, нагрудные пластины, браслеты, сандалии, платья, верхние одежды, короткие юбки, нижние одежды, набедренные повязки, парики, кувшины, вазы, штандарты, большие и маленькие перья, здесь же находились и все Смотрители Сосудов из алебастра, диорита и серпентина, из порфира — черного, белого и пурпурного, и даже Смотритель сосудов из горного хрусталя.
Гул стоял при этих переменах одежд, и совершались они с почтительностью и богохульством. Усермаатра так же часто возносил молитвы со жрецами, как и ругал своих титулованных слуг за плохой вид парика, за помятую складку юбки или за недостатки полировки золотых ногтей, которые накладывались на Его пальцы. Этот гам еще более усиливался, когда Он покидал покой, ибо многие из окружавшей Его знати должны были в свою очередь менять одежды, готовясь к посещению святилища следующего Бога, а число этих Богов было велико, и случалось много путаницы, так как к первому дню Празднества еще не все Боги прибыли с верховьев или низовьев реки, некоторых перевозили на большие расстояния из Их местных святилищ, чтобы выгрузить на Царской пристани Фив.
Но вот, одетый для Своего первого обряда, в юбках со складками из полотна столь тонкого и такого проглаженного, что, ударясь о бедра Царя, они шуршали, как листья папируса, Усермаатра, со Своей ритуальной плеткой в руке, вышел из Покоя Облачений и приготовился к отъезду. Но Он был еще не готов. Суматоха с переменой одежд еще пребывала в Нем, и Он остановился у Двойного Престола в центре Зала Царя Унаса, затем взошел на возвышение и стал на толстом ковре. Бок о бок, под балдахинами стояли два трона, и Усермаатра сперва сел на Престол Царя Нижнего Египта. Ему подали Посох, и сила его перешла к Нему в руки. Он вдохнул запахи болот, пришедшие к Нему с Севера Египта, и, закрыв глаза, Он увидел мрачную топь, где Хор сражался с Сетом, и Усермаатра вновь жил в тот час, когда был ранен Хор. Боль ударила в Его закрытые глаза и отозвалась жуткой мукой внутри Его глазниц, когда Хор вырвал Свои глаза, ослепив Себя в наказание за то, что обезглавил Свою мать.
Усермаатра-Сетепенра вошел в Бога Хора. За Своими плечами Он мог ощущать Его божественные Крылья, и они были огромными. Стены Зала Царя Унаса не были достаточно велики, чтобы вместить их. Он вспомнил облака на рассветном горизонте и в них — оперение на груди Сокола-великана, в образе которого пребывал в этих облаках Бог Хор, чьи крылья распростерлись от горизонта до горизонта.
Усермаатра открыл глаза и спустился с возвышения. Он сделал четыре выверенных шага на Юг и поднялся ко Второму Престолу Двух Земель. Его нос уловил смену многих запахов. Он более не ощущал смрада болот, но теперь вдыхал смешанный с пылью аромат персикового дерева при дороге, у подножья пыльного холма. И Он вспомнил Свою коронацию тридцать пять лет назад в Мемфисе, в Храме Птаха, где Первый Холм поднялся из вод — там, в виду Пирамиды Хуфу.
В день Его Коронации Верховный Жрец установил для Него круг размышлений, предназначенный на время каждого праздника во все года Его Правления вплоть до Празднества Празднеств, и Он исполнял его указание. То же Он делал и сейчас, и Он направил Свои мысли в центр Своей сосредоточенности.
Жрец сказал, что, подобно тому как во время этого обряда имя Осириса может быть услышано как Усир, что есть Создатель-Трона, имя Исиды может прозвучать как Исет, что значит Трон, а для Создателя естественно знать Свой Трон. «Теперь во все дни Твоей жизни, в которой Ты — Хор, — сказал жрец, — Ты поэтому и будешь сидеть на Троне Исиды, Своей Матери».
Рано утром Он ощущал, что золотой Трон Исиды твердый и холодный (к полудню он всегда нагревался), но здесь, у Нее на коленях, Он был Фараоном. «Я вышел из Тебя, — глухо произнес Он, — а Ты вышла из Меня». Так говорить Его научил Верховный Жрец.
В час Его Коронации, с которого прошли все эти тридцать и больше лет, Двойная Корона была возложена Ему на голову, и Он стал Фараоном, Бог Хор сошел, чтобы поселиться в Нем. А Он жил в Хоре. Они пребудут вместе до дня Его смерти. Потом Он уйдет, чтобы соединиться с Осирисом. В этот час Его Двойная Корона будет возложена на чело Фараона, который придет после Него. Этот Фараон станет Хором. «Я вышел из Тебя, — сказал Он Двойной Короне, — и Ты выйдешь из Меня».
Окружавшие Его придворные хранили молчание. Он сидел на Престоле Верхнего Египта и жил в Своей сосредоточенности.
Затем Он встал. Теперь Он был готов. Ему подали Жезл Лотоса, древко которого было увито его распустившимися цветами. Теперь Его мысли были открыты всем чаяниям земли Египта, ибо лотос являлся ухом земли. И вот Он вышел из Зала Царя Унаса со Своим Жезлом Лотоса в руке, и Его ожидало множество маленьких цариц с детьми и ряды знати в одеждах из ткани белее, чем кости Богов, сотни вельмож, готовых сопровождать Его этим утром в поездке к реке для встречи Богов, прибывающих на Своих лодках.
Однако в то самое время, когда я наблюдал за всем происходящим, то ныряя в толпу придворных, то выбегая из нее в поисках места, откуда мне было бы лучше видно приближение Фараона Усермаатра-Сетепенра, я видел Его и здесь, перед собой, в том самом крытом внутреннем дворике, где я находился, и Он был со Своей Царицей, и одна Ее грудь была обнажена. Розовая помада стерлась с Ее соска, а в чертах Ее лица не было сходства с Нефертари или Маатхорнефрурой, но присутствовала властная красота моей матери! Голова Царя Усермаатра принадлежала уже не Второму, но Девятому — это было лицо моего Отца с Его длинным тонким носом,
Его прекрасным ртом — однако в первый момент я не узнал ни Отца, ни мать. В Них было столько жизни, и Они настолько походили на тех Двоих, и шли как Царица и Фараон во времена Усермаатра-Сетепенра, что я не мог понять, в каком времени живу и в каком городе — Мемфисе или Фивах, покуда наконец цвет шафрана прозрачного одеяния моей собственной матери не вырвал меня из лабиринтов и пещер моего сна — если только происходящее со мной было сном, — и я улыбнулся им. В ответ Они улыбнулись мне.
В этот момент проснулся Нефхепохем. Он потянулся, зевнул, огляделся, а затем вскочил на ноги. Он собирался поклониться Птахнемхотепу, но не сделал этого. Вместо этого, не говоря ни слова и не выказав никакого почтения, он ушел так быстро, что, если бы я на мгновение, пока промелькнула бы мысль, закрыл глаза, открыв их, я уже не увидел бы его спины.
И все же его уход нанес мне жестокий удар. В первое мгновение обрушившееся на меня страдание весило не более чем падающее перо, за тем исключением, что вместо истины я ощутил неловкость. Я не хотел, чтобы это омрачило радость, которую я испытывал, глядя на моего Отца и Хатфертити. Они были так же милы моему сердцу, как фиолетовый свет в этом крытом внутреннем дворике. Ибо Птахнемхотеп глядел на меня с любовью. И вся та любовь, что я ощутил в своем сердце, когда услышал Его мысли, была истинной. Вот почему голос Усермаатра звучал в моих ушах столь же отчетливо, как звук ударов кольца по столу. Именно тогда я получил двойное подтверждение тому, что Птахнемхотеп должен быть моим Отцом, поскольку я мог жить в Его мыслях, можно сказать, с тем же удобством, что и в мыслях моей матери, и даже видеть — а это был еще больший дар — то, что видели они, когда Боги Египта, подобно золотым птицам, кружились над их головами.
Так я узнал, что разница между любовью одной твоей матери и любовью твоих матери и отца столь же велика, как одна Белая Корона на голове правителя по сравнению с величием всего Египта, которое может познать Фараон, увенчавший чело и Красной, и Белой Коронами, и все эти чувства были бы исполнены для меня того же очарования, что и самый великолепный сад, если бы не уход Нефхепохема. Мой первый отец жил в нашем доме, подобно тому-у-кого-нет-крова, и ушел он, как призрак. Ни одна дверь не стукнула, закрывшись за ним. Осталось лишь проклятье. И в тот миг я понял, что самые мелкие люди оставляют самые тяжкие проклятья.
Моя мать, будто услышав намек на то, какой невыносимой тяжестью оно может лечь на мое сердце, поманила меня, и я сел между ней и Птахнемхотепом, Который обнял меня за плечи. Рука моего Отца была такой же ласковой и мудрой, как серебряный свет на поверхности Ока Маат, и ах какое тепло исходило от моей матери! Я устроился между ними, испытывая сладчайшее замешательство, поскольку каждый был исполнен запахами другого, и я почувствовал себя маленьким зверьком, окруженным благоуханием своего гнезда, а они откинулись на подушки и радовались, разделяя любовь моего сердца, преисполнившегося теперь сладости. Я тихонько удовлетворенно вздохнул.
Возможно, этот тихий звук пробудил ото сна моего прадеда. Он открыл глаза, отметил про себя, кто пришел, а кто ушел, и принялся говорить, не обнаружив никакого беспокойства. Это был снова его собственный голос, ничем не напоминавший голос моего Отца. Однако, вероятно, те зловещие пещеры, в которых он пребывал, были столь глубоки, что мой прадед, похоже, еще не вышел из-под власти чар. Хотя его взгляд переходил с одного из нас на другого, а все сказанное им было понятным, он, казалось, все еще не замечал, что наш Рамсес прижимает к Себе Хатфертити, как жену. Он говорил лишь о том, что касалось его самого, словно ничто не прервало его рассказ, как будто бы Празднество Празднеств на самом деле еще не началось, но до него оставался целый месяц. Так что, если бы не рука моего Отца, слушая его, можно было бы ощутить замешательство, совершенно потеряв представление о том, где все происходит. Могло бы показаться, что в тумане меня пересадили из одной лодки в другую, причем обе они сразу же потеряли друг друга из виду, так что нельзя было сказать, следуют ли они в одном направлении.
Видимо, мои родители не страдали подобным головокружением, и, успокоенный ими, я стал получать удовольствие оттого, что повествование Мененхетета настолько ясно, что мне не нужно слышать его голос, не нужно даже знать — говорит ли он вслух. Я вскоре понял, что мой Отец слушает таким же образом. Ибо Он был убежден, что вскоре обретет знание самых сокровенных тайн Своего великого предка. Я чувствовал, как Его внимание поднимается из Его усталых членов и обращается к той жажде понимания, что пребывала в Его сердце. Эта страсть понимания влекла Его сильнее, чем то удовольствие, которое могла дать Ему моя мать, или та радость, что мог подарить Ему я. Его напряженное внимание не давало мне уснуть, ведь я лежал так близко от Него. Мне даже стало безразлично, что мы не находимся рядом с Усермаатра в первый день Празднества, но вернулись с моим прадедом во Дворец Нефертари. Если рассказ можно сравнить с цветком — однажды прерванный, он словно вырывается с корнем и всем прочим, — что ж, сказал я себе, рассказ можно также уподобить одеянию Бога, а Бог может сменить одежды.
ЧЕТЫРЕ
«Не помню, как я пожелал доброй ночи моей Царице Нефертари, — начал Мененхетет. — Я запомнил лишь следующее утро, потому что, проснувшись поздно в своей постели, я ощутил такое счастье, какого никогда ранее не испытывал. Я не мог дождаться того момента, когда вновь увижусь с Великой Царицей, Которая стала моей возлюбленной. Счастье это было совершенным. Моя душа была полна драгоценных воспоминаний, не покидавших меня и во сне, и воспоминания эти были настолько уравновешены наслаждениями, которые я надеялся вскоре пережить вновь, я ощущал в себе такое достоинство и черпал такой покой в том, чего удалось достичь, что сердце мое напоминало священный пруд.
Позвольте мне сказать, что подобного счастья мне уже не суждено было пережить никогда. Вошел домоправитель с посланием: мне надлежало немедленно явиться к Визирю, и приказ этот был настолько необычен, что вскоре я уже был в пути. В покоях Визиря мне было сказано, что, проснувшись этим утром, Усермаатра отдал распоряжения перевести меня со службы Нефертари во Дворец Маатхорнефруры. Перемещение должно произойти этим утром. Все принадлежавшее мне мои слуги могут принести сюда, в служебные покои Визиря, откуда другие слуги, которые теперь станут моими, новые садовник, дворецкий, повар, ключник и возничий — все из окружения Маатхорнефруры, перевезут их оставшуюся часть пути. Теперь я был Прислужником Правой Руки Маатхорнефруры.
Такого счастья, с которым я проснулся, мне, как я уже сказал, больше никогда не довелось испытать ни в одной из моих четырех жизней, и тому была веская причина. Как я теперь понял, нет более опасного чувства, чем само счастье. Не могу представить, чтобы в других обстоятельствах мое внимание оказалось бы столь разлученным с сердцем моего Царя. Только не на такой долгий срок, как целая ночь сна. Во сне я мог ходить по тем базарам и дворцам, куда влекли меня мои сновидения, но теперь я знал, что никогда не должен бродить слишком далеко от сердца моего Повелителя. Счастье оставило меня без часовых. Поэтому не было ни предупреждения о переводе, ни даже обоснованной уверенности — от кого это могло исходить. Я не знал, уговорила ли Усермаатра на подобную перемену хеттская Царица, чтобы досадить Нефертари, или Он проснулся в полной уверенности, что я развлекался на принадлежащей Ему плоти, вкусил ее и оставил на ней свой вкус. Однако если бы так оно и было, то отчего же теперь Он поставил меня служить там, куда отправил?
Когда я пошел повидаться с Нефертари, мое смущение превратилось в полное замешательство. Она была мила, но держалась холодно, как будто я сам тайно подстроил такое перемещение. Лишившись меня, Она ни разу не упомянула о переводе как о победе Маатхорнефруры, так что я не смог понять, обеспокоена ли Она или слишком горда, чтобы показать Свою боль. За несколько мгновений, что мне удалось остаться с Ней наедине (а я не мог обманывать себя, полагая, что Она желает видеть меня дольше, но не имеет такой возможности — нет, Она намеренно сделала эту встречу короткой), мне стало ясно: Она совсем не была обеспокоена. Казалось, Она испытывала явное облегчение, какое я замечал у других женщин, когда им удавалось избежать неосмотрительности. Она взяла меня за руку и заговорила о терпении и наконец сказала: „Возможно, ты сможешь присмотреть для Меня за Маатхорнефрурой", и когда я поклонился в ответ на это приглашение стать Ее наушником и, как положено, поцеловал Ее стопы, я тем не менее прошептал в Ее юбки: „Когда я Тебя снова увижу?" В моем сердце и чреслах стоял такой рев, что было вохоже, они могли бы схлестнуться друг с другом. Она не вздрогнула, ощутив на Своих ногах мое дыхание, но поцеловала меня в лоб в высшей степени торжественно. Следовало ли мне счесть Ее поцелуй клятвой верности или, вероятнее, то была ласка, цель которой успокоить нервную лошадь, было выше моего разумения. „Ты поступил бы мудро, если бы вернулся сюда лишь тогда, — сказала Она, — когда ты сможешь многое рассказать Мне про Маатхорнефруру".
Все же под конец Она позволила мне взглянуть в Ее чудесные глаза, глубокие, как яркая синева вечера, и в них было все, что я желал увидеть: любовь, потеря и нежность плоти, разделившей несколько секретов с твоей плотью. Как я сказал, от растерянности я почувствовал себя больным.
К началу дня переезд был закончен, вечером меня впервые приняла Маатхорнефрура, и это посещение также было коротким. Она приветствовала меня сладким голосом, очарование которого усиливали его непривычно хеттские звуки, и сказала, что чрезвычайно нуждается в моей службе (хотя не коснулась ни одного дела, с которого я мог бы эту службу начать). Затем Она добавила, что мне следует поговорить с Хекет, которая может рассказать мне о Ее народе. „По сравнению с египтянами, мы — люди простые, — сказала моя новая Царица, — но ведь нет такого народа, чьи стремления легко постичь".
Она держалась приветливо и, безусловно, очень любезно. Меня глубоко тронуло то, как она переживает Свои страдания. Я не знал, все ли Ее волосы выпали, но на Ней был золотой парик, блестевший гораздо ярче Ее собственных бледно-золотых волос, хотя он был менее изысканного оттенка. И из-за этого яркого парика было особенно заметно, как Она, должно быть, больна. Тени на Ее лице были зеленоватыми, а лишенная обычного блеска кожа казалась грустной. И во всем, что Она сказала, сквозила заметная грусть. Я стал размышлять: раз Она так мало представляет Себе, как меня использовать, не является ли эта перемена попыткой Усермаатра развлечь Ее? Не приставлен ли я к Ней в качестве новой игрушки для Его больной Принцессы? Этот вопрос наложился на все прочие соображения, и я покинул Ее покои с головной болью, которая была хуже ощущений заживо погребенного Бога.
Итак, не могу сказать, что я многим помог себе или кому бы то ни было в тот первый день. Хотя Дворец Маатхорнефруры носил столь очаровательное название — Колонны Белой Богини — и представлял собой оживленное место, когда там бывал Усермаатра (со всеми командирами Его охраны, толпившимися в каждом дворе Дворца), я нашел, что с Его уходом он становился мрачным. Ее ребенок, Принц Пехтира, жил в крыле, окруженном новым высоким деревянным частоколом с заостренными верхушками. Большинство людей из охраны Царицы стояло вокруг этого ограждения. Воины из охраны Маатхорнефруры, приданной Ей Усермаатра, не только ходили вокруг забора, но и по внутренним коридорам Дворца, они находились даже подле няньки в собственном покое Принца. Вскоре я узнал Маатхорнефруру лучше, но почти не видел ребенка: его охраняли очень тщательно. Не улучшила моего первого впечатления от этих Колонн Белой Богини и мысль о том, что подразумеваемой Богиней была Нехбет — Коршун. Хотя Маатхорнефрура вовсе не была похожа ни на одну хищную птицу, тем не менее в воздухе самого Дворца чувствовался неприятный душок. Едва уловимый запах падали поднимался от сада, где землю вокруг Ее растений удобряли, добавляя в перегной мясо животных, что придавало ее саду этот запах гнезда дикой птицы высоко на скале, вокруг которого разбросаны клочья, оставшиеся от нескольких ее жертв.
Разумеется, это был хеттский дворец. Белый снаружи и с множеством колонн, соответствовавших его названию, он не мог выглядеть еще более египетским — за исключением этого отвратительного забора! — но внутри он был хеттским или каким, по моим представлениям, должен был быть дворец хеттки. Маатхорнефрура приказала покрыть стены многих комнат бледно-пурпурной плиткой, привезенной из Тира Не было лучше цвета, чтобы оттенить бледное золото Ее волос (какими они были раньше); но чем больше я смотрел, тем лучше понимал, что Маатхорнефрура старалась украсить Свой Дворец всем самым замечательным, чем славились земли, расположенные между Фивами и Кадешем, словно для того, чтобы все это могло наглядно свидетельствовать о наиболее выгодных основаниях Ее замужества Поэтому мебель Ее была из синайской меди и ливанской древесины, украшенных малахитом, бирюзой и алебастром, привезенными из этих земель. Какими темными были Ее покои, но и какой силы они были исполнены! Бродя по Дворцу — а многие из Ее покоев пустовали на протяжении нескольких часов, — я тосковал по Дворцу Нефертари, где тоже можно было переходить из одного пустого покоя в другой, но все они выходили в крытые внутренние дворики, были облицованы белым камнем и оживлены светом. Теперь же я пребывал в унынии, оттого что мне придется терять часы моей жизни в этом укреплении, столь мало понимая хеттов. Глядя на проходивших мимо личных слуг Царицы, плотных бородатых мужчин, невзирая на жару, продолжавших носить свои шерстяные одежды, я раздумывал о том, какими мрачными людьми они должны быть. Я ничего не знал ни об их Богах, ни об их чувствах, но на закате, в первый же вечер, который я провел внутри этих Колонн, как и на каждом закате, последовавшем за ним, я заметил, что эти хеттские слуги возносили вечеру долгую, заунывную песню и в их голосах слышались стоны страдания. Хекет, вскоре ставшая там моим лучшим другом, смогла сказать мне, что означали эти слова по-египетски, и их смысл был невесел, чтобы не сказать — совершенно ужасен.
То, что представляется хорошим для нас, прискорбно для Них, То, что нам не нравится, Они называют хорошим, Кто может знать Их мысли? Они так же сокрыты, как подземные воды.„Кто эти «они»? — спросил я у Хекет. — Хетты поют о египтянах?"
„О нет, — ответила она. — «Они» — это хеттские Боги". Конечно, сама Хекет была не хетткой, а сирийкой. Тем не менее эти две страны гораздо ближе друг к другу, чем к Египту, и она многое могла рассказать про Маатхорнефруру, и рассказывала. Она говорила со мной с откровенностью тех, кто вместе служил телу Усермаатра-Сетепенра, так что мне не пришлось долго беседовать с Хекет, чтобы узнать многое.
В своем одиночестве я был готов встречаться с ней гораздо чаще, чем в дни моего пребывания в Садах, и вскоре понял, что эта уродливая маленькая царица тоже одинока здесь. Во Дворце у нее не было дома, в котором нужно было поддерживать порядок, ей не приходилось давать советов, выслушивать сплетни или делить с другими маленькими царицами часы посещения пивного дома, но лишь прислуживать Маатхорнефруре. Так что говорили мы часто, и она научила меня лучше понимать хеттов. Как я вскоре узнал, они очень отличались от ассирийцев (я же всегда думал, что они почти одинаковые), но нет, хетты пришли к Кадешу с севера и жили в той стране лишь на протяжении правлений последних четырех или пяти Царей. Тем не менее они многому научились у ассирийцев, стали одеваться, как они, так же, как ливийцы и нубийцы, умевшие подражать египтянам. Только эти хетты, сказала Хекет, были народом более кочевым. Они также учились у выходцев из Митанни [56] и Медеса, вавилонян, и всех прочих, хотя при всем этом более всего походили на ассирийцев.
Я представить себе не мог, что они такие странные. Всякий раз, когда на их долю выпадали долгие годы лишений, они принимали решение очистить свои города от злой судьбы. В установленный для очищения срок женщины не могли бранить своих детей, а хозяева наказывать своих слуг, запрещались любые судебные разбирательства. На пересечении дорог разводили огромные костры из кедра, а по ночам пели молитвы. Они также исправляли все повреждения и причиненные временем разрушения в храмах. Я узнал, что восстановлению святынь придавалось большое значение, поскольку они считали, что прогнившие балки в их старых зданиях свидетельствуют об ослаблении связей между Богами и людьми. Затем Хекет попыталась разъяснить мне свод законов, который хетты заимствовали у Царя по имени Хаммурапи [57], но я не мог поверить в такие установления. Так, Хаммурапи приказал казнить хозяина винной лавки, осмелившегося укрывать осужденного. Были и другие законы, гласившие, что можно сжечь жрицу, если она зайдет в винную лавку. Жену, укравшую что-либо у своего мужа, могли казнить. Однако если она крала что-то у соседей, они имели право лишь отрезать ей нос! Через некоторое время мне стал понятен ход их мыслей. Если жена подралась с мужем и повредила ему одно яичко, ей отрезали один палец, если же он лишался обоих яичек, ей вырывали глаза.
При этом Хекет не смогла сдержать улыбки и показала мне свои зубы. Я понял, что ее развеселила мысль о жене, способной уничтожить яички своего мужа. Я дал ей вина и стал смеяться вместе с ней, но продолжал свои расспросы. Я хотел знать больше о Богах этих хеттов, поскольку, раз уж я вынужден прислуживать одной из них, я подумал, что лучше бы знать Ее повелителей и те беды, что Она может наслать.
Некрасивые женщины, однако, очень умны и понимают, чего от них в действительности хотят, так что, когда я захотел узнать слишком много, Хекет снова засмеялась. Она сказала мне, что я никогда не смогу запомнить Их имена. Слишком это трудно.
„У ассирийцев есть Бог по имени Энлиль, — сказал я ей. — Разве мне не под силу это запомнить?"
„Хетты называют Его Кумарпиш. Еще Его зовут Лукишануш. — Теперь она принялась дразнить меня. У хеттов, сказала она, есть Богиня Ашкашепаш, а рядом с Кадешем, в земле Маатхорнефруры, есть местные Боги с такими именами, как Каттиш-Хапиш, Вализа-лиш и Шуллинкатиш. — Дело не в том, что придется понять, во что они верят, — сказала она. — Ты просто не высидишь достаточно долго, слушая меня. Видишь ли, есть еще и Бог Мазнулаш, и Зентукхиш, Ненниташ и Вашделашшиш". Теперь уже она смело рассмеялась мне прямо в лицо, как маленькая царица. Вероятно, у меня был недовольный вид, так как она решила успокоить меня, сказав, что у хеттов столько молитв и заговоров, что изучение их всех едва ли стоит труда. Кроме того, прошептала она, у нее нет уверенности, что их Боги так же хорошо помогают им, как нам — египетские. Среди хеттов часто случаются повальные болезни. Да и найдется ли среди них хоть одна счастливая семья? Большую часть года там влажно, и под каждой крышей живут злые духи. Хетты просто не такие жизнерадостные, как египтяне. Честно говоря, из-за их мрачного нрава у них выросли длинные носы. Зимой на кончиках этих носов висит обычно водяная капелька. Разумеется, у них немало причин сокрушаться. В конце концов, они ведь верят, что Боги желают, чтобы люди были их рабами. А несчастья подстерегают их повсюду. Собственно, их Высшее Божество, этот Энлиль, почитаемый хеттами таким же великим, как Амон египтянами, носит имя Повелителя Бури.
Если я и хмурился, слушая ее, то не потому, что считал их не в праве давать своим Богам такие странные имена, как Вашделашшиш — хотя такого права они не имели! — но по той простой причине, что чем больше я узнавал о хеттах, тем меньше понимал, что же мне думать о Маатхорнефруре, такой хрупкой и бледной красавице, такой утонченной госпоже, по крайней мере какой я Ее знал. И вот я спросил Хекет о нашей Принцессе — я еще не был готов назвать Ее нашей Царицей — есть ли этот мрак и в Ее душе, но Хекет сказала лишь: „У этих хеттов в душе живут два человека. Ты можешь считать Ее глупенькой юной женщиной с красивыми волосами, но, — продолжала Хекет, — Она много думает, и Ее пугает многое такое, чего ты даже не замечаешь".
„Расскажи мне хотя бы об одном из Ее страхов".
У Хекет были свои чары. Она умела дать понять, что, если ты почувствуешь к ней расположение, она не утаит от тебя истинного состояния интересующего тебя дела. „Когда Она смотрит на Большие Ворота храма, то видит их не так, как ты. Для Нее эти двери вроде Бога. Когда они открыты, Ей видится Божественный рот".
Я подумал о том, что в воздухе внутри храма пребывают духи, отличные от тех, что наполняют воздух снаружи. Возможно, со временем я сумею понять Маатхорнефруру.
„Конечно, Она не очень похожа на других хеттов, — добавила Хекет. — Временами Ее дух легок, как воздушная ткань. Мне кажется, родители зачали Ее в росе. Знаешь ли ты, что Ее лунная-кровь проходит так же быстро, как исчезает роса?"
Я решил, что Хекет мало что знает о Маатхорнефруре. Что могла знать уродливая женщина о красоте молодой Царицы? Еще раз мне пришлось задуматься, как и всем в Садах Уединенных, о том, отчего раз в году Усермаатра любил Хекет, и мне вновь вспомнились сплетни евнухов. После такой ночи неизменно случалось нашествие змей и жаб, словно волна прокатывалась по Садам. Наутро на земле оставалась слизь, и все вспоминали восемь безобразных Богов, пребывавших в первой слизи: Нут и Наунет, Куки Каукет, Хух и Хаухет, Амон и Амаунет. Всех тех в Начале, исполненном ветра, тьмы, беспредельности и смятения, задолго до токц как появились Нут и Геб, Осирис и Исида. Тогда в мире не было ничего, кроме слепых лягушек и змей, влажной грязи и огромных морей. Наверное, Боги этой Хекет явились оттуда — иначе отчего она так безобразна?
И все равно теперь она мне нравилась больше, чем раньше, и хотя ее лицо было не приятнее, чем у больной жабы, но, говоря о дверях, надо заметить, что глаза ее были двумя такими дверьми, и в них можно было увидеть много садов. Ее глаза сияли всей той преданностью, на которую она была готова, если ее сперва по достоинству оценят. Можете быть уверены, что я всячески показывал, как ценю ее Мое смятение оттого, что меня перевели в этот хеттский Дворец посреди Фив, было столь велико, что я искал хоть какого-то понимания, как человек в пустыне не смог бы думать ни о чем, кроме поисков воды.
С Хекет мы вели такие содержательные разговоры, что наконец она рассказала мне один секрет, который я мог отнести своей первой Царице. Состоял он в том, что Маатхорнефрура ничуть не сомневалась, что Ее болезнь пришла от Нефертари. В первое утро, когда Она заболела, на Ее шее обнаружили две маленькие ранки. Когда я предположил, что причиной их появления могло быть ожерелье, Хекет пожала плечами. „Или кобра, — сказала она. Затем, наклонившись вперед, она стиснула мое колено. — Мой друг, — продолжала она, — может быть, Маатхерут говорит с Богами, но есть такие хетты, которые вызывают мертвых".
„И Маатхорнефрура — одна их них?"
Она не стала отвечать. Казалось, она не слышала вопроса. „Если Медовый-Шарик такая мудрая, — сказала Хекет, — она больше не станет насылать никаких чар".
Именно тогда у меня возникла догадка — почему я оказался во Дворце Колонн Белой Богини. Не случилось ли это по предложению Хекет? Я знал, что не говорил ей, как мало мог общаться в эти дни с Медовым-Шариком. Пусть все в этом месте продолжают верить в нашу близость друг другу»
ПЯТЬ
«Поздно ночью того же дня, после моего последнего разговора с Хекет, я пошел повидаться с Нефертари. Благодаря моему знанию привычек Ее охраны мне удалось пройти в Ее спальный покой, и у меня даже была мысль проскользнуть к Ней в постель. Однако об этом нечего было и думать. Она еще не спала и настроена была совсем не дружелюбно. „От тебя несет хеттами", — сказала Она.
Несмотря на жестокость, мне было приятно Ее замечание, так как я надеялся, что оно вызвано чувством потери, которую Она переживает из-за того, что меня нет рядом.
Я не пробыл там долго. Видя Ее равнодушие, я не хотел находиться рядом с Ней. Мое желание было так велико и могло вновь так очевидно обнаружить себя, что я не должен был позволить себе ни одной ласки с этой Царицей, раз мою кровь не переполняла мысль о Ней. Я лишь пересказал то, что услыхал от Хекет. Выслушав меня, Она нахмурилась.
„Меня больше не волнует Маатхорнефрура, — сказала Она. — Она — пустая женщина. Ты можешь наблюдать за Ней годами и не обнаружить ничего, что можно принести Мне". — Она легонько ущипнула меня за щеку, как старого и доверенного слугу, не более.
Возможно, в выражении моего лица была незаметная мне самому напряженность, заставившая Ее смягчиться. „Ты очень дорог Мне, — сказала Она, — но теперь Я не могу отвлекаться на это. Празднество Божественной Победы слишком близко. Готовясь к такому событию, не думают ни о мужьях, ни о любовниках, но о том, что надеть. — Она улыбнулась. — Передай Хекет, что ее подруге придется опасаться не Медового-Шарика, а Меня".
Я ушел оглушенный таким приемом, но у меня было время подумать, и, перейдя на другую сторону Ока Маат, я понял, что в эти дни приготовлений к празднованию Его Божественной Победы ничто не могло сравниться с болью Нефертари из-за Ее собственного положения. И со вздохом самого разнесчастного любовника успокоился на этой мысли. Ни один ночной разговор не проходит без откровения, пусть даже правда эта горька. Моя же состояла в том, что в эти дни Нефертари будет думать лишь об Усермаатра. Мне следовало набраться терпения, чтобы ждать. И все же я ощущал нарастающее во мне грубое ожесточение оттого, что влечение Нефертари ко мне так невелико, что Она способна легко сдерживать Себя.
Тем не менее к утру мое смятение поубавилось. Я понял наконец, что мне предстоит пробыть в этих Колоннах недели, если не грядущие годы, и мучительное беспокойство улеглось. Я теперь не только смирился с мыслью, что придется жить без Нефертари, но также твердо решил (поклявшись себе утром, сразу же, как проснулся), что буду обладать Ею вновь — независимо от того, придется ли ждать этого дни или месяцы. И вот наконец я снова мог свободно дышать, и смотреть по сторонам, и даже получать удовольствие от разговоров с Хекет. И тогда я стал ощущать присутствие Маатхорнефруры во многих уголках Ее Дворца и впервые начал понимать некоторые из Ее привычек. Даже притом что я мог не видеть Ее день-другой или несколько дней кряду, Она тем не менее казалась теперь гораздо ближе ко мне и заставляла меня размышлять о Своих способах общения. В Колоннах Белой Богини каждый умевший читать слуга непременно получал от Нее в день хотя бы по одному посланию: на Ее языке — для слуг-хеттов или написанное нашими египетскими знаками для всех прочих. В этих посланиях обычно говорилось не более чем: „Чтобы уберечь Пехтира от колик, дайте ему желтой травы из юго-восточного угла Моего тенистого сада", „Проверьте всех служанок — нет ли у них вшей" или „Обязательно спой под Моим окном — Я обожаю твой голос". (Это последнее получил мой садовник — и оно порядком напугало его!) Были даже и такие: „Вскоре ты Мне понадобишься!" — они приходили ко мне ежедневно. То, что Она сумела изучить наши священные знаки, произвело на меня большое впечатление и было приятно, что Она выбирала наилучший папирус, который затем сворачивала и запечатывала воском.
Ее печати, как я вскоре понял, представляли собой отличительную особенность общения между хеттами. У Маатхорнефруры, как мне сообщила Хекет, было немало печатей, и все они были сделаны из камня — маленькие и круглые, не длиннее и не толще обычного пальца, но по картинке-оттиску на воске я мог судить о редком искусстве резьбы. Не знаю, как художникам удавалось вырезать такие прекрасные сцены из жизни Богов и Царей на бирюзе и серпентине, яшме, агате и халцедоне. Я стал думать об этой белокурой Принцессе, представляя, как Она сидит одна в своем покое и пишет на папирусе, а потом выбирает нужную печать. Каждый раз, ломая воск на Ее послании, я испытывал такое чувство, словно крошечные хеттские Боги, подобно тучам мошкары, мгновенно собираются вокруг меня.
И вот однажды я получил Ее послание, в котором говорилось:.Посети меня этим утром". Я пришел, и мы проговорили в Ее саду целый час, а на следующий день — еще дольше. Я обнаружил, что, при всей Ее внешней утонченности, Она — весьма практичная женщина, которая любит посплетничать. Если сначала я считал, что Она жаждет заполучить меня, поскольку я был столь близким слугой Другой Царицы, то теперь мне стало казаться, что Она более интересуется теми днями, которые я провел в качестве Управляющего Дома Уединенных. Она никогда не говорила о Нефертари, но хотела услышать все, что я мог рассказать Ей о Садах. В особенности — о живущих там детях Усермаатра, а также о тех маленьких царицах, которым Он отдавал предпочтение. Все это Она слышала от Хекет, но желала, чтобы я рассказал снова. И когда однажды я со смехом пожаловался: „Ты все это уже знаешь", Она ответила с горячностью — или так это прозвучало из-за Ее необычного произношения: „У нас, хеттов, есть пословица: Узнай одним глазом, узнай другим. После этого взгляни обоими глазами".
Полной уверенности у меня не было, но вскоре я стал подозревать, что Ее любовь к сплетням имела свои определенные цели. Она хотела узнать, у кого из детей в Садах (если таковой имеется) есть шанс взойти на Трон. Вскоре мы еще более сблизились, поскольку одно из удовольствий пребывания в Ее обществе состояло в том, что с Ней никогда не надо было говорить как с Царицей, но как с Принцессой. Временами, безусловно, Принцессой избалованной, однако нуждавшейся в близком друге настолько, чтобы не важничать. В сущности, общение с Ней не очень отличалось от наших разговоров с Хекет. Именно во время одной из таких бесед я поддразнил Ее, сказав: „Тебе только и нужно, чтобы Пехтира стал Фараоном". У Нее блеснули глаза.
„Ты не можешь войти в мысли чужеземца, — сказала Она. — Ты никогда не узнаешь, говорю ли Я правду".
„Да, войти я не могу", — ответил я. И так оно и было. Ее милое лицо с его мелкими чертами было непроницаемо.
„Мне мешает Мой парик, — сказала Она. — Ты не возражаешь, если Я его сниму?"
И, когда я поклонился, Она сняла его. Ее несчастная голова была лысой, за исключением нескольких светлых волосков на черепе, напоминавших младенческий пух. Но я знал, зачем Она его сняла. Без него Она была еще прекраснее и выглядела очень необычно. Хрупкая Богиня. Возможно, Она хотела, чтобы я сообщил Нефертари, что теперь Усермаатра может находить Ее еще более очаровательной, чем раньше? Да, подобно всем, кто сплетничает, Себя Она не обходила молчанием.
„В Египте, если ты — Царица, — сказала Она мне однажды, — то ты также и Богиня. Так?"
„Фараон — Бог, — ответил я, — а Его Супруга — Богиня".
„Не понимаю почему. Мой отец, Хаттусил Третий, — не Бог. Он просто Царь, можешь мне поверить. Энлиль не разговаривает с ним как с Богом. Энлиль говорит ему, что надлежит сделать. А затем он это делает. Я не Богиня, но просто женщина. Что ты об этом думаешь?"
„О, я не знаю, — ответил я Ей. — Об этом Тебе надо поговорить с Усермаатра".
„Он не желает об этом говорить. Он хочет меня. — Она хихикнула. — Мне кажется, Я — единственная женщина в мире, которая может сказать Ему: «Нет, Я не хочу». Забавно, правда?" — Она говорила, склонив голову набок, как будто Ее мужем был ручной крокодил и Она не представляла, что с ним делать.
Я же думал о том, что кем бы Она ни была — женщиной или Богиней, но несколько чудес в Своей жизни Она точно сотворила. Я вспомнил, что, когда Она прибыла в Египет в качестве дара Царя Хаттусила Третьего, Усермаатра был настолько груб, что поместил Ее в гарем в Фаюме, где Он держал маленьких цариц, мечтавших быть приглашенными в Сады Уединенных. И все же Маатхорнефруру привезли обратно в Фивы в качестве Третьей Великой Супруги Усермаатра. Из чего я и все остальные заключили, что Она сотворила с Его телом такие чудеса, которые не были открыты ни одной другой женщине.
Несмотря на это, Она совершенно очевидно не вела Себя соответствующим образом. Будучи с Нею наедине, я никогда не думал о себе как о мужчине, а о Ней — как о женщине. Мы были друзьями. Мы жили, чтобы сплетничать друг с другом. Однажды, когда я упомянул Фаюм, Она сказала мне: „Там Я ни разу ничего Ему не позволила. Я сказала: «Я не дам Тебе взять Меня за руку. Мой отец прислал Тебе Меня как Царицу. И Я не разрешу Тебе дотронуться до Меня в этом грязном месте»".
„И что Он на это ответил?"
„Он сказал, что бросит Меня в огонь. Тогда Я сказала: «Прошу Тебя, сделай это. В Тебе нет почтения ни к Моему отцу, ни ко Мне. Для Меня будет лучше умереть». — Она хихикнула. — По правде говоря, Я надеялась, что Он отправит Меня обратно в Кадеш. А Он Вместо этого привез Меня сюда. Кто мог такое ожидать?"
„Нет, — сказал я, — это неправда. Хекет говорила мне, что Ты обожаешь Его".
„Это предстоит выяснить тебе самому", — сказала Она.
„Не получится, — ответил я. — Я не могу войти в Твои мысли".
„Не можешь до того дня, когда ты это сделаешь", — сказала Она.
Когда приезжал Усермаатра, что обычно случалось в конце дня, Она принимала Его в Своей спальне, где пурпурные и бледнолиловые тона шелка хорошо сочетались с пурпуром Ее стен, и я часто вспоминал шелковые простыни, на которых я однажды любил тайную наложницу Царя Кадеша. Я еще не знал, каких удовольствий искал с Ней Усермаатра, а также как часто Она посещала Его Дом Поклонения (где я впервые увидел Ее, когда Он передал мне Золотую Вазу), хотя и начинал уже сомневаться в том, что Она проводит с Ним так много ночей, как я думал раньше. Когда Он навещал Ее, Он часто приглашал Хекет и меня посидеть с Ними, хотя разговаривал с Ней так, будто Они были одни.
Я знал тщеславие моего Славного и Великого Бога — я видел стольких из Его Четырнадцати Ка, что мог ходить вокруг Него, как вокруг статуи. И все же теперь я узрел еще одно Его лицо. Он очень радовался сообразительности Маатхорнефруры (и Своей собственной), и, думается, Ему не хотелось, чтобы Их слова стали достоянием лишь близких Ему Богов. Он горячо желал, чтобы я и Хекет присутствовали как свидетели. Он развлекался тем, как Она притворяется безыскусной. Даже то, как Она могла бранить Его, доставляло Ему удовольствие. Каким новым для Него развлечением могло стать то, что Ему сделали бы выговор при нас. Он походил на огромного жеребца, который радостно ржет, когда новый искуснейший наездник ловко играет вожжами.
„Ты мог бы улучшить Царское Хранилище рукописей", — сказала Она Ему в один из дней, и когда Он хмыкнул и ответил наконец: „Нигде нет собрания рукописей равного Моему", Она добавила: „Тем более его стоит улучшить!" На что Он захохотал и сказал: „Ах ты несчастная лысая крошка, — наедине с Ним Она не надевала парик, в этом не было нужды, Его глаза наслаждались видом Ее лица, — Ты, птица без перьев, как же Ты думаешь улучшить Мое Хранилище?"
„В Моей стране, — сказала Она, — Мой отец знает обычаи странствующих торговцев, многие из которых возят с собой папирус или книгу на табличках. Они хотят узнать что-то новое за время долгого путешествия. Благочестивые держат при себе молитвы, чтобы читать их каждый вечер. В Кадеше Мой отец приказал всем таким заезжим купцам оставлять свои записи в нашем Царском Хранилище рукописей на время, достаточное для того, чтобы их переписать".
„Мне бы не понравился такой обычай, — сказал Усермаатра. — Он может вызвать в воздухе слишком большое беспокойство. Все эти чужие письмена, которые переписывают одновременно. Предпочитаю историю, которую Я уже слышал, правда, Хекет?"
„Да, Божественные-Два-Дома", — сказала Хекет. „Вроде той, которую ты мне рассказала о безобразной женщине, муж которой никогда не болел. Мени, ты помнишь ее?" „Да".
„Как ты думаешь, Хекет смогла бы стать тебе такой же хорошей женой?"
„Славный и Великий Бог, я никогда не задавал себе такого вопроса". Но теперь я его задал. Возможно, это месть? Я больше не понимал моего Усермаатра. Теперь Он не стал бы убивать тебя за ничтожный проступок. Скорее Он предпочел бы наслаждаться твоими страданиями. Как радостно Он мог бы смеяться, если бы я женился на Хекет. И все же я не знал Его мыслей и страстно желал вновь обрести ту мудрость, что была у меня, когда я находился подле Медо-вого-Шарика.
Но Ему уже наскучил этот разговор. И Он сказал Маатхорнефруре: „Поговори со Мной на шумерском". Он очень гордился Ее знанием такого языка, который, как объяснила мне Хекет, изучали лишь хеттские девушки из лучших семейств (желавшие сравняться с вавилонянами и ассирийцами). На нем уже никто не говорил, но среди хеттов считалось признаком большой образованности быть знакомым со столь старым языком веры и учености. „Вы знаете, — сказал Он, — ведь Она может много чего сказать на шумерском".
„О, сегодня Я не в настроении", — сказала Она.
„Расскажи нам про евнухов", — настаивал Он.
Она играла со Своей кошкой, прекрасным серебристо-серым животным с высоким и изгибающимся, как пальмовая ветвь, хвостом, и теперь Она пропустила этот хвост между Своими указательным и большим пальцами. „Мермер, — спросила Она кошку, — ты хочешь послушать о шумерских евнухах? — И когда Мермер выгнула спину, Маатнефрура улыбнулась: — Она говорит «да», и Я расскажу Тебе, но, если бы Мермер сказала «нет», Ты бы не услышал и слова. — Теперь Маатхорнефрура потянулась, как кошка. — Когда Я еще училась в школе в Своем дворце, то вместе со своими подружками много натерпелась из-за языка шумеров. Он такой трудный. Мы даже плакали. Но в нашей Библиотеке мы нашли книгу со всеми запрещенными словами. Как же девочки и Я смеялись над теми выражениями. Знаете ли вы, что в шумерском евнухов обозначают тремя словами? Да, — сказала Она, — кургурру, гирбадэра и сагурсаг. Первое значит «евнух, потерявший свой мешочек», второе — «потерявший палец между ног, но сохранивший мешочек». То есть он еще мужчина. Третье слово — для обозначения настоящего евнуха, у которого нет вообще ничего. О, мы часто хихикали над этими словами. Дело в том, что первая разновидность — кургурру — это любители сплетен, кислые, как уксус; вторые — из-за того, что сохранили свои мешочки, — бесстрашные воины, а последние, у которых ничего нет, — настоящие евнухи, мирные, как скотина".
„Мне нравится эта история, — сказал Он. — Расскажи Мне еще одну".
„Нет, Ты ненасытен, — сказала Она. — Ты не Фараон Рамсес, Ты Царь Саргон [58]".
„Расскажи Мне о Саргоне", — сказал Он.
Перед тем как решиться говорить, Она справилась у хвоста Мермер. „Саргон, — начала Маатхорнефрура, — был великим Царем шумеров и правил пятьдесят шесть лет. Он завоевал все земли. Ты — Мой Саргон".
„Слышали? — спросил Усермаатра. — Пятьдесят шесть лет".
„Ты — Мой Саргон и Мой Хаммурапи", — сказала Она.
„Почему Я — Твой Хаммурапи?"
„Потому, что Ты столь жесток и столь справедлив".
На Его лице отразилось острое удовольствие. Ему нравились звуки имени Хаммурапи. Входя в Его ухо, они наполняли Его жизнью.
По знаку Хекет я встал, и мы покинули Их покой, но, казалось, нас держали на длинной привязи, так как мы не дошли даже до конца соседнего покоя, как я ощутил, что сила Его воли приказывает нам ждать. Хоть мы не имели возможности присутствовать при том, что Они делали, но должны были все слышать.
„Хаммурапи, — сказала Она, когда Они остались таким образом одни, — отчего у ваших египетских женщин так много мужей?"
Он рассмеялся: „Ты неверно понимаешь. У них по одному мужу и много любовников".
„Тогда Я — не очень египтянка, — сказала Она. — У Меня один муж и нет любовников".
„Ты, — сказал Он и рассмеялся таким счастливым смехом, какого я в Его голосе никогда не слыхал, — Ты — не очень египтянка".
„Это верно, — сказала Она. — Мне говорили в Кадеше, что из всех народов египетские жены были первыми, кто занялся прелюбодеянием".
„Хоть один раз они в Кадеше знали, что говорят", — сказал Он. „Говорят также, — продолжала Она, — что именно Ты сделал всех этих жен такими неверными".
Его смех был подобен реву. Никогда я не слыхал, чтобы Он смеялся так громко. „Ты ревнуешь?"
„Нет, Мне приятно, что Я Тебе нравлюсь. Иди сюда, Мермер, — и я услышал, как Она ласкает кошку. — Тебе когда-нибудь бывает страшно, что Ты можешь причинить вред всему Египту, внушая женщинам столь устрашающие желания?"
„О нет, — ответил Он, — египтянки всегда были такими".
Теперь Он рассказал Ей историю о слепом Фараоне, попросившем Богов восстановить Его зрение. Это несложно, отвечали Они. Как только среди своих подданных Он найдет одну преданную жену, зрение вернется к Нему. „Что ж, — сказал Усермаатра, — тому Фараону не удалось найти жену, которая помогла бы Ему вылечиться. — Теперь я услышал Его вздох. — Ты всегда будешь верна Мне?" — спросил Он.
„Всегда, — ответила Она. — Но не оттого, что Я так сильно Тебя люблю, а просто потому, что Я не считаю Себя Богиней. Египтянки верят, что они Богини. Поэтому, разумеется, они не могут оставаться верными одному мужчине. Но Я-то знаю правду".
Сидя в соседней комнате рядом с Хекет (и чувствуя настоящую неловкость от того, как непринужденно она подвинулась ко мне), я ожидал в темноте этих облицованных пурпурной плиткой стен, слушая кошачьи крики в покое Маатхорнефруры. Этого благородного, маленького, очень сдержанного животного с такой гладкой шерсткой, что, казалось, касаешься самой нежной части собственного тела. Однако теперь Мермер яростно мяукала, словно телу ее хозяйки причиняли неудобства. Но все, что я мог слышать, — это хихиканье Маатхорнефруры и шорохи от нескончаемой щекотки и прикосновений.
Насколько я мог судить, а Они издавали множество негромких звуков, смотреть там было особо не на что. У меня было такое впечатление, что Усермаатра поглощен тем, что держит Ее за руку, и, когда мое любопытство стало таким острым, словно зубы вцепились в мои жизненные органы (ибо я представлял Их себе так отчетливо!), я наконец встал и украдкой заглянул в Их покой. Они пребывали именно в том положении, какое я видел в своих мыслях: бок о бок, и Ее царственные пальцы были в Его руке. Но я не ожидал увидеть судорогу страсти на Ее лице, быструю и болезненную. Я услышал, как Он бормочет: „Я — Могучий Бык, Возлюбленный Маат, Я — Его Величество Хор, Сильный Правдой и Избранник Ра".
Она издала нежный, но очень необычный звук — не стон и не всхлип, а некий протест Ее собственной плоти против испытываемого удовольствия, похожий на скрип дверной петли, и Она произнесла: „Да, — и сжала Его руку, и сказала: — Продолжай говорить со Мной". И Он проговорил низким голосом, ясным, как дрожание земли: „Я есть Трон Двух Земель. Моя сила известна во всех пределах. При звуке Моего имени из гор выступает золото".
Если бы я даже не видел содроганий Ее тела, то знал бы по негромким быстрым вскрикам, что Она исходит — на том самом месте, полностью одетая, сидя рядом с Ним, — и лишь Их пальцы переплетены. В тот же миг я ощутил властное воздействие сокровенной силы Их чувств, и мне пришлось сесть обратно рядом с Хекет, и эта принцесса, исполнившись страсти, была готова с радостью отдать мне все, что могла предложить.
Медовый-Шарик научила мое тело, как пользоваться болотом (откуда я и узнал, что самые пьянящие ласки, подобно духам, рождаются из худшей гнили), и я познал эту половину любви, точнее говоря, ее низменную половину, но Медовый-Шарик могла также предложить изобильную щедрость плоти, тогда как Хекет, по этим болотным меркам, представлялась даже не животным, но (из-за ее благословенных глаз) ящерицей или змеей. Теперь я понял, отчего Усермаатра посещал ее раз в году. Ибо я ощутил внутри себя всех восьмерых отцов и матерей слизи и волнение всего, что движется в темной земле под самыми черными из вод. Я содрогался рядом с Хекет, борясь с искушением насладиться каждым злым духом, которым она могла повелевать, будто этим я немедленно и навсегда свяжу себя с ней брачными узами (и не только из-за отсутствия собственной воли, но скорее из-за того, что теперь ей была подвластна часть силы Усермаатра). Тогда я встал, ощутив — не спрашивайте меня как, — что если не уйду от Хекет, то Нефертари будет потеряна для меня навсегда. Это движение дорого обошлось мне. Мои чресла познали такой поворот подземных ключей, что я почувствовал себя выпотрошенным — так резко я погасил эти внезапные огни, нет, лучше сказать — от моей нижней части остался лишь дым.
И в этот момент я услышал, что Усермаатра издает необычные звуки, не то чтобы Он, поперхнувшись, судорожно глотал воздух, но в Его голосе слышалось крайнее напряжение. Такие придушенные стоны более всего напоминали хрип быка, шею которого сдавила веревка! Я снова осмелился заглянуть в дверь, и что же — перед моими глазами был Он, мой Царь, и Его голова была между Ее ног. Никогда не видел я рот Усермаатра на женщине, в пылу каких бы то ни было развлечений с любым числом маленьких цариц, нет, и зрелище это поразило меня, подобно ударившему в глаза потоку яркого света. Он пировал, как дикий кабан, пожирающий особо вкусный корень во влажном лесу. И всего-то — Ее маленькое светлое гнездышко. Он с рычанием извергся, выкрикнув что-то о сердце хеттов, о солнечном свете на морской глади — нечто бессвязное! Я едва разобрал Его слова, пораженный тем, что Она оставалась спокойной. Да, разумеется, как только Он закончил, Она снова взяла Его руку и заговорила о Его царских пальцах и о том, что надеется, они не устали.
Я отошел от двери и сел, уязвленный горестными мыслями, в то время как Хекет на другом конце покоя осталась предоставленной кипению своих страстей. Я же был вынужден слушать ясный голос Маатхорнефруры, которая говорила Ему, что обожает Его пальцы, когда Они касаются Ее руки. Она сказала это. Она даже сказала: Я люблю Твою руку!" И конечно же, я подумал: „Именно так Египет входит в Нее!", но в своем сердце стал меньше надсмехаться над Ней, вспомнив то дивное чувство, которое испытал я, когда рука Усермаатра схватила мою, и как много она сказала мне о Его радостях.
Однако нельзя было ничего узнать о Маатхорнефруре, забыв, что Она — самая практичная женщина на свете. Они еще не закончили обмениваться признаниями, еще не умолкли Их вздохи и не угасло Их временное удовлетворение, как Она уже начала задавать Ему такие вопросы, которые вызвали во мне крайнюю неловкость. Никто из тех, кого я знал в Двух Землях, никогда не стал бы расспрашивать Фараона о подобных вещах, но Она вела себя столь же целеустремленно, сколь серебристым был весь Ее облик — вот, нашел! Я понял, что Она мне напоминает: ни много ни мало — те серебряные таблички, на которых Хаттусил Третий начертал свой самый разумный на свете мирный договор.
Теперь Она хотела узнать, как Он, Ее муж, Ее могущественный муж, стал Фараоном. Оттого ли, что Он был старшим сыном, спросила Она. Насколько Ей известно, здесь нет такого обычая, сказала Она, и никто из Ее приближенных не мог Ей ничего объяснить. „Нет, ты ошибаешься, и Я могу Тебе это объяснить, — сказал Он. — Все произошло не так, но путем женитьбы на Его наполовину сестре, ибо Нефертари по Ее материнской линии принадлежит к самой царской семье".
„У Тебя есть от Нее дочь?"
„Нет, но у Меня есть Бинтанат, дочь от Истнофрет, благородство происхождения которой тоже дает такое право. Разумеется, Она простовата, глупа и проводит время в обществе жрецов. Бинтанат никогда не сможет стать настоящей Царицей".
„Но ведь сын Нефертари сможет стать Фараоном, если Он женится на Бинтанат?"
„Думаю, да. Это дело весьма отдаленного будущего. Прекрати этот разговор".
„Но Я хочу, чтобы Пехтира был в безопасности. Я хочу, чтобы Ты Его защитил".
„Ты хочешь помолвить Его с Бинтанат? Она же одного с Тобой возраста".
„Это не важно. Я хочу, чтобы Ты защитил Нашего сына. Боги создали Нашего сына в Моем чреве".
„Какие Боги?" — спросил Усермаатра.
„Какие Боги?" — повторила Она.
„Ты не можешь Их назвать, — сказал Он. — Ты не знаешь египетских Богов".
„Все Мои Боги — Твои", — упрямо ответила Она.
„Расскажи Мне о Них".
„Я не хочу знать Их тайн".
„Ты не знаешь тайн даже Своих собственных Богов".
Я чувствовал Его мысли. Их тяжесть легла на мой лоб. Страх перед великими и ужасными опасностями вновь начал оживать в Усермаатра. Его страх был тяжел, как золото, и полон величия. Не знаю, возможно, из-за Хекет, но я услыхал Его следующие мысли. Да так отчетливо, что мог бы поклясться, что Он их произнес вслух, хоть Он этого не сделал: „Чем дольше Я буду оставаться с Маатхорнефрурой, — сказал Он Себе, — тем больше отдалюсь от Своего Царства".
Вероятно, Она услыхала эхо этих мыслей, так как сказала: „Тебе не нужно, чтобы Я была близка к Твоим Богам. Если Ты будешь спать в Храме, Твои сны будут удерживать Их поблизости. Так поступает Мой отец".
Усермаатра фыркнул в ответ. Его страх поднимался из глубин Его существа, подобно волнообразным всплескам в болоте, когда рядом проплывает лодка. Я не удивился и тому, куда завели Его эти размышления. Он стал думать об обветшании гробниц давно умерших Фараонов. Его глазами я увидел разбитые стены Храма Хатшепсут в Западных Фивах. Он вздохнул. „Осирис — единственный
Бог древности, — сказал Он, — Которому поклоняются повсеместно. Ни один жрец не допустит разрушения Его храмов. Все это потому, что у Него была мудрая жена, знавшая Богов. Исида была Престолом для Созидателя-Престолов и стала мудрой женой".
Я почувствовал, как Он скорбит о том, что нарушилась близость между Ним и Нефертари. Мне было понятно Его несчастье, когда Он встал с кровати Маатхорнефруры. Она пребывала в полном неведении обо всем, что Ему требуется. Я услышал, как Он говорит Себе: „Она говорит Мне, что Она не Богиня, и это правда. Она и ведет Себя иначе, чем Богиня". Он вышел, не сказав ничего более.
Но если я и подумал, что Он устал от Маатхорнефруры, то очень скоро понял свою ошибку. Когда Он проходил мимо меня по наружному покою, Он сделал мне знак следовать за Ним, и мы вместе обошли Око Маат. Теперь Он горячо желал, чтобы Его старый колесничий рассказал Его хеттской красавице о египетских Богах.
Каждый раз, когда я пытался сказать, что не представляю, что мне придется объяснять, Он не желал меня слушать. „Ты знаешь Богов так же, как знаю Их Я, — сказал Он. — Меня это вполне устраивает. Соответственно, этого будет достаточно и для Нее. Я не хочу, чтобы жрецы наговорили Ей столько, что Она вообразит, что знает больше Меня. — Он вздохнул. — Ты сделаешь это, — сказал Он, — и однажды Я удивлю тебя подарком, которого ты не ожидаешь"».
ШЕСТЬ
«Прошло совсем немного времени, и я оказался в крайне затруднительном положении. После того как мы дважды обошли Око Маат, Усермаатра вернулся в покой Маатхорнефруры сказать Ей, что наставления должны начаться немедленно, поскольку до Божественного Торжества осталось всего несколько дней. Затем Он ушел. Она спросила о папирусах, с изучения которых Ей следовало приступить к занятиям, на что я мог лишь ответить, что лучшие свитки хранятся в Храме Амона.
„Доставь их сейчас", — сказала Она, но я воспользовался моментом, чтобы объяснить Ей, что лучше всего начать занятия утром. Поскольку тогда мы смогли бы посетить Храм. Мы пойдем туда переодетыми. От радости Она, как ребенок, захлопала в ладоши.
На следующий день, одетые как торговцы из Восточной пустыни — Ее лицо прикрывала свободная шерстяная накидка, — мы вышли из ворот Колонн Белой Богини, предназначенных для слуг, прошли по разным дворцовым угодьям — мимо пруда, дорожек, обсаженных деревьями, сада, через ворота в последней стене, прошли всю длинную улицу, обошли стены, окружавшие земли Храма, прошли по примыкавшей к ним деревне с улочками и хижинами, где жили обслуживавшие жрецов работники со своими семьями и где они держали орудия своего труда, и вышли наконец на улицу Писцов, которая заканчивалась у площадки и часовни, рядом с которыми были храмовые мастерские и многочисленные учебные помещения. Повсюду трудились служители Храма. Можно было посмотреть на молодых художников, которые учились искусству храмовой росписи по белой стене, на соседней стене другие ученики рисовали поверх того, что было написано в предыдущий день, таким образом, на следующий день они могли начать какие-то другие работы. Мы прошли мимо Главного Писца, бранившего начинающего резчика, который только что вырезал имя в картуше, но допустил ужасную ошибку, которую смог заметить даже я. В изображенном им Глазе Хора спираль была закручена в неверном направлении. В следующем проулке музыканты разучивали мелодии для обрядовых песнопений, а ученики одной школы писцов стояли перед надписью на храмовой стене, стремясь скопировать ее как можно быстрее, да, они состязались, и когда кто-то заканчивал первым, из груди проигравших вырывался стон разочарования. Мы прошли другими дворами, с расположенными в них большими помещениями, сквозь открытые двери которых не было видно ничего, кроме белых одежд молодых жрецов, слушавших рассуждения своих наставников.
Наконец я привел Ее на верхнюю площадку Западной Башни, откуда открывался прекрасный вид на лодки, привязанные к причалам, по четыре или пять в ряд, множество других лодок, больше, чем я когда-либо видел, двигались вверх и вниз по реке.
Четыре угла нашей башни венчали четыре деревянные мачты, покрытые тонким золотым листом, флаги на них едва развевались на легком ветру этого ясного утра, а перед нашими глазами, подобно лучам света, расходились многочисленные улицы, украшенные рядами баранов-сфинксов. Вдали виднелись фиванские каналы, уходящие к портовым сооружениям, а под нами уступами простиралась крыша Храма Великого Амона. Повсюду были видны рабочие, которые скребли облицовочные плиты памятников и плиты внутренних крытых дворов Фив, а с рынков доносились звуки музыки. Какие оживленные приготовления к Празднеству Празднеств шли кругом.
„Как красиво, — сказала Она, — и какое редкое для Меня зрелище. Я никогда не видела самого города Фивы". Ее глазами я увидел и другую красоту: золото многочисленных пирамидальных обелисков на землях Храма собрало на себе жар солнца и теперь сияло подобно золотым листьям на пыльном зеленом дереве. Небо над нами казалось огромнее всех Богов, что могли бы населять его. „Пойдем, — сказала Она, — и посмотрим на занятия в Храме Амона".
„Это займет много времени, — ответил я. — Даже Первый Жрец должен семь раз омыть свои руки, прежде чем сможет прикоснуться к священному папирусу". Но, когда Она стала настаивать, я был вынужден объяснить Ей, что жрецы ни за что не позволят нам, одетым чужеземными торговцами, даже вступить в священные помещения, а открыть им, кто Она такая, — значит вызвать чрезвычайно вредные слухи и разговоры во всех их школах. К тому же мы лишимся этого несравненного вида и близости Богов ко всему, о чем мы будем говорить.
Ее рассердило, что Ей перечат, но, помолчав, Она спросила: „Я могу задать любой вопрос?"
Мне стало страшно, но, взглянув Ей в глаза, я спокойно кивнул.
„И ты не сочтешь этот вопрос глупым?"
„Никогда".
„Тогда ладно, — сказала Она. — Кто такой Хор?"
„О, Он — Великий Бог", — ответил Я.
„Он Единственный? Самый Первый?"
„Я бы назвал Его Сыном Ра и Возлюбленным Ра".
„Значит, Он такой же, как Фараон?"
„Да, — ответил я, — Фараон — Сын Ра и Возлюбленный Ра. Поэтому Фараон — это Хор".
„Он — Бог Хор?"
„Да".
„Значит, Фараон — это Сокол Небес?" — спросила Она.
„Да".
„И у Него два глаза, которые как солнце и луна?"
«Да. Правый глаз Хора — это солнце, а Его левый глаз — луна".
„Но если Хор — дитя солнца, — спросила Она, — то как же солнце может быть одним из Его глаз?"
Муравьи ползали по моим ногам. Так мне казалось. Я не хотел говорить о таких вещах. Я знал свою руку, но, не будучи художником, не мог ее нарисовать. Ей нужен был жрец, который бы рассказал Ей все это. „Так должно быть, — ответил я. — Глаз Хора известен также как дочь Фараона, Уаджит — Кобра. Кобра может изры-гать пламя и убивать всех врагов Фараона". Меня так и подмывало сказать Ей, что, хотя я и не видел огня Кобры в Битве при Кадеше, я, безусловно, ощущал его.
„Не понимаю, о чем ты говоришь, — ответила Она. — Это похоже на скрученную веревку".
„Ну, — сказал я, — это оттого, что Они — Боги. Фараон исходит из Богов, но и Боги также исходят из Фараона. — Увидев, что в Ее глазах умирает всякая надежда на понимание, я быстро добавил: — Не знаю, как это может быть, но это так. Так уж устроено у Них, у Богов. Амон-Ра — это Тот-Кто-порождает-Своего-Отца".
„Но кто такой Осирис? Это Амон? Наконец-то! Я ни разу не осмелилась задать этот вопрос за все время, пока Меня держат в Египте".
„Осирис — не Амон, — сказал я, радуясь тому, что могу сказать Ей хоть что-то ясное. — Осирис — это Отец Хора, и Он также Царь Мертвых. Его Сын Хор, будучи также и Фараоном, является Повелителем Живущих. — Здесь мне следовало бы умолкнуть, но, увидев понимание в Ее глазах, я добавил: — И Осирису принадлежат все деревья, весь ячмень и хлеб, и воды, а также и пиво, поскольку брожение зерна находится на полпути между живым и мертвым".
„Я думала, все зерно принадлежит Исиде".
„И это верно, — быстро сказал я. — Оно принадлежит также и Исиде. Но ведь Исида и Осирис — женаты".
„Да, — сказала Она, — но что принадлежит Хору, если Он — Фараон?"
„Не смогу сказать Тебе обо всем, но такого немало. Я знаю, что Глаз Хора — это масло, но он может быть также и вином, а иногда — краской для глаз".
„Ты говоришь, что Он — Сын Осириса?" — спросила Она с безнадежным видом.
Я кивнул.
„Но если Хор — Сын Ра, то тогда Он — Брат Осириса, а не Сын", — сказала Маатхорнефрура.
„Да, Он также и брат", — согласился я. Я больше не видел улицы, простиравшейся под нами. Мои глаза застилала пелена. Вернулось ли мое прежнее смущение, или причиной тому было множество волн и течений, которые я ощущал между своих ушей при мыслях обо всех тех Богах, которых мне еще предстояло назвать, не знаю, но я чувствовал слабость, такую дурноту, что хоть и невежливо было оставлять Ее стоять в одиночестве, но я внезапно сел на корточки, опустив свои ягодицы на пятки. Тогда и Она присела на корточки и продолжала смотреть мне в глаза.
„Нам надо вернуться к началу, — сказал я. — До Ра был Атум, Его дед. У Атума было двое детей — Шу и Тефнут".
„Шу и Тефнут", — повторила Она.
„Они дали нам воздух и влагу. — Я видел, как Она все это повторяет про Себя. — От Шу и Тефнут родились Ра, Геб и Нут. Последние двое — это земля и небо. Геб и Нут соединились в любви. — Я принялся кашлять. — Некоторые говорят, — пробормотал я, — что это Ра любил Нут. — Я снова закашлялся. Я не хотел прерываться, но был вынужден. — Они не знают Своего Отца, но детьми Нут были: Исида, Осирис, Сет и Нефтида, а также Бог Хор. Он — брат Осириса, если не считать того, что Он также — все остальные Боги: Шу, Тефнут, Ра, Геб, Нут, Исида, Осирис, Сет и Нефтида".
„Тогда как же Хор может быть Сыном Осириса?"
„Потому что Хор умер. Он упал с лошади. Поэтому Ему пришлось стать сыном Исиды и Осириса, чтобы снова родиться. Это произошло после того, как Осирис был убит Сетом. Но Исида все же смогла соединиться с Ним".
„Я чувствую слабость в ногах, — сказала Она. — Я никогда не выучу этого".
„Выучишь", — сказал я.
„Нет, не смогу. Ты говоришь о многих Богах. Но мы стоим на башне Храма Амона, а о Нем ты так ничего и не сказал. И ничего о Птахе. Сесуси всегда рассказывает Мне о Своей Коронации в Мемфисе в Храме Птаха. Я думала, что этот Птах — Великий Бог".
„О, так оно и есть, — сказал я. — Он происходит из земли. В Мемфисе считают, что в самом начале в небе был не Атум, но Птах. Они верят, что все, что существует, поднялось из вод с Первым Холмом и что этот Первый Холм принадлежит Птаху. Из Первого Холма родилось солнце. Таким образом, Ра произошел от Птаха, как и Осирис, и Хор".
Она вздохнула: „Их так много. Иногда Я слышу о Мут и Тоте".
„И Они тоже могут исходить из Птаха".
„Могут?"
„Ну, — сказал я, на самом деле покрывшись потом, чувство дурноты не проходило, — в действительности Они произошли от луны".
„Кто?"
„Мут и Тот. И Хонсу".
О".
„Луна — другой глаз Хора".
„Да".
„Первый глаз, как я сказал, — это солнце. Его можно увидеть в ядрышке зерна. Оно имеет форму глаза".
„Да".
Я не сказал Ей, что Глаз Хора — это также влагалище. Я, однако, объяснил, как две Повелительницы Верхнего и Нижнего Египта — Кобра Уаджит и Коршун Нехбет (Она же Белая Богиня) пребывают в Двойной Короне на голове Фараона. Притом что Сам Фараон — Хор, Он также — Хор и Сет.
„Как может Он быть Хором и Сетом? — спросила Она. — Ведь Они постоянно сражаются друг с другом".
„Но не тогда, когда пребывают в Нем, — объяснил я. — Фараон обладает такой силой, что заставляет Их жить в мире".
Она снова вздохнула: „Все это Мне совершенно непонятно. Я выросла в стране, где есть четыре времени года. Мы говорим о весне, лете, осени и зиме. Но у вас в Египте их только три, и никогда не идет дождь. Вместо него у вас — разлив. У вас нет нашей прекрасной весны, когда мы видим, как появляются новые листья".
„Да нет же, это просто, — сказал Ей я. — Послушай, все Боги — такие же, как другие Боги. Это происходит потому, что Они могут соединяться друг с другом. Сехмет — львица, а Бастет — кошка. Такая же прекрасная, как Мермер. Но Хатхор может быть и той и другой. При этом, когда желает, Хатхор становится Исидой. И во всех наших Богов может входить Ра. Даже в Себека, крокодила из Фаюма".
„И так же и Амон, когда Он — Амон-Ра?" „Нет, здесь по-другому, — сказал я. — Амон-Ра — Царь Богов". — Но мне не хотелось говорить об Амоне, стоя на Его храме. „Давай вернемся", — предложила Она.
И вот мы вернулись — по Большой улице Храма Амона, которая вела к землям Дворца, и всю дорогу Она молчала. Она не сказала ни слова, пока мы не вошли в Ее покои во Дворце Колонн Белой Богини. Тогда она помрачнела еще больше. Не знаю, быть может, на мне лежало проклятие Хекет, но в покоях Маатхорнефруры все еще чувствовалась тяжесть последних несчастливых часов Усермаатра, и я ощущал уродство Хекет в беспокойстве каждого сочленения и складки моего тела. Я вдруг с тоской подумал о том, что, рассказав Маатхорнефруре о величайших Богах, я ни разу не упомянул имени Хепри, а Он должен был быть упомянут в их ряду. Но, вспомнив о том, как Он был рожден в навозной тьме и что Он пребывает в мрачнейших пещерах земли, я подумал, что, пожалуй, не смог бы объяснить Ей, что у жука есть и крылья для полета и что он таким образом познает все миры.
„Расскажи мне о луне, — сказала Маатхорнефрура. — Кто этот Бог? — Ее кожа в лавандовых тенях тех комнат была бледной, подобно луне. — Полагаю, — добавила Она, надув губы, — что это — ваш Глаз Хора".
„Нет, — ответил я, — это Глаз Хора есть луна. — Я уже проголодался, и мое собственное настроение тоже испортилось. — Осирис — Бог луны, и Хонсу тоже".
„Хонсу? Ты называл раньше Его имя?"
„Он сын Амона и Мут", — в отчаянии ответил я. Мне еще предстояло рассказать Ей об Амоне и Мут. „Разумеется, Тот, — поспешил добавить я, — также Бог луны, но некоторые говорят, что Бог луны — Коршун Нехбет, в честь Которой назван Твой Дворец. Когда на то есть Их воля, любой из этих Богов может являться Богом луны".
„Они отправляются туда все сразу?"
„Не знаю, — ответил я, — раньше мне никто не задавал этот вопрос".
Она позвала слугу, который принес нам жареного гуся в соусе из перцев, которые, вероятно, привезли из Кадеша, так как огонь в нем был не из наших пустынь и болот. Затем мы запили его пивом.
„Все не так уж сложно", — сказал я.
„Пожалуйста, не говори этого больше", — попросила Она.
„В сирийских лесах, — сказал я, — может быть пять разновидностей деревьев. Каждое из них происходит от отдельного Божества, однако на одном холме можно найти все пять. А еще ведь есть и Бог самого холма. Таким образом, пять Богов пяти деревьев могут быть также частью Бога холма".
„Да, это так, — сказала Она и сладко зевнула. — Тебе понравились наши перцы?"
Я кивнул. Мне не хотелось прекращать обучение. У меня было такое чувство, будто я сам начинаю понимать все это. „В Элефантине, — продолжил я, — вверх по течению, у Первого Порога, обитает Бог Хнум. У Него рога барана. Он охраняет Нил. Но одновременно Он живет ниже, в Абидосе, у Храма Осириса, и там Он — муж Хекет — не Твоей Хекет, но самой первой Великой Богини, первой лягушки. Хнум также может жить в Ра. И в Гебе. Тогда каждый из этих Богов позволяет Хнуму думать их мыслями. Разумеется, это помогает им самим думать мыслями Хнума. Временами, когда Им это нужно, так как Хнум — тот гончар, Который лепит из глины нашу плоть".
„Ты рассказал Мне так много, — сказала Она, — ты прекрасный учитель". Я поблагодарил и ответил, что нет, это не так. Она надела Свой белокурый парик. Тем утром в Храме, чтобы не быть узнанной, Она носила черный парик, который сняла, как только мы вернулись в Ее покои. Пока мы ели, у Нее на голове не было парика. Но теперь Она надела белокурый парик.
„Ты рассказал Мне про такое множество Богов, — сказала Она, — но почти ничего об Амоне".
„О, Амон, — сказал я и отхлебнул еще пива. — Амон — это Сокрытый. Он пребывает за всеми Богами".
„Он всегда там?"
„Всегда". — Конечно, я решил не говорить Ей, что — если произнести не то, что следует — можно почувствовать, как, пребывая в воздухе, Он слышит это.
„Всегда?" — повторила Она.
„Он был с самого начала, вместе с ветром. Он был первым из восьми слепых Божеств, представлявших собой лягушек и змей в слизи, но даже в той тьме Он был воздухом". — Я никогда не любил говорить о воздухе, а также произносить то, чего не следовало. Воздух, находившийся в ухе, был Амоном. В тот момент я был рад, что, в отличие от Усермаатра, я не знаю руки Амона на моем сердце.
„Я слышала, — сказала Она, — что когда-то здесь, в Фивах, Амон был всего лишь незначительным Божком. Просто маленький Бог города Фивы. Но когда более важные Боги не могли решить, Кто из Них самый главный, Они выбрали Его. И теперь Он — Великий Бог".
„Это тоже верно, — сказал я. — Верно и то и другое. Потому-то Египет и есть страна Двух Земель".
„Ты больше жрец, чем воин", — сказала Она.
Я поклонился.
„Амон — Бог воздуха?" — спросила Она.
Я снова поклонился.
„Тогда Он похож на нашего Энлиля. — Она улыбнулась. — Наш Энлиль входит во все деревья, и тогда ветви машут нам, когда Он проходит мимо". Она допила Свое пиво и посмотрела на свой пустой кувшин.
„Ты не думаешь, что ваши Боги так отличаются от наших потому, что у вас так мало деревьев? — спросила Она. — В нашей стране их так много". Она говорила о Своей стране, как будто в Ее горле пребывало благоухание ливанских кедров. И я не поверил Ее голосу, когда Она принялась хвалить Египет. Я также не относился к Ней как к Царице. Когда я увидел, что Она смотрит на мое пиво, то отер край кувшина и перелил то, что в нем оставалось, в Ее пустой кубок (чего я никогда бы не осмелился сделать с Нефертари, даже если бы наступило такое утро, когда я познал бы все три Ее рта). Меж тем Маатхорнефрура отпила с удовольствием, и Ее глаза увлажнились. „Ты знаешь, — сказала Она, — в вашей стране много такого, что исполнено великолепия. Мой отец говорит, что нет другой страны столь изысканной, как Египет, и Я с ним согласна. Он говорит, что вы ставите западни, чтобы ловить в них Богов. Именно так, говорит он, поступаете вы, египтяне. Когда вы создаете какое-то небольшое украшение или что-то другое столь же чудесное, то оно получается таким красивым, что очарованные Боги снисходят с небес, чтобы дотронуться до этой вещи".
Я не знал, о чем Она говорит, а Она подобрала Мермер, проходившую перед Ее носом с поднятым вверх хвостом. Взглянув на эту кошку, я смог понять, что думает Маатхорнефрура не только о наших прудах и садах, наших украшениях и наших воздушных одеждах, наших алебастровых чашах и наших золотых стульях, но и об этой кошке, которую совершенствовали из поколения в поколение, покуда не стало ясно, что Богиня Бастет никогда не покинет это животное, поскольку Мермер вполне могла оказаться самым прекрасным существом в Двух Землях. Маатхорнефрура принялась ласкать ее, щекотала, прижималась щекой к ее задней ноге, ловила ее хвост, гладила лапы, взъерошивала шерсть, а затем легла на диван на спину и позволила этому созданию ходить по Себе. Мермер стала издавать звуки чувственного удовольствия, которое кошки ощущают глубже, чем мужчины или женщины, и заурчала, уткнувшись носом Ей в горло.
Но затем, когда она принялась обнюхивать подбородок своей царицы, губы Мермер встретились со ртом Маатхорнефруры, Которая ее поцеловала. Не знаю — был ли то запах пива, но в тот же миг Мермер царапнула Ее по щеке. За первым действием немедленно последовало второе. Маатхорнефрура швырнула ее об стену. Сначала мне показалось, что зверек умер, но Мермер поспешно убралась прочь.
„А теперь ты можешь идти, — сказала мне Маатхорнефрура. — Ты не знаешь, как надо учить".
Я прошел через смежный покой. В нем все еще пребывала тяжкая мудрость, которая живет в дыхании болот, и в пурпурном свете его стен я гадал, смогла ли бы Маатхорнефрура подвергнуть наказанию и некоторых других египетских Богов?»
СЕМЬ
Глухой удар кошачьего тела о стену был слышен так отчетливо, что я понял, что присутствовал там с моим прадедом, вспоминавшим эти события, и я знал, что и Птахнемхотеп услышал тот же звук, так как Его тело вздрогнуло. Больше всех разволновалась моя мать. Ее возбуждение прошло сквозь меня, словно ее ударили, и она заговорила очень быстро и пылко.
«Не знаю, — начала моя мать, — ничего более невероятного, чем эта тонкая страсть Маатхорнефруры к Усермаатра. Она подобна травинке, готовой порваться пополам. Но еще труднее мне поверить в ту неуместную страсть к Мененхетету, которую проявила Нефертари. Царица никогда не должна предавать Фараона. Ведь даже измена Военачальников стоила Египту не так дорого. — Она склонила голову, подчеркивая силу сказанного. — Столь дорогое приношение, — сказала она нам, — достойно лишь Усермаатра».
«Меня радует твоя преданность Моему умершему предку, — сказал Птахнемхотеп, — однако наверняка причина твоего волнения иная».
«Да, — призналась она. — Просто я не ожидала, что в Египте найдется еще одна женщина, которой известно столько же, сколько и мне». При этих словах оба рассмеялись, весьма довольные друг другом, а Мененхетет смотрел на них. Мне оставалось гадать, о чем он думает, поскольку ни одна из его мыслей не доходила до меня.
«Скажи нам, — молвил Птахнемхотеп, — согласен ли ты с тем, что услышал?»
Мененхетет коснулся лбом кончиков пальцев, словно сдержанно поклонился Визирь, которому близки труды Фараона.
«Я так много говорил этой ночью, — сказал он, — что, пожалуй, для меня пришло время послушать».
«Эта ночь — ночь Празднества», — сказала моя мать. То, что она добавила затем, было исполнено такой мудрости, что из сознания моего прадеда выскользнула одна мысль, и я узнал, что он сказал себе: «Она еще сможет стать хорошей женой».
Удерживая обнимавшую Ее руку моего Отца, моя мать сказала Ему: «Мне было бы так приятно, если бы Ты рассказал нам еще о Празднестве Празднеств». Я сразу оценил Ее мудрость. Ничто не было так близко желаниям Девятого, как возможность вернуться в этот час (исполненный света Его соединения с моей матерью) к Божественному Торжеству Его предка, Рамсеса Второго. Я просто не мог поверить своим глазам, столь сильным, чувственным и покойным было лицо моего Отца в том лунном свете, что разливался по крытому внутреннему дворику на исходе ночи. Теперь и Его голос исполнился той же уверенности в Себе, что и Его лицо, без всякого сомнения, то был сильный, глубокий голос, и Он даже был способен говорить о Своем предке с известным чувством равенства — во всяком случае таков был отзвук Его голоса в воздухе, окружавшем нас. Ибо во всем, что Он сказал, жила надежда, что в один из дней, через много лет, двадцать три года спустя, у Него будет Свой великий праздник в честь первых тридцати лет Его Правления, и он будет походить на этот. Поскольку мой Отец говорил так, что многочисленные дары пестрели в Его голосе, как краски в коробке художника, перед моими глазами замелькали перья самых разных птиц и шерсть многих животных, и я увидел драгоценные украшения знати и толпы людей, следующих через базары Фив по тому же царскому пути, который избрал Усермаатра, покинув Тронный Покой.
Разумеется, мой Отец не зря достаточно долго обучался в мем-фисском Храме, а также пребывал в духе Великого Ремесленника Птаха, чтобы обрести силу изрекать тщательно подобранные выражения, способные вызвать образы всего, что уже никогда не предстанет перед нами. Он также не преминул узнать, как можно обрести силы людей более великих, чем мы, и не только подражая их деяниям, но также целиком пребывая во времени проведения их ритуалов. Потому мой Отец удивил нас Своими знаниями о том, что делал и чувствовал Усермаатра в дни Его Божественного Торжества. Как глубоко Он изучил все это! Теперь Он поведал нам все, что постиг, лишь иногда испытывая неуверенность в некоторых второстепенных подробностях перед лицом высшего знания моего прадеда.
Итак, я увидел все это и стал свидетелем первого часа первого из пяти дней Празднества (наступившего после пяти дней приготовлений), когда, вдыхая воздух раннего утра, Усермаатра сошел по ступеням между рядов нубийцев с красными кушаками поперек груди и ряда сирийцев в длинных шерстяных голубых кафтанах, вышитых белыми цветами. Вперед вышел евнух с украшением из двух перьев на голове, и каждое перо по длине почти равнялось его туловищу, а тело евнуха было выкрашено в голубой цвет. На нем было надето лишь ожерелье и короткая красно-желтая юбка. За ним вышел другой раб, одетый так же и полностью похожий на первого, за тем лишь исключением, что его тело было омыто в белой краске, и два этих раскрашенных евнуха свели Фараона вниз между рядами нубийских и сирийских воинов к ожидавшим Его в конце прохода маленьким царицам с их детьми. Затем маленькие царицы преклонили колени и стали бросать Усермаатра цветы, и был слышен смех их детей. С городских базаров в ответ на шум первых приветственных возгласов, встретивших Его при появлении из дверей Зала Царя Унаса, донеслись долгие крики приветствий, и от Дворца к городу, от тенистых улиц и набережных назад к царским угодьям стало гулять эхо, эти отголоски приветствий проникали друг в друга, смешиваясь, подобно облакам в бурю, и вскоре превратились в сплошной гул.
Пройдя между рядами нубийцев и сирийцев, Усермаатра слегка наклонил Свою Двойную Корону в сторону маленьких цариц, благословил Своих детей и в одиночестве прошел по обсаженной деревьями дороге, ведущей ко Двору Великих. Там, на этом огромном пространстве размерами в тысячу больших шагов в длину и тысячу в ширину, Его ожидала свита из сотен людей. А на другой стороне Двора, собравшись на дальнем его конце, у Храма Исиды, расположились тысячи женщин, страдающих бесплодием, которые приходили туда на рассвете каждого из пяти дней приготовлений и собирались приходить каждый из пяти дней Празднества, все они молились, стоя на коленях, а некоторые опирались о землю и руками. А между ними и свитой, напротив больших проходов и разукрашенных цветами улиц и фонтанов из благородного белого камня, на каждом углу и в каждой беседке этой площади стояли храмы Богов, принесенные ко Двору Великих за эти последние несколько дней после того, как их привезли с верховьев или низовьев реки в Их Священных Лодках. Повсюду стояли эти часовни, наскоро собранные из тростника и также наскоро обмазанные белой глиной в подражание древним часовням и храмам первых Богов в правления Менеса и Хуфу — тогда, во времена творения земли и воды, небес и огней. Ибо первые храмы были всего лишь тростниковыми хижинами — так говорили жрецы.
Затем высокопоставленные придворные, облеченные на время этих пяти дней специальными титулами Друзей-Его-Ног, выбежали вперед из рядов свиты, чтобы омыть Ему ноги, перед тем как Он вновь наденет Свои сандалии, вступит в Свой паланкин и тронется со Своим первым шествием по городу в этот первый день Божественного Торжества. Когда Друзья-Его-Ног сделали свое дело, вперед выступили другие придворные — самые влиятельные люди Верхнего и Нижнего Египта, сорок два номарха из сорока двух номов, и они поцеловали перед Ним землю.
Потом вперед, на яркое солнце вышли Его сыновья: трое из четырех сыновей Нефертари (отсутствовал лишь Аменхерхепишеф) и Пехтира, которого несла нянька, окруженный двадцатью стражами, — кудрявый, как обычно у хеттов, ребенок, но с черными завитками волос, вместе с семью детьми, сыновьями и дочерьми от ничем не примечательной третьей жены Истнофрет, а за ними следовала сотня сыновей и дочерей маленьких цариц из Садов Уединенных, и из Его других Садов — в Пи-Рамсесе, Фаюме, Хатнуме и Элефан-тине, и самые младшие из них, никогда ранее не покидавшие своих домов, были растеряны более других, тогда как прочие дети, теперь уже повзрослевшие, держали себя с достоинством, ощущая всю значимость этого дня. Будучи сыновьями Фараона, они, несмотря на всю свою удаленность от Отца, занимали такие важные должности, как Верховный Смотритель или Хранитель Сокровищницы нома, либо были Верховными Жрецами, или Пророками, Верховными Судьями, Жрецами-Чтецами, Писцами Священной Книги [59], Наместниками и даже Командующими войсками. И все же эти сыновья маленьких цариц и их жены, и дочери маленьких цариц со своими мужьями представляли собой лишь небольшую часть свиты, которая теперь, после долгой суматохи, выстроилась в колонну, и колонна эта пришла в движение, следуя через Двор Великих, через земли прочих Дворцов, по всему Горизонту Ра, покуда не вышла через ворота в город. То был строй длиной в тысячу шагов, а двадцать Царских Колесничих бегом несли Великое Золотое Чрево, сооруженное специально для этого Празднества, обливаясь потом и напрягая все силы для исполнения почетной обязанности, выпавшей на их долю, что было совсем нелегким делом, так как эти воины должны были бежать с паланкином с той же скоростью, что и лошади, запряженные в колесницы и повозки. За ними спешили другие отряды, сменявшие носильщиков на каждой остановке, а по обеим сторонам находилась Его Охрана — те самые ряды нубийцев и сирийцев, вдоль которых Он прошел, выйдя из Тронного Покоя. Позади растянулись длинные ряды свиты для этого первого дня, большое скопление золотых повозок и колесниц с Его военачальниками, Его Принцами и Принцессами, с паланкинами придворных дам и маленьких цариц, Смотрителей Царских Спален, всех знаменосцев и слуг с опахалами, тех, кто нес жезлы и копья всех сорока двух номархов, стоявших теперь в колесницах, которыми управляли их возничие. Сколько украшений было на лошадях! Над их упряжью работали месяцами, их кожаная сбруя играла вышивкой из золотых и серебряных листьев.
Этим первым утром на каждом перекрестке, а также у каждых ворот каждого квартала города все еще горели костры, разожженные прошлой ночью. Перед некоторыми из этих огней Фараон останавливался, вставал в Своем открытом паланкине на плечи Своих колесничих и, возвысившись надо всеми, поднимал раскинутые правую и левую руки, а затем сводил их, покуда кончики их пальцев не соединялись над Его головой, так что Его руки являли круг над Его Двойной Короной. При виде колонны собравшаяся поглазеть на это зрелище толпа кричала от удовольствия, и солнечные блики от широких золотых воротников, украшавших каждого из находившихся рядом с Фараоном, отражались на лицах людей. Слуги взмахивали над головой Усермаатра огромными опахалами из тростника и перьев, когда Он проходил, люди махали Ему букетами цветов, а городские ребятишки мчались вперед, чтобы снова приветствовать Его, пока Его бегуны поливали улицу маслом с цветочной водой, дабы Славный и Великий Бог не вдохнул ничего, что не было бы благовонным. И теперь перед Ним и по сторонам от Него, оттесняя назад толпу, размахивали дубинками нубийцы и сирийцы, выкрикивая на бегу: «Дорогу Божеству! Назад, назад! Идет Единственный!» Часто им приходилось кричать, чтобы быть услышанными, а толпа смеялась над их ломаным выговором и подавалась назад только после ощутимых толчков. «Слушайте мое слово, — кричали сирийцы, — не заставляйте меня пускать в ход палку!» Но рано или поздно им приходилось это делать, и на землю проливалась кровь с разбитой головы, и счастливые люди с расквашейными носами махали свите, поскольку теперь на протяжении будущих лет они могли с гордостью рассказывать о том дне, когда они подошли к Фараону так близко, что были исхлестаны бичом и узрели собственную кровь.
На всем их пути из храмов выходили жрецы и зажигали благовония. Барабанщики и арфисты играли для Фараона, когда Он проходил мимо, затем пристраивались позади, и пока процессия следовала через базары, к ней присоединялось все большее число горожан. Тамошние лавки покинули все, кто в них находился. Последним рядам свиты понадобилась половина утра, чтобы пройти по этим кривым улочкам.
Усермаатра проследовал мимо плотников, столяров, мебельщиков, изготовителей фанеры, вниз по улице Кузнецов, мимо плавилен, где выплавляли медь и олово, скобяных лавок и мастерских, где изготовляли доспехи из бронзы, вниз по улице Мастеров Благородных Металлов, где взмахом руки Он приветствовал всех, кто знал Искусство работы с Золотом, Серебром и их сплавом, а также их семейства. Кивком Он приветствовал мастеров, стоявших перед лавками сапожников, ткачей и гончаров и сотни их учеников. Ему навстречу неслись возгласы ткачей, изготовлявших шерстяные и льняные ткани, тех, кто трудился в мастерских, где делали нитки и фитили для ламп, Его громко славили по всему Кварталу Ювелиров, где работали с красной и желтой яшмой, сердоликом, малахитом, алебастром, вырезали скарабеев из ляпис-лазури, а также маленьких львов и кошек. Он миновал мастерские, где изготовляли повозки, колеса, мебель и занимались резьбой по слоновой кости. Они прошли вниз по улице Резчиков, где делали украшения для дворцов и гробниц и выбивали надписи на камне, вниз по длинной сырой улице, где работали сапожники и дубильщики, наполненной вонью свежевыделанных шкур — низкое занятие. Даже в эти праздничные дни, когда кожевенники не работали, никакое количество разбрызганных бегунами благовоний не могло уничтожить смрад: столь же стойкий тяжелый запах опилок благородных пород дерева наполнял улицу Гробовщиков; и еще страшнее было зловоние жижи в желобах изготовителей папируса. Затем колонна миновала лавки мясников, пивоваров и кондитеров, продававших свои изделия людям на улице, и многие выкрикивали приветствия с набитыми ртами, пока шествие двигалось по тенистым улицам корзинщиков и художников и вышло наконец к каналам, тянувшимся вдоль Площади Лодочников с ее длинными сараями и пристанями. Река была близко. Они прибыли на место, где должны были встретить Священную Лодку Птаха, которая последние десять дней плыла из Мемфиса вверх по реке.
Здесь мой Отец прервал Свой рассказ, будто размышлял о тех видах, что предстали в нашем сознании, и моя мать вздохнула и с восхищением в голосе сказала, что она поражена тем, как много знает Птахнемхотеп о тех-годах-что-остались-позади-нас. Рассказанное Им было подобно чуду, ясно увиденному слепым.
Я смог почувствовать, как приятна Ему эта похвала, но Он сказал лишь: «Я изучил каждый папирус, в котором говорится о Великом Празднестве Рамсеса Второго, а Третье Празднество, о котором Я вам рассказываю, происходило в Тридцать Пятый Год Его Правления — величайшее, и, мне кажется, Я описал почти все события, по крайней мере в полном соответствии с записями. Мне, однако, следует извиниться за то, что Я не смог назвать все титулы придворных и слуг, участвовавших в том Празднестве, поскольку Усермаатра ввел восхитительный обычай (использованный также Моим Отцом для Его Божественного Торжества после Его первых тридцати лет) — жаловать титулы, звук которых никто не слыхал на протяжении правлений по крайней мере последних двадцати Царей, а некоторых — если бы удалось измерить такой срок — более тысячи лет, со времен Хуфу и Менеса. В этом состоит трудность. Не все из титулов были записаны, а некоторые из папирусов Царского Хранилища рукописей, вероятно, перевезли из старого хранилища в Фивах в новое в Мемфисе небрежно, так что они истрепались. Некоторые из титулов неверно записаны. Они нам не знакомы. Но вот ведь в чем дело! В этих делах Я такой же дотошный, как и Главный Писец. Не знаю, быть может, это Моя давняя преданность Птаху, но во Мне живет огромное уважение к Нему, лучшему из ремесленников, поэтому Я постарался узнать все старые кварталы Фив такими, какими они были в те времена, так же хорошо, как сегодня Я знаю мастерские Мемфиса».
При этих словах мой прадед кивнул и сказал: «Все, что Ты описал, изложено верно. — В его голосе прозвучало почтение, по крайней мере я его расслышал, так как воспринимал все чуткими ушами моего Отца, удовольствие Которого от Своего рассказа таким образом не уменьшилось. Он быстро сказал: — Ты, разумеется, был там».
Мененхетет кивнул.
«В окружении Маатхорнефруры?»
«Вместе с Ее Придворной Охраной, — ответил мой прадед. — Ни одной из Его Трех Великих Супруг не было там в первый день: ни Нефертари, ни Истнофрет, ни Маатхорнефруры, но я находился во главе Ее людей-хеттов и чувствовал себя очень неловко, проходя мимо командиров Царской Гвардии Аменхерхепишефа, находившихся в городе. Хотя Принц еще не прибыл в Фивы, они уже были здесь и прекрасно знали, что Он думает обо мне. Мнение это было настолько неприглядным, что я дал себе слово на протяжении этих пяти праздничных дней не заходить ни в одно из тех питейных заведений, где они могли быть, поскольку не хотел быть избитым до полусмерти».
«Вот именно о таких подробностях, — сказал Птахнемхотеп, снова оживляясь, — Я и хотел бы послушать, ибо они относятся как раз к тем событиям, описанию которых писца не обучают».
«Я с уважением выполню Твое горячее желание», — сказал мой прадед, не сводя глаз с нас, сидевших опершись на подушки.
«В Моем рассказе о шествии не было ошибки?»
«Он гораздо полнее того, что сохранила моя память, — сказал Мененхетет. — В тот день я видел лишь происходившее рядом со мной, Ты же видишь все в целом».
«И все же Я уверен, ты думаешь о том, что Я упустил или чего не знал».
«Опишу лишь весьма незначительное происшествие, — сказал Мененхетет. — Теперь оно представляется забавным. Должен сказать, что шествие двигалось по улицам мимо тех мастерских именно так, как Ты его описал, но последняя улица перед Площадью Лодочников огибала угол Квартала Шлюх, который в те дни был намного больше, чем сейчас. Эти женщины встретили нас взрывом насмешек. Все они выглядывали из своих окон, когда мимо проезжали маленькие царицы. И шлюхи никогда бы не догадались, кто они такие (так как маленькие царицы были одеты как Принцессы и ехали в золотых повозках), если бы не их дети, а рядом не было ни одного мужчины. К тому же, признаюсь, маленькие царицы пребывали в столь же радостном возбуждении, что и шлюхи. В этот день к ним было обращено восхищение половины мужского населения Фив, а они настолько не привыкли к подобным жарким взглядам, что их щеки горели ярче их румян».
«Взрыв насмешек вызвал большую неловкость?» — спросил Птахнемхотеп.
«Нет, насмешливые выкрики из Квартала Шлюх очень скоро перекрыл оглушительный визг цитр и гром барабанов в нашей колонне, и мы быстро двинулись дальше, точно так, как Ты и сказал, — вниз к Царской набережной, чтобы встретить Священную Лодку Птаха».
«Ты должен рассказать Мне обо всех неизвестных Мне событиях. Ибо Я желаю войти в эти пять дней и дышать в такт ударам сердца Усермаатра».
«Мне понятно высказанное Тобой желание, — сказал мой прадед. Его холодный взгляд, в котором сквозила спокойная уверенность в себе, вновь скользнул по нам троим, и он произнес: — Я буду служить».
«Слова, достойные Визиря», — сказал Птахнемхотеп.
Мой прадед коснулся лбом кончиков пальцев. «Я буду служить», — повторил он.
И вот мой Отец принялся рассказывать о том, что делал Усермаатра в первый день Божественного Торжества: «Когда Фараон и головной отряд Его свиты достигли берега реки, раздались такие громкие крики, каких не слыхали в Фивах уже много лет. Казалось, что половина жителей города дожидалась, пока вторая половина прибудет на место, и вопли восхваления были даже громче, чем гул ликования два месяца назад, когда после долгого путешествия вниз по реке из каменоломен, расположенных у Первого Порога, прибыл обелиск. И вот на протяжении пяти дней, предшествовавших первому дню Божественного Торжества, начавшегося этим утром, Верховный Жрец, Визирь и даже Усермаатра отправлялись с меньшими, чем это, шествиями, чтобы встретить величайших из того множества Богов, что прибывали и прибывали, и теперь их так же встретили шумными приветствиями. Конечно же, в течение всех пяти дней приготовлений, огромные толпы снова и снова собирались на берегах реки, чтобы поглазеть, как Богов извлекали из Их святилищ, переносили на берег и доставляли вверх по улицам ко Двору Великих на плечах их жрецов, шатавшихся под тяжестью паланкинов, в которых помещался не только сам Бог, но также его переносное святилище, часто построенное в форме лодки. В соответствии с достатком храма, эти лодки из золота, серебра или просто из бронзы, украшенные вставками из золота, были очень тяжелыми. В зависимости от обычаев каждого Бога, некоторые из них были открыты взглядам толп во Дворе Великих, а некоторых никто не видел, и двери Их священных жилищ оставались запечатанными, но независимо от того, был ли то Бог, хорошо известный в Фивах, или Он был привезен из отдаленного нома кучкой бедных, потных, оборванных жрецов, тащивших Его на своих натруженных плечах, толпы ребятишек и нищих непременно сопровождали и таких менее значимых Богов по всему городу. На протяжении последних двух месяцев одна толпа не уменьшалась ни на миг. То была сутолока вокруг обелиска. Его движение на катках по крутым склонам от набережной до Царского Двора, конечно же, не отличалось быстротой, но для всех наблюдавших это было интересное зрелище: поражала длина и безмолвная мудрость, скрытая в черной гранитной глыбе, непроницаемой для всех встречавшихся на ее пути достопримечательностей и запахов.
Теперь же прибывала Священная Лодка Птаха, и ни один из Богов, доставленных в Фивы за все эти дни, не был столь могущественным, как Птах из Мемфиса. Его Лодка, даже на воде, казалась такой же длинной, как великая лодка, носившая имя Усерхат Амона — Сильное Сердце Амона, и, чтобы пройти всю ее длину, мужчине нужно было сделать по пристани семьдесят больших шагов.
На самом деле последние несколько излучин до Фив Лодка прошла еще прошлой ночью, а рано утром ее привязали в ожидании прибытия Фараона, с рассвета гонцы бегали между процессией и Лодкой, и теперь, когда Усермаатра подошел к набережной, Лодка Птаха вышла из-за последнего поворота и заблистала на воде, будто Сам Бог стоял среди ее мачт. Вся она, включая руль и даже весла, была сделана из золота либо покрыта золотым листом, и на берегу раздались громкие звуки музыки и радостные крики. Те, кто смог увидеть это зрелище, рассказывали другим о красоте ее кедрового дерева и золоте кабины, украшенной драгоценными камнями, но ведь и Усермаатра избрал Своей утренней дорогой проход через скопление мастерских ремесленников, а не прямой путь по большим улицам до реки, дабы воздать должное многообразию трудов Птаха и искусствам умельцев города Фивы.
Усермаатра стоял у каменного причала Царской набережной, пока Священная Лодка не подошла близко, и Сам поймал канат. Тут даже те, кто находился слишком далеко, чтобы что-то видеть, приветствовали Его криками, а знатные дамы и вельможи, сидевшие в золоченых повозках, встали и рукоплескали Ему. Верховный Жрец, стоявший у паланкина, в котором помещалось золотое святилище Птаха, пропел гимн, затем сломал печать, снял запоры, открыл двери и, на глазах всей толпы, вынул Бога, держа Его в своих руках.
Статуя Бога была небольшой, и руки и ноги Птаха могли двигаться, так же как Его губы и золотой подбородок могли двигаться на Его золотом лице. Из рядов свиты Усермаатра вышли придворные и расставили полукругом перед Верховным Жрецом Птаха и Богом, которого он держал на руках, тончайшие вина и блюда с фруктами, а также разнообразные мясные кушанья и жареного гуся, в то время как Усермаатра преклонил колени и сказал: „Мы, из Храма Амона, подносим пищу и питье Великому Богу Птаху". В ответ Бог устремил свой взгляд на Усермаатра, затем взглянул на еду, и его золотые веки опустились в знак того, что Он принимает подношение. Подобно всем Божественным существам, Он нуждался в пропитании. Теперь Он его получил. Ибо точно так же, как Бог может создать желаемое, произнеся название вещи, Он способен есть, глядя на Свою еду.
Затем Птах заговорил, обращаясь к людям, стоящим на набережной, сильным голосом, исходящим из сердца и легких державшего Его Верховного Жреца, но поистине то был глас Бога. Верховный Жрец пребывал в трансе и не мог двигать ни зрачками, ни своими членами, но глаза Птаха были открыты, а Его золотые руки двигались, когда Он говорил.
„Когда Я принимаю Тебя, — обратился Птах к Усермаатра, — сердце Мое радуется, и Я сжимаю Тебя в золотых объятиях. Я облекаю Тебя в постоянство, устойчивость и удовлетворение. Я наделяю Тебя богатством и радостью сердца. Я погружаю Тебя в сердечную радость и вечное блаженство".
Теперь Верховный Жрец Храма Амона выступил вперед и стал рядом с Усермаатра, и в своих руках он держал большой сосуд в форме сма, и при виде длинного горлышка этого сосуда, переходящего в тело вазы в форме сердца, люди зарыдали. У сосуда были формы священного члена и божественного влагалища, которые говорили жителям Фив о чудесах любви, которые они знали в прошлом. Крик наслаждения вырвался из груди горожан, когда вода из сосуда пролилась на ноги Верховного Жреца Птаха. „А-х-х-х-х", — раздались крики во славу соединения Двух Земель.
Могучий и Великий Бог воодушевился при виде сосуда. В ответ на повторяющееся благословение Бога Птаха: „Я погружаю Тебя в радость, Я погружаю Тебя в вечное блаженство", Усермаатра выставил из-под Своей юбки на всеобщее обозрение воздетый член внушительной длины. Подобно носу корабля, он уже давно выпирал из-под Его одежд, а теперь, поскольку Он уже не мог его скрывать, Он отвел в стороны складки Своей юбки и показал Свою мощь окружающим. Все приветственные крики этого дня не могли сравниться с ответным гулом, что прокатился теперь над толпой. Наилучший и исполненный несравненной силы знак удачи для всех жителей Двух Земель содержался в этом слиянии Богов Птаха и Амона. Благодарение, что Хор смог ощутить в себе такую силу и прилив блаженства. И, конечно же, все, кто держал в руках палки с привязанным к ним лотосом, теперь обратили чашечки своих цветов в направлении Его славного меча, и все стали выкрикивать Его имя, и в этих криках звучала любовь к Его подвигу, а Он стоял перед ними, их Гордый Царь, открытый им».
ВОСЕМЬ
Теперь Птахнемхотеп умолк и выжидательно посмотрел на Мененхетета, который в ответ низко склонил голову. «Все было так, как Ты рассказал. Ты увидел все. Я же был свидетелем немногого».
«Все ли из сказанного соответствует действительности?» — спросил мой Отец.
«Все безошибочно».
«И последнее произошло так, как Я описал?»
«Совершенно верно. Никогда я не видал у Него большего меча. — Тут Мененхетет заколебался. — Нет, наверное, видел в последующие дни».
«В папирусах, которые Я изучал, такого описания нет. Мое знание, должен признаться, проистекает из понимания Усермаатра, которым ты со Мной поделился, а также из слухов, сохранившихся в легендах. — Мой Отец замолчал и с удовольствием обнял меня. — Я рассказал вам о Первом Дне, — обратился Он к моему прадеду, — ноты можешь поведать нам о том, чего Я не видел».
«Ты видел каждое зрелище, — повторил мой прадед. — Те пять дней вспоминаются мне исполненными смятения. Ибо после всего сказанного я все еще должен упомянуть о страхе, присутствовавшем при Божественном Торжестве. Хотя в эти пять дней Фараон как никогда наглядно предстает нашим Царем, в то же время в эти дни Он лишен Короны. Он может носить Двойную Корону, но в эти пять дней она Ему не принадлежит».
«Мне это известно», — сказал Птахнемхотеп.
«Да. Но в наши годы мы верили в это так, как никто сегодня не верит. Могу сказать вам, что повсюду в Фивах присутствовал страх, о котором никто не желал говорить, потому-то народ так и вдохновился при виде мощи меча, явленного нашим Фараоном, когда Он стоял перед Птахом. И все же, несмотря на такой добрый знак Его уверенности в Себе, могу сказать, что в ту ночь и в каждую следующую очень мало кто из горожан не боялся, что сгорит его дом или его жена уйдет к другому. Потому что ото всех факелов на улицах и костров на перекрестках пожаров было больше, чем в прочие ночи, и просто удивительно, сколько добрых жен изменили своим мужьям. Соитие происходило повсюду. Так что повторю: мощь Усермаатра, возможно, и явилась подарком для города, но подарком весьма любопытным, так как после него даже пожилые люди разгуливали, выставив перед собой свою гордость, по крайней мере в сумерках. Приличия соблюдались только в ежедневных шествиях.
И все это время, спрятанный под прочими чувствами, жил страх. Мне трудно с достаточной полнотой передать это чувство. Еще за несколько дней до Празднества люди стали опасаться, что река поднимется слишком высоко, но теперь, когда воды пошли на убыль, страх исчезал. Прекрасно! Кто бы смог радоваться празднику, когда вода продолжает прибывать? Но страх все равно оставался. С каждым увеселением страх продолжал струиться из нас потоками. Люди смеялись и плакали, и вновь смеялись, пытаясь допеть песню, а пьянство, даже при свете дня, было повсеместным. Кроме этого, можно было наблюдать странные зрелища. Множество мальчишек и молодых работников из беднейших кварталов города решили обрить себе головы. Никто никогда не видал такого скопления черни, выглядевшей молодыми жрецами, но в действительности лишь подражавшей им. Даже тщеславные бездельники, гордившиеся своими волосами, полностью срезали их, а потом умастили головы маслом. Они бегали вокруг стаями, но вели себя как самые благочестивые звери и ни на кого не нападали. Часто они шествовали от храма к храму, или от святилища к святилищу, или даже ходили на поклонение ко Двору Великих, еще более увеличивая таким образом толпы жрецов и благородных людей, торговцев и воинов, чиновников и рабочих, а также безродного люда, во множестве собиравшегося в те часы дня и ночи, когда их допускали внутрь, чтобы побродить вокруг храмов, беседок и тростниковых хижин. Иногда казалось, что собрались все Фивы. Тем не менее эти отряды бритоголовых были заметны повсюду, и часто за ними следовали их оставившие себе волосы приятели, которые насмехались над их умащенными маслом головами, но не отставали, подобно пене за кормой лодки, и постоянно напоминали этим обритым головам о том, что они проделывали прошлой ночью со своими возлюбленными девушками или юношами. „Ах какие мы сегодня благочестивые!" — не переставали кричать нестриженые. И это был лишь один из знаков всеобщего беспорядка. Нечего и говорить, что пивные были переполнены.
Конечно, после первого шествия по городу, на протяжении тех пяти дней Усермаатра не мог часто покидать Свой Тронный Покой — настолько многочисленными были торжественные приемы, которые Он устраивал для номархов и чужеземных гостей.
Даже простая любезность — необходимость приветствовать прибывавшую небольшими группами знать — отнимала у Него очень много времени. Лишь дважды Он снова возвращался к реке, чтобы встретить Бога: один раз — Амона, а другой — Осириса. Прочие были принесены в Их беседки во Дворе Великих, и Усермаатра приходилось покидать Тронный Покой, чтобы поклониться Им, но Их собралось так много, что некоторых Усермаатра не посещал. Кроме того, много часов отнимали у Него переодевания в новые одежды.
Не знаю, послужило ли причиной тому многообразие древних юбок, плащей, шкур и мантий, которые Он надевал, но я не припомню такого времени в Фивах, чтобы там было столько жрецов в страусовых перьях, с головой ястреба или ибиса, или расхаживающих с бараньими рогами на голове. И чем более необычными были такие одеяния, тем более дикими криками приветствовали их владельца на улицах города. На протяжении всех пяти дней мы жили в великом веселье, заметное оживление которого вызвали гости из города Нехен [60] в Верхнем Египте, сошедшие со своей лодки во главе с пастухом, на котором были надеты шкуры многих животных, даже часть шкуры льва и часть шкуры крокодила. По обеим сторонам от пастуха шли слуги, несшие на своих головах мохнатые головы и челюсти волка, а сзади у них были привязаны хвосты. Когда этих двоих спрашивали: кто они такие, они указывали на пастуха, который всегда отвечал: „Я — Пастух из Нехена". Затем все трое принимались танцевать вокруг друг друга, высоко взмахивая своими длинными жезлами.
По причине, которой никто не мог объяснить, эти трое привлекали живое внимание толпы. Не знаю, было ли это из-за львиной и крокодильей шкур, которые надел на себя Пастух (выглядело это так, будто звери с холмов и из болот приближаются ко Дворцу), но, даже когда стало понятно, что все трое, должно быть, какие-то жрецы, все равно их приветствовали криками, и в конце концов эта троица проследовала вверх по Центральной улице до ворот перед Двором Великих, вошла и даже была представлена Царю».
«Этим Волкам из Нехена была оказана большая честь, — пробормотал Птахнемхотеп, — как духам, состоящим на службе у Хора. Могу сказать, что тот, кто по случаю Празднества оделся Пастухом, был Первым Писцом Визиря, и вовсе не с верховьев реки, но жил здесь, в Фивах».
«И все же в тот день его лицо было диким, — сказал Мененхетет. — Он совсем не был похож на писца».
«Я лишь прочел о том, что происходило, — сказал Птахнемхотеп, — а ты видел то, что не было описано. — Он повторил: — Я хотел бы знать все, что ты мог бы рассказать о подобных происшествиях».
Поэтому мой прадед продолжал говорить, но теперь его мысли снова стали входить в меня так же быстро, как и его голос, и, удобно устроившись между своими матерью и Отцом, я обнаружил, что этот способ слушать приятней, чем все остальные.
«Могу сказать вам (доходило до меня от моего прадеда), что с каждым днем опьянение каждого из нас нарастало, а вместе с ним и путаница в обрядах. Соответственно, уменьшилась необходимость появляться на предназначенном для тебя месте в свите. На самом деле Усермаатра переходил из одного храма в другой во Дворе Великих так часто, что даже самый дотошный из придворных с трудом мог находиться в нужное время в нужном месте. Из-за этого Фараон все более и более раздражался от задержек в Его праздничных шествиях. Более того, во всех нас закипала сильная горячка от встреч с таким количеством Богов. Поэтому, казалось, уже не так важно всегда оказываться в нужных повозках или бежать за Ним на предназначенном именно тебе месте. Кроме того, я пребывал в замешательстве и почти не был в состоянии думать.
Поэтому во вторую ночь я покинул Двор Великих и отправился бродить по городу, переступая через бесчувственные тела пьяных и с грустью, которой никогда ранее в себе не ощущал, вслушиваясь не только в звуки молитв, поднимавшиеся над храмами, но и в стоны привязанных животных, будто голодная боль несчастных скотов отдавалась и во мне самом. Меня также до глубины души трогали детские крики, я даже почувствовал себя счастливым, когда поздним вечером слушал крики детей во время их игр (в эти часы они бывают охвачены тем возбуждением, которое овладевает детьми, когда Боги вечера появляются из-за горизонта), и, наконец, с наступлением ночи я услышал медленно наплывающие на меня звуки, которые издают мужчины и женщины, когда предаются любви. (Ибо и они доносились до меня из каждой тенистой улочки, каждого квартала и хижины Фив.) Я больше не мог сдерживать все, что так болело во мне, и стал думать о Нефертари. Притом что с наступления Первого Дня Празднества, когда воды из сосуда в форме сма излились на землю и Усермаатра предстал во всем Своем величии, не было ни единого мига, чтобы я не думал о Ней. Тогда я был потрясен дважды, и дважды по моему телу прошла дрожь: ибо в тот самый миг, когда над огромной толпой взметнулись сладкие стоны и резкие крики, повторяющие те, что люди в ней издавали в моменты своего собственного наивысшего любовного торжества, я оказался плененным своей презренной преданностью этому божественному мечу — да! я снова желал, чтобы Усермаатра использовал меня. Какой сокрушительный удар нанес я собственной гордости, признавшись в этом самому себе! Однако, сказав это, я вновь очутился близко к Нефертари и узнал, как много я хранил в своей душе на протяжении этих несчастливых часов, проведенных на службе у хеттской Принцессы, которую я не мог понять. Мои чресла болели от желания обладать Нефертари. Мой собственный член тоже восстал. Когда из сосуда пролилась вода, я мог отчетливо слышать Ее слова: „Ты — Мой медленный огонь, Мое счастливое имя, Мое соитие, Моя сладость. Мой сма" — и услыхал собственные стоны, сливающиеся со стонами остальных, и не мог оторвать глаз от могучего меча Фараона. Итак, дрожь прошла по мне дважды. С тех пор я стал бродить по всему городу, переходя от одного торжественного собрания к другому, и в эту вторую ночь был готов вторично искать возможности войти в Ее спальню, но теперь вокруг Ее Дворца повсюду была расставлена стража, и, кроме того, как бы сильно я ни желал Ее, во мне не было надежды. Мои чувства были слишком насыщенными. Я был пьян трижды на дню и ни разу не протрезвел, прежде чем начать пить снова. Я почти спотыкался, голос мой охрип, и лишь Ее слова оставались ясными в моей голове, и они сводили судорогами мои члены и согревали тело сильнее, чем вино. В ту ночь я заснул в своей постели один, с руками на чреслах, чтобы унять боль — а это жалкая поза для мужчины, которому за пятьдесят и которого все еще называют Командующим.
В то утро я встал поздно, а затем отправился в Покой для Переодеваний, откуда вышел Усермаатра, на котором была лишь короткая белая юбка с привязанным к ней бычьим хвостом, золотое ожерелье на груди и Белая Корона Верхнего Египта на голове. В руке Он держал посох, украшенный несколькими цветами лотоса. Когда я увидел, что в другой Своей руке Он держит квадрат из отличного твердого папируса, обрамленный золотыми листьями, то понял, что Он собирается посвятить Амону поле, принадлежавшее Нефертари — отличный участок у реки. Поскольку это был Ее подарок, могу сказать, что, несмотря на все мое обжорство мясом и обилие выпитого вина, в тот миг даже мои ступни ожили при мысли, что Она наконец должна появиться Сама. Ведь Она не могла не появиться. Это поле было подарено Усермаатра Нефертари в день Их свадьбы. Теперь оно возвращалось в прежнее владение. В тот день, когда Она виделась с Визирем, Она даже рассказала мне об их разговоре, касавшемся этой земли. „Это прекрасный подарок в день Его Божественного Торжества", — сказала Она тогда, и я понял, что так Она защищала Себя от полного забвения в те пять дней и ночей. И намерения Ее увенчались успехом. Я слышал также, как Маатхорнефрура спрашивала Усермаатра: отчего Он обязательно должен находиться наедине с Нефертари при посвящении земли Амону. „Это Ее поле, — ответил Он наконец, — из вежливости по отношению к Ней Я не могу просить Тебя быть там в этот час". При этих словах Маатхорнефрура вышла из покоя.
То, что я заранее даже не подумал хорошенько об этом, не понял, что это событие может предоставить мне возможность перемолвиться словом с Нефертари, показывает, насколько я был ослеплен жалостью к самому себе, какой отравой был подобный упадок духа Поэтому, когда наступил момент Ее появления, я увидел, что нахожусь среди свиты совсем не там, где следовало бы. В тот день сыновьям Нефертари выпала честь быть в числе тех, кто нес Его Золотое Чрево, а я, одетый в цвета Маатхорнефруры, находился далеко от того места, на расстоянии множества повозок Царской свиты. Когда мы подъехали к полю, превратившемуся за эти годы в прекрасную рощу с редчайшими тенистыми деревьями на берегу реки — действительно безмятежное место для Храма Амона, который вскоре предполагалось здесь воздвигнуть, — я был вынужден спешиться на некотором расстоянии от Усермаатра и лишь тогда увидел Нефертари, приближавшуюся с другой стороны в больших закрытых носилках, поставленных на повозку, запряженную шестеркой великолепных лошадей. Она поднялась на ноги, когда жрецы и избранная знать, приглашенные присутствовать при этом редком обряде, приветствовали Ее проезд, но по команде, отданной Ею возничему, Ее повозка остановилась на стороне поля, наиболее удаленной от нас, конечно же, так далеко, что я не мог поймать Ее взгляд.
Теперь Усермаатра поднял Свой папирус и начал торжественный обряд передачи земли Храму».
«Знаешь ли ты, — спросил Птахнемхотеп, — название этого папируса?»
«Нет, не знаю».
«Тайна Двух Участников. Имеются в виду Хор и Сет. — Я мог ощущать удовольствие, которое доставляло моему Отцу это знание. — В те дни, — продолжал Он, — ни один дар Фараона не мог быть освящен без получения Воли Геба. Такая Воля воплощалась в папирусе с золотыми краями».
«Я забыл», — сказал Мененхетет.
Какого значения был исполнен трепет в членах моего Отца! Я снова почувствовал в Нем желание говорить голосом Его предка. Он встал и принялся обходить четыре стороны крытого внутреннего дворика, так же как, должно быть, Усермаатра обходил границы того поля, что возвращалось к Нему от Нефертари. «Я бегу, — произнес Птахнемхотеп голосом Усермаатра, и то был могучий голос, выходивший из таких каверн в груди моего Фараона, что перед ним не дрогнул бы только Великий Бог, — Я бегу, — сказал мой Отец, — с Тайной Двух Участников. Ибо это Воля, данная Мне Гебом. Я видел Его глаза. Я узрел огонь в той пещере. Я прикасаюсь к четырем сторонам земли».
Закрыв глаза, я прислонился к моей матери. Я мог слышать хор у реки, и не знаю, через сколько лет долетели до меня эти звуки, но я слышал, как хор поет:
Фараон обходит четыре предела поля. Он касается четырех сторон небес. Поле переходит к своему новому хозяину.И голос моего Отца, равный теперь в моих ушах голосу Усермаатра, донес до меня ответ: «Я — Хор, Сын Осириса. Амон — Мое дыхание. Ра — Мой свет. Амон-Ра — Мой Божественный Свет и Дыхание». Теперь Усермаатра шел в лучах солнца, и с каждым вздохом Он вдыхал разряженный воздух Богов. Поле перешло от Дворца к Храму, и толпа издала долгий вздох, какой испускают матери, разрешившись от бремени, а этот звук был знаком мне, так как я часто слышал его, когда в кварталах слуг рождался ребенок.
И Усермаатра поднял Свой посох, украшенный цветами лотоса, и услышал голоса Египта, говорившие с Ним. На Него снизошло благословение Двух Земель. Вновь Его меч исполнился мощи, и мощь Его была огромна. И Он перешел на дальнюю сторону поля, где в Своих носилках ожидала Нефертари, и Он вошел в эти носилки и опустил за Собой полог, чтобы никто не смог Его увидеть. Но я слышал Его голос. Его донес до меня голос моего Отца.
«Глаз Хора — меж Ее ног. Он знает каверны земли». Я слышал звуки дыхания Усермаатра. «Столб Осириса ударяет в Глаз Хора. Боги соединились». Затем я увидел лик солнца, отраженный в пруду, и он вспыхнул меж Ее бедер.
В следующий момент я услышал, как мой Отец бормочет голосом Усермаатра: «Я не говорил с Ней. То говорили Боги». Мой Отец, изнуренный той близостью к Своему предку, в которой Он пребывал, отодвинулся от всех нас и сел в одиночестве на другое кресло.
Раздался голос Мененхетета. Негромким, сухим тоном он сказал:
«Все, кто был на краю того поля, видели, как Усермаатра опустил полог носилок. И ни у кого не было сомнения в том, что произошло. Все слышали долгий крик радости Нефертари. Ее всхлипывания были исполнены блаженства, звуки Ее стонов — низкими. Воистину Боги соединились. К ночи не могло остаться ни одного чиновника, вельможи или слуги, кто не слыхал бы об этом событии. И когда Усермаатра уходил с поля, Он познал тоску каждого фиванского бродяги в преддверии неизвестности ночи. Все то напряженное ожидание неотвратимых грядущих событий, что пребывало в городе, стало нарастать в его улицах».
И, сидя подле матери, я еще раз остро ощутил отсутствие Неф-хепохема. Словно гнев призрака коснулся меня.
ДЕВЯТЬ
Когда Птахнемхотеп остался сидеть в стороне от нас и не стал отвечать на слова моего прадеда, тот обратился к Нему: «Не знаю, как удалось Тебе соединить Свою мудрость и мои описания, что Ты достиг такой полноты понимания Своего предка, но все так и было. Усермаатра-Сетепенра произнес именно те слова, которые повторил Ты».
Мой Отец не подал вида, что услышал сказанное. Им владело изнеможение. Думаю, что, дерзнув принять в собственное горло могучий голос Своего покойного предка, Он уподобился робкому наезднику, позволившему необъезженной лошади перейти под ним в галоп. Как и все решившиеся на слишком многое, такой человек лишается затем дара речи. Но тут, словно искушая выздоравливающего утонченными яствами, мой прадед заговорил. Он сказал, что, когда стоял на том поле, зная, что Усермаатра сейчас с Нефертари, в сердце его боли пребывало сокровенное знание. Никогда не был он так близок к мыслям Усермаатра. И все потому, сказал он, что до этого ему удалось, хоть и коротко, переговорить с самой Маатхерут.
И на исходе той ночи в глазах моего Отца вновь промелькнул отблеск луны. В них вспыхнул интерес, Он слегка подвинулся и снова осознал присутствие моей матери — я ощутил, как ожила ее плоть. Ободренный Его вниманием, мой прадед продолжал говорить, а я в свою очередь скользнул обратно в тот полусон, в котором чувствовал себя так удобно и где мне не надо было вслушиваться в каждое произнесенное слово, и все же я знал все, о чем говорилось.
«Да, — заявил он, — я увиделся с Медовым-Шариком перед самым обрядом Посвящения Поля. Я просто наткнулся на нее, когда проходил мимо длинного ряда важных особ из номов Дельты. И среди них оказалась Медовый-Шарик со своими родителями и сестрой. Она тотчас представила меня своей семье. В ее отце можно было сразу распознать очень богатого человека, ухоженного множеством рабов. Из-за необычайной гладкости кожи его лицо явно напоминало пухлые ягодицы — такие лица бывают лишь у богачей, он был толстым, и от солнца кожа его была темной. Мать же Медового-Шарика походила на хрупкую статуэтку — просто жемчужина красоты. А между ними стояли Медовый-Шарик и ее сестра, не отличавшаяся ни полнотой, ни красотой моей возлюбленной Маатхерут.
Я поклонился и поцеловал ее руку. При виде меня ее отец остался совершенно невозмутимым, и я понял, что он мало что знает о нас или вообще не слыхал моего имени, но теперь к моей тоске по Нефертари добавилось еще и замешательство из-за того, что я увидел мою давнюю подругу в месте столь несхожем с тем, куда уходили корни наших воспоминаний. Как я уже сказал, я всего лишь поцеловал ее руку, но в тот краткий миг я понял, что неким образом я навсегда поселюсь с Медовым-Шариком. Возможно, я никогда больше ее не увижу, или никогда с глазу на глаз, моя плоть никогда снова не войдет в ее тело, и все же я буду жить с ней всегда. Это будет не самый счастливый дом, который я мог бы для себя избрать, но именно он станет моим домом во времени грядущем. Вот как много узнал я, омытый волной всего того, что вернулось ко мне с такой силой, что я едва не лишился чувств или, вернее, чуть не утонул в этих ощущениях, когда ее воздействие подавило мою волю и я ощутил силу ее способности защитить то, что она любит, но также и великую гнетущую тяжесть ее духа. В тех немногих словах, которыми мы перемолвились с ее отцом, он успел сообщить мне, что еще никому в Саисе не удалось поднять над своей головой такой же тяжелый камень, какие в молодости поднимал он. Эта необычайная сила пребывала и в ней. Помню, когда я пошел своей дорогой, я вдруг ощутил чудесную близость к Усермаатра, словно Он находился рядом, или, вернее, казалось, я вернулся в то время, когда гулял по Садам, а свиное рыло пребывало между моих нижних щек И тут я понял, и с каждым шагом, уносившим меня от нее, эта уверенность все крепла, что с тех пор, как я покинул Сады, Медовый-Шарик часто бывала избранницей Усермаатра.
Это открытие стало еще одним болезненным ударом, нарушившим мое душевное равновесие, однако оно не шло ни в какое сравнение с тем страданием, что мне пришлось пережить на поле, когда благодаря тем способностям, которые, должно быть, даровала мне Медовый-Шарик, я ощутил радость Нефертари в тот миг, когда Она отдала глаз Своей любви Усермаатра. Ее чрево исторглось с неистовством множества Богов, и я получил удар в сердце.
После, к вечеру, когда я в тоске брел к Колоннам Белой Богини, я впервые смог ощутить горе Маатхорнефруры. И лишь когда я оказался в стенах Ее Дворца, Ее мысли тоже пришли ко мне, почти осязаемые, более ясно ощутимые, чем запах. И все, о чем Она думала, говорило о конце Ее любви к Усермаатра. Ее грусть обрушилась на меня, подобно холодному ливанскому ливню. Казалось, комнаты, окружавшие Ее покои, наполнены слезами, словно заболел Ее сын, но еще до того, как я увидел лицо Маатхорнефруры, я понял, что прикосновение моих губ к руке Медового-Шарика открыло для меня мысли и Маатхорнефруры. Хоть я и не знал Ее языка, но все равно мог находиться рядом с тем, о чем Она думала. Так я узнал, что Она вернулась к жизни со своими Богами. Они предстали перед Ее внутренним взором — у Ее Богов были густые бороды, и я узнал Мардука, Он выглядел таким, каким я видел Его на одной из Ее хеттских печатей. Там, в Своих мыслях, Она навещала могилу в таком месте, куда никто не осмелился бы прийти. Из-под земли доносились громкие стенания. Не знаю, была ли то могила Марду-ка, но я увидел пронесшуюся мимо колесницу Бога, и она была пуста. Кренясь из стороны в сторону под темным небом, колесница помчалась вдаль по пустынной дороге.
Когда Маатхорнефрура призвала меня, нам с Хекет пришлось ждать рядом с Ней, пока Она отправляла хеттский обряд. Из маленького кувшина в чашу с водой наливалось масло, и Она изучала форму пятен, расползавшихся по поверхности воды. Эти пятна приняли бы ту же форму и в Ее стране, сообщила Она нам. „Если бы Я никогда не бывала в Египте и не знала бы никого из вас, но провела бы этот обряд в тот же день и в тот же час, масло в воде приняло бы те же формы. Потому что оно поведало бы то же самое". Я не стал говорить Ей, насколько сомневаюсь в этом. В воздухе каждой страны пребывают разные Боги, это я знал. Но тут Она подняла голову от чаши и сказала нам: „Одна из маленьких цариц родила чудовище. В семени Моего мужа обитают чудовища". При этом Она заглянула мне прямо в глаза, лучше бы Она посмотрела на Хекет, которая при этих словах издала вопль ужаса, потому что не кто иной, как Хекет, родила несколько месяцев назад.
Не знаю, действительно ли Маатхорнефрура заговорила об этом чудовище, ничего не ведая о нем, или Она узнала о его существовании по форме масляного пятна, или по какой-то причине Она желала поиздеваться над Хекет, но в этот миг Ее сознание стало пустым, как Око Маат перед рассветом, и Она продолжала: „В Моей земле рождение такого чудовища несет несчастье Царю". И вскоре Хекет ушла, сославшись на удушье. Я подумал, что, может быть, смысл этого колдовства Маатхорнефруры заключался именно в том, чтобы остаться со мной наедине, так как Она склонила голову и позвала слугу, который внес накрытую крышкой серебряную чашу. Слуга снял крышку, и там оказалась баранья печень. Как только он ушел, Она вынула ее и положила на серебряное блюдо, после чего прикоснулась ко многим местам печени Своим указательным пальцем и долго рассматривала ее доли, все это время — в знак гостеприимства — не скрывая от меня Своих мыслей.
Поэтому я знал, что Она вспоминала барана, которому принадлежала эта печень, когда он был жив. Собственно, выбрала она этого барана за красиво изогнутые рога. Перед жертвоприношением она даже прошептала на ухо животному несколько слов на египетском — в конце концов, это ведь было одно из наших животных. „Станет ли Мой ребенок Фараоном?" — спросила Она. И теперь форма печени сказала Ей: „Станет, если другие Принцы не убьют Его Отца", — во всяком случае именно так я истолковал послание. Ибо Она увидела, как Аменхерхепишеф семь раз вонзает Свой нож в спину Своего Отца в тот момент, когда Усермаатра лежит на женщине, и, да, эта женщина — Нефертари. Но не знаю, печень ли подсказала Маатхорнефруре эти мысли или Она решила показать мне эти образы, чтобы я рассказал о них Фараону. Мы сидели в молчании.
Она спросила: „А ты знаешь, что старый, умерший Фараон, Рамсес Первый, дед Моего мужа, был простолюдином?" „Не знаю".
„Он умер на второй год Своего Правления. Я думаю, что простолюдин умирает от страха, когда ему приходится быть Царем. — Она кивнула. — Так это случилось".
„Мне об этом ничего не известно", — сказал я.
„Да, Рамсес Первый, дед, был простым воином. Я узнала это из папируса в Царском Хранилище рукописей. Он бьи старшим Надзирателем за Лошадьми. Затем Его повысили, Он получил должность Старшего Надзирателя за Ртами Реки, а потом он стал Командующим Войсками при Фараоне Харемхебе, который, должна сказать, тоже бьи простым воином".
„Я знаю об этом", — сказал я. На самом деле я этого не знал.
Я мог бы Ей сказать, что никто никогда не говорит об этом Рамсесе Первом, правившем перед Сети. Можно было услышать истории о древних Фараонах вроде Тутмоса и Хатшепсут, но все Они умерли задолго до того, как кто-либо из нас увидел солнце.
„Ваш Сети Первый, — сказала Она, — был уважаемым Царем и правил почти двадцать лет. И все же Он сын выскочки. Сын выскочки сам остается выскочкой. Так же как и внук. Когда Я попала в Египет, то не знала, что Сесуси — внук выскочки. Думаю, Мой отец не послал бы Меня, знай он это. — Она вздохнула и оттолкнула прочь баранью печень. — Я полагаю, Моего мужа трудно понять, ты согласен со мной? — Не успел я хоть что-то ответить на подобное замечание, как Она сказала: — Я никогда не знала Царя, Который проводил бы столько времени со жрецами. Я думаю, это оттого, что Он — выскочка".
Я думал о Царице Нефертари, которая лежала в темноте за закрытым пологом носилок. Ее ноги были раздвинуты Фараоном, дед которого был таким же простым воином, как и я. В то время как сама Она происходила от Хатшепсут.
Отчего Нефертари никогда не говорила о Рамсесе Первом? Моя Царица стыдилась? Теперь, в момент, когда я думал об Усермаатра, я не осмелился произнести это вслух, но раз величие Фараона — достоинство, которое обеспечивается Ему тем, что Его короновали, тогда Боги Египта могут при желании сделать Богом любого человека Я сказал себе, что был Командующим-всеми-Войсками и поэтому могу стать Фараоном! Точно так же, как Харемхеб и Рамсес Первый до меня.
Маатхорнефрура произнесла: „Вот, возьми Меня за руку. Когда Мне одиноко, Мне нужен друг".
Поскольку я знал, что прикосновение руки к Ее руке может произвести на Нее поразительное воздействие, то почувствовал себя неловко. Однако таковы были мысли, только что пришедшие ко мне в голову, что я почувствовал себя готовым и к этому. Я взял Ее руку. Должен сказать, я был приятно поражен. Мне никогда не доводилось держать в своей руке такой нежной руки. Затем Она одарила меня сияющей улыбкой, будто под Ее золотым париком не смогла бы укрыться ни одна мрачная мысль, и протянула мне розу. Свежий цветок розового цвета. „Бутон раскрылся этим утром", — сказала Она.
Я поднес цветок к носу, другой рукой касаясь Ее ладони, и почувствовал, как по его лепесткам ко мне поднимается Ее грусть. Не знаю, нравилась ли Она мне, но из той музыки, что звучала в Ее сердце, столь отличной от моей, одна нота, наверное, была для нас общей. Ибо мы чувствовали одинаковую печаль.
Так мы сидели, держась за руки, и на меня вновь нахлынули воспоминания о Битве при Кадеше. Она родилась после того дня, но жила в тени той битвы. Итак, как я уже сказал, я знал Ее горе. Я даже услышал Ее беззвучные причитания, когда Усермаатра и Нефертари изверглись в объятиях друг друга.
Притом что в Ее покоях не было окон, из которых было бы далеко видно, я все еще был так близок к мыслям Усермаатра, что вскоре почувствовал, что Он уже в пути, собственно, уже идет по дорожкам Дворца. Правду сказать, я так хорошо подготовился к Его приходу и был так спокоен, что не выпустил руки Маатхорнефруры, пока не услыхал Его шаги в соседней комнате. Затем наши пальцы разомкнулись, задержавшись на мгновение, как расходятся любовники после поцелуя.
Я ждал в смежном покое. Теперь с Ней был Усермаатра и держал Ее за руку. Я слушал. Никогда не ощущал я в себе такой нежности, как никогда ранее до такой степени не чувствовал себя столь отлично от мужчины, даже тогда, когда Усермаатра обращался со мной как с маленькой царицей. В такие моменты все во мне чудовищно сжималось. Чем сильнее Он заставлял меня чувствовать себя женщиной, тем больше я страдал как мужчина. Но теперь, словно крики наслаждения Нефертари оставили во мне незаживающую кровоточащую рану, я ощущал себя таким же умиротворенным, как Нил, когда воды разлива идут на убыль, и как никогда погруженным в тоску. Ведь река могла вобрать в себя и слезы всех, кто когда-либо плакал. Эта грусть еще более усилилась, когда Усермаатра взял Ее за руку. Ибо, несмотря на все Их вздохи и тяжкое молчание, я ощущал вероломство в руке Маатхорнефруры, лежавшей в Его ладони.
У хеттов, сказал я себе, четыре времени года, а не три. Потому и Ее рука как четвертый рот, а Ее сердце устроено более тонко, чем наши. Подобно изгибам в едва заметных углублениях, оставленных Ее пальцем в печени, которую Она так долго изучала, Ее жестокость должна быть столь же утонченной, как и Ее сердце. Я точно знал, что в эту ночь Она решила говорить о Битве при Кадеше и не проронит ни слова о Нефертари. И все же я был уверен, что еще до того, как Она закончит, полученная рана заставит Его страдать».
Здесь Птахнемхотеп прервал моего прадеда, и звук Его голоса пробудил меня от сладчайшей праздности, в которую я был погружен. Ибо голос моего Отца был хриплым, будто Он восстановил Свои силы, но спешит воспользоваться ими до того, как вновь их лишится.
Он начал: «Ты не сказал, о чем думал Мой предок». «Не сказал», — согласился Мененхетет. «Знал ли ты Его мысли в тот час?»
Мой прадед кивнул. «Могу сказать, что силою чар Маатхерут я мог знать Его мысли».
Мой Отец был удовлетворен ответом, но чувствовал сильное волнение. «И Я тоже берусь утверждать, — сказал Он моей матери, обращаясь как к ней, так и к моему прадеду, — что пребываю во власти чар вашей семьи. Ибо Я также знаю Его мысли. Я тоже могу видеть, как Он возвращается в Колонны Белой Богини, и такое видение редко, но… — Птахнемхотеп помедлил, будто Его решимость была слишком дерзкой, — …сейчас Он идет по дорожке один».
«Я вижу это точно так же», — сказал мой прадед.
•«Тогда скажи Мне, правильно ли то, чем Я обладаю из Его мыслей. Мне кажется, что Он пытается, как и Я, вызвать перед Своим внутренним взором благородные свершения великих Фараонов, Своих предков. Он говорит Себе, что Аменхотеп Второй убил более ста львов. Он думает также о Тутмосе Третьем и о кораблях Хатшепсут. Теперь Он чувствует Себя несчастным, потому что Ему приходится пройти мимо зеркальной глади пруда, где Его голова ударилась о камень. При воспоминании об этом Он ощущает сильную боль в чреслах. Точно ли это?»
«Это в полной мере соответствует действительности», — сказал мой прадед.
«Его живот, — теперь мой Отец чувствовал Себя более уверенно, — переполняет боль. Он чувствует страх перед Тутмосом Великим. Камни Тутмоса переворачиваются в Его внутренностях. Затем Усермаатра спотыкается и чуть не падает, опьяненный колоби, которое Он пил с того часа, что провел с Нефертари. Многие Боги роятся в Его мыслях. И тем не менее Он принимается петь:
У Египетской Принцессы темные и бездонные глаза, Я проведу с Ней ночь под звездами. Как сладок вкус меда у Нее во рту».Мененхетет поднялся на ноги.
«Он пел эту песню?» — спросил мой Отец.
И вновь мой прадед кивнул.
«Но песня не прогнала Его страх, — сказал Птахнемхотеп. — Как только Он входит в залы Белой Богини, чтобы увидеть Маатхорнефруру, Его сердце, как у жеребца, начинает стучать в Его груди. И все это время Он повторяет про себя имя Кадеша. Грохот битвы отдается в Его сердце, покуда Он не ощущает Себя Фараоном с еще никогда ранее неведомой силой. Ему и вправду нравятся имена хеттских Богов, поскольку они напоминают Ему о Кадеше. Он произносит их про себя: Каттиш-Хапиш, Вализалиш. Это так?»
«Совершенно точно. Ты услышал все в полной мере», — сказал Мененхетет и, чтобы показать, как он тронут, перешел крытый внутренний дворик, преклонил колени и поцеловал землю у ног Фараона. Мой Отец с улыбкой счастья на лице в Свою очередь преклонил колени и взял Мененхетета за большой палец ноги.
И я узнал слово, означавшее для этих двух великих мужей все, что исполнено высшего совершенства. Этим словом была точность.
ДЕСЯТЬ
На этот раз вхождение в мысли Усермаатра не поглотило силы моего Отца, и Он вернулся и сел с моей матерью и со мной. И, несмотря на Его тяжелое дыхание, я уверен, Он был доволен Своим свершением. Звук дыхания в Его груди перестал напоминать бурю, и легким жестом руки Он попросил Мененхетета возобновить рассказ, который Он прервал. В тот момент я был счастлив тем, что вернулся мой Отец — пусть всего лишь с противоположной стороны крытого внутреннего дворика, и уже я снова слушал (именно так, как мне это нравилось) у самого входа в сон, и вскоре все голоса слились для меня в журчание.
«Могу поведать вам, — рассказывал мой прадед, — что, возможно, Рамсес вошел в Ее покой с Кадешем на языке, но когда Маатхорнефрура не стала Его упрекать, а наоборот — предложила в дар Свою руку, Он с облегчением присел в тишине и успокоился. Затем, к Его удивлению, Маатхорнефрура стала говорить о Битве и рассказала Ему то, что Она слышала о ней в детстве. Слушая из соседнего покоя, я вскоре решил, что нельзя было выбрать лучшей истории, более соответствующей настроению, царившему той ночью в Фивах, где на каждом перекрестке горели костры. Действительно, дыхание людей было ближе дыму Кадеша, чем в любой другой из вечеров, что я провел у Нила.
„За год до того, как Ты выступил против нас со Своими могучими войсками, — сказала Она, — наши хетты пошли войной на Медее и одержали крупную победу. Ребенком я часто слышала воспоминания о том, с каким блеском ее праздновали. С городских стен наши жители вывесили тогда легкие ковры самых ярких расцветок: пурпурные, красные и синие — ярче, чем дневное небо, и все они были богато расшиты, так что вскоре стены стали походить на внутренние покои дворца.
Затем Мой дядя Муваталлу и его военачальники устроили великий пир, на котором пили из золотых и серебряных чаш, взятых из храмов завоеванных народов, и Мой дядя находил большое удовольствие, используя подобным образом священные сосуды побежденных. Приказав построить в своем саду решетку для вьющихся деревьев, он повесил на ней голову Царя Медеса. Когда он пил, то любил смотреть на эту голову, висевшую на ветке, — это придавало ему силы. Хотя Моему дяде и не нужна была такая сила. Он сам был почти великаном".
„Я не знал этого, — сказал Усермаатра. Он помолчал в большом сомнении, а затем все же спросил: — Он был выше Меня?"
„Я никогда не видела человека, выше Тебя", — ответила Она.
„Но, когда Муваталлу умер, Ты ведь была еще ребенком. Так что Ты не могла знать этого".
„Знать Я не могла, — согласилась Она, — но сыщется ли такой Царь, который вознес бы свою голову ближе к небесам, чем Ты?"
Он хмыкнул. „Хорошо ли Ты Себя чувствуешь?" Я ощутил Его желание предложить Свой язык Ее белокурым волосам.
„В этот час Я чувствую Себя слабой, — ответила Она, — но готова рассказать Тебе больше".
„Я хочу это услышать".
„Люди за стенами Кадеша, — сказала Она Ему, — знали о приближении египтян. Они получили известие в день, когда Твои войска покинули Газу. Разведчики на быстрых лошадях ежедневно прибывали в Кадеш, неся сведения о продвижении египтян. В городе царило великое беспокойство. Подобно тому как войска Усермаатра продвигались вперед, приближалось и время полнолуния. А утром после полнолуния наступает День Саппатту, и в этот день всякая тяжкая работа запрещена. В день Саппатту хетты не могли сражаться. В Кадеше надеялись, что египтяне прибудут наутро перед Днем Саппатту, и город не падет. Чтобы побудить египтян вступить в битву одним днем раньше, они даже провели особый обряд. В стенах города было разожжено множество костров, и жрецы произносили молитвы, обращаясь к огню. Муваталлу, однако, при этом не присутствовал. Явиться народу в такой момент для Царя — значило показать Свое безрассудство. Царь никогда не должен Сам касаться огня. Когда магия, — сказала Маатхорнефрура, — не сжигает его врага, она пожирает самого колдуна".
„Ну и где же он был, пока горели огни?"
„Готовился ко сну в своем Дворце. Он желал увидеть вещие сны".
„И как же он мог их обрести?"
„Я говорила Тебе как. Много раз. С помощью поста на протяжении целого дня. Вопрос, на который жаждешь получить ответ, также будет голоден.
Муваталлу не знал, приблизятся ли египтяне к Кадешу с левого или с правого берега реки. Он надеялся, что ему удастся задать этот вопрос Самому Мардуку, хотя достичь ушей этого Бога непросто. Это так же трудно, как перейти через пропасть по одному из огромных волос, что растут на голове у Бога. Так что для того, чтобы обрести совершенное равновесие, был необходим наичистейший сон".
„А что, если бы Мардук сказал ему о грядущих бедствиях?"
„Тогда, — ответила Маатхорнефрура, — можно было бы подготовиться к своей злой судьбе. Это лучше, чем слепо ждать".
„Я никогда не хочу слышать плохих предзнаменований", — сказал Усермаатра.
„Мы же, — сказала Маатхорнефрура, — верим, что лучше знать, чем надеяться".
Он хмыкнул. „И что случилось, когда он заснул?"
„Посреди ночи он проснулся с головной болью.
Это был недобрый знак. Если Боги не говорили, надо было дать обет. Жрецы обрили Муваталлу бороду и сбрили все волосы на его теле. Когда их собрали, тяжелые черные завитки переполнили большую чашу.
Верховный Жрец набил этими волосами вазу, запечатал ее, а затем был дан обет, что эта ваза будет доставлена в Газу и там погребена. Поскольку сражение, несомненно, должно было начаться до того, как самый быстрый гонец сможет добраться до столь отдаленного места, обет останется в силе, если он отправится в путь прежде, чем войска сойдутся. И вот посреди ночи они отослали гонца.
Однако, хотя гонец и ускакал, головная боль Царя не прошла. Все, кто находился рядом с Муваталлу, думали, что близится землетрясение. Их ноги скользили по камням, как по спине змеи. Должно быть, то был знак, что неприятель разрушит стены. При землетрясении земля теряет разум и падает много деревьев.
Тогда Верховный Жрец совершил над Царем редкий обряд. Он попросил Муваталлу отложить его скипетр, снять кольцо, корону и отстегнуть меч с ножнами. Затем у статуи Мардука Правитель склонился перед Верховным Жрецом. Поскольку у Муваталлу не было никаких царских отличий, Он уже не был неприкосновенен и с ним можно было обращаться как с простым человеком. Верховный Жрец принялся бить его по лицу, покуда на глазах у него не выступили слезы. Однако головная боль Муваталлу уменьшилась. Теперь у жителей Кадеша появилась надежда, что деревья не вырвет с корнем. И все же предзнаменования были неблагоприятными. За стенами Дворца посреди ночи стенали люди. Стало известно, что, пытаясь увидеть вещий сон, Царь проснулся с тяжелым сердцем.
Так как головная боль Муваталлу не проходила, жрецы объявили, что перед битвой должно использовать более рискованные чары. Однако они оставят Царя совершенно незащищенным. Поэтому Муваталлу должен быть отстранен от сражения. Вместо него предстояло послать на бой заместителя.
Царь, — сказала Маатхорнефрура, — сильно разгневался. Но, согласившись на обряд, он был связан словом, данным Верховному Жрецу. Все плакали, видя боль Муваталлу, вынужденного отказаться от участия в сражении, а он бился головой о стены своего Дворца.
На следующий день никто не знал, кого избрали заместителем Царя. Конечно, он ничем не обнаружил себя до того момента, когда Усермаатра вызвал на бой хетта, готового сразиться с ним на поле битвы. Тогда этот воин выступил вперед. Им был Первый Колесничий, великий мастер искусства владения мечом".
„То был, — спросил Усермаатра, — хетт с бешеным глазом?"
„Не знаю, о ком Ты говоришь, — ответила Она, — но хочу спросить: один его глаз отличается от другого, как у Аменхерхе-пишефа?"
Усермаатра издал глухой стон. „Они похожи, — сказал Он, — но в Своих размышлениях Я никогда не видел их вместе". Она кивнула.
„Теперь Я уже никогда не увижу их отдельно", — сказал Он. Вероятно, Он сжал Ей руку, так как Она негромко вскрикнула от боли. Когда Он извинился, Она сладчайшим голосом сказала: „Я и забыла, как пальцы убитых воодушевляют Твоих людей. — Мой Фараон неловко рассмеялся, словно не зная, как отнестись к Ее словам, а Она добавила: — Наши воины-хетты тщеславны и очень жестоки. Они говорят, что в ночь после битвы египтяне поступили как женщины".
„Как женщины?"
„Я часто слышала, как они говорили, что если бы с ними был Муваталлу и они выиграли сражение, то собирали бы не руки, но головы. Они отрезали бы голову и шею того маленького человечка, который живет между ног. Они часто говорили, что из египтян, с которыми так поступают, получается отличный суп".
Усермаатра вздохнул. „Я не знаю хеттов, — сказал Он Ей, — но Я бы не хотел сидеть в Моем саду, повесив на дерево голову Моего врага".
„Но Тебе не приходится переживать страдания, которые приносит Моему народу злая судьба, — сказала Она. — К следующей ночи головная боль у Муваталлу прошла, и он хотел выйти из ворот и уничтожить Тебя. Но он не мог этого сделать. В ночь, последовавшую за днем сражения, наступило полнолуние. Так что следующим днем стал Саппатту".
Мрак объял Усермаатра. Слушая Ее слова, я знал, что, подобно цепким корням виноградной лозы, им суждено пронизать Его гордость.
„Когда на следующее утро Ты ушел, — сказала Она, — Мой народ наблюдал с городских стен. Мы видели, в каком беспорядке отходит ваше войско, но не могли двинуться с места. Мы соблюдали День Саппатту. Единственным утешением для нас служило то, что египтяне совершенно не представляли нашей слабости в этот день и не попытались атаковать наши стены. И вот мы наблюдали, как Твои войска походным порядком покидают поле битвы. С того дня до моего рождения прошло целых семь лет, но я слышала эту историю много раз. Во сне Я до сих пор наблюдаю, как египтяне уходят прочь.
Когда вы все ушли, Мой народ вышел из города и принялся разыскивать на полях своих мертвых, которых мы принесли назад в Кадеш. В ту ночь мы оплакивали убитых. Наши голоса возносили отчаянные вопли в надежде, что наши стенания достигнут сокровенной тьмы ночи. Все еще светила полная луна, и нам были хорошо видны ужасные поля на другой стороне реки, и это зрелище заставляло нас, каждого хетта, спуститься в самые глубокие пещеры своих сердец, куда лунному свету никогда не проникнуть. Там мы оплакивали отчаяние всех Богов, томящихся в каждой горе. Если хотя бы один из Них, такой же великий, как Мардук, смог бы услышать наше горе, Он не был бы более связан безразличием прочих Богов. Он бы понял, что горюем мы о Нем. Поэтому причитания людей, ходивших по улицам Кадеша в ту ночь, были исполнены страдания, дабы тронуть каменные сердца наших Богов.
Однако, плач такой силы заставляет сокрушаться не только о страданиях, принесенных одним днем битвы. Тогда мы плакали и о тех болезнях, которые мучили нас долгие годы. Мы причитали о тех, кто далеко, и о бесплодных садах. Мы голосили о пустых бороздах и о всех наших детях, что умерли слишком рано, о мертвых мужьях и женах. Мы плакали о страданиях стариков, и о высохших реках, и о выжженных полях, о болотах, что душат рыбу, и лесах, которые никогда не видели солнца, и о пустыне, не знающей тени. Мы оплакивали стыд виноградника, плоды которого горьки, и мы стенали о всех часах, исполненных тяжести от всех несчастий, что ждут нас скоро, но нам еще неведомы.
Здесь, в этой стране, — сказала Она, — вы, египтяне, не голосите. Вы празднуете. Вы пируете со своими Богами. Мы же плачем о своих. Мы знаем, как Они страдают. Мы причитаем оттого, что богохульствуем, и мы оплакиваем тех жен, чьи мужья знали других женщин, и матерей, родивших чудовищ. Иногда мы рыдаем о тех, кто не способен плакать". Она принялась тихо напевать, но эти звуки походили на жалобную погребальную песнь, столь необычную для Усермаатра, что Он не знал, что ответить, и Он надел Свою Двойную Корону и молча вышел. Он не подал мне знака следовать за Ним.
Оставленный безо всяких распоряжений, я оказался низведен до последнего слуги, чья самая важная обязанность состоит в ожидании. Поэтому я прилег на диван в смежном покое, а Она долго беспокойно ходила по Своей спальне и наконец улеглась и через некоторое время заснула. Тут я ощутил, что мне заснуть не дано. Горести Усермаатра тяжким бременем навалились на мои собственные, и скоро я стал сомневаться в ценности сил, которыми наделила меня Медовый-Шарик, поскольку теперь я пребывал в том же мраке, что и мой Фараон. Я даже знал, что сейчас Он один и стоит в воде большого мелкого пруда Ока Маат, вода которого доходит Ему до колен. Мошкара роилась над Его головой, пока Он раздумывал в темноте над тем, что сказала Ему Маатхорнефрура, и на Его глаза набежали слезы. Ее волосы выпали. Он не знал, случилась ли эта потеря из-за того, что Он сдвинул с места камни Сети и Тутмоса, но Он молился о том, чтобы Ее волосы вернулись, а они не выросли вновь. Он думал о тех судорогах, что отпускали Ее тело во сне, и о том, как Она яростно храпела в Его объятиях — весьма необычный звук для молодого горла. Он походил на хрюканье диких кабанов в сирийских горах. Прошлой ночью Она снова храпела, и Он обнаружил, что тоскует по благовониям, которыми умащала себя Нефертари. Но Он не знал, как загладить Свою вину. Ведь Маатхорнефрура сказала, что египтяне не рыдают.
Он вспомнил о торжественных обрядах в Храме Осириса в Абидосе. Тридцать пять лет прошло с тех пор, Он присутствовал на них в далекий год Своей Коронации, и никто никогда не слыхал звуки, сравнимые с теми ужасными воплями, которые издавали мужчины и женщины, стоявшие за воротами Храма в Абидосе. Их вопли могли бы исходить из-под самой земли, из скал и корней, из необработанных камней, предназначенных для храмов, которые еще предстоит построить. И вспомнив эти жуткие крики, Он вздохнул и, выйдя из воды Ока Маат, вернулся наконец в Ее покой и пролежал рядом с Ней всю ночь. Но Она не пошевельнулась, и в темноте Он много думал о Храме Осириса в Абидосе, ибо когда Он был юношей в первые месяцы того года, в который должна была произойти Его Коронация, тело Его Отца Сети готовили к погребению, и оно лежало свои семьдесят дней в священном солевом растворе. И пока плоть Его Отца превращалась в камень, Он часто думал о Боге Осирисе и, совершив путешествия вниз и вверх по Нилу, чтобы посетить священные города Омбос [61] и Он, а также Храм Птаха в Мемфисе, Он прибыл наконец, со страхом и волнением, в Абидос — самый священный изо всех городов, в действительности первый среди всех священных мест, так как здесь Исида погребла голову Осириса».
«Я это знаю», — совершенно неожиданно сказал мой Отец, и я увидел, насколько Он готов говорить, ибо мысли Его пришли в движение так же внезапно, как мы ловим палку, брошенную нам во сне. «Да, — сказал мой Отец. — Когда Он вернулся к постели Маатхорнефруры, Он действительно вновь услышал вопли многочисленной толпы в Абидосе, но в темноте, Мне кажется, Он оставил долгие раздумья о Ней, а вместо этого вспомнил Свое посещение небольшого храма Его Отца в Абидосе. Так?»
«Совершенно верно», — сказал Мененхетет.
«Да, я знаю Его мысли, — сказал Птахнемхотеп. — Храм, посвященный Его Отцу не был закончен и стоял заброшенный у реки, и Усермаатра задумался о последних годах болезни Своего Отца, когда Сети был слишком слаб, чтобы надзирать за строительными работами, и умер с омраченным сердцем. Сети, возможно, был сильным человеком, но умер Он в большом страхе из-за невежества Своего Отца, первого из Рамсесов, Который не будет знать, как приветствовать Сети, когда Тот придет, чтобы соединиться с телом Осириса в Стране Мертвых. Итак, Сети познал ужасный страх Своей смерти и всегда говорил об Осирисе с большой почтительностью. Действительно, никто не был так предан Храму Осириса, как Сети. Перед столь великим Богом Он в смущении произносил собственное имя. Он боялся, что его созвучность имени Сета может быть воспринята как оскорбление. Когда Он заложил новый Храм в Абидосе (который теперь Усермаатра нашел незаконченным), то жрецы, которым предстояло выполнять для Него работу архитекторов, дрожа, сообщили Сети, что дом почитания, посвященный Осирису, не может позволить Сету расположиться среди Богов, имена которых начертаны на его стенах. После этого жрецы почти потеряли дар речи, так как далее им предстояло сказать Сети, что Его Имя может быть записано здесь только как „Осирис Первый". Сети не поднял ни меча, ни копья, ни хлыста. Вместо этого Он дал согласие. Настолько велик был Его страх. Усермаатра, сидя в недостроенном храме Своего Отца, был растроган Его смертью и поклялся закончить строительство.
И вот, погруженный в мысли об этой клятве, которую Он не сдержал (а впоследствии еще и преступил настолько, что перевез некоторые из камней из Абидоса вверх по реке для собственного строительства Зала Празднеств Царя Унаса), Он встал с постели Маатхорнефруры в большом смущении и вернулся к заболоченному пруду, чтобы встретить восход солнца в этот Четвертый День. Затем Он проследовал в Тронный Зал. Там, на Троне, Он надеялся предаться мыслям о торжественном обряде, которым этим утром будет освящен День Осириса здесь, в Фивах, а не в Абидосе, в этот год Его Божественного Торжества.
Но, когда Он сидел в объятиях Исиды и познал Ее как Свой Трон, имя Сета вошло в Его мысли, нарушив Его покой, и Он уже не мог размышлять о тех ритуалах, которые Ему предстояло отправлять в тот день. Вместо этого Он вспомнил первый год своей женитьбы на Нефертари, когда, чтобы угодить Своему Отцу, Он назвал Их первого сына Сетхепишефом и часто произносил это имя перед Сети. Однако так плохо Он исполнял клятвы, данные Своему Отцу, что как Сети был принужден почитать имя Осириса более Своего, так и Усермаатра после смерти Отца изменил имя Сетхепишеф на Аменхерхепишеф. Теперь Он вздрогнул в объятиях Исиды, и мысли Его утратили стройность. Даже когда Верховный Жрец произнес: „Ты — на Своем Троне, Великий Царь, и имя Ее — Исида: Тело и Кровь Твоего Трона — Исида", эти произнесенные нараспев слова не успокоили Его. Скорбь объяла Его на Троне Исиды. После Его смерти Хор больше не будет пребывать в Нем, а Он — в Хоре. Он войдет в Страну Мертвых и поселится в Повелителе Осирисе. Но будет ли принадлежать Ему любовь Исиды? Кто мог высказать, что Его женщины любят Его, как Исида?
Исполненный этих горьких мыслей, Он оставил Тронный Зал и поднялся в Свой паланкин. В этот день Маатхорнефрура должна была сопровождать Его. Как только в солнечном свете Он увидел, как бледна Ее кожа под Ее сияющим золотым париком, Он понял, что Она больна. А когда Она села подле Него и не предложила Своей руки, но лишь взглянула без улыбки в сторону приветствовавших Их приглашенных в то утро ко Двору Великих, Он вздрогнул и, когда вышел из Золотого Чрева и преклонил колени перед святилищем Осириса, был необычайно мрачен. Он попытался думать о зерне, которое выйдет из земли, но смог представить Себе лишь Бога Осириса, заключенного в ее глубинах.
Однако, когда жрецы запели, Он вспомнил, как на полях женщины призывают имя Исиды, перед тем как срезать первый колос пшеницы. Они молотили пшеницу, а когда веяли ее, Исида поднималась на небеса.
Перед храмом Осириса Он слушал, как жрецы поют:
Осирис есть Унас, пребывающий в нарезанной соломе. Он испытывает отвращение к земле. О, осуши Его раны. Очисти Его Глазом Хора. Ибо Унас поднялся и унесся На небеса! На небеса!И вот Усермаатра увидел, как Фараон Унас поднимается на небеса, и в Своем сердце попытался припомнить, как во снах Он с Унасом поедал плоть Богов».
Здесь мой Отец прервал рассказ. «Я мог бы продолжить, — сказал Он, — но далее пришлось бы описывать множество обрядов, и в Моих мыслях Я слышу сильный шум, а Я не хочу рисковать получить головную боль Муваталлу. Поэтому расскажи Мне о том, что ты делал в тот день и был ли с Нефертари. Это то, чего Я не могу видеть».
Вновь мой прадед кивнул. «Именно так, — сказал он. — Я был с Нефертари».
ОДИННАДЦАТЬ
«На самом деле, — сказал Мененхетет, и голос его звучал ровно, будто, согласно равновесию Маат, теперь ему долженствовало говорить, а Птахнемхотепу отдыхать, — в своих мыслях я ощущал близость Нефертари все то время, что стоял среди свиты Усермаатра, когда Он преклонил колени перед святилищем Осириса, но только после того, как Он вернулся в паланкин и Их с Маатхорнефрурой отнесли обратно в Покой Облачений переодеться для следующей церемонии, я стал чувствовать, что Нефертари не просто думает обо мне — и впервые за эти четыре дня! — но Она желает меня. Тогда я оставил свое место в рядах приближенных, что в тот момент не представляло труда. Приезжие вельможи напирали со всех сторон, изо всех сил стараясь протиснуться поближе. Я же смог незаметно выскользнуть из толпы придворных и, выйдя за ворота Дворца, отправился бродить по запруженным народом улицам Фив, чувствуя, что уже с утра пьян — с предыдущего вечера, и вновь я ощутил близость Нефертари, словно Она была где-то рядом, однако в окружавшей меня шумной толпе эта моя уверенность оказалась изрядно забрызгана грязью и пропитана дымом, не говоря уже об устрашающем количестве раз, когда меня останавливали люди из толпы, которые по моим дорогим одеждам сразу определяли мою принадлежность ко Двору Великих и потому желали услужить или просто заговорить хотя бы для того, чтобы потом рассказывать, что беседовали с вельможей. Я вернулся ко Двору Великих, поклявшись себе, что больше никогда не выйду в город в белых одеждах без колесницы, которая ограждала бы меня от народа! Итак, как только я очутился в Колоннах Белой Богини, я ворвался в комнату плотника, забрал его обноски и снова вышел, теперь уже из ворот для слуг, надев только набедренную повязку и повязав голову.
Можно было бы подумать, глядя, как я устремился вперед по тенистым улицам, прокладывая себе дорогу через фонтаны на каждой небольшой грязной площади и грязные канавы, заскакивая в водоводы старых скрипучих шадуфов и пробегая под ними, чувствуя на своем лице дыхание пьяниц, а на груди — прикосновение женских грудей в многолюдных толпах, что теперь, когда я волен в своих действиях, как слуга, свободно чувствующий себя в толпе, я знаю, как следует искать, но на самом деле я пребывал в полном замешательстве, оттого что Нефертари где-то рядом, а я Ее не вижу, ощущение Ее близкого присутствия было настолько отчетливым, что чем дальше я шел, тем менее был уверен, что отыщу Ее. Затем мое смятение еще более усилила окружавшая меня толпа. Я не привык к тому, чтобы меня отталкивали мужчины, чьи одежды белее моих, и вскоре пришел в такую ярость, что их опьянение вызывало во мне дурноту. Меж тем меня переполняло множество разноречивых желаний. При каждом соприкосновении с чужим телом я был готов сбить незнакомца с ног, но в то же время, вероятно, в моих глазах горела страсть к Нефертари, так как ни одна из встретившихся мне шлюх не пожалела мне улыбки, при этом на некоторых были восковые шарики, источавшие такие сильные запахи — да каких мерзких благовоний! — что я чувствовал себя окруженным облаком пыли, в котором аромат меда смешался с вонью застарелого пота. Но, когда я протолкался в пивную, набитую всяким городским и армейским сбродом, а также растерявшимся в этой сумятице разным небогатым людом изо всех небольших прибрежных городков, приехавшим со своими Богами с низовьев или верховьев реки, то привлек к себе так мало внимания, что мне пришлось схватить разносчицу за руку, чтобы получить пиво, и это чуть не вызвало драку. Да и сам воздух вокруг был наполнен вонью. Пьяниц выворачивало на грязный пол, и вся эта толпа, которой не было суждено когда-либо познакомиться с правилами поведения во дворце, бесконечно месила их извержения своими ногами. Туда можно было запустить свиней — никто бы не заметил».
Слушая моего прадеда, я перестал видеть его в своих мыслях, по крайней мере его лицо: он стал казаться мне похожим на Дробителя-Костей, каким я наблюдал его, когда этим днем следовал за нашим лодочником, бродившим по Мемфису, и, лежа между моей матерью и Отцом, чем ближе я приникал к мягким губам сна, тем отчетливее видел лодочника, покуда даже не ощутил, как он обладает Эясеяб, и в моих мыслях и сновидениях он и мой прадед теперь проходили мимо друг друга. Так что мне даже показалось, что я вижу Дробителя-Костей и Эясеяб в хижине на каком-то дворе, где жили слуги, на одной из тенистых улиц, по которой теперь брел мой прадед, покуда с плавным перемещением удовольствия, вызываемого простыми открытиями по ту сторону холма по имени сон, я не понял, что они не на каких-то задворках Фив, но предаются сейчас любви в какой-то маленькой комнате, которую отвели Эясеяб на время нашего пребывания во Дворце, да, я оставил дорогие мне подушки и в этом ночном воздухе нежился теперь, вздымаясь и горя желанием их тел, да, местом их любовных утех была какая-то комната для слуг во Дворце. Моя дорогая Эясеяб, поцеловавшая мой Сладкий Пальчик и заставившая излиться всю его сладость, да, я оставил своего прадеда, чтобы пребывать в ее сердце, и теперь ничего не знал о нем, но ощущал вместе с нею богатство жизни и чувствовал удовольствие во всех своих членах. Затем Дробитель-Костей ударил внутрь, подобно молнии Сета, и я услыхал, как трескаются скалы, и почувствовал сильные удары, и, возможно, даже услыхал, как она вскрикнула, потому что к нам в крытый внутренний дворик с легким ночным ветерком долетало множество самых разных стонов, исполненных большого удовольствия и страданий, вместе с хрюканьем, почесыванием и квохтаньем в отдаленных курятниках и стойлах, ведь ночью все звуки, подобно Богам, становятся ближе, и, должно быть, с ее криком — если я его действительно услышал — я вернулся из теплого удовольствия Эясеяб обратно в то страстное желание, что влекло моего прадеда к Нефертари, поскольку теперь я мог лучше слышать его рассказ, что значит — видеть все более отчетливо, и уже не столько его голос входил в мои уши, сколько дыхание его мыслей.
«Я был один, — сказал он нам. — Ощущение было таким, — пробормотал он, — словно я все еще жил на берегу реки своей юности, и был не старше того мальчика, что ушел из деревни на военную службу — настолько одиноким я чувствовал себя в многоголосом шуме этой пивной на задворках Фив, где меня не покидало чувство, что Нефертари где-то рядом, но я не могу видеть Ее. Однако действительно ли я желал Ее видеть? Я мог взвесить ужас своего положения. Найдя Ее, я мог потерять все, что обрел в своей жизни.
С этой мыслью (посреди всех тех прокисших, исполненных брожения тел) на меня навалилась тяжесть, подобная камням, закрывающим вход в гробницу. И впервые я взглянул на свою жизнь без гордости. Я не думал о своих свершениях (представлявших собой плоть и кровь моего высокого мнения о себе, с которым я просыпался каждым утром), но вместо этого увидел все то, чего не сделал: друзей, которых не завел (потому что никогда не верил никому из мужчин), семью, которую я уже никогда не буду иметь (поскольку я не верил ни одной женщине настолько, чтобы поручить ей заботы о семье — какое преступление я совершил, отказавшись в моем сердце от Ренпурепет!), и в тот момент, когда мои ноздри переполняли запахи чужой блевотины, мое собственное сердце предстало мне столь же омерзительным. И тогда я осознал безнадежность старости — во всяком случае своей собственной! Я бы не хотел лежать в своей постели, сжимая в руке награды, которыми мой Фараон, возможно, еще осчастливит меня, ни слушать все свои титулы, которые повторяют мои старые слуги; разбуженные посреди ночи моим кашлем, они стали бы проклинать мою скупость. Какая безобразная смерть: кашлянуть раз в этой жизни, а другой — уже в Стране Мертвых. „Не хочу снова подыхать в Херет-Нечер", — пел один из пьяниц в той пивной. Что ж, эти слова — погребальная песнь всех пьяниц.
Я вспомнил о золотых рудниках Эшураниба и мудрости Нефеш-Бешера и задумался о том, хватит ли у меня сил вновь зародиться во чреве великой женщины. Затем, будто вкруг меня собрались сошедшие с заоблачных высей Боги, я почувствовал равновесие небес, ожидающих моего следующего решения, словно робкие яды моей крови и храбрость моего сердца стали в боевом порядке друг против друга, подобно войскам в тот час, когда протрубил рог. Я не осмеливался дышать, но невозможно было вдохнуть ничего чище всего того, что трепетало в моем носу, перекрывая смрад мешанины презренной блевотины, ибо тогда я понял: я, который, как и любой воин, молился сотням Богов, не слыша ни одного голоса и не веря ни одному, услышал тогда одного из Богов. Не знаю, Которого, но Он пребывал в биении моего сердца, ожидая моего решения. И я сказал себе: „Я не боюсь смерти. Я пойду на это". И ощутил, что сказанное услышано, о, более того, могу поклясться, пламя свечей в той пивной стало ниже, будто огни Ра затихли перед чудовищными словами, которые я сказал. И тогда я покинул это место. Я снова отправился искать Нефертари.
Так я опять очутился на улице, и мои руки были как щиты для чужих локтей, и ко мне пришло спокойствие, какого я никогда не знал. В нем не было умиротворенности, но лишь та невозмутимость, что приходит, когда знаешь, что сколько бы мук не ожидало впереди, по крайней мере ты уже никогда больше не испытаешь нетерпения. Моя жизнь лежит предо мной, я чувствовал это. Что бы там от нее ни осталось, наконец лежало предо мной. Я не умру, как умирают старики, каменеющие в жерновах своего страха перед камнем, что будет лежать на них, нет, я найду Нефертари, и Она будет моей. Мысль о моем члене в Ней, моей смертной муке в Ее меду, моей усталости в Ее богатстве, моей гордости в Ее Царском уединении, биении моего сердце в Ее сладкой судороге, моем крестьянском мясе в соусах Царицы, моем мече в ножнах Усермаатра! — каждая низкая и высокая страсть, когда-либо пережитая мной, сошлись вместе, и моя жизнь стала простой. Я овладею Ею или погибну при попытке сделать это, либо буду с Ней, и об этом никто не узнает, а может статься, я буду с Ней, и вдвоем нам будет так хорошо, что я дерзну сделать то, на что не осмелится никто другой: если Она пожелает, чтобы я убил Фараона, я сделаю это. Тут я набрал полную грудь воздуха. Сказав это себе, я понял что в Двух Землях нет другого египтянина-простолюдина, подобного мне. Немного найдется убийц Фараона, готовых сделать это ради своего повелителя — следующего Фараона. Но никто, кроме меня, не пойдет на такое ради себя. Я дерзну стать Фараоном, если Она будет моей Царицей. Его кровь — не лучше моей. Ведь Он — потомок Надзирателя за Ртами Реки!
Так я познал умиротворение, присущее пониманию. Никогда больше не стану я защищать себя ради слишком малого, но и никогда не буду слишком опасаться ударов судьбы. Пусть она свершится. Пусть несчастье обрушится на меня. Я стану Фараоном, или просто Ее любовником, или умру, или войду в Ее чрево, или не будет ничего этого. Но больше я не стану бояться ни одного человека и ни одной мысли. В этот момент я почувствовал себя таким же молодым и сильным, как в мой день у Кадеша, и решил, что если не стану Фараоном в этой жизни, то это случится в следующей».
При этих словах Птахнемхотеп так неожиданно стремительно заговорил, что меня подняло с места, где я так прекрасно себя чувствовал — между голосом моего прадеда и моим собственным сном. «В тот день, — сказал мой Отец, — ты дал себе поразительное обещание. Должен спросить, дорогой Мененхетет, смогу ли Я спать спокойно, если ты станешь Визирем?»
«Милостивый и Великий Бог, — сказал Мененхетет, — я оказал Тебе почтение, которого не приносил в дар ни одному другому Фараону. Ты попросил меня рассказать обо всем, что я знаю, и я воздал должное Твоему желанию и мудрости Твоего ума. Я говорю себе, что Твое сознание и мое могут доверять друг другу более, чем это бывает у братьев, поскольку ни один из нас не выносит глупости. И вот я говорю правду. Не оттого, что люблю Тебя — я не люблю ни одно создание на земле, кроме моего правнука, который теперь Твой сын… — И здесь я почувствовал, как от него ко мне пришла любовь, столь же щедрая в своей доброй основе, как все, что происходило между Дробителем-Костей и Эясеяб, — но потому, что почитаю Тебя, Тебя из Божественного Двойного Дома, и знаю, что ни у одного Фараона никогда не было столь тонкого ума, а также Твоей редкой способности высоко ценить правду. И вот я говорю пред Твоим лицом и обращаю к Тебе такие слова: поскольку сегодня Египет не исполнен силы, в нем нет Визиря, которому Ты мог бы доверять. Я же, по крайней мере, никогда не буду нагонять на Тебя скуку».
«Я чрезвычайно рад твоей откровенности, — сказал Птахнемхотеп, — хотя и не совсем счастлив той правдой, которую ты высказал. — Он вздохнул, но тут же рассмеялся: — Продолжай свой рассказ. Я верю тебе, наперекор Себе Самому», — и сказав это, Он еще немного посмеялся, и из Его тела потекла поразительная доброта, и я ощущал ее до тех пор, пока она не коснулась моего прадеда, который в свою очередь так обрадовался этому теплу, что легко коснулся лба двумя пальцами, отдавая честь Фараону старым приветствием колесничих, которым он не пользовался лет сто пятьдесят, а то и больше. Однако я не смог далее разделять те чувства, которыми они обменялись, поскольку увидел рот своей матери, и он открыл мне то, что скрывали ее мысли. В тот момент ее охватила какая-то боль. Я почувствовал направленную на нас недоброжелательность столь слабую, что лишь моя мать и я могли уловить ее. Затем я понял, что хоть Нефхепохем и находится сейчас в другой стороне Мемфиса, но только не его проклятие. Так я узнал, почему дрожь может пробежать по телу животного, когда изогнется всего лишь один волосок из миллиона и более волос на его спине.
Поэтому я утратил прежнюю легкость, с которой я слушал моего прадеда, и, вероятно, прошло много событий, прежде чем я вновь устроился в объятиях своего полусна и стал следить за тем, как он ищет Нефертари по Ее хромоте. Именно это, сказал мой прадед, он искал, то есть высматривал очень красивую женщину, у которой, как бы та ни была скрыта под одеждой, была заметна небольшая хромота.
Ему этот недостаток стал казаться трогательным. Он был, по его словам, единственным свидетельством истинного возраста его Царицы — у Нее все еще побаливало бедро. Да, услышал я мысли моего прадеда, он искал прихрамывающую женщину, искал так целеустремленно, что прошло немного времени после того, как он покинул пивную, и он понял, что для этого нужны скорее не глаза, способные видеть далеко вперед, а достаточно умная шея, знающая, когда следует повернуться назад. «Лишь когда я ощутил легкое покалывание в позвоночнике, я стал чувствовать, что кто-то идет за мной. Но, оборачиваясь, не видел никого, кроме тех, кто там только что был. Затем, резко свернув на одну из тенистых улиц, я заметил позади себя служанку в старом темном плаще, одним прыжком я взобрался на крышу, чтобы посмотреть, как она пройдет мимо. У нее было суровое лицо женщины средних лет, причем такое темное, что она могла сойти за уроженку Нубии так же, как и за египтянку — или то была очень темнокожая сирийка? Но, когда она прошла мимо, по походке я узнал Нефертари. Это было Ее едва уловимое прихрамывание, будившее во мне жалость, уходящую в бездонные глубины моей души. Я соскользнул с крыши и последовал за Ней. Однако Она чувствовала то, что позади Нее, лучше, чем я, так как на следующей улице Она подошла к какой-то хижине, открыла дверь и, обернувшись, встала в проеме, приветствуя меня улыбкой. И я, счастливый просто оттого, что встретил Ее на этой пустынной улочке, обеими руками обнял Ее и почувствовал, как Ее божественный рот снова наконец-то прикоснулся к моему. Однако пока мы целовались — не считая благородной утонченности этого поцелуя, — нас вполне можно было принять за двух крестьян из моей деревни. На ней не было благовоний, и я уловил запах, исходивший от Ее подмышек — здоровый и простой, и исполненный усилий хождения по Фивам.
Внутри была одна темная комната, но в ней было достаточно света, чтобы рассмотреть несколько горшков, висевших на стене, сложенной из земляных кирпичей, и несколько камней для очага в углу, отверстие для дыма в крыше, деревянную кровать, и это все — хижина старой женщины. Эта женщина была матерью одной из служанок Нефертари, сейчас она на празднике, сказала моя Царица. Сегодня она не вернется до глубокой ночи. Я понял, что на самом деле так и будет. На той улице не осталось никого — все ушли на праздник: матери, маленькие дети, старики — грабитель мог пройтись по этим домам и выйти с двумя пригоршнями зерна — больше там красть было нечего.
Трудно сказать, что подействовало на меня: бедность ли или обыкновенная, простая грязь той хижины, но я ощутил яростное желание обладать Ею. Мой член уподобился ощетинившемуся быку. Без изысканных благовоний, лишь с темной краской, которую Она наложила на лицо, без прически и просто одетая, Она походи-ла на служанку средних лет, привлекательную, но не отличавшуюся особой красотой и плотно закутанную — Ее грудь скрывала шерстяная накидка. Но все это лишь разжигало мое желание. И дало мне силы приблизиться к Ней, будто теперь мы находились в моем дворце, а не в Ее. Я знал, что для того, чтобы разжечь страсть, мне не понадобятся ни прекрасные рассказы, ни прикосновения Ее пальцев или языка, ни даже вид Ее раскрытых бедер, нет, я просто протянул к Ней руки, схватил Ее, сжал в своих объятиях и поднял бы Ее на кровать, где место для меня было лишь сверху, но Она повела себя как настоящая девушка-служанка. Не женщина-служанка, а именно девушка. Она сопротивлялась мне с силой и, надо сказать, не издала ни звука, как никогда или почти никогда не издаст и звука служанка, зная, что госпожа может услышать, и Она отбивалась от меня, мускулистая и скромная, позволив мне увидеть всего лишь густой куст волос между Ее ног, чего я добился, рывком подняв на Ней рубашку, но, как и девушки-служанки, Она не позволила ничего с Себя снять, ни показаться в наготе, а после первого поцелуя Она уже не дала мне коснуться своего рта, нет, Она не подпустила меня к Себе. Я чувствовал Ее намерения, и они были обременительными, как тяжкие тайны слуг: столько-то украдено здесь, такой-то ущерб причинен там. И вот Она оттолкнула меня и сказала: „Подожди. Я не готова. Я совсем не готова". И к моему величайшему изумлению — ибо я никогда не встречал других женщин, кроме служанок, которые бы делали это, — принялась скрести Себе икры, покуда на них не выступили белые полосы, но нет, Она не остановилась, словно только так Она могла унять тревоги этого дня, и тогда я вспомнил, что моя мать и другие женщины из моей деревни делали то же самое.
Мои чресла не болели бы сильнее, даже если бы меня пронзили копьем, но когда я сжал Ее колено, Она оттолкнула мою руку. „Подожди, — сказала Она. — Я хочу спросить тебя о Маатхорнефруре". И тут, прижавшись к Ней, мне пришлось сдержаться и рассказать все самое сокровенное, что я узнал об Усермаатра и Его хеттке, и только когда я закончил, Она поцеловала меня, как послушного мальчика, вздохнула, а когда я снова крепче прижался к Ней, сказала: „Подожди, Я хочу тебе кое-что рассказать". Затем, все еще продолжая скрести ноги очень ритмичными движениями запястья, как будто каждое слово, услышанное Ею об Усермаатра и Его хеттке, должно было сначала быть переварено в Ее крови, Она начала, повергнув меня в сильное смятение, рассказывать историю, которую я не слыхал с детства и уж никак не ожидал услыхать от Царицы. На самом деле я слышал ее еще в своей деревне, но так давно, что не мог вспомнить последовательность событий, но Она настояла на том, чтобы ее рассказать, и в Ее голосе звучала такая решимость, что я счел за лучшее послушать. Возможно, я согласился потому, что Она произносила слова как служанка. Она действительно знала, как говорят люди, живущие между Мемфисом и Фивами.
„Это история двух братьев, — сказала Она. — И услышала Я ее от старой женщины, которая здесь живет. А ей рассказала ее мать. Так что это история той хижины, где мы сейчас находимся. Послушай ее.
Жили два брата: Ануп — старший и Бати — младший. У Анупа был большой дом и привлекательная жена, а Бати работал на него. Но младший брат был сильнее и красивее старшего.
Однажды, когда оба брата работали в поле, Бати отослали домой за семенами, и жена Анупа увидела, как он взвалил на спину груз, который был под силу трем мужчинам, и была поражена его силой. Она перестала укладывать волосы и сказала: «Пойдем, возляжем вместе на час. Если ты меня ублажишь, я сошью тебе рубашку». Бати разъярился, как южный гепард, и ответил: «Никогда больше не говори мне такого», а затем взял свой груз семян и вернулся на поле и работал рядом с Анупом столь упорно, что старший брат устал и подумал о своей жене. И вот он оставил поле, чтобы быть с ней. Но когда Ануп вернулся в дом, то увидел, что ее челюсть замотана тряпкой. Она рассказала ему, что Бати избил ее, потому что она отказалась возлечь с ним. «Если ты оставишь своего младшего брата в живых, — сказала она, — я наложу на себя руки».
Тут уже старший брат разъярился, как южный гепард, наточил свой нож и стал ждать Бати за дверью стойла. Однако, когда младший брат подошел к навесу, телка, водившая коров, принялась мычать, и ее рев подал Бати знак, что он в опасности. И вот он бежал, а Ануп гнался за ним, и Бати убежал от него, лишь когда пересек реку на папирусном челноке у кручи, где Ануп уже не мог следовать за ним, так как другой лодки не было. Кроме того, в реке было много крокодилов. Оказавшись в безопасности на другой стороне реки, Бати крикнул: «Отчего ты ей поверил? Я докажу тебе свою невиновность». И он выхватил свой нож и отрезал ту часть себя, что была ему наиболее дорога, и бросил ее в реку. Тут Ануп заплакал и был уже готов перейти реку, хоть и рисковал утонуть, но слишком боялся крокодилов.
Тогда младший брат сказал: «Я вырежу также и свое сердце, — что он и сделал и положил его на молодое деревце акации [62]. — После того как это дерево срубят, — сказал он, — найди мое сердце и положи его в свежую воду. Тогда я снова буду жить».
«Как я узнаю, что дерево срубили?» — спросил Ануп.
«Когда пиво в твоем кувшине вспенится, сразу приходи, даже если до того момента пройдет семь лет», — ответил младший брат. И он умер".
Нефертари посмотрела на меня с той строгостью, какую незнакомец вкладывает в свой взгляд, когда рассказывает что-то важное. «Ануп пошел домой, — продолжила Она, — прогнал жену и стал ждать. Прошло семь лет до того дня, когда, проезжая по лесам, Царица увидела акацию и сочла ее столь прекрасной, что смутилось Ее довольство собственной красотой. Тогда Она приказала срубить дерево. Тут же в кувшине Анупа вспенилось пиво. Старший брат отправился на поиски сердца Бати и нашел его в семенах, упавших на землю с самых верхних ветвей срубленной акации, и Ануп положил это семя в воду, пока оно не ожило и не превратилось в быка с отметинами Аписа. Как только животное выросло — что заняло один день и одну ночь, — у него на языке появился даже знак скарабея. Затем бык сказал Анупу, чтобы тот отвел его к Царскому Двору Египта, и Фараону так понравился бык, что Он одарил Анупа и отослал его домой. Но утром Царица Фараона осталась с быком наедине. Он осмелился сказать Ей: «Ты срубила меня, когда я был деревом. Теперь я снова жив, и я — бык». Царица пошла к Фараону. «Дай Мне печень этого животного, чтобы Я могла ее съесть», — сказала Она, и Царь так любил Ее, что послал Своих мясников сделать дело. Но, когда они перерезали горло быка, две капли крови упали у ступеней беседки Фараона и за одну ночь выросли в два кедра-близнеца, подобные тем, что так любил Осирис, когда Бог Мертвых покоился в Своем гробу у берега, около Библа.
Когда Царь увидел это чудо, то пригласил Царицу посидеть с Ним под этими деревьями. Она была очень смущена. С ветвей кедра, под которым Она сидела, до Нее донесся шепот: «Я — тот, кого Ты попыталась убить». В эту ночь, когда Фараон предавался с Ней наслаждению, Она сказала: «Обещай Мне исполнить то, что Я попрошу».
«Обещаю», — отвечал Он.
«Сруби Свои деревья, — сказала Она тогда. — И вели сделать из них для Меня сундуки».
Фараону не хотелось этого делать, но Он послал за лучшими из Своих плотников, и Царь с Царицей наблюдали, как те рубили кедры-близнецы. Оба упали разом, и в тот миг от каждого дерева отлетела щепка, одна из которых попала в сердце Фараона. И убила Его".
Нефертари замолчала. „А другая щепка?" — спросил я.
„Она отскочила, — сказала Она, — от второго кедра и попала в рот Царицы, и Та ее проглотила. Девять месяцев спустя родился новый Фараон". Она взглянула в мои глаза, но уже не так, словно Она — чужой мне человек. Я понял, что все те мысли о своей жизни, что роились в моей голове в вони пивной, были не так уж далеки от мыслей, что познала Она, одевшись служанкой. Она также была готова умереть.
Затем Она перестала скрести ноги и Сама подняла рубаху. Но Она продолжала вести Себя как служанка и предложила мне лишь Свои ягодицы. Любить на этой бедной койке, под шуршание тростника в изношенной ткани матраса было все равно что в старой соломе, в окружении запахов сельской усадьбы, и Она не разрешала мне войти в Себя с другого входа, кроме Своего третьего рта. Среди всех этих усилий я никак не мог пройти в ворота, но с каждым моим толчком выражение Ее лица менялось, покуда я не увидел еще одного Ка из Ее Четырнадцати. Гримасы на Ее лице сменяли одна другую, пока в скудном свете этой хижины я не увидел чудовищное уродство Хекет, а Нефертари впала в такое возбуждение и настолько утратила власть над Собой, что я подумал: не пришли ли в смятение Ее силы, раз именно Хекет может входить в Нее. Затем, очевидно, Ее мысли услышали мои, и в жестоком изгибе Ее рта явилось все зло, какое я когда-либо видел в Медовом-Шарике, когда та наводила самую вредоносную из своих порч, и мы вцепились друг в друга, охваченные столь низменным вожделением, что с помощью ли Хекет или Медового-Шарика, но я почувствовал, что оба мы безобразны, и я ненавидел Богов и желал презирать Их.
Лишь в согласии с равновесием Маат могло случиться так, что тогда, посреди этих упорных попыток, мне было видение Усермаатра на пурпурной постели Маатхорнефруры, и Их любовь, в отличие от нашей, была столь же сияющей и прекрасной, как узкий луч света. В ней не было ничего от той глубины, если так можно сказать, со всей ее неприглядностью, какую дано было познать здесь нам. Его могучий меч не сотрясал гром наслаждения, но лишь звук тронутой струны арфы, и Усермаатра дрожал в прекраснейшем свете Маатхорнефруры. Возможно, этот свет был более прекрасен, чем я мог вынести, ибо столь мало от меня пребывало пока в Нефертари, совсем немного у той сухой дверной петли, что Она предложила, и я отстранился и попытался войти в другой Ее рот — что между ног, но Она мне не позволила. „Нет, — пробормотала Она, — только не теперь, когда ты весь словно отлит из бронзы". Она отстранила меня и вновь предложила Свои ягодицы. На этот раз я подчинился тому, что заметил в Ее лице, и повернулся, чтобы поцеловать Ее там, и мой язык вонзился, подобно второму мечу, и я нанес Ей много ударов, а они вызвали столь многочисленные Царские стоны, что, подобно молодой служанке, Она поцеловала меня в ответ и в то же место — и в этот миг я ощутил себя на небесах! — и на какое-то время мы уподобились зверю о двух головах. Она знала толк в такой магии.
После этого я наконец смог войти в Нее, хотя думаю, для Ее Царских ягодиц Аменхерхепишеф был бы лучшим любовником. За первыми вратами находился замок от вторых. Она казалась осажденной крепостью со многими стенами. Все же я продвигался вверх по Ее третьему рту, толчок за толчком, встречая достойное сопротивление, но поскольку моей целью был Ее вход между ног, желание мое едва ли могло пропасть. Медовый-Шарик однажды рассказала мне, что женщины, в которых входят через третий рот, ощущают разбуженную в них ярость Сета и уже не могут уважать того мужчину. Разумеется, более всего нам надлежит почитать тех, кто может убить нас, и ни одна женщина не собирается умирать, пытаясь родить, когда кремы мужчины оставлены в ее кишках.
„Я хочу другой", — сказал я Ей. И Она ответила: „Ты не войдешь туда вновь, пока пиво не вспенится в твоем кувшине".
Поэтому я обладал Ею через задний вход и увидел все лица Хекет и Медового-Шарика. Ее ноздри сильно трепетали, и Она ревела, как животное. Возможно, этот из Ее Четырнадцати Ка никогда не знал такого наслаждения! Я бился о Ее упрямый трон, и клубы ароматов из всех курильниц с благовониями, какие я только вдыхал за эти четыре дня на всех торжественных обрядах, птицами проносились в моей голове, большими стаями птиц, а затем я вновь очутился среди запахов пота и топи, окружавших нас теперь. Мы познали друг друга среди всех запахов жаркого сумрака той темной хижины. Не знаю, исходило ли когда-либо от Нее такое множество Ее подлинных запахов ранее, но на этот раз, когда я вошел через Ее задний вход, Она была охвачена страстью более сильной, чем в прошлый, когда воротами был вход между Ее бедер, и вновь стала говорить, но только в самом конце, когда все уже приближалось — тут Она заговорила. Теперь уже не имело значения, что я входил в Нее через этот низменный рот. Она уже не была служанкой, но — моей Царицей, и „О, — сказала Она, — ты столь порочен, ты в Моем ша. Ты на Моем поле, ты на Моем наделе, о, ты плывешь в Моем болоте. Сеш и сеш. Пиши на Мне, исчерти Меня, сеш и сеш, ты — Моя грязь и Мой мер. Мой канал. Моя слизь, ты не человек, но злой дух, сладкий херу. Мое болото. Мой грабитель. Мой враг, о, иди глубже в тлен, воткни его поглубже, коснись умершего, о, хат, хат, хат, положи это в Мою каменоломню, положи это в Мою гробницу, дай его Моим предкам, возьми Их всех, дай его Моему заднему входу. Моему заднему входу", — и Она изверглась с таким громким пронзительным криком, какой издала на поле, посвященном Амону, когда Усермаатра вонзился в Нее. Она исторглась, но окончание походило на пытку и было наполовину вырвано силой. Она содрогалась подо мной. Я ощутил Ее боль в своем животе и бедрах и то облегчение, которое Она почувствовала, когда боль отпустила. Затем Она ударила меня по лицу за то, что я осмелился познать такую близость к Ней. Не знаю, будет ли еще когда-либо столь низменная любовь знакома моей семье, покуда…» — И здесь Мененхетет резко оборвал свой рассказ.
Наши мысли тоже остановились, а затем неверным шагом двинулись вперед и вновь вошли в наши головы. Ибо, взглянув на лица моей матери и моего Отца, я понял, что они увидели то же, что увидел я: как Хатфертити и Нефхепохем занимаются любовью именно таким способом. Было ли это расплатой за проклятье моего первого отца? Я знал, что Мененхетет при всей своей мудрости подошел вплотную к тому, чтобы сказать то, чего никак нельзя было говорить — насколько близки были моя мать и мой первый отец! Я знал, что моя мать бросила на Мененхетета долгий взгляд, не лишенный враждебности, чтобы дать ему понять, насколько глубоко она уязвлена его последними предательскими словами.
Однако Птахнемхотеп, словно отступив дальше на берег от волны, поднятой проходившей баржей, сказал лишь: «Пожалуйста, продолжай».
ДВЕНАДЦАТЬ
Мененхетет перевел дыхание и продолжил: «Но теперь я слушал только его голос так, будто мои мысли уже не были уверены, что им хочется заглядывать в его мысли. «Да, — сказал он, — мы закончили, и Она недолго оставалась, прежде чем уйти. Она отвергла любые мои предложения сопровождать Ее, сказав даже, что я не должен следовать за Ней. И, правду сказать, от каждого из нас так ра-Зило другим, что сердце просто рыдало, прося одиночества. Так что я не оплакивал Ее уход, а выйдя из хижины, чувствовал себя так странно, что не хотел возвращаться к воротам Дворца, но вместо этого отправился бродить по городу, слоняясь по его переполнен-яым народом улицам, словно в лесной чаще. Я продолжал вдыхать Яве, что еще оставалось от Нее на мне, покуда мало что можно было уже различить. Она действительно ушла, и я скучал по Ней, даже с вожделением вспоминал наш общий запах, похожий на запах берлога того зверя, которым некоторое время мы оба были, да, я пребывал в столь ни с чем не сравнимом состоянии (ибо я снова ощущал близость смерти каждый раз, когда пускал в ход локти, чтобы продраться сквозь толпу), что подобная опасность ласкала мой нос и заставляла чувствовать в груди сладкий страх, как той ночью в Тире, когда я переступил из своего окна в постель тайной блудницы Царя Кадеша. И теперь я не хотел, чтобы эта ночь и то соблазнительное присутствие, что все еще жило в моих ноздрях, покинули меня, и поэтому я скорбел о жестокости своего обращения с Нефертари. Ибо я снова любил Ее, любил всю чувственность и хрупкость Ее очарования в тот день, когда я впервые явился к Ней на службу, и Она приветствовала меня со спокойным, но великолепным расположением Царицы, тосковал по Ней еще более страстно после сегодняшнего дня, словно Сет и Геб, как и все восемь Богов болотной слизи, соединяли нас вместе, чтобы я вновь познал Ее с еще большей силой, и я вновь ощутил слияние Ее желания с моим.
По правде сказать, без Нее я словно обезумел. Костры на каждом углу и запахи жарящегося на огне мяса разбудили во мне воспоминания о вкусе человеческой плоти. Казалось, я вернулся почти на тридцать лет назад, потому что в моей памяти всплыло лицо одного из наших нубийских солдат, сказавшего ночью у Кадеша: „Мясо мужчины дает сердцу силу для сражения. Хорошо есть мясо, которое говорило с нами". И теперь, будто не прошло ни одного года из тех тридцати лет, я кивнул в знак согласия с ним, но на самом деле я готов был согласиться со смертью, более черной и сильной, чем любой нубиец, и я подумал, что она должна походить на ворота в большой город. После смерти не нужно путешествовать вверх по Нилу, ища каверны, которые приведут тебя в Страну Мертвых. Напротив, следует твердо пройти ворота при звуках труб и грохоте барабанов. Смерть должна походить на улицы наших базаров. Я видел первые часы смерти во многих снах, когда бродил по базарным улицам своих сновидений. Да, я видел ее в тех закоулках в свете огней на лицах разносчиков, продающих мясо. Торговцы трясли перед моим лицом безделушками, а шлюхи беспрестанно нашептывали что-то мне на ухо.
Остаток ночи я провел обходя веселые дома. Если на моем члене и осталось пятнышко мерзейших отбросов самого низменного из Ка моей Великой Царицы, то будьте уверены, что меня теперь воспламеняли все силы барана и быка, и никогда, с тех пор как я стал Первым Колесничим, я с такой силой не ощущал себя молодым воином. Видимо, нос Лодки Амона был причален у меня между ног, ибо в ту ночь в домах шлюх я был подобен моему Фараону и вернулся во Дворец лишь под утро, чтобы уснуть в Паре Дуата — так мы называли наши дворцовые бани! Тысяча вшей, заполонивших мое тело той ночью — а чего вы хотите от грязных хижин, толп всякого сброда и простыней тех девок, — вскоре бежали от окутавших меня испарений. Я вернулся в свои покои, чистый и пьяный, чтобы наконец заснуть».
Тут моя мать крайне самоуверенно прервала его. «Я могу вынести любое предлагаемое тобой описание, — сказала она, — поскольку любящая женщина готова отдать себя без остатка. И не заблуждайся, Нефертари, независимо от того, как бы Она могла презирать это чувство, испытывала к тебе совершенно неодолимое влечение. Но мне невыносима мысль о той хижине, что Она избрала. — Здесь моя мать начала дрожать. — Чтобы лечь в такую грязную постель! Что могла бы Она сказать волосам на Своей собственной голове?»
Ответил Ей, однако, не Мененхетет, а Птахнемхотеп. Обнимая ее за плечи, будто она уже была Его Супругой, Он сказал: «В те пять дней простые люди в предусмотренных случаях заходили во Двор Великих либо смешивались со знатью в толпах, собиравшихся на берегу реки. Раз Празднество Празднеств должно было наделить Фараона новой силой, то не только Боги, но и звери, и люди Египта, растения, изделия ремесленников должны были пройти перед Ним, и даже насекомые. Верно ли это, Мененхетет?»
«Верно. В обычный день человек не чувствовал себя вельможей, если хоть одна вошь угнездилась в его доме, и, разумеется, не было места чище Дворца. Даже там, где жили наши слуги, были диваны, на которые могла присесть Принцесса. Однако во время Празднества все было по-другому. Говорю тебе, Хатфертити, что ты никогда не знала Божественного Торжества и потому не можешь этого понять. В те несколько дней считалось признаком добродетели, пусть всего лишь на час, оказаться зараженным чуждыми тебе созданиями. Это показывало, что ты глубоко проникся суждениями Маат и общаешься с народом. По случаю такого великого события даже ты с гордостью переносила бы присутствие паразитов».
«Никогда, — сказала моя мать и взяла Фараона за руку. — Никогда — уверяю тебя. Я не смогу лечь, даже с дорогим мне возлюбленным, в постель с паразитами».
«Нам осталось подождать всего двадцать три года, и мы узнаем, изменилась ли ты», — рассмеялся мой Отец, но она передернула плечами: «Никогда. Странно, пока ты не рассказал нам об этом, я думала, что Нефертари во многом похожа на меня».
«И похожа, и непохожа, — сказал Мененхетет. — В конце концов, это и отличает Царицу — способность быть выше Самой Себя». Когда моя мать бросила на него гневный взгляд, чего раньше на моей памяти не бывало, — он выдержал ее взгляд, и после затянувшегося молчания он заговорил первым:
«К тому времени, как я проснулся, мы уже давно вступили в утро последнего дня Торжества. Я чувствовал слабость из-за выпитого, излишеств, горячих ванн и недосыпа, но был трезв и потому ощущал себя отделенным от остальных, начавших напиваться снова. Подобно прибою Великой Зелени, воздух этого последнего утра, казалось, был напоен волнением, и даже жрецы ходили одурманенные. Во Дворе Великих все перемешались, а из города доносились звуки праздника вместе с известиями о драках во многих кварталах. Этим утром на Своей колеснице во главе Своих лучших воинов, а также первых отрядов Своего войска в Фивы вернулся Аменхерхепишеф, неся весть о еще одной успешной осаде, предпринятой против ливийцев, — пали стены еще одного города! — и народ принимал Его как Фараона. Так говорили мне со всех сторон, и Его людей можно было видеть входящими во Двор Великих, а некоторые даже молились перед храмами Богов своих номов, или перед сирийскими алтарями, или нубийскими хижинами, внутри которых пребывала невесть какая дрянь. Самые грязные головорезы из Его Войска молились больше всех, а Его Стража повсюду попадалась на глаза с женщинами — не хотел бы я в то утро быть богатым торговцем, имевшим красивую жену.
Как же любили жители города этого Принца! Я же, словно, стоит Ему увидеть мое лицо, моя близость с Его матерью откроется, старался, чтобы нас разделяли люди и площади Двора Великих, и стремился избегать тех мест, где был Он — о чем мне сообщали счастливые крики приветствий. Я был так измотан, что стал даже подозревать, что Он снова говорил обо мне со своими военачальниками, потому что взгляды, которые Его Стража бросала на меня, стали еще более злобными, чем раньше.
В полдень в ходе Его Божественного Торжества началась Коронация Усермаатра, хотя я не уверен, что был способен следить за всем этим. Кажется, она продолжалась большую часть дня, вплоть до Общего Ужина вечером, когда мы наконец отпраздновали окончание Торжества священными обрядами и множеством развлечений, последовавших за играми и состязаниями, которые проводились днем. Помню, что многие спорили на деньги во время гонки четырех стад быков (которых называли Канопами) и их пастухов (Четырех Сыновей Хора)! Мы подбадривали их криками: „Давай, Хеп! Быстрее, Туамутеф!" Не знаю, было ли тому причиной известие о том, что войска Аменхерхепишефа весь день будут прибывать в город, но в воздухе висело и богохульственное: „Кнутом его, Амсет!" Наблюдая, как быки четыре раза обегали внешнюю стену Горизонта Ра, я также покатывался со смеху. Я снова начал пьянеть. Повсюду музыканты дули в трубы прямо в уши прохожих, раздавался нежный перебор струн, безумный звук цитр, а у реки и на каждом сборище на больших улицах плясали танцоры. На площадях с фонтанами и даже во Дворе Великих народ развлекали борцы и жонглеры.
Однако посреди всего этого, как я сказал, Усермаатра был коронован, и это я не совсем понимаю, так как Его Коронация проходила во время многих торжественных обрядов, снова и снова, и Он уже был коронован и в предшествовавшие дни».
«Расскажи Мне, — сказал Птахнемхотеп, — о той, которую ты видел, а Я объясню ее предназначение».
«Если я попытаюсь описать ритуал, который Тебе и Твоему Предку известен лучше, чем мне, то должен заметить, что, как Ты понимаешь, это событие очень взволновало меня. Ибо когда Усермаатра вышел в тот день из Тронного Покоя, у собравшихся, среди которых был и я, перехватило дыхание. Я услышал, как человек, стоявший рядом со мной, прошептал своей жене: „Он сияет, как солнце". Когда Он уселся в Свой Паланкин, за ним последовала свита из Его Принцев и Принцесс, и многие из них несли на длинных шестах штандарты Бога. Процессия покинула Двор Великих. Впереди шли жрецы, возжигая благовония. Именно тогда, под крики приветствий размеренным шагом подошел Аменхерхепишеф и, дойдя до Золотого Чрева, подставил плечо под передний конец правого шеста. Его лицо таким образом оказалось впереди лица Его Отца, и пока Усермаатра несли от площади к площади через Двор Великих на встречу с Богом Мином, рукоплескания собравшихся встречали Их обоих — Фараона и Сына.
Затем этого Мина извлекли из Его святилища и также понесли в паланкине — множество жрецов у каждого шеста. Другие обмахивали Бога опахалами и бросали перед ним букеты цветов. Бог Мин и Славный и Великий Бог Рамсес Второй сошлись на помосте, воздвигнутом на поверхности Двора, и перед Ними разбрасывали и воскуряли благовония, а когда открылись ворота Быка Аписа, над толпой собравшихся взметнулся наш общий крик приветствия. Из ворот появилось животное, и оно походило на Быка Небес. Его рога были позолочены, и он был так же прекрасен, как Усермаатра. Он стоял один и не желал приблизиться. Не знаю, быть может, причиной тому был присущий быкам запах, но мой нос ясно различил благоухание свежескошенной травы на поле ранним утром. В моих глазах стояли слезы. Я думал о сорока женщинах, которые подняли свои одежды перед быком Аписом, прежде чем Нефертари открыла мне Свои бедра, и я вновь желал Ее с такой страстью, что начал опасаться, что мое томление войдет в быка и возбудит его. Но в то утро, как я вскоре смог убедиться, животному дали специальные травы, чтобы унять его ярость, и после первого взрыва рукоплесканий всех этих людей при виде его он не проявил злобы, но вел себя как ручной и присоединился к процессии жрецов, которые подвели его к Усермаатра. Теперь быка и нашего Славного и Великого Бога представили Мину, Которого Его жрецы открыли для обозрения, растворив дверцы Его паланкина. Оттуда Мина очень бережно пересадили на небольшой трон, где Он стал видим уже всем, но солнце сияло на Нем так ярко, что невозможно было разглядеть ни Его черт, ни Его тела — лишь одно Его сияние. Все ахнули, а Усермаатра прикрыл рукой глаза. При виде Мина, подобного золотому огненному шару, бык издал стон.
Теперь в Его огненном сиянии я понемногу стал различать Бога, у Него было тело жука Хепера, ноги льва, но лицо человека и корона Фараона с двумя бараньими рогами, восьмью кобрами, двумя дисками солнца и луны и двумя большими перьями из золота, такими же высокими, как и Он Сам. У Него также был золотой член, выходивший прямо из Его бока, но так далеко, что Ему приходилось поддерживать его в этом восставшем состоянии одной рукой: он был таким же большим, как и член Усермаатра, что говорило о многом, поскольку голова Бога не доставала и до колен нашему Фараону, и Его не было бы видно, если бы Его не посадили высоко на трон. Могу сказать, что при виде этого Бога и Его члена Усермаатра также показал Свой воздетый меч, и к Ним мог бы присоединиться и бык, не будь он одурманен травами. Каждый, кто нес на шесте лотос, повернул расцветший цветок к Ним, и я почувствовал, как земля набухает любовью, и услышал под своими ногами приглушенные стоны желания. Многие в толпе чувствовали то же, поскольку под юбками многих мужчин можно было различить их восставшие члены и немало женщин упало в обморок. Я сам был близок к сладчайшей невоздержанности. Несмотря на то что я совершил прошлой ночью, и я мог ощущать, что и моя часть Нила поднимается.
„Всем сердцем восхвалим Амона-Ра!" — возгласил жрец, сообщая таким образом нам, что Бог Мин, Повелитель нашего Празднества и самое прекрасное Божество нашего урожая, есть Мин-Амон — еще одно проявление из миллиона и одного обличий Амона Сокрытого и Ра Света, и теперь, когда Бог и Фараон смотрели друг на друга: Усермаатра в глаза Мин-Амона, а Мин-Амон — в глаза Усермаатра, присутствием Амона-Ра исполнилось все, и бык, несмотря на травы, издал рев, в котором прозвучало эхо, прокатившееся по полю под лучами солнца и многим страшным горным пещерам, а тем временем жрец запел длинный гимн Амону-Ра.
Я все еще слышу его — каждое его слово. Даже если Усермаатра и не прекращал быть нашим Фараоном, ни на один из этих пяти дней, все же рука страха сжимала наши сердца, как и сердца всех в Нижнем и Верхнем Египте. С каждым нашим дыханием мы в Двух Землях ощущали, что в любой из этих пяти дней, пока Усермаатра был нашим Фараоном и все же им не являлся, над нами может разразиться несчастье. Мы знали, что Он должен быть снова коронован, дабы сила Его удвоилась в Его грядущих годах. Но как мог Он быть коронован во время Своего Божественного Торжества, если только на эти пять дней Он не откажется от Своего Трона?
Поэтому истинное возвращение Двойной Короны на голову Усермаатра приближалось по мере того, как мы слушали Гимн Верховного Жреца Амону-Ра, и мы вторили согласными криками, и познали в своей груди, пупках и чреслах высшую святость. Верховный Жрец сказал: „Да будет славен Амон-Ра, высшее Божество, Который прекрасен, податель жизни и тепла всему прекрасному домашнему скоту. Ты — Бык Богов, Повелитель Маат, Отец Богов, Создатель мужчин и женщин, Ты — Создатель животных. Ты — Повелитель всего сущего, производитель пшеницы и ячменя, и Ты родишь травы на полях, которые дают жизнь скоту. Боги превозносят Тебя, ибо Ты создал то, что внизу, и все, что вверху. Ты освещаешь Две Земли, и Ты плывешь по небу в мире. Ты делаешь кожу одного народа отличной от другого, покуда не возникает все разнообразие людей земли, но Ты всем им даешь жизнь. Ты слышишь мольбу угнетенного, и Ты добр сердцем ко всем, кто Тебя призывает. Ты спасаешь тех, кто пребывает в страхе, от тех, кто вероломен, и Ты судишь сильного и слабого. Ты — Повелитель ума. Из Твоего рта исходит знание. По Твоей воле разливается Нил. Ты — Правитель Предков в Подземном мире. Имя Твое Сокровенно"».
Я мог чувствовать, как с каждым словом, произнесенным Ме-ненхететом, беспокойство моего Отца нарастает. «Неужели, — спросил Птахнемхотеп, — именно эти слова были обращены к Усермаатра?»
«Так я их помню».
«Прошу, продолжи этот гимн».
«Вот слова Верховного Жреца, — повторил Мененхетет. — „Слава Тебе, Единственный. Люди вышли из Твоих глаз, а Боги — из Твоего рта. Ты повелел рыбе жить в реках и дал дыхание жизни яйцу и ползающим тварям. Ты позволяешь крысе жить в ее норе, а птице сидеть на зеленом дереве. Твоя сила имеет много обличий. Ты раскинул небо и основал землю. Ты — Хозяин зерна, и Ты создал скот, чтобы он пасся на холмах. Славься, Амон, Прекрасно-ликий Бык, Судья Хора и Сета! Ты создал горы, и серебро, и ляпис-лазурь.
О, Амон, Твои лучи сияют на всех лицах. Ни один язык не может выразить Твою Суть. Ты держишь путь сквозь неизмеримые пространства более миллионов лет и сотен тысяч лет. Ты следуешь через водную бездну к месту, которое любишь, и все это Ты совершаешь за один быстротечный миг пред тем, как уйти на покой, погрузиться в воды и положить конец часам"».
«Я читал лишь окончание этих слов, — сказал Птахнемхотеп. — Я не знал о других частях гимна, а они исполнены наивысшей силы и представляются Мне странными».
«Я в большом смущении, — сказал Мененхетет, — оттого, что мои слова незнакомы Тебе. Я могу полагаться лишь на свою память, а как мы знаем, наша Хаибит лжет в надежде обмануть нашего Ка. Не могло ли случиться так, что то, что представляется мне произнесенным в тот день, на самом деле есть гимн, возглашенный несколькими Верховными Жрецами Амона в своем кругу, таким образом, я припоминаю эти слова не из своей первой жизни, но из второй?»
«Это просто замечательно, — сказал Птахнемхотеп. — Я знаю о таких тайных гимнах даже больше, чем Хемуш, который занят делами правления. Однако среди рукописей, хранящихся в храмах, Я никогда не встречал таких, где Амона называли бы Повелителем Ума или Правителем Предков в Подземном мире. — Он покачал головой и вздохнул. — Это не так важно».
«То, что я рассказываю, — правда, которую я помню, — сказал Мененхетет. — Для меня совершенно немыслимо стать Твоим рулевым, который не знает, как управляться с веслом».
«Я назвал бы эту ошибку — если это ошибка — чрезвычайно любопытной и никогда не счел бы ее злонамеренной — разве что Боги желают, чтобы зло встало между нами».
«В этот час в Тебе больше веры в Богов, чем днем», — заметила моя мать, но с такой простотой и пониманием того, что по-настоящему осознала, что ни мой Отец, ни мой прадед не улыбнулись, и Птахнемхотеп наконец сказал: «Это так. В эту ночь присутствие Моей Двойной Короны ощущается так, как никогда ранее. Почтим же и тебя, и Мененхетета», — и при этих словах Он поцеловал меня.
«Нет Фараона мудрее Тебя», — сказал Мененхетет.
«Для меня это честь», — ответил Птахнемхотеп.
Однако так же как птица, сбитая метательной палкой, падая на землю, ранит воздух, так и эхо гимна Амону-Ра, вознесенного Верховным Жрецом, продолжало парить между ними, и я почувствовал подозрение в душе моего Отца. Не могу также сказать, что теперь Он продолжал верить Мененхетету. Если первый удар моему счастливому состоянию был нанесен проклятьем Нефхепохема, то это был уже второй. Несмотря на добрые слова, которые они говорили друг другу, теперь я чувствовал, как что-то разделило моего Отца и прадеда, будто они уже не несли общее бремя, но искали в разных пещерах свои собственные сокровища, я же, желая удержать их вместе, ощутил наконец детскую усталость, и мне захотелось плакать.
«Продолжай, — сказал мой Отец после недолгого молчания. — Больше Я не стану прерывать тебя».
«Насколько я помню, — начал Мененхетет, снова помолчав, — как только Верховный Жрец произнес эти слова, другой жрец открыл золотую клетку, из которой, словно опасаясь, что крылья не поднимут их в воздух, достаточно быстро, с шумом вылетели четыре гуся. Поднявшись в воздух, они описали круг над Двором Великих, а затем полетели вместе к югу, но позже, как нам сказали, им предстояло разделиться, чтобы разнести слово о случившемся в четыре предела Небес. Теперь, когда они скрылись из виду, Верховный Жрец сказал Голосом-исполненным-всей-полнотой-Его-власти: „Хор получает Белую Корону и Красную Корону. Рамсес получает Белую Корону и Красную Корону". Однако мне было непонятно, как Он мог получить какую-либо из них, поскольку обе они уже пребывали на Его голове. Он получил одни слова. Затем другой жрец поднес Ему золотой серп и сноп пшеницы. Благословленный жрецами евнух вышел вперед, поцеловал ногу Усермаатра и лег на землю, держа в своих черных руках корни пшеницы. Фараон взялся за верхушку снопа и обрезал стебли посредине. Потом пшеничные листья были разбросаны перед быком, и животное увели на заклание.
Затем все те из нас, кто служил при Дворе, один за другим выходили вперед и целовали Его руку, обнимали Его колени или кланялись до земли — в зависимости от близости к Нему, и когда подошла моя очередь, Он необычайно торжественно приветствовал меня, сказав, чтобы я шел в Тронный Покой и подождал вместе с немногими, и, конечно, Сам пришел туда, приняв все положенные почести.
Оставшись наедине с восьмерыми из нас, Он сказал, что в благодарность за наши труды, нашу преданность Ему, нашу верность, нашу храбрость и наше благоразумие — при последних словах мне показалось, что Он взглянул прямо на меня — Он собрал нас вместе для того, чтобы доставить нам ни с чем не сравнимое удовольствие. На эту последнюю ночь Торжества Он наделяет каждого из нас особым титулом. Этой ночью мы будем служить Распорядителями Обрядов Пожалования, и, сказал Он, эти титулы мы будем носить вечно, возбуждая в людях трепетное благоговение до конца наших жизней. Мы будем известны как Восемь Его Распорядителей (я немедленно вспомнил восемь Богов слизи — хотя по выражению лиц остальных можно было с уверенностью сказать, что они ничего такого не подумали). Итак, награды были пожалованы Его Хранителю Сокровищ, Его Главному Писцу, Его Домоправителю и нескольким Его Военачальникам, включая меня. Теперь, как нам было сказано, мы являемся обладателями титулов, которые существовали при первом Фараоне. „Древних и великих титулов", — как сказал Усермаатра. По одному мы выходили вперед, и каждому давали золотого скарабея, а Усермаатра произносил наши новые имена. Визирь стал Единственным Спутником Усермаатра, Хранителя Сокровищ назвали Управляющим Всем, что Растет для Царя, а Пепти, что меня немного удивило, который в тот день был назначен Главным Писцом, теперь вновь был отмечен и стал Первым Утренним Вестником Царя. Следующий, военачальник (кожа которого походила на шкуру Себека-крокодила), совершивший много успешных переходов к золотым копям, стал Распорядителем Золота, Выходящего из Земли, вперед выходили еще трое других, чьи титулы я не могу сейчас вспомнить, но мне, последнему, когда я сжал Его руку, было сказано: „Что бы Я делал без Моего благородного возничего?" — и Он не только держал мои пальцы в Своих с чувством не менее прекрасным, чем все дарованные мне Маатхорнефрурой, но и взглянул на меня глазами, исполненными такой любви, которую Он не выказывал мне уже много лет. „Многое зависит от тебя, — прошептал Он, но я совершенно не понимал, что Он имеет в виду, а затем Он повернулся к остальным и сказал, что после долгах размышлений решил назвать меня Хранителем Тайн, именем, которое, будучи произнесенным в своей полной форме, каким оно было в древности, звучало так: Хранитель Тайн, Известных Лишь Одному Человеку. Оно будет моим титулом этой ночью, сказал Он, и до конца моих дней. Не знаю, мелькнули ли предо мной в тот миг мои будущие жизни, но я чуть не расплакался и сделал это позже, когда остался один, что случилось не раньше чем через час, поскольку мы отпраздновали награждение с нашим Фараоном за чашей колоби, рассматривая скарабеев друг друга и разговаривая между собой как Распорядители, называя друг друга новыми именами. Да, только тогда, когда я вернулся во Дворец Колонн и остался один в своем пустом покое, я разразился слезами и продолжал рыдать так долго, что меня можно было принять за разлившийся Нил. Я ни разу не плакал, с тех пор как оставил свою деревню, но теперь я рыдал даже о том часе, когда меня забрали на военную службу. Ибо этот сегодняшний подарок был единственным, который я когда-либо получил от Усермаатра. И тогда слезы лились из каждой из Двух Земель моего сердца. Я полагаю, мы не можем познать великое чувство, покуда наша душа одновременно не исполнится как самых благородных, так и самых простых побуждений. Подобно тому как Хор со Своими слабыми ногами выглядит глупцом среди Богов, но при этом перья на Его груди покрывают все небо, так и я плакал, потому что уже не любил своего Царя так сильно, чтобы быть достойным дарованного Им мне великого титула, а с другой стороны, потому что ненавидел Его сердце за то, что оно разбередило мою старую любовь к Нему. Теперь я уже не чувствовал никакого желания осуществить ту отвратительную месть, на которую намекнула мне Нефертари. И слезы лились у меня из обоих глаз каждый раз, когда я вспоминал о том замечательном титуле, которым теперь обладал: Хранитель Тайн, Известных Лишь Одному Человеку».
«Да, он прекрасен и подходит тебе наилучшим образом», — сказала Хатфертити, но голос ее не был таким же теплым, как ее слова
«В тот день, — сказал Мененхетет, — Коронация должна была завершиться, но могу вам сказать, что до конца было еще совсем неблизко. Той ночью на Церемонии Пожалования Его вновь короновали, и, как я сказал, многие ритуалы смешивались с развлечениями. Было ясно, что к вечеру все уже праздновали, но полноту мира, приходящую лишь с истинной Коронацией, мы еще не познали».
«Да, не познали, — сказал Птахнемхотеп, — но это оттого, что Коронация не есть обряд, а также и не жертвоприношение, и не может быть обретена за время одной молитвы, но, подобно жизни Самого Фараона, требует всего множества храмов и более нескольких состязаний. Даже вошь, как ты заметил, участвует в этом исключительном повороте судеб в Двух Землях, поскольку Фараон после тридцати или более лет правления становится столь могущественным, что возлагает на Себя собственную Двойную Корону. Соответственно, не только Он укрепляется в такой момент, но и Боги. Поэтому и все Они должны участвовать. Если не под Своими собственными именами, то в теле другого Бога, Который разделит с Ними Имя. Да, и все духи должны восстать, не все разом, ведь и землю со всеми ее долинами и склонами не перевернуть разом, но ком за комом. Так и весь Египет поднимается и ставится на свое место от обряда к обряду — во всяком случае Я вынес такое представление из глубин Своих разысканий. Гимн, прозвучавший во Дворе Великих в тот последний день, был лишь самым крупным событием из огромного их числа, сравнимого по величине с количеством номов, людей, зверей и всех Богов».
«Даже будучи Верховным Жрецом, — сказал Мененхетет, — я бы не смог сказать это столь же хорошо».
«Я согласна, — сказала моя мать, обращаясь к Птахнемхотепу. — Ты — Хранитель Тайн». Но впервые с тех пор, как они вернулись в крытый внутренний дворик, мой Отец с раздражением воспринял ее замечание и шлепнул ее по бедру за столь легкомысленные слова, чем доставил Хатфертити еще большее удовольствие. «Могу ли я назвать себя Единственной Спутницей Птахнемхотепа?» — спросила она, и в ее голосе прозвучала явная дерзость любимицы, которую никогда не заменят, и я услышал ее следующую мысль, я один, так как только я был достаточно проворен, чтобы ловить подобные молниеносные мысли моей матери. «Это я, — сказала она себе, — настоящая Хранительница Тайн».
ТРИНАДЦАТЬ
Моя мать была так довольна той честью, которой она сама себя удостоила, что из ее усталых рук поднялось сладостное блаженство и облаком прошло над моим Отцом и мной. Мы втроем сидели, об-локотясь на подушки, окутанные общим ощущением умиротворения, и я вновь парил поблизости от радостей моего сна. Воспоминания моего прадеда стали теперь менее тревожными, и мне не было нужды вслушиваться в его слова, и я позволил его мыслям свободно разворачиваться предо мной.
«Ночь Пожалования, — начал он, — происходила не в Зале Празднеств Царя Унаса, но на площади, во Дворе Великих, который был окружен стенами из тростника. Крыши не было. И все же это место называлось Шатром Царя Унаса, и сверху нас прикрывали решетки с вьющимся виноградом и цветами, которые поддерживали лишь тонкие шесты, чтобы всем был хорошо виден Фараон (что было бы невозможно в огромном Зале Празднеств с его тяжелыми каменными колоннами), нет, тот вечер проходил так, словно мы были и не внутри Дворца, но и не под открытым полностью небом, а, как Боги, пребывали где-то посредине.
Многое другое происходило той ночью не так, как всегда. Фараон появился не последним, но первым и занял Свое Место на деревянном помосте, покрытом тяжелым ковром, на котором стоял золотой трон с четырьмя раскрашенными деревянными столбами, поддерживающими балдахин. Каждый из гостей, входя, кланялся Усермаатра, и каждой женщине Он посылал ожерелье и венок цветов, а каждому мужчине — золотой кубок, и на столах было приготовлено множество таких наборов — кубков, наполненных фруктами, и ожерелий с цветами. Слуги разносили тончайшие вина из лучших виноградников Харги, Дахлы [63], Фаюма, из Пи-Рамсеса, Мареотиса [64] и Пелусия [65], а также хеттское пиво, более темное, чем ваше египетское, которое подали к столу Маатхорнефруры — странный напиток с запахом пещер и корней, солод чувствовался в нем сильней, чем в нашем, и использовалось не только корневище, но и ростки — боевое, на мой вкус, пиво.
Могу сказать, что все гости, включая Принцев и Принцесс, уже заняли свои места, когда появились три Царицы. Истнофрет была первой со Своими семью сыновьями и дочерьми, но, как и всегда, в повседневной жизни Двора с Нею так редко считались и столь мало о Ней говорили, так и теперь Она не произвела никакого впечатления, да и дети Ее были столь же непримечательны, как и Она. Следующей в Зал вошла Маатхорнефрура, Ее корону украшали два высоких пера, а Ее воздушное одеяние было столь прозрачным, что Ее чудесный маленький живот не выглядел столь ослепительно, как мерцание небольшого бледного лесочка над Ее бедрами. Затем вошла Нефертари. Она предстала в великолепии, в котором с Ней не могла сравниться ни одна женщина. Хотя большая часть Ее тела и не была видна под тяжелым одеянием цвета бледного золота (этот цвет должен был напомнить всем о волосах, потерянных Маатхорнефрурой), но заканчивалось оно всего лишь на ладонь выше Ее пупка, и на ней больше ничего не было, кроме воротника, прикрывавшего Ее шею, и золотой диадемы в волосах. Итак, можно было видеть лишь груди Царицы. Они были столь же прекрасны, как у молодой женщины. Их ложбинка походила на тень от храма, и воздух в моих ноздрях задрожал от желания. Я обладал Ею прошлой ночью, но не Ее грудями. Как будто готовясь к этому вечеру, Она отказалась тогда обнажить их. И все же их красота жила в моих ладонях с нашей первой ночи, когда мои пальцы взрыхлили всю Ее плоть. Так что мне следовало верить, что эти груди так красивы отчасти из-за искусной работы моих рук. Однако этой мысли не суж-дена была долгая жизнь, так как Ее появление едва не нарушило ход Празднества. Нефертари улыбнулась всем нам, Людям Царского Круга, сидящим рядом с Фараоном, и Людям Царского Двора, рассаженным по углам, затем простерла руку к столу, за которым сидели Ее сыновья, и Аменхерхепишеф встал, вышел вперед и провел Ее на место рядом с Собой. При этом все присутствовавшие в Шатре также поднялись, и раздались оглушительные приветствия герою и Его матери. И, конечно же, столь бурное проявление чувств, когда поднялось столько кубков и Ей под ноги было брошено столько цветов, явило собой всеобщее желание сказать: „Она — наша, а не хеттка". Даже оттуда, где я сидел с Маатхорнефрурой, в отдалении от Усермаатра (ибо Он разместил Ее слева от Себя, а Нефертари — справа, каждую на помосте, равноудаленном от того возвышения, на котором восседал Он Сам. Истнофрет также сидела на помосте, но в глубине Зала!), я понял, что Он не ожидал такого взрыва чувств. Рукоплескания не прекращались, но гремели с такой силой, что даже знатные люди и их жены, известные соблюдением приличий, несмотря на это, продолжали бить в ладоши в Царском Кругу, а из углов Зала раздался свист. Усермаатра встал и высоко поднял Свои Скипетр и Плетку, чем вызвал более громкий всплеск рукоплесканий, хотя и не такой сильный, как я предполагал. Затем все сели. Я чувствовал волнение сидящей рядом со мной Маатхорнефруры, и когда Она под столом взяла в Свою руку мои пальцы, Ее кожа была холодна, как Северные земли. „Я говорила Ему, что это случится", — прошептала Она. Я же не ожидал ничего подобного, хоть и наблюдал в городе нарастающее возбуждение, вызванное возвращением в Фивы Аменхерхепишефа и его войск, которое продолжалось весь день, но увидав, как вошла Нефертари и как Ее встретил сын и то количество приближенных, которые не задумываясь вскочили, чтобы приветствовать Их, я понял, что Ее появление было тщательно подготовлено. Для меня стало очевидным, что, когда рядом с Ней Ее сын, мне нет места ни подле мыслей Царицы, ни вблизи Ее силы в нашем городе. Тут меня осенило, как далеко меня отнесло от подобных забот. Я оглянулся назад, на того воина, которым когда-то был, и вспомнил его великое умение понимать притязания всех, кто его окружал, знать их так хорошо, что это помогло ему стать Командующим-всеми-Войсками. Я уже не был тем человеком. А мог бы быть уже и мертвым. Ибо кем стал я теперь, как не несчастным приверженцем опасностей и радостей плоти, которые дарит любовь? Вот уж действительно Хранитель Тайн. Моя служба так тесно связала меня с женщинами, что теперь я мало что знал о силе мужчин. И я поразился своему собственному тщеславию — предположить, что тот, кто убьет Фараона — имея в виду себя, — сможет затем сам стать Фараоном, это я-то, у которого теперь, когда вокруг кишели войска Аменхерхепишефа, не было ни одного преданного воина.
В этот момент Он посмотрел в моем направлении через все праздничное веселье, кипевшее в Зале, и мои широко раскрытые глаза увидели перед собой не глаза Аменхерхепишефа, но дверь в Страну Мертвых. Эти глаза были вратами, через которые мне предстояло пройти. Я подумал: „Да, в эту ночь я умру. По крайней мере, это великая и памятная ночь". Я вновь ощутил те же чувства, что познал в пивной, но теперь нежность, в которую обратился мой страх, подобралась еще ближе, и каждое дыхание было исполнено для меня благоговейного трепета, ибо сам воздух источал простое счастье от того, что никакая опасность не могла подступить ко мне до того, как закончится праздник. Мне было дано насладиться этими часами торжества.
Подали блюда из быка Аписа, принесенного в жертву этим утром, блюда изысканные, истекающие соками Богов, а также редкую рыбу, которую нечасто ловили в Ниле, и, поскольку я был готов сосчитать все разнообразные оттенки вкуса тех яств, что могли стать моей последней едой по эту сторону от Страны Мертвых, я могу сказать, что перед нами поставили девять различных мясных блюд и шесть из домашней птицы, четыре сорта хлеба и восемь видов пирогов, много сладостей, а фруктов больше, чем я смог бы назвать. Все это время несметное число музыкантов играли на тростниковых дудочках, арфах, барабанах, тамбуринах, кимвалах, а временами каждый никудышный музыкант играл на цитре, пока тане начинала звучать так, будто к нам приползли все змеи из Дельты, и чувствовалось, что повсюду в Фивах происходят такие же торжества и, насколько мне известно, и везде в Двух Землях. Так мне все это представлялось, и к тому же, словно я держал в своей руке множество рук, я ощущал биение сердец всех женатых мужчин и замужних женщин за стенами Дворца, ибо какое количество преданных жен стало неверными лишь за эти истекшие пять дней, больше чем за какое-либо время их жизни! В визге цитр и веселье голосов мне слышалось все то безумие, что пребывало в свободе этого Празднества, звучавшее повсюду, кроме нашего стола, где погруженная в мрачные мысли сидела Маатхорнефрура, едва способная одарить мимолетной улыбкой каждого проходящего, который горел желанием увидеть Ее чувства после тех приветствий, которыми была встречена Нефертари.
Начались представления. Нам приготовили неожиданный подарок. Пепти, удостоенный в тот день освобождения из Садов Уединенных и назначения на более высокую должность Главного Писца, была оказана еще одна честь — право выступать первым. Как только он начал, многие уже были готовы хохотать. Ибо, как я обьяснил Маатхорнефруре, он принялся рассказывать историю, которую все слышали в детстве, о том, как наставник поучал ученика, который никак не мог научиться писать. Поскольку до поступления на военную службу я никогда не видел даже самых простых расчетов на глиняной табличке, то оставался в стороне от общего веселя. У меня были другие воспоминания. Никто из тех, кого я знал в детстве, не умел писать.
Пепти, имея на то самые веские причины, пребывал в прекрасном расположении духа и выказал при этом немалый ум, когда вскоре стал добавлять к истории собственные слова. Он начал так: „Мой отец, который также был писцом, сказал мне: «Я заставлю тебя полюбить письмо больше родной матери». Мой отец оказался мудр, потому что я полюбил его даже больше собственной жены". Здесь Пепти не то чтобы приподнял свою юбку, но прикрыл ладонями то, чем уже не обладал, и толпа — ибо среди собравшихся не было ни одного, кто бы не знал о перенесенной им рискованной операции — покатилась со смеху.
Пустив в ход такое удачное, хотя и бесстыдное вступление, Пепти далее воспроизвел наставление. Его голос, на высоких тонах походивший на детский, тонкий, как звук дудочки, и забавный из-за своих быстрых и скверных изменений тона, доставлял им огромное удовольствие. Из каждой глотки вырывались раскаты смеха. Он обладал способностью создавать впечатление, что подтрунивает над самим собой, но еще больше он смеялся над другими, которые думали, что смеются над ним. Поскольку рост его был мал, а горделивые движения пухлого тела очень смешными, это выглядело забавно. Он был столь заносчивым! Но ему было известно и это, и всякий раз, когда все уже были готовы перестать смеяться, он со свойственной ему легкостью принимался плакать. Так как рассказанная им история была грустной, его слезы превратили ее в веселую, и многие из высокопоставленных особ хлопали себя по ляжкам и стучали по столам, а некоторые из приближенных Аменхерхепишефа, неотесанные, словно дикие козлы, свалились на пол и застучали ногами по коврам. Таким забавным казалось некоторым его выступление. „О, кто станет уверять, — сварливо вскричал Пепти, — что жизнь военного лучше жизни писца? Это далеко не так. Позвольте мне рассказать вам об одном бедняге, чья жизнь полна несчастий. Еще мальчиком его родители привели его в казармы, и там его посадили под замок".
„Держи свою пасть на замке!" — заорали несколько военных в восхищении от своей шутки и мудрости, придаваемой выпивкой, но Пепти улыбнулся Фараону всеми своими зубами — а они у него были такими же белоснежными, как у каждого евнуха! — и продолжил. „Бедный мальчик, — сказал он. — Армия так жестоко обходится с ним. Что бы он ни сказал, он получает удар в живот. Когда он мешкает с исполнением приказа, его бьют по ногам. Если он улыбается, ему разбивают губы. Начальники лупят его так, что ему уже больно сидеть. Все обучение происходит посредством искусства кнута. Если он некрасив, на него не обращают внимания, но если он привлекателен, его используют непотребным образом. «Лучше б я умер! — восклицает он. — Только что пользы мне от Создателя-Трона, раз все крадут мое седалище?» — При этом добавлении все разразились хохотом. — Терпи, — сурово сказал Пепти, подражая командиру, — чтобы стать мужчиной, надо сперва научиться быть женщиной". — Воистину, среди этих высокопоставленных особ Главный Писец управлял вратами смеха. Я даже почувствовал досаду оттого, что никогда не научусь так смешить других.
„Слушайте дальше, — сказал Пепти, — это еще не конец приключений. Тот мальчик наконец вырос и стал мужчиной и хорошим воином, и вот ему пришлось идти в Сирию через горы, а еду и воду нужно нести на собственной спине. Он подобен вьючному ослу. Его хребет вот-вот переломится, а вода, которую он пьет, грязная. Когда он оказывается лицом к лицу с врагами и видит ярость в их глазах, то чувствует себя не лучше птички в силках. Но, случись ему вернуться в Египет живым, с ним поступят как с изъеденным червями деревом. Его одежду украдут, а его слуги разбегутся".
„Над чем они так гогочут? — спросила меня Маатхорнефрура — Это же невыносимо скучно". Она наблюдала, как Усермаатра ревел от удовольствия, а Нефертари и Аменхерхепишеф смеялись от всего сердца. Многие воины теперь принялись красоваться, показывая свои молодые мышцы и улыбаясь самым прекрасным женщинам, уже осмеливались даже заигрывать с ними.
„Говорю тебе, маленький писец, — сказал Пепти, — перестань думать, что воины счастливы, а те, кто пишет, обижены судьбой. Это неверно. Писец ходит при Дворе там, где захочет, его кормят и почитают, тогда как воин всегда так голоден, что не может спать по ночам". Пепти поклонился, а гости взревели и наградили его рукоплесканиями.
Музыканты вновь заиграли. Вышли жонглеры, акробаты и танцоры, но я не смотрел на них. Мои глаза были прикованы к Нефертари. В тот вечер она ни разу не посмотрела в мою сторону. Я не мог приблизиться к Ее мыслям и ощутил новый прилив враждебности к Аменхерхепишефу, наблюдая за тем обожанием, с которым Они подкладывали друг другу еду и передавали кубки с вином. И если я и был Хранителем хотя бы одной Тайны, заключалась она в том, что кровь Усермаатра кипела: я чувствовал Его страх перед Аменхерхепишефом и ту тяжесть, что легла на Его удовольствие в такую ночь Ему приходилось скрывать Свою ярость от Своей жены и сына.
Затем вперед вышел красивый юноша, а за ним прекрасная девушка, вся одежда которой состояла лишь из маленькой цепочки пониже талии. Рука об руку они приблизились к Фараону, преклонили колени, и, когда его голова коснулась пола, юноша испросил разрешения исполнить песню.
„О чем она?" — спросил Усермаатра.
„О, Возлюбленный Амоном, в своей песне я буду говорить от имени дикого фигового дерева, которое умоляет цветок вступить под сень его листьев, чтобы оно смогло поговорить с ней".
„Что ж, расскажи ей то, что знаешь, Дикое Фиговое Дерево", — сказал Усермаатра под веселый хохот Двора.
Молодой человек запел, обращаясь к девушке, громким сочным голосом, исполненным уверенности в своем умении обращаться с женщинами:
Твои листья — капли росы, Твоя беседка зелена, Зеленее папируса И краснее рубина. Твои лепестки — мед, А кожа подобна опалу, О, приди ко мне!Он умолк. Девушка подошла так близко, что он смог обнять ее за талию и сделал это умело, двигая своими кистью и локтем, подобно ветви дерева. Затем он озорно улыбнулся присутствующим женщинам и пропел две последние строки:
О, я не скажу о том, что вижу, Нет, я не скажу о том, что вижу!Дикое Фиговое Дерево обнял девушку, поднял ее на руки и вынес из зала, пройдя между столами под громкий смех, а сановники старались коснуться ее грудей и похлопать ее по заду.
Певца сменили танцоры, на которых, как и на девушке, не было никакой одежды, кроме цепочек вокруг талий, и они танцевали не только перед Фараоном, но и ходили между гостей, снимая крышки с кувшинов с вином, наполняя кубки, а затем возвращая крышки на место. В промежутках, когда они не прислуживали и не танцевали, они стояли между нами, хлопая в ладоши под музыку, и их
бедра извивались столь причудливо, что перед моими глазами змеились белые стены Мемфиса.
Снова появился Пепти, но теперь он нес коробку с красками, огромную, как щит, и палку длиннее его руки в форме палочки для письма. Орудуя этими громоздкими предметами, он сделал вид, что пишет, в то время как невероятных размеров колесничий — я никогда не видел такого огромного человека, одетый как двенадцатилетний мальчик — он был в набедренной повязке, сандалиях и с косичкой, переброшенной вперед через одно плечо, — стоял перед Пепти, мотая головой от стыда.
„Ты забросил книги, — говорил Пепти. — Ты предался удовольствиям. Ты шляешься по улицам. Каждый вечер от тебя несет пивом".
Когда я увидел, как радостно смеется Усермаатра, мне стала понятнее причина успеха Пепти в Садах. Как же он, должно быть, развлекал маленьких цариц и Фараона! Насколько счастливее стала эта обитель без моего угрюмого лица. Я ощутил горячее проклятие зависти и задумался о том, насколько я готов встретить свой конец, когда мое сердце все еще так ревниво.
„Запах выпитого тобой пива, — сказал Пепти колесничему, — отпугивает всех. Ты — сломанное весло и не можешь привести свою лодку ни к одному из берегов. Ты — храм, покинутый его Богом, дом без хлеба". Произнеся эти слова голосом, к всеобщему удовольствию исполненным глубочайшей почтительности, он разыграл целое представление, изображая, что записывает все те мудрые мысли, что только что изрек. Однако его письменные принадлежности были слишком неудобными, и он все время что-то ронял или пачкал, пока вся его игра не стала настолько смешной, что даже Маатхорнефрура начала понемногу смеяться.
Достаточно скоро великан-колесничий показал Пепти язык и пошел от него прочь. Притворяясь очень пьяным, он врезался в толпу, едва удержавшись на ногах, чтобы не свалиться на высоких гостей, и даже в духе этого вольного представления, к ужасу многих, имел наглость петлять и бродить рядом с помостом Самого Фараона. Однако, едва удержавшись, чтобы зайти так далеко и прикоснуться к шестам, поддерживавшим балдахин, он вместо этого доковылял до стола высших сановников и чуть не опрокинул его на них. Затем он с шумом добрался до Визиря и там стал издавать очень правдоподобные звуки бедственного состояния желудка. Настолько отчетливы были рулады его внутренностей, что
Визирь не мог усидеть на месте и в страхе отвернулся, опасаясь быть облеванным. Тут даже я впервые рассмеялся и уже не мог остановиться, будто смеялся в последний раз. Затем колесничий пал ниц перед слугой-сирийцем и принялся целовать его ступни и ласкать его щиколотки, покуда не взглянул вверх и не увидел, что это простой разносчик, тогда он плюнул на землю, вскочил на ноги, побежал было прочь и снова упал. Пепти не отставал от него со своими огромными письменными принадлежностями, все время пытаясь писать и не прекращая ругать его. „Вот, — говорил он, — наставления для тебя. Не забывай их. Учись петь под флейту, читать молитвы под дудку, подстрой свой голос под лиру и хорошенько играй на арфе", — но тут пьяница упал посреди пляшущих обнаженных девушек, которые принялись его обнимать, сели рядом с его неподвижным телом, играли с его волосами, а когда он притворился бездыханным, принялись лить на него масло, покуда он совершенно не вымок, а потом облепили его тело венками из сухих листьев. Почти все присутствовавшие заходились от жадного удовольствия, будто каждым спазмом своего смеха они все прочнее усаживали Фараона на Троне Его Торжества и приближали конец этих дней неопределенности, тогда как я, глубоко погрузившись во мрак души Маатхорнефруры, уже не мог смеяться, а потому размышлял о природе веселья. Я спрашивал себя: не смеемся ли мы оттого, что узрели лицо Бога, которого никогда ранее не видели, и потому немедленно отвели глаза в сторону? Человек смеется, не желая больше ничего видеть. Тогда ничто не смущает покой Богов. Разумеется, я не мог смеяться.
Как я сказал, мы с Маатхорнефрурой оказались в одиночестве. Колесничий, растирая на себе масло, попытался подняться, поскользнулся в луже вокруг него, наконец встал, покачнулся, вызвав визг у женщин, которые испугались того, что его скользкое тело может задеть их, и наконец рухнул на Пепти, круша его доску с красками и палку для письма. Все это время тростниковые трубы, барабаны, тамбурины и цитры играли очень быстро, будто музыканты гнались за злыми духами. Затем Пепти и колесничий убежали под громкие рукоплескания, а масло было вытерто с пола. Наступила тишина. Усермаатра поднял Свою Плетку, и она просвистела в воздухе.
Теперь два быка с громким стуком втащили салазки. На них лежала мумия. Раздались крики.
„Настоящая?" — спросила меня Маатхорнефрура.
„Подделка", — ответил я, и мумию увезли, подошли два уборщика и убрали то, что оставили быки. Вновь наступила тишина. Развлечение закончилось. Однако обряды должны были продолжаться.
Вперед вышел Визирь. От волнения у нескольких сановников даже вырвались стоны. Я не помню имени того Визиря, их у Усер-маатра было много. Однажды я слышал, как он сказал: „Фараон, который живет долго — сила Двух Земель, а хороший Визирь способен лишь целовать Его стопы. Есть много хороших Визирей".
Этот, как и большинство Его Визирей, был стар, и той ночью он был пьян от счастья, что его избрали одним из восьми Распорядителей. Он изрек очень много слов, хотя было бы довольно и нескольких, и говорил об Усермаатра как о восходящем солнце, прогоняющем из Египта всю тьму. „Когда Ты отдыхаешь в Своем Дворце, — говорил он, — к Тебе стекаются слова из всех земель, ибо у Тебя множество ушей и сила Твоего слуха велика. Глаза Твои яснее звезд, и видишь Ты дальше солнца. — Здесь он остановился и подумал о том, что сказал, а затем добавил: — Я говорю всем собравшимся здесь, что ухо Единственного настолько чутко, что мне достаточно произнести всего одно слово в отдаленном месте, как Он уже слышит его и призывает меня пред Свое лицо. Я ничего не могу скрыть от Того, Кто видит оком Сокрытого. Я даже не смею думать о Его достоинствах из страха, что не смогу все их назвать, ибо Он знает также и мои мысли".
„Это невыносимо, — прошептала Маатхорнефрура. — Я должна уйти".
„Ты не можешь этого сделать", — сказал я. „Мне нехорошо".
Хекет, сидевшая рядом, попыталась успокоить Ее. „Тебе не стоит уходить, — сказала Хекет. — В конце Он изберет Тебя".
„Мое дитя нуждается во Мне", — сказала Маатхорнефрура.
Я мог чувствовать Ее страх. Он навалился на меня, подобно восьми Богам слизи, и все, что Она видела Своим мысленным взором, пребывало также и в моих мыслях. Я знал, что Принц Пехти-ра заходится в крике. „Я должна идти к нему", — сказала Маатхорнефрура. Но Хекет боялась гнева Усермаатра больше, чем страхов Маатхорнефруры, и она принялась Ее успокаивать, говоря: „Я сделаю так, что он перестанет плакать". При этом она устремила свой взгляд через весь Двор Великих туда, где в дальнем углу я смог рассмотреть в кругу ее семьи Медовый-Шарик — Нефертари исполнила Свое обещание наполовину: Медовый-Шарик была здесь, но вовсе не с Ней, — и в этот миг я понял, что Хекет вложила в свой взгляд, направленный в глаза Медового-Шарика, немалую силу. В то же мгновение я ощутил, что Маатхорнефрура, сидевшая рядом со мной, почувствовала себя лучше и сказала: „Он больше не плачет". Я снова увидел в Ее мыслях лицо Пехтира, но не захотел смотреть дольше из страха, что Его черные волосы вспыхнут под моим взглядом. Визирь говорил и говорил. Тут Медовый-Шарик взглянула на меня, и в ее глазах была любовь, подобная той, которую я увидел во взгляде Усермаатра, когда Он награждал меня, но ее любви я верил больше, и, словно она задала мне вопрос, хотя я и не знал, о чем он, я утвердительно кивнул, и нежность, которую я ощутил от различимого бледного присутствия самой смерти, вновь вернулась ко мне.
Тем временем Визирь приближался к концу своей речи. „Пока мы едим и познаем богатство вкусов наших Двух Земель, пока мы пьем, давайте скажем друг другу, что эти обряды за последние пять дней стали счастливыми узами, связующими Всю Страну, иными словами — Две Земли и Фараона воедино. Знайте же, что в этот час из пекарен и пивоварен Дворца раздается пища. Людям раздают бесплатный хлеб и бесплатное пиво. Да будут у них два новых глаза на все грядущие годы. Да процветает Египет".
Он сел под громкие рукоплескания немногих и вежливые хлопки остальных, а затем появились двое борцов, которых приветствовали гиганьем. За каждым шел жрец. Один нес знамя Хора, а другой — Сета, и эти борцы — хотя тела их были огромными — устроили лишь притворное состязание, что тоже было занятно. Ибо Сет вскоре приложил свой большой палец к глазу Хора, а Хор в свою очередь положил руку на чресла Сета. Тут приблизились два жреца, чтобы примирить противников, и жрец Хора не только снял руку своего борца с чресл другого, но и вытер свою собственную, перед тем как отвести его прочь. Тут же жрец вернулся с двумя скипетрами и передал их Усермаатра. Другой жрец, с головой Тота, вышел вперед, преклонил колени и громко сказал: „Да пребудут в Твоих руках, Бык Небес, эти два скипетра. А с ними чресла Сета возвращаются Богу, которому они принадлежат, и глаза Хора да отойдут к своему Богу, и пусть умножится Твоя сила благодаря этому дару". Должен сказать, что, несмотря на свое мрачное состояние, я почувствовал, как через всех нас, присутствующих в зале, прошла большая сила, и сам я ощутил себя вдвое сильнее, чем минуту назад, подобно тому как и Усермаатра держал теперь два скипетра.
Наш Фараон встал. Он сказал: „В Моем городе люди едят. На Восточном берегу и Западном берегу Фив они едят хлеб и пьют пиво. Ибо в этот последний из пяти дней Торжества они обрели два новых глаза. От зерна солнца и духов луны они получили два новых глаза".
Он положил два Своих скипетра на подставку и поднял руку, чтобы дотронуться до Кобры на Своей Двойной Короне. „Вот глаз Моей Короны, который есть Глаз Хора".
При этих словах многие сидевшие перед Ним во Дворе пробормотали: „Это Кобра. Он обнимает Кобру". Мало кто не обернулся, чтобы посмотреть на Нефертари. Хекет, как только она поняла, что сделает в следующий момент Усермаатра, прошептала Маатхорнефруре: „Два года назад, во время последнего Божественного Торжества, Он приветствовал Ее. Этой ночью Он не сделает этого". Она оказалась права. По Двору прошел ропот, когда Он даже не взглянул на Нефертари. Этот ропот усилился, когда Аменхерхепишеф высоко поднял Свой кубок и выпил за Нее. Несколько придворных не смогли сдержать судорожный вздох.
Жрец, стоявший пред Усермаатра, особо торжественно произнес: „Да не замутится Твой глаз печалью, — и вынул из золотой коробки кадильницу благовоний, которую передал Ему. Затем жрец сказал: — Вдохни благоухание Богов. Все, что очищает нас, происходит от Тебя. Твое лицо — благоухание для нас".
Усермаатра взмахнул кадильницей, и все попытались вдохнуть аромат, ибо это было благовоние, которым мог пользоваться только Фараон и только этой ночью. Воцарилось всеобщее молчание. Благовоние было изготовлено из трав, росших в саду, на двери которого был нарисован черный кабан Сета. Теперь мы могли его обонять — и аромат его был исполнен силы. Запах Усермаатра был непохож ни на один из известных нам прежде, возвышенный и животный одновременно, подобный струящемуся одеянию Осириса и следам Хер-Ра.
Запах благовония не рассеялся и тогда, когда двадцать слуг внесли колонну, дважды превышающую человеческий рост, и бережно положили ее перед Троном. Я не раз видел обряд Установления Столба Джед во время многих торжественных церемоний, но ни один из них не был так высок, к тому же этот был из отполированного известняка, тогда как прежние делались из стеблей папируса. Более того, глаза и тело Осириса были вырезаны посреди колонны, чтобы показать, как в Библе вокруг Него выросло дерево.
Усермаатра сошел со Своего Трона, снял Свою Двойную Корону, установил Ее в золотом святилище на золотой подставке и поднял веревку из папируса, прикрепленную к верхушке колонны. Аменхерхепишеф присоединился к Нему, а затем один за другим вперед вышли двадцать Его сыновей, чтобы встать у двадцати веревок, в то время как шестнадцать Его дочерей также покинули свои столы, и жрецы вручили каждой цитру и ожерелье. Тут Маатхорне-фрура прошептала мне: „Эти ожерелья уродливы". Я сделал постное лицо и ответил Ей: „Предполагается, что это пуповина и плацента", — что еще более смутило Ее (и меня), поскольку каждая из Принцесс, получая подарок, не медля произносила: „Да дарует Хат-хор жизнь Моим ноздрям". Но затем я понял молитву, это было просто. Чего еще мог желать только что отделенный от пуповины новорожденный, как не воздуха?
Фараон и Его сыновья принялись тянуть веревки. При этом сыновья нараспев говорили:
О, Кровь Исиды, О, Великолепие Исиды, О, Волшебная Сила Исиды, Защити нашего Великого Фараона.Как только колонна стала подниматься с одного конца, жрецы снова выступили вперед и принялись избивать друг друга палками. „Они безжалостны друг к другу!" — воскликнула Маатхорнеф-рура с живым интересом, и, пока все не кончилось, половина сражающихся оказалась на полу. Все это время одна сторона восклицала: „Я бьюсь за Хора!", а другая — „Я схвачу Хора!", но когда сражение закончилось, силы Сета бежали со Двора, таща за собой своих израненных и окровавленных бойцов, а колонна была быстро установлена. Это вызвало новые приветственные крики.
Шестнадцать дочерей Усермаатра запели:
Исида без чувств на воде. Исида поднимается из воды. Ее слезы падают в воду. Смотрите, Хор входит в Свою Мать.В этот момент — не для того ли, чтобы ни у кого не осталось сомнений, о чем только что пели, — Нефертари взяла руку Амен-херхепишефа и припала к ней долгим поцелуем.
Не знаю, была ли Она уверена в том, что следующей вызовут Ее, но, безусловно, наступил Ее черед развлекать нас. Усермаатра поднялся и произнес голосом, заставляющим умолкнуть все вокруг: „Пусть Главные Наложницы Бога наполнят Дворец любовью", Нефертари вышла вперед, и к Ней присоединились шесть слепых певиц, и, конечно, они носили такие имена, как Удовольсти листьявие Бога, ибо голоса у них были несравненно прекрасными. Поскольку они были слепыми, то, в соответствии с мудростью Маат, их голоса обрели особое очарование. Они пели, а Нефертари играла на цитре, вначале, пока их голоса были еще легче ночного ветерка, перебирая ее струны едва слышно, но вскоре их песня зазвучала громче и стала ласкать дыхание каждого из нас.
Нефертари стояла, обняв за плечи одну из слепых девушек. Я решил, что это дочь слуга, которого охранники Усермаатра забили насмерть во Дворце Нефертари. Ибо теперь Царица с презрением смотрела на Своего Фараона. Это был Ее час Празднества, который никто не смог бы у Нее отнять. Я увидел, как побледнел Усермаатра, чего не видал никогда ранее, а все присутствовавшие плакали, слушая этих слепых Наложниц Бога. Ибо ничто не может растрогать каждого из нас так, как слепота — этот бич, исходящий из песков самого Египта. Это наше несчастье, самый страшный удар, какой только может нанести нам судьба, и все мы плакали, тронутые красотой голосов этих слепых девушек, и во время их пения я чувствовал стыд Усермаатра оттого, что был убит слуга Нефертари.
О, взгляните туда, молочные коровы, Плачьте о Нем, Не упустите случая увидеть Осириса, Когда Он поднимается, Ибо Он восходит на небеса в сонме Богов.Не могу сказать, была ли когда-либо Нефертари так прекрасна Ее груди были подобны очам солнца и луны, а Ее лицо — самым благородным в Двух Землях. Именно тогда я заметил, что Она смотрит на меня, и ощутил счастье, несравнимое ни с чем из пережитого мной этой ночью, и мысленно произнес заклинание: „О, да будет Ее взгляд обращен на меня в час моей смерти".
Осирис над Ним, Его ужас — в каждом члене, Их руки поддерживают Тебя, И Ты взойдешь на небеса По Его Лестнице.Ибо до тех пор, пока поют Наложницы, Нефертари будет Госпожой гарема Амона, всех Уединенных Сокрытого. Она будет равной Богине Мут. Велика была Ее сила. Рыдала даже Маатхорнефрура. Потому Двор Великих облетело желание — пусть Нефертари вернется к власти, которую Она потеряла! Она была Царицей всех, кто присутствовал в этом месте, и я увидел, что губы Маатхорнефруры кровоточат там, где Она их прикусила.
Хор закончил свое выступление. Изо всех моментов тишины, что случались во время Пожалования, ни разу не была она столь глубокой, как та, в которой мы ожидали, пока Трон Амона, хранившийся в Храме Карнака, древний, священный трон, на котором обычно сидел Сам Бог, тогда, тысячу лет назад — еще всего лишь Бог фиванского нома, которого еще не называли во всем Египте, Сокрытый, был с почтением внесен жрецами и установлен рядом с Троном Усермаатра. Все ждали приглашения Первой Супруге Царя занять место на Троне Амона. Но Кого решит Усермаатра назвать Первой Супругой Царя?
Перед тем как мог быть сделан этот выбор, должна была состояться последняя Коронация. Бакенхонсу, теперь — самый старый Верховный Жрец Двух Земель, вышел вперед, а с ним два молодых жреца, несших золотое святилище. Бакенхонсу открыл дверцы и достал Белую Корону и Красную Корону, но он был слишком стар, и, чтобы удержать их, потребовались все его силы. Усермаатра поклонился им с такой преданностью, что я понял, что Его любовь к Двойной Короне похожа на любовь одного из супругов к другому, когда эта любовь счастлива и не увядает, а оттого всегда доставляет удовольствие и всегда внове.
Усермаатра громко произнес:
Да пребудет ужас от Меня, как есть ужас от Тебя, Да пребудет страх от Меня, как есть страх от Тебя, Да пребудет трепет от Меня, как есть трепет от Тебя, Да пребудет любовь ко Мне, как есть любовь к Тебе, Да соделаюсь Я могучим и Повелителем духов.Бакенхонсу поднял Красную Корону Нижнего Египта и Белую Корону Верхнего Египта и возложил их на Его голову.
Усермаатра прикоснулся к Своему Скипетру, Своей Плетке и Своей Двойной Короне. „Ты изошла из Меня, — сказал Он, — а Я изошел из Тебя". Теперь Он стоял в тишине, обводя глазами присутствующих, вглядываясь в лица многих из нас, одного за другим, покуда эта тишина не уподобилась великому смятению, а сердце Его не забилось, как сердце жеребца. И тут я наконец познал самого себя — да, я действительно Хранитель Тайн, Известных Лишь Одному Человеку, потому что я знал Его сердце и ужасный страх, что пребывал в нем, и великую гордость, и, когда Он посмотрел на меня, я впервые также понял, что Он любит и ценит меня. Ибо Его взгляд спрашивал: „Что Мне делать?" Я снова ощутил Его страх. Нет такого колдовства, страх перед которым сильнее страха Фараона перед силой Своего Сына. Выбрать Нефертари — значит успокоить все силы, способные подняться против Него. С Маатхорнеф-рурой Он останется всего лишь обладателем сияния, что пребывает в свете дальних земель. Однако Его гордость тем, что Он — Единственный, была велика, и Ему была ненавистна мысль о том, чтобы подчиниться Своему страху перед Аменхерхепишефом. И вот Он стоял в нерешительности, а Маатхорнефрура думала о Своем ребенке. Я видел черные локоны Принца Пехтира, хеттские кудри, и чувствовал Ее великий страх. Она шепнула мне: „Скажи Сесуси, чтобы Он выбрал другую — Я буду жить в страхе, если Он изберет Меня". Хорошо, что Она говорила по-египетски, так как Ее голова была наполнена мешаниной хеттских звуков, неизвестных мне, а затем я познал сердце Нефертари, в котором пребывало два сердца: одно, подобное розе, одетой в лепестки Ее любви, и другое — охваченное огнем, и я не знал, слать ли мысли Маатхорнеф-руры Усермаатра, так как, если Фараон изберет Нефертари, я превращусь в зяблика, выклевывающего червей из ленивых крокодильих челюстей. Нет, этих страданий мне больше не вынести.
В тот момент я не понял, отчего Он сделал то, что сделал, но теперь я это знаю. В объятиях Твоего ума, Великий Девятый из Рамессидов, я вижу Его и понимаю, что никогда Он не мог сделать Своего выбора из страха, иначе Он уже не был бы подобен Богам. Боги могли благословить Его силу или взять Свое благословение обратно, но ни один Фараон никогда не примет Своего решения, слушая славословие или стоны Своих людей, — нет. Он должен был остаться верен славе Кадета! И вот Он наконец отвел глаза от Нефертари и подал руку Маатхорнефруре. Та встала, слабо всхлипнув, и пошла через зал. Хекет плакала не скрываясь, и мне не было нужды смотреть в сторону Аменхерхепишефа. Я знал, что под Его взглядом могут пасть стены Храма.
Музыканты играли, а Маатхорнефрура восседала на Древнем Троне Амона. В тот момент, когда Ее ягодицы успокоились, словно Она потревожила поверхность небольшого пруда, пиво в моем кувшине вспенилось. Не знаю, ни какие песни пели, ни того, как скоро стали расходиться придворные, не помню даже, прошла ли мимо моего стола Медовый-Шарик со своей семьей, ибо я сидел, окаменевший, в полной уверенности, что сам свет во Дворе Великих изменился. Я уже больше не различал золотые отблески каждой свечи среди миллиона и бесчисленных светильников, украшавших огромную беседку Двора Великих, но наблюдал все происходящее перед моими глазами через красное марево, походившее на более темные огни ночного поля битвы, и именно в тот час, хотя все присутствовавшие при Пожаловании узнали это лишь потом, Пехтира, возбужденный неизъяснимым беспокойством той ночи, выскочил из кроватки и выбежал в сад, где наступил на присыпанные угли костра и так жалобно закричал, что Маатхорнефрура, словно от боли, скорчилась на Троне Амона. Все видевшие это говорили, что древнее золото Бога послало мучение Ее коже, но Она просто почувствовала обожженную плоть Ее ребенка, и я много лет, почти до середины своей второй жизни, не знал, что эти ожога так изуродовали ноги мальчика, что маленький Принц ходил как Хор, не имея силы в ногах, и умер, не дожив до трех лет.
Я ничего этого не знал. Я сидел в свете павшей на меня красной мглы, и сердце мое исполнилось величайшего смятения и решимости, дотоле мне не знакомых. Итак, я знал, что чувствует Усермаатра. Наконец я сделал глубокий вдох и сказал себе, что больше не буду избегать смерти, но, подобно Нефеш-Бешеру, буду готов вступить в нее и не поверну назад, нет, не поверну. Однако уверенность в моем решении весила не более пера. Но в то же время я, вероятно, уже был близок к своей следующей жизни и, подобно жрецу, говорил себе, что в момент невыносимой муки разница между величайшей правдой и отвратительной ложью может казаться не более весомой, чем перо. И я представил себе перо и стал наблюдать, как оно трепещет при падении, и ощутил трепет красоты в своем сердце. Было ли то знание истины?
Я покинул Зал Пожалования. Поскольку Фараону надлежало прийти первым, а уйти Он должен был последним, я не попрощался с Ним или с Маатхорнефрурой, а прошел мимо Ока Маат, поверхность которого той ночью отражала полную луну, размышляя о хеттском Саппатту. Белизна моих одежд сияла так же ослепительно, как и бледное богатство луны, и я мог видеть страны по ту сторону Великой Зелени. Впервые в жизни я подумал о тех землях далеко на севере, где, должно быть, так же холодно, как на луне, и не знаю отчего — быть может, из-за обступившей меня тишины, либо как уже умерший, — но я прошел мимо стражников Нефертари, как призрак, и проскользнул в Ее покои, и пиво вспенилось в моем кувшине не зря — Она ждала меня.
„Не здесь, — сказала Она. — Я не знаю, как скоро вернется Аменхерхепишеф, переговорив со Своими людьми, — и, не дав мне времени понять, что это значит, Она повела меня в Свои сады, и мы остановились в беседке у маленького фонтана, над которым раскинулось дерево. В лунном свете мраморная скамейка холодила нашу кожу, но Ее тело было теплым, и очень страстным, и нежным еще и потому, что Она плакала. Когда я нагнулся, чтобы поцеловать первую из Ее великолепных грудей, Она схватила мою голову обеими руками и прошептала: „Этой ночью Я буду любить тебя всеми тремя Своими ртами, — и принялась смеяться, и эхо Ее смеха отозвалось в садах. — Да, у Меня есть на то основание, — сказала Она, — ибо ты — третий из трех мужчин, которых Я люблю, и единственный, на кого Я могу рассчитывать, не так ли?"
Я со всей силой, даже слишком сильно сжал Ее в своих объятиях. Правда состояла в том, что меня снова обессилела любовь к Усермаатра. Я более не мог Его ненавидеть, и если прошлой ночью я познал силу быка, то теперь под моей юбкой были не более чем чресла зайца, но Она, омывшись с одной стороны болью, а с другой — яростью, пылала такой страстью, какой я никогда в Ней не знал. Она не только любила меня Своими тремя ртами, но и призывала многих Богов, чтобы разбудить мои члены, пальцы моих ног, мои внутренности и мои губы, мой живот и мое сердце, да, даже мое сознание и длинный лук моей спины, но чем более страстной становилась Она, тем холоднее становилось мое собственное сердце, ибо в своем страхе я был исполнен также и гордости, и я хотел быть бесстрашным, поэтому я стал очень холоден, почти как жрец, на самом деле я был жрецом в объятиях льва, пока Она говорила все те, такие похожие между собой, слова, с которыми так любила играть: о моих губах и берегах реки, о моем сердце и Своей жажде, о дверях моего рта и паланкине моего живота (теперь Она была сверху), о сочленениях моих ног и маленьких губах рта между Ее ног, и Она вскрикнула, когда я вошел, о, так неожиданно стала выкрикивать грубые слова о совокуплении, грабеже и убийстве. «Нек, нек, нек, — сквозь зубы проговорила Она, — иметь тебя, убить тебя, уничтожить тебя, нек, нек, нек, ты — Мои кишки и Моя могила, Мои глаза и Мой ум, Моя смерть, Моя гробница, о, дай Мне твой член, дай Мне твое семя, иди ко Мне на бойню. Умри! — а затем Она сказала: — Смотри, узри, о, умри». Мы перевернулись, и Она легла на спину, и врата открылись в Ней. Бык Алис пребывал в Ее чреве и крылья Божественного Сокола, но голос Ее прозвучал спокойно, когда Она спросила: „Ты убьешь Его? Ты убьешь Его для Меня?" — и, когда я кивнул, она начала судорожно исходить с такой силой, что меня, словно застигнутого горной лавиной, понесло вместе с Ней, и в падении я увидел острова Ее чрева, поднимающиеся из моря, и мое семя помчалось по ущелью между ними.
Но в отличие от всех тех достойных путей, что могли бы привести меня к Ней во все великие дни моей жизни, я вместо этого извергся одной небольшой струей, и мое семя никогда не достигло бы Ее обители, потому что меня не было в нем, нет, оно просто вышло из меня, но тут я ощутил руку небес на своей спине, язык пламени, копье ярости, семь раз я ощутил, как этот огонь проникает в семь моих душ и духов, и сила этих ударов увлекла меня вперед, в мое семя. Затем я оказался под какой-то водой и поплыл. Я почувствовал, как мое сердце разделяется. Две Земли раскололись.
Я поднялся в воздух и посмотрел вниз на свое тело. Оно лежало на Ее теле, а над нами стоял Аменхерхепишеф, вытирая кинжал о мою спину, и кровь семью источниками била из меня. Она кричала, я думаю, что это было так, хотя во всех своих четырех жизнях я не мог в этом поклясться, но полагаю, что Она сказала: „Глупец, он сделал бы это для нас", но затем часть меня, вознесшаяся вверх, вновь опустилась вниз, в мое семя, и у меня сохранились некоторые воспоминания, весьма туманные, о многих моих путешествиях. Порой мне казалось, я пребываю в палатке, стены которой обдувают многие ласковые ветры, а временами я жил на берегах реки, и мимо проплывали крокодилы. Но, думаю, умерев, я вошел в жизнь собственного семени и в должный срок вновь появился на свет из чрева Нефертари. И по причине всех тех страхов, с которрлми я любил в последний раз, но и благодаря отваге моего поступка, моя вторая жизнь стала совершеннейшим воплощением взаимных уступок моих притязаний, и я окончил ее как Верховный Жрец. Но это совсем другая история, не имеющая отношения к Кадешу».
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ
«А что случилось с Аменхерхепишефом?» — спросила моя мать. Тогда я понял, если не знал этого раньше, что Ее отказ почтить окончание рассказа Мененхетета должным молчанием означает, что теперь в ее чувствах к нему нет никакой жалости.
На эту грубость, обрушившуюся на боль его воспоминаний, он ответил лишь вздохом: «За то, что Он убил меня, — сказал он, — не последовало бы никакого наказания. Но Аменхерхепишеф разъярился на Свою мать и вот в два взмаха кинжала Он лишил Ее пупка, нарушив этим Ее связь с Царственными предками. Тут же, в раскаянии, Он отрезал и собственный пупок. Поскольку с Собой Он поступил еще более жестоко, чем со Своей матерью, от потери крови Он потерял сознание в Ее садах.
В это время Усермаатра все еще находился в Шатре, но Своим внутренним взором Он узрел, что случилось, и, не имея рядом никого из более доверенных придворных, Он послал Пепти прикончить Своего Сына. Главный Писец, обнаружив Аменхерхепишефа лежащим без сознания от потери крови, ни мгновения не колеблясь, рассек Ему позвоночник у основания шеи. За этот решительный поступок Пепти был назначен Визирем и хорошо служил Усермаатра. Я никогда по достоинству не ценил ни этого человека, ни его способностей».
«А Нефертари?»
Мой прадед помолчал. «Поскольку Она была моей матерью, я не могу говорить о Ней таким образом. Тебе скорее пристало бы уважать мое молчание, потому что ты все еще не более чем моя внучка».
VII КНИГА ТАЙН
ОДИН
Моя мать, однако, не выказала ни малейших признаков испуга. Конечно, ее поведение было почти непристойным, и моему Отцу это не понравилось. Конец повествования Мененхетета лег тяжестью на Его сердце. Он вздохнул, словно печали всех этих событий прошли через Его губы, подобно горестному звуку, Он даже с любопытством посмотрел на Свои пальцы, словно раздумывая, сколько смогут удержать Его руки.
Затем Он и мой прадед стали обмениваться пристальными взглядами, в которых сквозила какая-то робкая стыдливость В тот час ни один из них не казался довольным, и все же не был готов признаться в этом. Несомненно, мой прадед выглядел уставшим вдвойне — с одной стороны, его утомило долгое повествование, а с другой — сомнение в том, что все, что ему пришлось рассказать этой долгой ночью, принесет ожидаемые плоды.
Не был удовлетворен и мой Отец. Вкус последних событий не смог дать Ему чувства насыщения. Напротив, Он желал большего. «Я просил, — начал Он, — чтобы ты рассказал о Битве при Кадеше, а когда с этим было покончено, попросил тебя продолжить. Ты был любезен и сделал это, и, Я уверен, ничего от Меня не скрыл».
«Возможно, — сказал Мененхетет, — я рассказал слишком много».
«Лишь тогда, — живо и язвительно вставила моя мать, — когда ты говорил о своих самых великих намерениях».
«Нет, ты поведал нам все, что было должно рассказать, — сказал Птахнемхотеп, — и Я уважаю тебя за это».
Мененхетет вежливо склонил голову.
«Я даже отвечу тебе откровенностью. Твои мысли, раскрытые нам в их истинном виде, многому научили Меня в отношении Моего Царства. И все же сейчас Я очень бы хотел, чтобы ты несколько ближе познакомил Меня со своими остальными жизнями».
Мой прадед был в явном затруднении. «Мой рассказ не стоил бы Твоего терпения, — сказал он. — По сравнению с моей первой жизнью, они далеко не так поучительны».
«О нет, — сказал мой Отец, — Я не желаю этого слушать. Мой предок Усермаатра навечно пожаловал тебе титул Хранителя Тайн, которые Известны Лишь Одному. Для Меня это достаточно высокий титул. Говорю тебе, ничего не скрывая: во времена, когда Египет слаб, Фараон должен искать понимания, которое недоступно более никому. Как иначе может устоять Его Трон?»
«Я не заслуживал этого титула. Другие знали больше».
«Твое упрямство утомительно, — сказала Хатфертити. — Почему ты не хочешь сделать приятное Фараону?»
«Я бы сделал, — ответил Мененхетет, — если бы знал как. Ведь я помню свою вторую жизнь совсем не так отчетливо, как первую. Моя первая мать видела Амона в момент моего зачатия. Но что было в сердце Нефертари? Иногда я думаю, что самую сильную страсть, на какую только способна прекрасная женщина, когда она горда и чрезвычайно избалована, она переживает в момент, когда она видит своего умирающего любовника».
Его слова, словно стрела, были посланы прямо в мою мать и в любое другое время вывели бы ее из себя, но в этот час она была начеку. Вечер пошел ей на пользу. «Какое жестокое замечание, — сказала она. — Мне кажется, Нефертари любила тебя больше, чем следовало. И дорого заплатила за это. Потерять свой пупок и старшего сына…» — Ее передернуло от неподдельного ужаса.
«Да, — сказал Мененхетет и тоже вздохнул. Я снова почувствовал, насколько он устал. — Много лет я провел в размышлениях о непостижимой для меня загадке. Кто мог бы сказать, встретившись со мной той ночью, любила ли меня Нефертари или просто заплатила слишком высокую цену за некое проклятье, наведенное Медовым-Шариком, которая, уверяю вас, из-за тех жалких мест, которые получила в День Пожалования, чувствовала себя преданной самым убийственным образом. Такие мысли приходят в голову, когда у меня бывает мало поводов для веселья. Но я также знаю и часы, когда говорю себе, что Боги достаточно хорошо позаботились о Мененхетете, позволив ему быть выношенным во чреве Царицы».
«О да, — сказала Хатфертити. — До сих пор твое истинное желание — стать Фараоном, хоть тебе это никогда и не удавалось».
Мой прадед внимательно посмотрел на нее и покачал головой. «Ты придаешь слишком большое значение тому часу, когда эта мысль представилась мне моей мечтой».
«Но ведь она принесла тебе радость, — сказал Птахнемхо-теп. — Дорогой Мененхетет, не отрицай заветной страсти своего сердца. Даже сейчас Я вижу, как огонь вспыхивает в твоих глазах, когда Хатфертити напоминает об этом желании».
«Это было бы святотатством», — ответил мой прадед, но я не знал, хватит ли у него сил спорить одновременно со своей внучкой и с Фараоном.
Все равно Хатфертити насмешливо спросила: «Святотатством? Откуда такое благочестие? Неужели вкус помета летучих мышей полностью улетучился с твоих губ?»
«С каждым мгновением, — сказал Мененхетет, — твое поведение становится все более схожим с поведением Царицы».
Однако, когда Птахнемхотеп всего лишь с удовольствием рассмеялся при этом замечании, будто намекая, что в этом нет ничего невозможного, Мененхетет, видимо, решил отступить. «Я бы попытался, — сказал он, — поведать Тебе об этих других жизнях, ибо для меня — дело чести оставаться неутомимым, служа Тебе, однако попытка пробудить такие воспоминания однажды уже оказалась изнурительной. С тем же успехом можно стараться сдвинуть камни собственной гробницы! На самом деле мои стремления гораздо скромней, чем Ты мог подумать. Оглядываться назад — это значит истощать себя, а припоминание моих прежних жизней стало для меня прямо-таки ремеслом. Я бы даже сказал, что большая часть моего четвертого существования прошла в подрывающих силы трансах».
Тут моя мать разразилась страстным и яростным смехом. «Не все это знание было добыто в мучениях!» — воскликнула она.
«Были и другие пути к моим воспоминаниям, — признал Мененхетет. — Но их более не существует».
«Да, — сказала она, — не существует».
Раздражение моего Отца росло. «Близится рассвет, — сказал Он, — и мы бодрствовали так долго, что вполне можем дождаться утра. У Меня нет Ока Маат, в котором Я мог бы омыться и приветствовать появление Ра, да и Дворец этот, боюсь, не столь величествен, как был тот, в Фивах, пока Усермаатра не перевел Свой Двор сюда. Но тем не менее у нас есть бани. Там мы смогли бы отдохнуть от приятных трудов этой ночи. Пойдем туда сейчас или подо-вдем еще немного?»
«Я бы предпочла, — сказала моя мать, — остаться в этом крытом внутреннем дворике. Мне так хорошо сидеть, когда между нами наш сын».
«Ну, что ж, — обратился Птахнемхотеп к Мененхетету, — Я снова скажу, что ценю огромное усилие твоей откровенности, и могу обещать, что от него будет зависеть многое».
«На самом деле, — спросил Мененхетет, — насколько многое?»
«О, какой стыд!» — сказала моя мать, но не вслух. Я услыхал лишь ее мысль.
«От него могло бы зависеть все, — сказал Птахнемхотеп, — если бы не оставалось одного вопроса. Когда человек, обладающий такими способностями, как у тебя, становится Визирем, тем самым он приближается к Двойной Короне настолько близко, что может захватить ее. Особенно во времена, подобные теперешним. Как Я могу быть уверен, что твое желание на самом деле состоит не в этом? Говорю тебе, что Я чувствовал бы Себя более счастливым, знай Я больше о твоей второй жизни и третьей. Ведь ты — все еще незнакомец, понимаешь?»
«Эхо того, что я говорю, — молвил Мененхетет, — начинает перевешивать все то, что я могу сказать».
«Ты старый и упрямый человек», — сказата Хатфертити.
«Более того, — сказал Птахнемхотеп, — у тебя нет выбора».
«У меня, как Ты заметил, нет выбора. Так что мне надо постараться», — сказал мой прадед, но не без чувства стыда оттого, что от его гордости отрывали кусок за куском, и, когда он начал говорить, от гнева его губы превратились в узкую полоску.
ДВА
Однако, когда они посягнули на его гордость, он решил испытать их терпение. Сообщая интересные им сведения и делясь некоторыми из своих наблюдений по поводу того, что ему удалось узнать, он в то же время сумел рассказать о своей второй жизни и третьей едва ли не за то же время, что потребовалось ему для описания Тира и Нового Тира, и в каждом его замечании сквозило стремление закончить до восхода солнца.
Не могу сказать почему, но многое в этом неохотном повествовании моего прадеда вернуло меня к неприятным мыслям о Нефхепохеме, и, хотя я никогда не проводил ночи в пустыне, теперь мне казалось, что мы собрались вокруг тлеющих углей костра, а на границе окружающего нас света начинают собираться дикие звери.
«В своей второй жизни, — сказал Мененхетет, — я рос в Садах Уединенных как сын Медового-Шарика и каждую ночь спал в ее постели. Но при этом мне снилась моя настоящая мать, и во многих сновидениях я видел Ее несчастное лицо и в страхе просыпался, потому что у Нее не было носа. Месть Усермаатра была ужасна. Перед тем как отослать Нефертари, Он отсек Ей ноздри, и до конца Своих дней Она скрывала Свое лицо под накидкой и никогда больше не возвращалась в Фивы. «Аииих», — сказала Хатфертити.
«Аииих, — сказал мой прадед и почтил память Нефертари молчанием. — Поскольку мои сны были не только устрашающими, но и правдивыми, Медовый-Шарик решила рассказать мне, как я попал к ней, и я узнал об этих событиях в шестилетнем возрасте, когда очень походил на нашего дорогого Мененхетета Второго — был красивым маленьким мальчиком, гораздо умнее многих молодых людей, ибо мудрость, как и аромат благовония, возникает из своей собственной сути. И вот я понял, еще до того, как Медовый-Шарик рассказала мне об этом, что она мне не мать — по крайней мере, если судить по пуповине, ведущей от одной жизни к другой, — однако, я всегда ощущал ее плоть самой близкой к моей. Конечно, после того как мне сказали имя моей настоящей матери, я стал думать, что в глазах Богов Медовый-Шарик и Нефертари, должно быть, походили на двух Великих Сестер, подобных Исиде и Нефтиде, каждая из которых была отмечена своим ужасным шрамом».
«Можешь ли ты рассказать нам, — спросил Птахнемхотеп, — как тебя передали от одной к другой?»
«Мне сказали, что Нефертари оставалась в уединении все то время, пока была беременной, поэтому никто, за исключением ближайшей служанки, не знал о Ее состоянии. Мне хотелось бы думать, что Она с достаточным уважением отнеслась к одному или двум часам нашей любви, коль скоро пошла на такие предосторожности, чтобы сохранить меня в Своем чреве. После моего рождения, в возрасте всего нескольких дней, меня отослали к Ме-довому-Шарику под присмотром евнуха и кормилицы. Чтобы я не капризничал и не орал, меня одурманили тремя каплями ко-лоби, и Пепти пронес меня в корзине с фруктами через Ворота Уединенных на глазах у Стражи. Дважды получив огромную взятку — сначала от Нефертари, а затем и от Медового-Шарика, — Пепти в этот день задержался в Садах достаточно долго, чтобы успеть внести в книги дополнительную запись. И вот в Записях об Извержениях Усермаатра теперь была пометка о том, что в определенный день Он познал Медовый-Шарик, подтверждавшая, что теперь она нянчит Его отпрыска. Разумеется, при ее полноте никто не смог бы с уверенностью сказать: была ли она беременна в период между записью и нынешним моментом».
«Я поражен, — сказал Птахнемхотеп, — что Пепти решился на такое — за любое количество золота. В конце концов, он ведь был Визирем».
«Его поступок нельзя не назвать дерзким, — сказал Мененхетет. — Но замечу, для восполнения утраты, причиненной ему операцией, чтобы обрести доблесть, он ежедневно ел бычьи яички. Кроме того, в его деле с двумя женщинами он имел весьма сильное преимущество. Если бы они захотели уничтожить его, они должны были бы покончить и с собой. Учитывая то внимание, которое они мне уделяли, он мог крепко держать их в руках. Собственно, я думаю, он видел в них самые пригодные орудия для осуществления своих планов на будущее. Но такой случай ему не представился. Из-за волнующих возможностей, связанных с его высоким положением, он стал злоупотреблять жирным мясом и пить слишком много вина со специями, пока у него не открылась язва. Задолго до того, как я вырос настолько, чтобы узнать всю эту историю, его уже не было в живых. Он умер от внутреннего кровотечения в большом страхе перед Херет-Нечер, несмотря на то, что прекрасно знал, какие роскошные похороны, в соответствии с его должностью, устроит ему Усермаатра. По моим наблюдениям, никто не боится смерти так, как самые умные из писцов. — Он вздохнул. — Поскольку мне так много рассказали о моей матери, я могу сказать, что я часто думал о Ней. В Садах Уединенных была Ее статуя. Она изображала Ее нагой и без пупка. Лишь когда я стал достаточно взрослым, чтобы покинуть Сады, я смог оценить, как прекрасно проявилось в истории с Ней умение Усермаатра посмеяться над тем, что представляется Ему забавным. Ибо теперь я увидел много Ее статуй, и все они были с одинаково гладким животом и с Ее именем на картуше сзади, где говорилось, что Она была Великой Супругой Царя, да, это Он приказал сделать Ее статуи после того, как Она уже навсегда перестала быть Его Супругой и жила в одиночестве в маленьком городе, в чужой земле — некоторые говорили, что чуть ли не в такой дали, как Библ. Такой была моя мать, приходившая ко мне во снах, и я всегда видел Ее лицо под прозрачным покрывалом. Но это все, что я видел. Я вырос в Садах как Рамессид, как сын Усермаатра от маленькой царицы, которая не пользовалась Его благосклонностью и была немолода».
«Учила ли она тебя снова своей магии?» — спросил мой Отец.
«Медовый-Шарик теперь реже занималась ею. Обряд, вызывающий Присутствие Исиды, должно быть, отнял часть ее способностей, а обмен проклятьями с Хекет, Усермаатра и Нефертари — еще больше. Кроме того, кто мог сказать, что отняла у нее Маатхорнефрура? Я до сих пор слышу, как тельце Мермер ударилось о стену. Скажу, что Медовый-Шарик была достаточно добра, чтобы рассказать мне о Хранителе Тайн, который был моим отцом. Однако, при всех ее знаниях, многое вспоминалось мне более отчетливо, чем ей. Я не знал почему, но когда я был еще совсем молод, то смог поправить ее относительно цвета одеяния, в котором Нефертари была на Пожаловании, и, когда Медовый-Шарик признала свою неправоту и то, что оно действительно было бледно-золотого цвета, она три дня не произносила ни слова, но отправляла много очистительных обрядов.
Это, однако, был редкий случай. Теперь она совершала гораздо меньше таких обрядов, но больше полюбила сплетни. Поскольку я был не только ее сыном, но и пользовался ее доверием, мне довелось многое узнать об Усермаатра и Маатхорнефруре. Будьте уверены, я жадно слушал все, что только мог услышать. В конце концов, Он предпочел Маатхорнефруру моей матери. Медовый-Шарик, как истинная сплетница, искала дурное в том, о чем рассказывала, однако оставалась на удивление беспристрастной, будто сама история была важнее, чем дружеское или враждебное отношение к тому, о ком она рассказывала. Так я узнал, что Маатхорнефрура, погоревав после смерти Пехтира, родила других детей и заметно располнела, и у Нее снова выросли волосы, правда теперь они были темнее прежних.
Слушая Медовый-Шарик и, разумеется, рассказы других маленьких цариц, когда они останавливались поболтать, я узнал о начавшихся посещениях Усермаатра и Маатхорнефруры гарема в Мивере, близ Фаюма — места, куда Она была отправлена, когда впервые прибыла в Египет. В Фивах среди маленьких цариц ходило много разговоров о том, что Маатхорнефрура наконец научилась находить в Усермаатра гораздо больше источников наслаждения, чем Его пять пальцев, и теперь участвует во встречах с маленькими царицами в Мивере, пока не стали говорить, что Маатхорнефрура не только любит женщин больше, чем Его, но является единственной женщиной, способной пороть Усермаатра. Они говорили, что, когда Она стегает Его кнутом, Усермаатра от наслаждения ревет, как бык. Откуда мне знать, так ли это было на самом деле?
Затем в жизнь всех нас в Фивах пришли перемены. Не знаю, отчего так было сделано, разве что Нефертари и Аменхерхепишеф постоянно присутствовали в Его мыслях, но наступил год, когда Усермаатра решил переместить Свой Дворец, Своего Визиря, Своего Управляющего, Своих Смотрителей и Военачальников из Фив в Мемфис. Разумеется, большинство Его новых храмов и почти все Его войны и торговля были связаны с севером. Помимо этого, Маатхорнефрура жаждала перемен. Как Он поступал во всех случаях, так было и теперь: Он полностью перенес все на новое место, и Мемфис стал Его новой столицей.
То была большая потеря для Садов Уединенных. Они уже никогда не смогли стать такими, как прежде, ни при одном Фараоне. Усермаатра взял с Собой в Мивер, который, в конце концов, расположен довольно близко к Мемфису, несколько самых молодых маленьких цариц и позаботился о тех, кто остался в Садах. Но Он больше никогда не посещал Уединенных, даже когда бывал в Фивах. Поскольку тогда, в возрасте десяти лет, я, совершенно очевидно, был болезненным мальчиком, который никогда не станет воином, меня к тому времени уже отослали в Школу при Храме Амона в Карнаке, чтобы научить всему, что необходимо знать жрецу, а год спустя Медовый-Шарик получила разрешение покинуть Сады, как это делали теперь многие пожилые маленькие царицы. Она сразу же приобрела дом рядом с моей школой, чтобы почаще меня навещать.
Однако, то была лишь одна из многих перемен. Хотя богатство и сила Амона все еще принадлежали Фивам, большинство сановников вскоре покинули свои особняки и переехали ко Двору в Мемфис. Фивы продолжали оставаться великим городом, но лишь благодаря их жрецам, которые стали вести себя как очень богатые люди, как только заняли покинутые роскошные поместья Наступил день, когда невозможно было сказать, где кончается Храм и начинается город.
К тому же с течением времени Усермаатра устал и от Маатхорнефруры и наконец женился на одной из Своих собственных дочерей от третьей Царицы — Истнофрет, простой и некрасивой женщины, которая никогда не пользовалась Его должным вниманием. Ее дочь Бинтанат, также довольно некрасивая девушка, с возрастом похорошела, она всегда была с Усермаатра в последние годы Его Правления. Он даже удостоил Ее титула Великой Супруги Царя, что сделало Бинтанат равной Своей матери, Маатхорнефруре и Нефертари. В старости Усермаатра жил неразлучно с этой Своей дочерью, а также осыпал многими милостями единственного из остававшегося в живых Своих сыновей от Нефертари — Хаэмуаса, который когда-то выносил Его Золотую Вазу. Да, Хаэмуас стал известен не только как Верховный Жрец Птаха в Мемфисе, но и как великий маг, и позже его послали в чужие земли показывать свое искусство».
«Я слыхал о нем, — сказал Птахнемхотеп. — Он предок нашего Хемуша. Я также разделяю с ним имя Хаэмуас. Это одно из моих любимых имен. Интересно, сможешь ли ты ответить на один занимающий Меня вопрос? Действительно ли этот сын Рамсеса Второго, Хаэмуас, был последним из наших великих магов, который мог отрубить гусю голову, положить ее с одной стороны храма, а тушку—с другой, а затем сделать так, чтобы обе половины сошлись, причем гусь в это время крякал?»
«Все это так. Один раз я видел, как он это делает, но двигались не обе части, но только тушка. Кроме того, расстояние равнялось не половине длины стен храма, но более длинной из сторон, думаю, около шестидесяти шагов, и тело действительно обогнуло угол, чтобы встретиться с головой. Хотя гусь и не крякал, но все же один раз хлопнул крыльями. Однако это не настоящая магия. Будучи молодым жрецом, огромным усилием воли я смог однажды направить свои мысли на тело только что обезглавленного гуся, заставив его, вместо того чтобы биться вокруг одного места, пробежать по прямой целых двадцать шагов. Это, однако, была моя самая удачная попытка, и хотя в свое время я считался достаточно умелым, я никогда не достиг такого искусства, чтобы заставить его обогнуть угол, а также не обрел над ним такой власти, чтобы побудить его тело захлопать крыльями при встрече с головой. В древности, во времена Хуфу, наверняка было больше магов, искушенных в делах такого рода. Я уверен, что тогда гуси обегали все четыре угла храма и гоготали. Замечу, что способности Хаэмуаса впечатляли меня лишь до тех пор, пока я не научился кое-чему сам. И все же могу сказать Тебе, что если Усермаатра и сохранил какое-то благородное чувство к Нефертари, то оно проявилось в Его привязанности к Ее сыну, который, после на удивление мало обещающей молодости, безусловно, преуспел. Он умер на много лет раньше своего Отца. Впрочем, это не было редкостью для детей Рамсеса Второго. Усермаатра стал очень стар, и большинство Его сыновей покинули этот мир до Него, Он действительно жил так долго, что я в своей второй жизни успел даже стать Верховным Жрецом Амона в Фивах до того, как Он умер. Под конец жизни, когда Хаэмуаса уже не было в живых, Он привязался ко мне, и, хотя путешествия вверх по реке стали для Него затруднительными, старый Фараон приезжал в Фивы или вызывал меня к Себе в Мемфис. Не имея ни малейшего представления о том, что мог знать меня раньше, Он тем не менее относился ко мне как к сыну настоящей, а не просто маленькой царицы. Я помню, как Он говорил Своим старческим голосом: „Я хочу, чтобы ты наилучшим образом рассказал обо Мне Повелителю Осирису".
„Будет исполнено", — отвечал я.
„Скажи Ему, чтобы Он обратил внимание на храмы, построенные Мной. Так Он поймет Мое желание продолжить все дела. Надписи на камнях скажут Ему все, что Ему следует знать".
„Будет исполнено".
„Повелитель Осирис — очень умный и благородный Бог, — говорил Усермаатра, напрягая остатки Своего голоса, который звучал так, словно терли друг о друга два черепка. Он добавлял покои, пилоны, обелиски, колоннады и залы ко многим великим египетским храмам, на бесчисленных статуях было высечено Его имя. Однако могу сказать, что в Свой последний год Он утратил обоняние, ясность взгляда, слух и звучность голоса. Я был одним из немногих, кто мог различать произносимые Им слова. Он также почти ничего не помнил. Тем не менее, чтобы умереть, Ему понадобился один полный срок времени Разлива и один Жатвы. В последний месяц Он уже почти не дышал. Так слаб был ветер Его сердца, что в последние три дня многие из нас спорили о том, жив Он или уже нет, поскольку в Его носу не шевелился ни один волосок, а Его кожа стала почти столь же холодной, как камень, готовый Его принять. Однако Его глаза мигали, хотя и с большими промежутками.
Рядом с Его погребальным храмом в Западных Фивах на одном из столбов из розового гранита высечена надпись: „Я — Усермаатра, Царь Царей. Вознамерившийся узнать, кто Я такой и где Я покоюсь, должен сперва превзойти одно из Моих деяний".
Кто мог занять Его место? Таковым стал Меренптах, Его тринадцатый сын, брат Бинтанат. Какая жалость, что я никогда не знал Истнофрет. У этой простой и глупой женщины были, должно быть, невидимые никому добродетели, раз Ее дети добились столь многого. Да, Меренптах был тринадцатым из сыновей Рамсеса от всех его Цариц, а двенадцать предыдущих были уже мертвы. Посему Он, был стар и лыс, когда стал Фараоном, и Он долго ждал. Враги Египта осмелели, когда Сесуси не стало. При Его жизни Его слава жила среди них, как лев, и на протяжении сорока лет не было настоящих схваток. Теперь же все были готовы выступить против Меренптаха. Но Он обращался с ливийцами и сирийцами словно был хеттом. Горе тем племенам, которые Он покорил! В качестве доказательств своей победы Он не собирал руки, но Его воины бросали в кучи отрезанные детородные органы убитых. Он покусился бы на большее, чем Его Отец! Разумеется, много времени прошло с тех пор, как мы знали войны или победы.
Ему, однако, это мало помогло. Меренптах умер пять лет спустя на Десятый Год Своего Правления, и Его гробница была возведена в большой спешке. Камни были взяты из усыпальницы Аменхотепа Третьего, и Меренптах даже осмелился вырезать Свое имя на некоторых памятниках Своего Отца. Конечно, я мало что знал об этом Фараоне, ибо моя вторая жизнь окончилась всего несколько лет спустя после смерти Усермаатра, а моя третья прошла при многих правлениях. Был один по имени Сети Второй, затем Саптах, женщина по имени Таусерт, а между ними был даже Меренптах-Сап-тах. Какое-то время вообще не было Царя. В таком разброде находились Две Земли с потерей Усермаатра, и многие годы уровень воды в реке был низким».
«Ты не рассказываешь нам ничего о себе», — пожаловался наконец мой Отец.
«Он и не расскажет», — сказала Хатфертити.
И тут меня охватил гнев. Для меня мой прадед был подобен Фараону, я всегда трепетал в его присутствии, но теперь ощутил жалость к его изнеможению. «Разве вы не видите, — крикнул я, — что он устал! Даже я утомился». Мой голос, должно быть, нес в себе эхо голоса взрослого, так как Птахнемхотеп стал смеяться, а затем и моя мать и, последним, Мененхетет.
Теперь Птахнемхотеп сказал уже мягче: «Я не буду настаивать. Просто дело в том, что Я знаком со многим из того, что ты говоришь, так что интереснее было бы послушать о твоей жизни в качестве Верховного Жреца».
Мой прадед кивнул. Не знаю, может быть, оттого, что я защитил его, но он выглядел воспрявшим. Или то было коварство? «Твой упрек, — сказал он, — в том, чего я не сделал, справедлив. Я попытаюсь перестать быть для Тебя незнакомцем».
ТРИ
«Огромной властью облечен Верховный Жрец, — сказал Мененхетет, — и все же, согласно равновесию Маат, эта власть теряет со временем свой вкус. Лишь в молодые годы мне нравилось быть жрецом, но уже тогда стало очевидно, что я буду возвышаться в Храме. Никто в школе не умел так хорошо читать и писать, как я, а также — возможно, из-за моей физической хрупкости — я проявлял большое уважение к порядку и совершенству каждого священного обряда. Поскольку ничто так не ценилось, как память, я, подобно другим ученикам, не изнывал от тягостных трудов, которых требовали наши занятия, но повторял одну и ту же молитву по четыре, а то и по сорок два раза кряду, либо рисовал одни и те же священные слова на протяжении всего дня. Учеником я был покоен, а будучи еще молодым жрецом вел себя как старый служитель и был ревностно предан своему делу. В храме Боги не поступают по Своей прихоти, но по закону. Вот почему существует Храм. Нам никогда не следует забывать, что одно из имен жреца — „раб Богов". Закон имеет столько мельчайших подробностей, что понять его может лишь самый въедливый жрец, и происходит это только посредством отправляемого им обряда. Именно таким жрецом я и хотел быть. Я был счастлив, что такие законы нелегко изложить другим, но соответствие им зависит от движения рук, от позы молящегося и уверенности голоса, звучащей в каждом слове. Лишь так можно было ощутить присутствие Богов и Их истинную силу. Неудивительно поэтому, что я поднялся в должности от Чтеца Третьего жреца до Второго жреца, однако Верховным Жрецом в Храме Амона в Карнаке редко становился кто-либо много младше сорока лет. Нужно так же помнить, что лишь сын Верховного Жреца должен занять это место. И таков был порядок даже для самого захудалого храма наименее уважаемого из Богов, и подняться на эту высоту, не принадлежа к такому семейству, было весьма редким делом. Тем не менее, хотя телом я уже и не был воином, в моем сердце все еще жил дух такого человека.
У меня также была Медовый-Шарик. И это давало мне немалое преимущество. Она-то знала, как пользоваться возможностями своей семьи! Все влияние, какое только могло быть оказано из Храма Амона в Саисе на наш в Фивах, было обращено в мою пользу, равным образом как и все самые полезные наставления для продвижения — и все это шло от Медового-Шарика. Раз я желал стать Верховным Жрецом в Карнаке, рассудила она, мне следовало придать нашему Храму новый блеск. Разделяя ее мысли, я воскликнул, что Усермаатра должен обещать, что Его похоронят в Фивах. Это могло дать нам многое. С Его переездом в Мемфис угасла и наша надежда, что Он когда-либо упокоится в гробнице, расположенной здесь.
„Может быть, тебе удастся внушить Ему, — сказала она, — что Амон никогда не простит Его, если только Он не вернется сюда".
Я был Его сыном — во всяком случае, Он так думал, — но у меня была еще сотня полубратьев, таких же, как я. В те дни Он еще даже не знал меня. Семья Медового-Шарика могла многое сделать для меня в Храме, но вряд ли смогла бы поддержать мои шаткие притязания как одного из маленьких Принцев. Так что встретиться и поговорить с Усермаатра было не так-то легко. Однако Медовый-Шарик это устроила. Она, я уверен, не только совершила соответствующий обряд (со всеми предосторожностями, чтобы скрыть это от меня! — я очень ревностно относился к предписаниям, когда был молодым жрецом), но также написала Ему и рассказала, что чувствует, как Он ходит в ее сердце каждый раз, когда она обращает свой взгляд на меня.
Поэтому во время Его следующего приезда в Фивы Медовый-Шарик и я были приглашены к Его Двору, и я Ему понравился, и Ему пришлись по душе мои разумные ответы — так же как и Ты, Великий Девятый из Рамсесов, получил удовольствие от слов этого мальчика, моего правнука. Таким образом, среди Его многочисленных сыновей я стал одним из немногих, кто имел возможность навещать своего Отца, когда Он приезжал в Фивы. Прошло, однако, пять лет, прежде чем я смог почувствовать себя достаточно близким Ему, чтобы заговорить о похоронах, но и здесь Медовый-Шарик не ошиблась. Его страх перед Амоном едва ли прошел. К моему удивлению. Он приветствовал мою мысль. Думаю, никто другой не осмелился бы предложить, чтобы столь Великий Фараон, как Усермаатра, покоился рядом с другими Фараонами.
Далее, я смог предвидеть, что, раз наш Великий Фараон будет погребен рядом с нами, наш Храм обретет источник большого дохода. Мы сможем сравняться с Городом мертвых в Абидосе. Я даже стал тем жрецом, который составил планы захоронений для нашего собственного Города мертвых. Мне едва ли удастся передать, насколько успешными они были. Ни один богач, каким бы отдаленным ни был его ном, не мог не сообразить, что о высоком положении его Ка в Стране Мертвых будут судить по местонахождению его гробницы в Фивах. Я вскоре узнал, что любой участок, откуда, по счастью, был виден погребальный храм Рамсеса Второго, стоил во много раз больше, чем место, не имеющее такого вида.
Благодаря этому начинанию, я наилучшим образом смог приумножить наши доходы и был удовлетворен, став Верховным Жрецом в Карнаке еще до смерти Медового-Шарика. Не сомневайтесь, для нее я оставил самый великолепный участок в фиванском Городе мертвых. Однако она заставила меня пообещать, что, как только ее тело будет забальзамировано, я отвезу его вниз по реке и помещу в ее семейной усыпальнице в Саисе. Именно тогда я понял, насколько же она стремилась вернуться в свои болота все те годы, которые оставалась в Фивах, чтобы помогать мне. Самым достойным моментом ее смерти было благородное спокойствие, в котором наступил конец. Она отошла во всей своей внушительной величественности, подобно кораблю, что снимается с якоря с чистым дном, подхваченный набегающими волнами прилива.
Без нее я впервые ощутил себя потерянным среди обступившего меня одиночества, которое заставляет нас так бояться нашей гробницы. Никогда Храм не был таким процветающим, а моя деятельность в должности Верховного Жреца получила немалое признание, меж тем я испытывал смертную скуку. У меня в руках была большая власть, но она так мало радовала меня. Мной овладело беспокойство, присущее жрецам, занимающим высокое положение в Храме, и мелкие дела стали для меня важнее больших. Я бранил поваров за испорченные блюда так же яростно, как укорял жрецов за ошибки в молитвах. Служить орудием Богов — властное призвание для скромного юноши со слабым телом и острым умом, но взрослого человека это уже не подхлестывает.
Отголоски моей прошлой жизни стали все чаще возвращаться ко мне. Теперь, когда Усермаатра и Медовый-Шарик покинули этот мир, те стены сознания, что удерживали меня в пределах обязанностей моей второй жизни, стали подаваться. С шести лет я знал, как был зачат, однако, пока были живы Медовый-Шарик и Сесуси, я не искал большего знания о моей первой жизни — мне было достаточно того, что я отличался от других.
Теперь же, прогоняя мою скуку, стали приходить образы другого человека, которым я был когда-то. Посреди возвышенного обряда перед моими глазами вдруг возникала Медовый-Шарик, и она была молодой, а ее кожа красной от огней ее алтаря и душевного напряжения, которого требовала ее магия. Ее огромные груди колыхались предо мной.
Среди нас было известно, что Сет способен нарушить молитву, посылая соблазнительные образы, но я знал, что эти картины приходили из моей памяти, а не мечтаний. Ибо мне они представлялись естественными, и вряд ли могло быть так, что несчастный Бог стал бы мешать моим обрядам. Затем я вспомнил, как чувствовал себя в юности, когда учился писать. В такие моменты, казалось, внутри меня просыпался какой-то сильный человек, который с жадностью глядел на едва ли понятные ему знаки. Я же мог читать их свободно. Однажды, в обычном бодрствующем состоянии, я ощутил себя словно во сне, так как обнаружил, что сражаюсь при Кадеше и познал объятия Нефертари. Хотя я не могу сказать, что первая жизнь возвращалась ко мне во всей своей определенности, но мое сознание прояснилось достаточно, чтобы эти воспоминания вызвали во мне крайнюю неудовлетворенность. Я чувствовал свое превосходство перед остальными. Теперь, будучи Верховным Жрецом и распоряжаясь такими сокровищами, какие никто не смог бы накопить, я все же не имел и золотой чаши, которую мог бы назвать своей собственной. Поэтому для меня стали интересны богатые люди. То, что наш Фараон правил в одном городе, а великие храмы располагались в другом, открывало врата для огромного богатства. Отчего, не могу сказать, разве что дело в том, что богатые люди не осмеливаются открыто показать то, что они обрели, так как должны пребывать в трепете от близости к Фараону. Однако теперь в Фивах богатым было гораздо проще приобретать себе поблажки в загробном мире. Можно сказать, что тысяча богачей рядом с Храмом заменяют Фараона, притом что они и не являются равными Ему. Я окунулся в их удовольствия и стал самым недостойным Верховным Жрецом, конечно же, я не мог спать по ночам от мыслей о тех богатствах, что ежедневно хоронят в Городе мертвых Западных Фив. Я не только знал обо всех мерах предосторожности, защищавших те гробницы богачей, но даже имел список, выполненный самым великолепным письмом — почерк наших лучших храмовых писцов был изысканным! — какие именно драгоценности и части позолоченной мебели замуровывали в их погребальных покоях.
Я также знал некоторых из предводителей разбойников в тех краях. Я не забыл того, что Усермаатра поведал мне о грабителях из деревеньки в Западных Фивах, и, когда время от времени кого-нибудь из этих людей ловили, я посылал весточку его семье до того, как он нес наказание. Настала ночь, когда я поднялся со своей постели, где сон бежал от меня, и, к большому удивлению паромщика, пересек реку на пароме, принадлежавшем нашему Храму. В ту ночь я сам прошел весь путь до деревни воров, чтобы сделать необходимые приготовления. Ради того, чтобы те воры поверили мне, пришлось устроить так, что с одного из их недавно схваченных братьев сняли оковы и он стал моим слугой. Немало гробниц было вскрыто, и на свет были извлечены несколько прекрасных вещей. Храбрость этих воров росла от заклинаний, которые я мог предложить им от проклятий, начертанных на каждом подземном своде. Какую позорную огласку получили бы мои действия, если бы меня изобличили!
Однако Пепти не зря наложил на меня свою руку, когда я был ребенком, и я становился все более дерзким. Помню один чудесный золотой стул, извлеченный из гробницы старого торговца, который через своих людей я продал номарху из Абидоса. Когда и он умер, его мумия была послана в Фивы — из Абидоса! — и похоронена со всеми его сокровищами, а вскоре его гробница была ограблена. Что ж, я продал тот стул еще раз!
Могу сказать Тебе, что к концу своей второй жизни я стал невероятно богатым человеком и тщательно прятал все эти сокровища в предгорьях Восточной пустыни. Поскольку походы в пещеру часто на целый день уводили меня из Храма, среди жрецов, занимавших в Храме высокие посты, поползли разговоры о моей лени при исполнении обязанностей. Уверяю, я никогда не трудился более напряженно».
«Но зачем, — спросил Птахнемхотеп, — было хоронить такое богатство?»
«Я твердо намеревался, — ответил Мененхетет, — насладиться этими сокровищами в своей третьей жизни».
«У тебя были такие мысли? Ты ничего нам об этом не рассказал».
«Собственно, много что можно еще добавить. Видите ли, я влюбился — как это могло случиться лишь со жрецом — в одну из самых известных блудниц в Фивах, в женщину, чья красота намного превосходила ее очарование, но тогда я вряд ли знал, как следует искать женщину. С другой стороны, многое вспомнилось мне из того последнего часа с Нефертари. Чем больше я размышлял об этом событии, тем более убеждался (основываясь на том, что смог вспомнить о любовном опыте своей первой жизни), что моего первого повторного рождения не должно было произойти. Я стал считать, что мне очень повезло. Если бы меня не ударили ножом в тот исполненный страха миг, когда я с трудом извергся, ничего бы не случилось. Без того потрясения я никогда не смог бы зачать себя — нет, только не в тот лишенный вожделения миг! Итак, если я собирался жить снова и наслаждаться своей третьей жизнью — а теперь это было моей целью, — тогда я должен был не только познать искусство любви, но также проникнуть в тайны озноба и оцепенения извержения. Будучи жрецом, до тех пор я знал о них лишь посредством руки либо по повергавшим меня в смятение жреческим шалостям. И вот я пошел на обучение к той самой прекрасной и дорогостоящей шлюхе. Звали ее Небуджат, и если согласно одному из значений ее имени она была золотым глазом Богов, то согласно второму — золотой отверженной, и оба этих имени принадлежали ей так же, как Две Земли принадлежат Египту, ибо она вскоре узнала, где я хранил свои сокровища, хотя я ей об этом никогда не говорил. Возможно, я выдал их местоположение, разговаривая во сне, либо ей было известно достаточно, чтобы проследить за моими походами в пустыню, но как бы то ни было, мои планы, что в своей третьей жизни я вспомню, где спрятаны мои сокровища, пошли прахом, поскольку сразу же после моей смерти она нашла ту пещеру. Ко времени, когда я достаточно повзрослел, чтобы оглядеться в своей третьей жизни, Небуджат истратила все».
«Все знают, как шлюхи умеют тратить деньги, — сказал Птахнемхотеп, — но ясно ли ты помнишь, как тебе удалось свершить это во второй раз?»
«Не знаю, смогу ли я понятно объяснить».
«Ты сделаешь усилие», — мягко сказал Птахнемхотеп.
«Я попытаюсь. — Мененхетет закрыл глаза, собираясь с мыслями. — Поскольку я был зачат в ночь, когда мой отец знал, что его убьют, будьте уверены, что тот же страх присутствовал в каждом обряде, который я отправлял, будучи жрецом. Конечно, в этом состояла суть моего благочестия. Может быть, именно поэтому мои благоговейные обряды были столь упорядочены и серьезны. Я остро чувствовал едва уловимое присутствие смерти во всем, что делал. Неудивительно, что когда я ощутил в себе эту жажду всех плотских радостей, то очень скоро превзошел свое невежество в искусстве любви, поскольку и оно — обряд, требующий совершенного почтения. И вот я снова научился, как это было с Ренпурепет, мешкать часами и бродить по краю. Я мог вбирать в себя все богатство и мерзость, блеск и отвращение, стон и величие, что пребывали в Небуджат, и все же не изливать себя в этот тяжкий миг на все ее воровство и разврат, чего просила у меня ее кровь, да, при этом я мог втягивать семь ее душ и духов в мои чресла и далеко вверх — прямо
в сердце, покуда жизнь моя не становилась не просто призрачной, но все более и более похожей на тончайшую нить. Все во мне, что не пребывало в ней, становилось готовым к выходу из моего тела и вхождению в мой Ка. В такие моменты я знал, что мне стоит лишь оборвать нить между своим телом и моим Ка, эту серебряную нить — так я видел ее с закрытыми глазами, — и я умру. Мое сердце разорвалось бы в момент извержения. Не могу сказать, — как много ночей я парил на этом краю. И все же я всегда возвращался. Мне слишком нравилось это наслаждение, чтобы отказаться от него. И я никогда не рвал серебряную нить, соединявшую мое тело с семью душами и духами, нет, до той ночи, когда она предала меня.
Могу сказать, что этот способ любви — притом что он самый утонченный и сглаживающий многие сладкие повороты — мог представляться ей лишенным силы, отвечавшей ее вкусам. Ибо, будьте уверены, это медленное проникновение не только нашей плоти, но и наших мыслей и духов в плоть и мысли другого в большой степени зависело от легкости наших движений во время тех чудес равновесия, что я совершал на самом краю».
«Это самый божественный способ любви», — сказала Хатфертити, бросив на Птахнемхотепа взгляд, говоривший, сколь хорошо узнала она именно такое удовольствие этой ночью. Однако Мененхетет, прерванный этим вмешательством, продолжил свой рассказ:
«В одну из таких ночей, когда все во мне было предельно разделено — мой Ка исследовал врата самого Дуата, в то время как головка моего члена пребывала, очевидно, глубоко в ее лоне — так что, должно быть, она наконец увидела ту пещеру, где были спрятаны мои сокровища, ибо внезапно отпрянула, и мое падение стало неизбежным. Мне хватило времени лишь для того, чтобы попрощаться со всем, что было мной — нитью, Ка и остальными моими душами: я знал, что мне уже никогда не удастся такое бурное извержение, и я отошел. Ни один жрец никогда не видел Богов в таком сиянии, как я. Мои стремления и алчность вылетели из меня, подобно радуге. И снова я ощутил великую боль в верхней части спины, на этот раз лишь единожды, а не семь ударов, и услыхал ее последний крик, хотя он исходил от меня. В то мгновение я почувствовал не нож, но как мое сердце разрывается в руках той девки. Когда мы отдыхали, я подумал о ребенке, которого только что зачал в ней, и лишь после, проснувшись и встав, чтобы помочиться, я увидел себя на земле.
Глаза, которыми я увидел свое мертвое тело, принадлежали, разумеется, моему Ка, и он, бедняга, смог вернуться во чрево Небуджат лишь на следующую ночь, когда она почти совершенно обезумела от любовных трудов в объятиях одного из своих постоянных посетителей, могучего грабителя из деревеньки в Западных Фивах. Однако в последовавшие месяцы, когда я рос в ее животе, мой Ка не мог пребывать в покое, столь важном для времени, которое мы проводим во чреве. Напротив, мой Ка и прочее, что было мной, появилось на свет поврежденным и избитым из-за грубости незнакомцев, колотивших по моей голове все то время, что я пребывал во чреве своей новой матери. И, думаю, многие из воспоминаний о моей первой и второй жизнях были настолько выбиты из меня, что для их восстановления мне понадобилась почти вся моя четвертая жизнь».
ЧЕТЫРЕ
«Меня воспитала Небуджат, и снова я вырос в гареме, хотя здесь не было Фараона. Туда мог зайти любой мужчина в Фивах. Да и мать я выбрал неразумно. Заполучив мои сокровища из Восточной пустыни, она сразу же оставила веселый дом и приобрела себе прекрасный особняк — желания у нее были царские, а страсть к азартным играм — как у колесничего, так что очень скоро деньги кончились, и она снова стала продажной девкой. Мне еще не исполнилось и восемнадцати лет, а она уже умерла от лихорадки. Моча ее превратилась в черную жидкость. Я был тогда здоровым сильным парнем, в сердце которого таилось много нераскрытого. Добрых чувств во мне было немного, однако я знал, как разговаривать с людьми: я мог, как гласит наша пословица, „Продать перо Фараону и назначить Ему цену золотом". Я отлично понимал женщин, что и следовало ожидать от того, кто жил в веселом доме, а мужчин оценивал по их умению или неумению вести себя. Ведь именно неотесанность колотилась о мою еще не родившуюся голову.
Скажем так: я знал, как найти свою дорогу. В то время я зарабатывал на жизнь там же, где и моя мать — я содержал веселый дом и преуспел. Более чем когда-либо наш город был городом жрецов, а значит, согласно равновесию Маат, в наших веселых домах царил разгул, а мой дом, признаюсь, был лучшим. Отчего бы и нет, раз я две жизни готовился к такому поприщу.
И все равно, хоть я и варился в жизни Фив, я знал о той сумятице, что царила при Дворе в Мемфисе. Каждые несколько лет появлялся новый Фараон, да к тому же тогда случился не один, но два голода. Порой даже я почти голодал. Однако, по счастью я поверил своим снам, а они сказали мне, чтобы я отправлялся на север, в Дельту, где особенно буйно рос папирус. Там мне следовало открыть мастерскую по его обработке и продавать его в Сирию и другие земли. Поступи я так, вот тогда, пожалуй, сказал мне тот сон, я смогу вернуть сокровища, которые растратила моя мать.
Я все еще был просто толстым парнем веселого нрава с хорошо подвешенным языком, но во время поездки в Мемфис мне удалось переговорить с Главным Писцом Визиря Фараона Сетнахта (этот Главный Писец, бывая в Фивах, часто захаживал в мой веселый дом, поскольку любил не только женщин, но и ту еду, что я ему подавал, и бани, которые я содержал). Теперь мне удалось убедить его, что мои планы в отношении папируса стоит обдумать. Чтобы сократить мой путь, он дал мне сопроводительное письмо (с указанием особого налога, который полагалось выплачивать непосредственно ему), и тогда я смог открыть Царскую мастерскую. Большую часть своей третьей жизни я провел в Саисе и к ее окончанию накопил себе состояние. Каким спросом пользовался мой папирус по всей Сирии!
На востоке горели желанием сменить свои тяжелые глиняные таблички, чтобы посылать больше сообщений на одном осле. Раньше на спину животного можно было нагрузить пятьдесят глиняных табличек, половина из которых прибывала на место разбитыми, теперь же появилась возможность отправить пятьсот свитков папируса, которые доставлялись в том же самом виде, если, конечно, ничего не случалось с самим караваном. Эти люди в Сирии, Ливане и даже хетты стали так широко пользоваться нашим папирусом, что очень скоро смогли улучшить даже свои колесницы. Ибо, как только им удалось точно повторить наши рисунки колесниц, они научились их строить. Притом что никакой папирус не мог научить их управлению лошадьми с помощью вожжей, обмотанных вокруг пояса, они узнали и это, так что, можно сказать, что в своей третьей жизни я оказался одним из тех египтян, которые способствовали приближению упадка Египта. Слишком много тайн открылось сирийцам через этот дар — папирус. Они принялись переписывать наши священные письмена и замарали их. Теперь уже нельзя было определить на глаз — плавный ли это почерк наших древних Уединенных, разборчивая ли запись счетовода или таинственные завитушки, которые мы во Внутреннем Храме добавляли к нашим рисункам. В прежние дни один и тот же знак мог иметь не только одно значение, и это обеспечивало сохранность записи. Теперь же из-за сирийцев каждый мог прочесть написанное другим, и даже простой писец глядел без благоговения на прекраснейшие письмена. Ему не надо было заботиться о том, что слова заключают в себе более одного значения. А потому и мудрые, и глупые, и щедрые, и жадные — все были осведомлены одинаково хорошо. Так что у нас почти не осталось тайн от других земель. Понятно, что в те годы появилась новая поговорка: „Знающий наш почерк — знает нашего Ка"».
«Ты не находишь ничего хорошего, что можно было бы сказать о себе», — заметил мой Отец.
«В то время м&го что заслуживало уважения. Мне доводилось жить и в более достойные времена. Помню, что я нанял для работы в своей мастерской много ливийцев и сирийцев. Из-под их рук выходило больше папируса, чем делали мои соплеменники египтяне, привыкшие иметь почти столько же свободных, сколько и рабочих дней. Похоже, они не стремились трудиться в полную силу, но всегда были готовы отлынивать от работы. Конечно же, все было совсем не так, как при Усермаатра. Теперь ливийцы и сирийцы работали больше, делали больше папируса, а искусство его изготовления взяли в свои земли, и все же я был рад нанимать их, так как они за несколько лет сделали меня богатым человеком».
«Разумеется, папирус не был единственным источником твоего состояния?»
«Я также наживался на покупке и продаже участков в Городе мертвых. Так проявлялась мудрость моей второй жизни. Таким образом я составил второе состояние на основе первого. Это — единственная дорога к богатству. Нужно иметь небольшое состояние, чтобы оно послужило удобрением для большего богатства. Видите ли, перевод столицы в Мемфис, казавшийся в то время равносильным падению Фив, закончился обогащением старого города. Ибо теперь лишь Храм Амона мог удержат]» Две Земли вместе. Фараоны могли быть слабыми, но Храм окреп. Так же как росла и цена земли на каждой тенистой улице Города мертвых, а вместе с нею и во всех Фивах. Тот самый особняк, что за небольшую цену купила моя мать, стоил теперь больше, чем дворец восточного царя. Можно сказать, что люди с достатком вроде меня часто селились поблизости друг от друга в Дельте или в Фивах, а в Мемфисе проводили не более одной ночи на пути туда или обратно».
«То, что ты рассказываешь Мне, ценно, но в то же время — не примечательно, — сказал Птахнемхотеп. — Из твоих замечаний Я узнал, что богатые в значительной мере ведут себя одинаково.
Вместо этого Я предпочел бы спросить: какую женщину ты выбрал в качестве матери для своей четвертой жизни? Можно ли сказать, что теперь ты стал мудрее?»
«Я надеюсь, так сказать можно, — ответил Мененхетет, но я услышал, что его голос утратил силу, способную надежно защитить его. — Времена были неспокойные, — повторил он, — и семейная жизнь была исполнена позора. У меня был друг, женившийся на Принцессе, принадлежавшей к прочной линии Истнофрет. Но вскоре он был убит любовником своей жены. Затем ребенок моего друга от той же Принцессы был отправлен в крестьянскую семью, в деревню, где мальчик умер от лихорадки. Это была не та история, которая могла бы укрепить во мне веру в матерей благородного происхождения. Она произвела на меня необычайно сильное впечатление».
«Однако, притом что ты узнал из своей первой и второй жизней, эта история не должна была бы так поразить тебя», — заметил мой Отец.
«В каждой жизни мне приходилось развивать способность вспоминать то, что было прежде. В моей третьей жизни хорошие и естественные суждения, возможно, жили в моей плоти, хотя и не доходили до мыслей. Могу только сказать, что несчастная судьба моего друга явилась для меня сильным ударом. Итак, я обратил свой взгляд в другую сторону и избрал женщину из простонародья — здоровую и преданную. Она выросла в деревне, в крестьянской семье и в детстве пережила оба наших голода. Это придало мне уверенности в том, что она выживет в смутные времена. Мне нужна была женщина, способная защитить мое богатство. Именно это могла сделать для меня моя третья жена, ставшая вскоре моей четвертой матерью.
Должен сказать, что я не отличался хорошим здоровьем. Мне удалось удовлетворить похороненные стремления моей второй жизни, но я расплатился за это. Зачатый Небуджат при немалом возмущении моих семи душ и духов, я едва ли очистился за жизнь, проведенную в занятиях торговлей и в удовольствиях. Я много пил и, чтобы разогреть кровь, употреблял большое количество пряностей, так что стал больным еще до тридцати лет. Я страдал всеми недугами, какие можно заполучить в результате такой жизни: подагрой, ожирением, воспалением глаз и искривлением позвоночника Если в ранние годы я любил со всем пылом тучного молодого быка, то теперь весьма поистаскался. Для возбуждения мне неизменно требовалась помощь жены. Но сказав это, я мог бы добавить, что она не была мне желанна, безусловно, я предпочел бы жениться на Принцессе (именно такой, на которой был женат мой умерший друг), однако, принимая во внимание мое убогое происхождение, ни одна из них не вышла бы за меня. Признаюсь, что в те годы это обстоятельство по-настоящему ранило мои чувства. Иметь богатство, в котором нет закваски признания, все равно что знать изобилие и ничтожество свиньи. Все же я брал то, что мог, и покорился судьбе. Впервые за три мои жизни смерть должна была прийти ко мне в положенный час. В тридцать три года я чувствовал себя старше, чем в любом возрасте в своих прежних жизнях, и жил в глубоком унынии. Ибо в конце своей третьей жизни я стал интересоваться всем тем, чем пренебрегал в молодые годы. Я всей душой стремился вновь обрести память о своих первом и втором существованиях, но уже не имел сил преследовать те глубоко погребенные воспоминания. Затем я еще более усугубил свое болезненное состояние, начав, к ужасу моей доброй жены, принимать многие травы и яды, способные оживить те отдаленные воспоминания, которых я искал. И благодаря им обрел те многообразные лихорадочные состояния, в которых мое сознание отправлялось в дальние странствия. Последний раз я зачал себя из глубин транса, чтобы войти в который, мне не потребовалось искусства большего, чем просто выбрать яд — шлюхи и сводники знают о травах не меньше любого врача или колдуна. И вот я извергся в последний раз в тот момент, когда рухнул в небытие. Именно к этому я и стремился. Все недостойное во мне упало обратно в мое разрушенное тело, но мое семя было переброшено по мосту, и это семя, я надеялся, было не похоже на меня, но лучше. Я верю, что когда мы недовольны собой, то обладаем силой приготовить некоторые добродетели, которых у нас нет, и передать их своему семени. Я стремился обрести новую жизнь, основной смысл которой будет состоять в обретении мудрости, понимания и лучшем использовании многих утонченных искусств.
Мои планы были хорошо продуманы. В своей первой жизни я был рожден как Мени, сын крестьянки, и я все еще был сыном крестьянки, войдя в свое четвертое существование. Однако на этот раз мое богатство осталось нетронутым. Это позволило мне жить так, как я желал. И вот я снова стал Командующим-Всеми-Войсками (хотя обстоятельства моего возвышения не шли ни в какое сравнение с первой жизнью), врачом, человеком знатным благодаря женитьбе на Принцессе (происходившей не от кого иного, как от Хаэмуаса!), а из-за моего богатства я стал вельможей, одним из важных людей в высших кругах Египта. Во всяком случае, — добавил он шутливо, — о чем, я надеюсь, будут свидетельствовать надписи обо мне».
«Но тебе же это прекрасно известно. На протяжении многих лет ты был в центре нашего внимания, — заметил мой Отец, а затем добавил: — Да, даже когда Я был молодым жрецом в Храме Птаха, мне неоднократно доводилось слышать разговоры о тебе за нашими белыми стенами. Говорили, что все сто шестьдесят лет — тогда это было сто шестьдесят лет — в равной степени живы в твоей памяти. — Он улыбнулся. Он не смог сдержать недобрых слов. — Говорили, что ты хвалишься этим во хмелю».
«О, это неправда, — сказал Мененхетет. — Я был просто нескромен. Я сделал ошибку, рассказав нескольким близким друзьям. Слово не смогло бы облететь всех быстрее. Я узнал, что близкий друг и великая тайна — не одно и то же».
«Но как ты пробуждаешь эти спящие силы? Кажется, в каждой жизни это происходило по-разному, не правда ли?» — Произнося эти слова, мой Отец в то же время попытался, по возможности, скрыть Свой интерес.
«Подобно тому, — ответил Мененхетет, — как Аменхотеп Второй стремился убить больше львов, чем любой другой Фараон, так и Ты охотишься за тайнами, живущими в корне языка».
«Означает ли это, — спросил мой Отец, и я мог видеть Его неудовольствие, — что ты отказываешься сказать Мне?»
«Либо Ты считаешь меня обладателем знания, которого у меня нет».
«Твое последнее замечание таит утонченную непочтительность, которая бросает тень на свет, озарявший наш вечер».
«Расскажи Ему, как ты вызываешь эти силы», — сказала Хатфертити.
Мой прадед сделал вид, что не слышал ее слов. «В отличие от своих прежних существований, в своей четвертой жизни я родился с более отчетливым сознанием того, что ушло ранее. Не знаю почему. Но когда я был ребенком, многие куски папируса, с которыми я играл, оказывались вскоре покрытыми священными знаками, известными лишь во Внутреннем Храме в Фивах в последние годы жизни Усермаатра. В молодости я блестяще владел мечом и управлял колесницей, и впервые можно сказать, что я поступил мудро, рано женившись на привлекательной женщине моего круга. Моя мать не только не осталась вдовой, но оказалась достаточно разумной, чтобы занять более заметное положение, выйдя замуж за незаконнорожденного отпрыска по линии Аменхерхепишефа. Поскольку мой давний соперник (а теперь мой предок!) всегда был слишком занят своими осадами и успел обзавестись лишь несколькими детьми, его потомство, не будучи причастным к ветви Престолонаследия, возвышалось с каждым новым Фараоном. Так что моя новая семья, в которую я вошел после второго замужества моей матери, считалась столь же достойной, как и линия моей невесты, и в нашу честь было устроено множество празднеств. Могу лишь сказать, что ранние годы моей четвертой жизни были столь приятными, а моя дочь, мать принадлежащей Тебе Хатфертити, Исетенра, столь прекрасной и очаровательной, что, если бы моя жена не умерла, когда я воевал в Ливии (в должности самого молодого Командующего-Всеми-Войсками, получившего это звание), я бы, возможно, провел свою жизнь на высоком посту и имел много других детей. Однако смерть моей жены преподала мне страшный урок. Я не оплакивал ее, как ожидал. Память о моих первых трех жизнях парила в моем сознании, подобно трем призракам, стоящим напротив моей двери. Я понял, что вряд ли смогу окунуться в кипевшую вокруг меня жизнь, когда за моей спиной остались многочисленные желания моих прежних жизней — несбывшиеся, сбывшиеся наполовину либо почти забытые. И вот я оставил военную службу и принялся за изучение медицины как пути, как я теперь подозреваю, который со временем приведет меня к моей подлинной цели — магии. Я потратил годы на изучение таких сложных предметов, как способ отжимания масла для ослабления приступа подагры по вечерам, когда дует теплый ветерок, или определения, какое из наших трех времен года наиболее благоприятно для использования каждой из трав в наших лекарственных списках. Я вел записи своих попыток применения лечебных свойств рыбной икры против бесплодия, изучал, какие вещества лучше принимать каким из трех наших ртов, либо накладывать непосредственно на тело. Также какие порошки должно, подобно пару, вдыхать через тростинку. Будучи знатным человеком, живущим в роскоши, я предпочитал, чтобы мои действия были понятными, и записывал на папирусе все, что делал, а также указывал результаты, даже если речь шла о прописях, состоявших из двадцати пяти или тридцати веществ, и при этом я, конечно, не мог не обратить внимания на то, какое множество случаев удачного лечения зависело от благоразумного использования всего, что вызывает отвращение. Вскоре я обнаружил, что основными составляющими лекарственных прописей являлись разновидности испражнений. Тогда, с размышлениями над этим, ко мне вернулись воспоминания о тех обрядах, которые я отправлял вдвоем с Медовым-Шариком. И я пустился по водам изучения магии, ставшей моим утешением в четвертой жизни. Не могу сказать, что это занятие дало мне больше счастья, чем другие. Ибо я стал понимать, что, возможно, Амон и навещал мою мать, но я пока что не почтил этот дар ни единым великим свершением. Я пришел к заключению, что, потерпев неудачу в первой жизни, предав многое во второй и испоганив каждое гнездо в третьей, в моей четвертой жизни мне следует стремиться использовать то, чему я научился, чтобы познать большее. Зачем еще этой ночью стал бы я открывать тайны, о которых я не говорил еще ни одному человеку?»
«И все же, — сказал Птахнемхотеп, — Я не могу даже подумать о твоей высокой должности рядом со Мной, поскольку не имею объяснений даже того, как ты использовал летучих мышей».
В голосе Мененхетета прозвучало смирение, когда он сказал: «Эти мыши — грязные создания, неуравновешенные, как обезьяны, беспокойные, как паразиты. Они пронзительно кричат и льнут друг к другу. Но в их отправлениях содержится все то, что они не могут использовать. По этой причине они наделены силой помогать сносить одиночество».
«Я начинаю понимать твою странную привычку, — сказал мой Отец, и в Его голосе прозвучала удивительная симпатия. — Эта мерзкая масса должна придать тебе силы вынести одиночество твоих ста восьмидесяти лет».
Мененхетет преклонил голову перед пониманием Фараона. Но я уловил в своем Отце и другую мудрость, и она не походила на ту, что я чувствовал ранее. Я понял, что в этот момент Он принял тяжкое решение. Мененхетет не станет Его Визирем. Он не желал ежедневно смотреть на сто восемьдесят лет одиночества.
Мой прадед подвинулся на своем сиденье. Не знаю, уловил ли и он произошедшую смену настроения, но Мененхетет лишь мрачно кивнул, когда Птахнемхотеп, будто желая скрыть, куда завели Его мысли, продолжил: «Ты также не рассказал Мне о своих трансах».
«Расскажи Ему», — сказала Хатфертити.
«Да, — сказал наш Фараон, — Я хотел бы больше узнать о твоих трансах».
«Если ты этого не сделаешь, расскажу я», — заявила моя мать. Когда Мененхетет не ответил, слова моей матери поразили нас. «Твое упорство отвратительно, — сказала она, обращаясь к Мененхетету. — Для меня ты был выше всех самых великих Богов. Теперь же я не могу поверить в твое молчание. Я думаю, ты глуп».
«Нет, как может он быть глупым?!» — воскликнул Птахнемхотеп.
«Он глуп. Он не знает, что я на самом деле чувствую в этот момент. Я, у которой всегда было два сердца, одно — чтобы любить мужчину, а другое — чтобы презирать его, сейчас всем сердцем предана одному человеку». То, что она сказала затем, произвело необычайно сильное впечатление, ибо она не проронила ни слова, но позволила нам услышать ее мысли: «Я любила лгать всем своим любовникам, но теперь мне известна добродетель правды».
«Только Фараон может достичь глубин твоих Двух Земель», — ответил ей Мененхетет и поклонился.
«Отчего ты не расскажешь Девятому, как я была использована? Знаешь ли Ты, — сказала она Птахнемхотепу, — что я стала вдохновительницей его магии? Скажи Ему, — обратилась она снова к Ме-ненхетету. — Скажи Ему, как я вошла в твои магические обряды, когда мне было двенадцать лет. Расскажи, как ты совратил меня».
«Ты не была девственницей».
«Да, — согласилась Хатфертити, — не была. Но никто до этого не соблазнял меня подобным образом. Расскажи Ему».
«Я не могу говорить об этом», — сказал Мененхетет.
Я же не мог на него смотреть. Я никогда не видел раненого человека. Я не знал, как держал бы себя воин, когда копье пронзило бы его грудь, но Мененхетет посерел и выглядел обессилевшим. На протяжении этой ночи он столько раз восставал из усталости и обретал новые силы с каждым поворотом своей истории, раскрывавшей нам его знание, однако теперь он выглядел совершенно обескровленным.
«В первый раз, когда Мененхетет пришел ко мне, — сказала Хатфертити, — я не знала, что было использовано. Но он соблазнил меня с помощью напитка, и я стала безучастной. Ему нравилось — и тогда это было его величайшим наслаждением — обладать мной, будто под ним была умершая женщина. Мертвая женщина, насколько я понимаю, приближала его к цели быстрее, чем живая».
«Это было не так», — сказал Мененхетет.
«Да, не так, — сказала Хатфертити. — То был обряд. Когда я подросла, тебе уже не надо было соблазнять меня напитками. Мне стало нравиться то, что мы делали. Ты научил меня сопровождать тебя в твои каверны. — Ее последнее слово было исполнено такой силы, такой ярости, что я не понял, говорит ли она о подземных
храмах или о глубоких ямах, но она была вне себя от гнева. — Вот куда приводили меня его трансы — в самую глубину потока. В зловещие пещеры. Я так и не познана ничего лучшего, чем страх того, что извивается в темноте. — Теперь она повернулась к Птахнемхо-тепу и сказала: — Я не хочу скрывать того, что происходило. В этих трансах я слышала, как мой дед разговаривает с Медовым-Шари-ком, с Усермаатра и Нефертари, и это было хорошо, но, кроме этого, он общался и с восемью Богами слизи. Я была грязью между его пальцев, а он насмехался над моим несчастным замужеством с Неф-хепохемом. Позволь мне рассказать Тебе самое худшее. Мы входили не в каверны, но в гробницы. Я знаю, что такое предаваться любви в страшных пещерах, наполненных призрачными видениями мертвых». Как поразительна была мудрость моей матери! Она знала, что ее слова способны не столько оттолкнуть от нее нашего Фараона, сколько привязать Его.
«Я больше не потерплю ни минуты этого разговора, — сказал Мененхетет, — мои надежды угасли». Он встал и, не поклонившись, ушел, но мы еще услышали звук его неуверенных шагов, шагов старика, спускающегося по лестнице в предрассветной темноте крытого внутреннего дворика. То был последний раз, когда я видел среди нас моего прадеда.
ПЯТЬ
И как только он ушел, я утратил способность достаточно четко различать предметы. Мои Отец и мать все еще сидели по сторонам от меня, но их очертания расплылись, как дым, а столбы крытого внутреннего дворика стали невидимыми. Мне показалось, что я стою под каменным сводом на коленях перед каким-то человеком и могу выбирать — одним лишь влечением сердца, — остаться ли в сырости этой гробницы или с такой же легкостью вернуться к своим родителям.
Однако почти сразу сила их присутствия стала пронизывать трепетом каждый мой поворот в складках окутавших меня чар. Вот я смог увидеть их лица той ночью рядом со мной, а затем ощутил, что мои мысли вновь пребывают вблизи мыслей моей матери. Она молча разговаривала с Птахнемхотеиом — я слышал мучительный крик в каждом мгновении тишины! «Ты любишь меня? — спрашивала она. — Почему Ты выбрал меня?» И эти вопросы рванулись вперед, а за ними понеслись ее безгласные причитания: «Этой ночью я потеряла своего мужа, а теперь я лишилась человека, бывшего мне отцом, любовником, Богом, самым дорогим из врагов, другом, которого я боялась больше всех, моим проводником к Богам. Всем этим он был для меня. И все же я люблю Тебя, обожаю Тебя вот уже семь лет так, что готова оставить его. Ведь это я заставила его уйти. Но Ты холодный человек. Любишь ли Ты меня? Могу ли я Тебе верить?»
Теперь Ей отвечал Птахнемхотеп. Его мысли прошли через мое тело, будто каждое из безгласных слов было поднимавшей и несшей меня рукой. «В тот день, семь лет назад, когда мы отправились в Моей лодке на охоту, Моя палка сбила больше птиц, чем когда-либо ранее. С тобою рядом Мне достаточно было лишь бросить метательную палку, и ни одна стая птиц не осталась бы невредимой. Раньше ни одна из женщин не делала для Меня столько. И ни одна не сделала с тех пор, вплоть до этой ночи. Итак, Я люблю тебя. Ты будешь Моей Царицей».
«Это верно, — подумала моя мать, но теперь ее мысли были настолько потаенными, что их услыхал лишь я. — Он — слабый человек, который станет сильным. Нет большего пыла, чем преданность таких людей, когда можешь дать им удовлетворение». Вслух же она сказала: «Пойдем. Возляжем вместе». То же, чего она не сказала даже самой себе, хотя я и слышал ее лучше, чем она себя, было: «Он никогда не перестанет желать меня, поскольку Его страсть, как я смогла понять, — тайны, и чем больше Он будет узнавать о самых низменных моих поступках, тем больше будет рад».
Потом Они встали на ноги и обнялись, и мой Отец поднял мое тело. Не знаю, может быть, из-за того, что я лишился опоры, но у меня вдруг закружилась голова. В воздухе был какой-то беспорядок, и я ощутил, как небеса дрогнули в моем животе, и подумал, не будет ли судорог и в небе.
Затем я понял причину этого возмущения. Оно передалось мне прямо из рук моего Отца. В крытый внутренний дворик вошел Хемуш. Я увидел его одним приоткрытым глазом, который немедленно закрыл, совсем не желая его видеть, и, сонный, поплыл сквозь голоса, которые накатывались на меня, как крокодилы, рассекающие воду на слишком большой глубине, где мои ноги не достают дна. Может быть, они уплывут прочь, и я ничего больше не узнаю.
Но я услышал (несмотря на расстояние, которое могло отделять меня от этих голосов), что к Дворцу стянулись войска. «Они принадлежат Нес-Амону, — услышал я, как произнес Хемуш, а затем: — Ты можешь воспользоваться моей охраной. Я вызвал ее этой ночью». Последовало бурное обсуждение, в котором участвовала моя мать, которая высказывала жесткие, но решительные суждения. Я слышал, как она сказала моему Отцу: «Если Твою Дворцовую Охрану не поддержат люди Хемуша, Ты останешься без Царских Войск. Они перейдут к Нес-Амону». Послышались возражения, быстрые голоса, а затем прозвучали слова моего Отца: «Нет, я не потерплю этого, Я не могу дать тебе такую власть». И они заспорили, и моя мать сказала: «У Тебя нет выбора, у Тебя нет выбора». Да, у Него не было выбора. «Его у Тебя нет», — сказал Хемуш, и они говорили еще и еще. «Нет, — отчетливо произнес мой Отец, — нет, Мененхетет не станет Визирем, нет, у Меня нет такого намерения». После этого возмущение в воздухе пошло на убыль, и в него вошло спокойствие. Я почувствовал, как меня передают матери и она несет меня в первых утренних лучах, сияние которых, подобно серебряной нити, протягивалось вдоль моих закрытых глаз, когда я пытался их открыть, а вдалеке слышались усиливающиеся крики и шум, рожденные внезапным столкновением целеустремленности и растерянности. Я знал по запаху овечьего помета и потухших костров, что теперь мы были там, где жили слуги и где спала Эясеяб, а затем я услыхал, как мать говорит ей: «Позаботься о нем, позаботься хорошенько. Может случиться несчастье». Теперь я попал в пухлые руки Эясеяб, которую знал как собственную подмышку, если бы только не исходивший от нее странный запах — сильный, как у мужчины, да, сегодня ночью в нее входил мужчина, которого я знал по его запаху. От него исходил запах зверя, что живет на скалах у моря, а потом я перестал думать о подобных запахах, так как меня посадили на циновку, и ее палец по привычке пощекотал волосы у меня за ухом. Я подумал, не ляжет ли она рядом со мной и не возьмет ли снова в свои губы мой Сладкий Пальчик, но в тот миг, когда приятная теплота, вызванная этой мыслью, стала разливаться по моим бедрам, из соседней комнаты я услыхал ругательство, и вошел мужчина. Это был Дробитель-Костей. По его походке я понял, что Эясеяб принадлежит ему и больше не станет думать о тех двух рабах, еврее и нубийце, которые часто дрались из-за нее в квартале слуг, рядом с нашим домом — или теперь это был дом Нефхепохема?
Не знаю, мои ли сладкие чувства разгорячили Дробителя-Костей, или, наоборот, его сильные чувства отозвались во мне сладостью, но теперь я слышал, как они любят друг друга, и это отличалось от всего, что я узнал этой ночью. Здесь они не разговаривали, но часто рычали, а затем он взревел, а она издала такие пронзительные крики, на какие способна лишь птица с самыми яркими перьями. Я почувствовал себя снова дома, так как вокруг раздавались звуки квартала слуг. Ведь все животные просыпаются на рассвете, и другие слуги предавались любви в других хижинах. Чувствовалось, что на земле все пришло в движение: скот шумно пил воду, животные жадно пожирали зерно, мычали, хрюкали, ржали, откликаясь на призывные голоса из других стойл. Я помню, мне в голову пришла мысль, что Боги не присутствуют, когда слуги заняты любовью, поэтому здесь любовь теплее и, насколько я понимал, дает большее удовлетворение, чем любовь тех, кого я знал, хотя, когда они извергались, было, вероятно, меньше света. При этом я подумал, что, наверное, нечто похожее испытываешь, когда пробуешь вкуснейший из супов. Можно ощущать, как он входит в пределы твоего живота, проходя одно за другим различные его места. Погруженный в мурлыкающий голос Эясеяб, слушая, как она после всего успокаивает своего мужчину и себя, лаская его спину, я заснул, да, заснул после всей этой ночи, в которую не спал по-настоящему, и мне ничего не снилось, хотя в воздухе, казалось, раздавались крики, и кругом бегали люди.
Когда я проснулся, рядом сидела моя мать, которая пришла сообщить мне, что мой прадед мертв. «Пойдем, — сказала она, — погуляем». Теперь во Дворце на каждой дорожке и в каждом дворе нам попадались стражники, и я увидел беспорядок дня, который не будет походить ни на один другой день, когда стражники, мимо которых мы проходили, отводили глаза. Теперь они дважды осматривали каждого и не стояли на одной ноге дольше, чем требовалось, чтобы переступить на другую ногу.
Рассказывая мне о случившемся, моя мать не стенала, ее лицо было необычайно торжественным, а ее глаза пусты, так что, когда она умолкала, мне казалось, что я смотрю на голову статуи. «Твой прадед, — сказала она, — наверняка хотел бы, чтобы ты знал, как он умер и как храбро вел себя.
Он был взят под стражу, — рассказала она мне, — войсками Хемуша. Они нашли старого и прославленного человека сидящим на том самом золотом стуле, на котором сидел Птахнемхотеп, когда мы впервые предстали перед Ним под Его балконом. Затем, со связанными руками и под охраной, Мененхетет был приведен туда, где Птахнемхотеп и Хемуш сидели с Хатфертити. Наш Фараон, однако, приказал развязать его и сказал: „В эту ночь ты был Моим заместителем. Ты был сердцем Двух Земель, и Боги внимали тебе. Эта ночь станет Твоей славой. Ибо действительно, в эту ночь Ты был Фараоном, и так и должно быть, и удовлетворяет Маат, поскольку, как все это представляется Мне, Я знаю, что Тебе никогда не суждено стать Моим Визирем. Я не могу доверять Твоему честолюбию. Однако Я могу чтить силу Твоего Духа"».
Говоря это, мой Отец протянул Мененхетету Свой короткий нож.
Моя мать сказала: «Я была в ужасе. По выражению губ твоего прадеда я решила, что сейчас он погрузит нож в грудь Птахнемхотепа. Хемуш думал именно так. Я видела страх на его лице. Знаешь ли ты, что предложить этот нож было одним из самых мужественных поступков, какой я только видела. Но в то же время поступок этот был и мудрым.
Мененхетет поклонился и семь раз прикоснулся к земле лбом. Затем он прошел в соседнюю комнату, чтобы исполнить последний обряд заместителя. Он взял нож и отрезал себе уши, губы, чресла, а затем, в ужасном страдании, принялся молиться. Он потерял очень много крови. Перед тем как потерять сознание от непереносимой боли, он перерезал себе горло.
— Моя мать содрогнулась, но глаза ее ярко блестели. — Никто, кроме Мененхетета, не смог бы перенести такой смерти», — сказала она.
Я слушал ее рассказ, и золото полуденного солнца померкло в моих глазах и стало пурпурным, и я почувствовал, будто и сам умираю. Глаза матери продолжали пристально смотреть на меня, но чем дольше я глядел в них, тем больше они сходились в один, покуда не остался только один глаз, видимый мне, а затем один свет, и он был подобен звезде на темном небе. Все, что я видел перед собой, исчезло. Я стоял на коленях в глубинах пирамиды, а сверху по длинному каменному стволу проникал свет от звезды, отражавшийся в чаше с водой.
И вот я уже не мог видеть и звезду. Лишь пупок перед моими глазами. То был иссохший пупок Ка Мененхетета, и меня снова поглотила вся вонь и неистовство члена старика у меня во рту.
ШЕСТЬ
Я, молодой человек двадцати лет, стоял на коленях, и все, что я знал о мальчике, которым я когда-то был, ушло из моего сердца. Я был здесь, в своем Ка, и сам был не более чем мой Ка, и во второй раз за эту ночь старик начал извергаться. Или это всего лишь я вторично переживал тот первый раз? А может, то были муки моего Ка?
Затем все пребывавшее в нем изверглось с великой горечью. Исторгнутое им семя уподобилось очищению, мерзкое и горькое, и я желал бы выблевать его, но не мог. Мне пришлось принять в себя мучившее его страдание и все его стремление отомстить моей матери.
Так, все еще с его членом у меня во рту, я познал стыд Мененхе-тета. Теперь Ка моего прадеда бременем лег на моего Ка, как, должно быть, когда-то Усермаатра навалился на него самого.
Я ощутил и его изнеможение. Оно обрушилось на меня, подобно водопаду. Ни в одной из своих четырех жизней не нашел он того, что страстно желал. Вот что удалось мне узнать, а затем я проглотил его семя, и вся ядовитая злоба его Хаибит вошла в меня — из семени моего прадеда вышел чистый яд его Хаибит. Теперь ему суждено стать моим знанием прошлого.
Мне предстояло жить под водительством его тени. Моему Ка придется выбирать путь в Стране Мертвых при свете его Хаибит. Если его рассказы не соответствуют действительности, мне не узнать, что ждет меня впереди. Восстановить свое прошлое — такова потребность Ка, но подобная мудрость должна превратиться во зло, если ею обладает другой.
И вот, не зная, верить ли тому, что увижу, и пребывая в неведении, я, однако, все же принялся вспоминать то, что случилось с моими родителями и со мной, когда миновала последняя ночь в жизни моего прадеда. Конечно, у меня не было выбора. Как мог я не следовать за теми воспоминаниями, что возвращались ко мне? Они имели отношение ни много ни мало к тому, что произошло в моей жизни после того, как погиб Мененхетет — пятнадцать лет прошло с момента его гибели до моей смерти. Мне казалось, это-то я помню (наступила ли моя смерть на двадцатом или двадцать первом году?), да, моя жизнь, очевидно, рано подошла к концу — свидетельством тому было место, где я находился. На мгновение я даже ощутил проблеск симпатии к Мененхетету из-за той скромности, с которой он рассказал нам о своей второй и третьей жизнях. Ибо я не мог ничего более вспомнить о своей собственной.
Но мой прадед, обессиленный яростью своего извержения, плавно опустился на пол и, сев рядом со мной, прислонился спиной к стене в этой подавляющей своей величиной гробнице Хуфу (с пустым саркофагом — да, теперь я вспомнил и это!). Сидя бок о бок на полу, мы принялись всматриваться в темноту, покуда стена напротив, всего в пяти шагах от нас, не стала мерцать. Я увидел картины, похожие на разноцветные рисунки на стене храма. Однако каждый раз, когда образ становился отчетливым, случалось то же, что и когда я увидел звезду, отражавшуюся в чаше с водой, и потревожил ее отражение рукой, ибо множество волн разбежалось от каждого блика звезды. Картины двигались, словно оживали в моей голове так же, как и на стене, и наконец я перестал понимать, каким образом вижу их, настолько быстро все менялось. Затем я решил, что, когда глядишь на живых из этих гробниц мертвых, все еще более смутно, чем когда видишь происходящее посредством чужой памяти. На самом деле это очень напоминало попытку поймать рыбу рукой. Твоя рука никогда не попадала туда, куда смотрел глаз, вода искривляла руку и вела ее в другую сторону.
Чтоб показать, сколь мало мне следует верить тому, что мне открывается, первый образ оказался омерзительным, и я не хотел ему верить. Передо мной возникло лицо Птахнемхотепа, который тайком поедал небольшой кусочек плоти, принадлежавшей изуродованному телу Мененхетета. Вот что я увидел, и, точно стены могли говорить или, по крайней мере, доносить отзвуки чувств тех, кто двигался на их поверхности, я узнал, что теперь, со смертью Мененхетета, жажда мудрости у Фараона стала еще более неодолимой. Наблюдая, как Его зубы жевали то ужасное мясо, я верил всему, что видел. Это, безусловно, объясняло, отчего Он так разительно изменился в оставшиеся годы Своей жизни и почему у меня не осталось воспоминаний о Нем как о добром родителе. Съеденный кусочек плоти моего прадеда, должно быть, серьезно изменил Птахнемхотепа, сделав Его злым. Не имея мужества Мененхетета, Он смог обрести лишь жестокость.
Затем в моем ухе прозвучал голос матери, которая сказала: «Ты не прав, осуждая своего Отца. Поглотив плоть твоего прадеда, Фараон привязал Себя к нашей семье». Стоило ей произнести эти слова, и многое предстало предо мной: я увидел, что Они часто были вместе: моя Мать, теперь, конечно же, Царица, рядом с Ним на троне. Затем я вспомнил, что не прошло и года с Ночи Свиньи, как Она подарила Ему сына, моего сводного брата, да, Она действительно была Его Царицей и присутствовала на каждом отправляемом Им торжественном обряде. Он же теперь гораздо чаще бывал на празднествах, и когда бы Наложницы Богов ни пели песнь Фараону, моя Мать, подобно Нефертари, перебирала струны цитры. Нельзя сказать, что Они не были счастливы в Свой первый год.
Однако я также стал вспоминать, что Они часто ссорились. Хотя никак нельзя сказать, что наступил такой момент, когда Они перестали находить удовольствие в плоти друг друга (при дворе велись нескончаемые разговоры о позорно долгих часах, проводимых Ими вместе), но при этом Они так никогда и не смогли примириться с мелкими недостатками характеров друг друга и, подобно большинству женатых людей, неизменно сражались по одному и тому же поводу. Годами я слышал, как Они ссорились из-за заведения Нефхепохема в Мемфисе.
Собственно, эти ссоры, должно быть, повторялись так часто, что моя память ожила настолько, что картины на время прекратились. Вместо этого ко мне вернулись мысли о Нефхепохеме, и я вспомнил, как он возмутил Птахнемхотепа в то утро, когда Войска Хему-ша заняли Дворец. Ибо в ходе торговли с Верховным Жрецом, состоявшейся на рассвете того утра, Птахнемхотеп узнал, что, оставив крытый внутренний дворик, Нефхепохем поспешил прямо в покои Хемуша в Мемфисе и передал Верховному Жрецу много сведений о притязаниях моего прадеда, а также о растущей благосклонности, с которой Фараон относится к ним.
Эта история всплыла в моей памяти, сорвавшись с разгневанных уст моей матери, которая считала, что ни Войска Хемуша, ни люди Нес-Амона не пришли бы в движение той ночью, если бы не Нефхепохем. На самом деле, как полагала моя мать, Нес-Амон не поднял своих людей, покуда не услыхал, как в темноте собирается Охрана Хемуша.
Его измена разгневала моего нового Отца больше, чем какое-либо другое событие тех предрассветных часов. Затем Нефхепохем, полагая, что получить свою награду от Верховного Жреца следует как можно быстрее, сделал ошибку и появился во Дворце слишком рано. Птахнемхотеп заявил Хемушу, что не следует начинать установление истинного равенства между Фараоном и Верховным Жрецом с издевательства над Ним, заставляя Его терпеть присутствие предателя-Смотрителя. Мой Отец на самом деле столь резко воспротивился подобной дерзости, что Хемуш, понимая, как дорого может стоить это разногласие, на время притворился неколебимо преданным Нефхепохему. Поэтому он смог добиться многих уступок, перед тем как согласился, чтобы бывший Смотритель Ящика с красками для лица Царя был изгнан из Дворца. Конечно же, моя Мать заявляла, что, если бы не Ее вмешательство, Нефхепохем был бы убит.
Теперь я вспомнил, что Ее чувства вскоре изменились. Мой прежний отец, как всегда внимательный к нуждам других, вскоре открыл в Мемфисе заведение, в котором занимался прическами дам. Никто не слыхал, чтобы что-то подобное когда-либо существовало в Двух Землях. У кого из дам не было до этого часа собственного слуги для ухода за ее волосами? Однако поскольку все знали, что руки Нефхепохема касались головы Самого Фараона, его заведение сразу же стало доходным делом. Мой первый отец вскоре стал процветать. Но во Дворце не проходило и дня, чтобы Хатфертити не ссорилась со Своим вторым супругом из-за присутствия в Мемфисе Ее первого мужа. Она непрестанно твердила Ему, что унижение Ее ужасно. И все же Ей не удавалось убедить Птахнемхотепа издать указ, который бы положил конец доходам такого рода, или, по крайней мере, откупиться от Нефа, дав ему какой-нибудь надел в отдаленном номе. Старая привязанность Птахнемхотепа к Своему Смотрителю возродилась. Я слышал, как Он говорил Ей, что неверность на одну единственную ночь простительна. Подумайте, каков вызов!
Что, разумеется, перекладывало вину на мою Мать. Такого Она стерпеть никак не могла. Как многие прекрасные женщины, она не выносила, когда Ее обвиняли. И вот Она постаралась доказать, что неверность Его старого Смотрителя Ящика с красками для лица Царя была гораздо более серьезной. Нефхепохем, заявила Она, служил у Хемуша доносчиком не всего одну ночь, но, напротив, являлся его наушником на протяжении многих лет. Однако приведенные Ею доказательства были неубедительными, и Птахнемхотеп отказался их принять. Я думаю, близость Нефхепохема была способом напоминать Хатфертити о том, сколь многим Она обязана Своему второму замужеству. Я подозреваю, Он нуждался в такой дубинке, чтобы держать Ее в руках. Мне постоянно приходилось слышать Их ссоры. «Ты не видишь, как роняешь Себя, — внушала Она Ему. — Люди говорят, что Ты живешь с женщиной, принадлежавшей изготовителю париков».
«Напротив, — обычно отвечал Он, — в Мемфисе нет ни одной дамы, которая бы не была от него без ума». И так далее. На протяжении последующих лет это отравляло жизнь Хатфертити. Она не могла простить Ему, что Он Ей не уступает. Затем произошли события, нанесшие еще больший урон Ее достоинству. Не знаю, какие права были даны Хемушу в то первое утро, по сравнению с переданными позже, но моя Мать оставалась Царицей Двух Земель лишь на протяжении трех лет, покуда власть, принадлежавшая Ей и моему Отцу, не уменьшилась вдвое. В Десятый Год Правления Рамсеса Девятого повсеместно был объявлен указ, в котором Аменхотеп (новое имя, избранное Хемушем, которое до него носили четыре Фараона!) был уравнен в божественности с Рамсесом Девятым. На великом Празднестве Аменхотеп, Верховный Жрец Храма Амо-на в Фивах, был наделен правом, подтвержденным многими торжественными обрядами, управлять всем Верхним Египтом. Он получил в подарок набор разнообразных золотых и серебряных сосудов, и было также объявлено, что все доходы Верхнего Египта из всех источников будут идти непосредственно в сокровищницу Амона, не проходя через хранилища Фараона. Фигура Аменхотепа была также изображена на стенах многих храмов. Он стоял рядом с Фараоном, и оба Бога были одного роста — вчетверо выше слуг и чиновников, стоящих рядом с Ними.
Не знаю, осталось ли после этого хоть что-то от великой любви моей Матери к Птахнемхотепу, но судя по тому, что я видел теперь в своем сознании — нет. К своему необычайному удивлению, я вновь увидел в своих мыслях Мененхетета. Он выглядел на пять, а может, — на десять лет старше, а моя Мать стала более грузной, чем была при его жизни. Так что приходилось сомневаться в истинности рассказанной Ею истории о расчленении его тела. Не рассказала ли Она эту жуткую сказку, чтобы мне уже никогда больше не хотелось думать о Мененхетете? Ибо теперь, если только мою память не кормили восемь Богов слизи — ведь все стало таким зыбким! — похоже было, что на самом деле Мененхетет не убивал себя, хотя без сомнения и получил такое приглашение от Фараона. И я увидел непереносимое волнение Птахнемхотепа, вызванное отказом моего прадеда. Притом что Он самым отъявленным образом обманул Мененхетета, никак не вознаградив его за бесчисленные дары, принесенные им Его уму в ту долгую ночь, как истинный правитель, Он тем не менее чувствовал Себя преданным. Мененхетет не захотел почтить Его последним даром преданности — он решил не служить заместителем и не убивать себя.
Но, не сделав этого, Мененхетет отдал себя на милость Хемуша. Верховный Жрец вскоре сумел отобрать у моего прадеда все его богатства. Его земельные владения в Верхнем Египте были приобретены Храмом по смехотворно низким ценам, которые, конечно, устанавливал Хемуш. И если бы Мененхетет не согласился, Храм, по всей?вероятности, просто забрал бы те земли. Затем оставшееся у него имущество в Нижнем Египте, включая огромный особняк (с крыши которого я наблюдал, как они с моей Матерью предаются любви), было по настоянию Хатфертити за столь же низкое вознаграждение приобретено Фараоном. Моя Мать, совершенно очевидно, не желала иметь моего прадеда поблизости, и в этом случае Ей удалось осуществить Свое горячее желание. Мененхетету пришлось жить в бедном поместье на Западном берегу Фив, купленном на то немногое, что у него оставалось.
Я был настолько поглощен оживавшими перед моими широко раскрытыми глазами образами, что вздрогнул, когда Ка Мененхетета пошевелился рядом со мной. Дрожь его бедра передалась моему бедру, и я почувствовал его возбуждение в звуках его дыхания. Так я убедился, что мы разделяем эти воспоминания, они принадлежат ему, и он не лжет. Ибо, бесспорно, он именно так вспоминал об этих событиях, то есть с большим беспокойством. Меж тем дальнейшие события предстали столь необычными, что я наблюдал за их развитием, не будучи в силах от них оторваться.
Дело в том, что Мененхетет не жил в своем единственном бедном поместье, в торжественном спокойствии пожиная урожай своих последних лет. Нет, ему удалось присоединиться к разбойникам из деревеньки воров в Западных Фивах и, таким образом, грабя гробницы Фараонов, приобрести еще одно состояние. Если за все свои четыре жизни он сам не смог носить Двойную Корону и потому вступить в Страну Мертвых как Бог, то, по крайней мере, он имел возможность грабить их гробницы, что и делал весьма искусно, роя подземные проходы от одной гробницы к другой и не оставляя на поверхности никаких следов. Затем, в год, когда Мененхетет снова почувствовал приближение смерти — что случилось, когда подходил к концу пятнадцатый год моей жизни, а следовательно, Шестнадцатый Год Правления Рамсеса Девятого, — он тайно пробрался в Мемфис и смог увидеться с моей Матерью.
И вот на стене я увидел, как он любит Ее. В последний раз. И сейчас, сидя рядом со мной, он проклял свою решимость испустить последний вздох. Я же увидел, как он умер в Ее объятиях, и, услыхав эхо Ее безутешных рыданий, понял, что ему удалось, уже в четвертый раз, перенести свою жизнь в женщину в тяжких трудах своего последнего деяния. Должно быть, сила его воздействия на Нее все еще была велика, так как Она, несмотря на все возражения Птахнемхотепа, предприняла все необходимые меры, проследив за тем, чтобы его тело забальзамировали самым тщательным образом.
Тем не менее на втором месяце беременности, до того, как мой Отец смог понять, что Она носит ребенка (хотя Он наверняка считал бы, что это Его ребенок, поскольку, несмотря на всю неприязнь, существовавшую между ними, можно было положиться на радости плоти, которые их связывали), Хатфертити осуществила Свою последнюю месть Мененхетету. Она принимала снадобья до тех пор, пока не выкинула ребенка. Моему прадеду не суждено было пятой жизни. Он не стал младенцем — моим братом.
Таким образом, его Ка остался лишенным жилища самым жестоким способом. Даже если он решил вернуться к забальзамированному телу старика и обрести в нем свой приют — что он и вынужден был сделать, иначе как бы он мог сидеть сейчас рядом со мной? — я все же не был уверен в том, что избежало небытия, а что было потеряно. Часть его, подобно призраку, не ведающему пристанища, могла прилепиться ко мне. Ибо, по мнению своих родителей, в возрасте шестнадцати лет я стал совершенно неуправляемым.
Моего младшего брата Аменхерхепишефа Второго, имя которого, я полагаю, явилось выражением желания моего Отца, чтобы по крайней мере один из Его Сыновей стал великим воителем, очень скоро стали считать Тем-Кто-должен-стать-Рамсесом Десятым. Это никогда не мучило меня до того времени, как мне исполнился шестнадцатый год, Амен-Ка было девять. Тогда мое поведение стало вызывающим. Я не только играл в азартные игры и кутил, одним словом, вел себя как Принц. Я стал грубить Птахнемхотепу и наносил болезненные оскорбления моей Матери из-за часовни, которую Она построила для четырех мумий, собранных Ею останков моего прадеда. После немалых затрат и долгих поисков, предпринятых Ею с помощью нанятых Ею людей, Ей наконец удалось найти первого Мененхетета и второго. Если третьего найти не составляло труда — он пребывал в той же гробнице, что построила для него его вдова, и ни один грабитель еще не забрался туда, то склеп Верховного Жреца подвергся грабежу. Сперва даже не было уверенности, что остававшаяся там мумия, с которой были ободраны амулеты и драгоценные камни, принадлежит Мененхетету, покуда не были тщательно изучены молитвы, записанные на полотняных бинтах, и, по счастью, эти недоступные непосвященным заклинания говорили о своей принадлежности Верховному Жрецу. Однако Мененхетет из первой жизни, Хранитель Тайн, был найден лишь потому, что Хатфертити, несмотря на десятилетнюю разлуку, все еще могла жить в сознании моего прадеда. В его последний приход, когда они предавались любви, Она последовала за ним в глубины транса. Там Она увидела место его первой смерти и даже то, как слуги Медового-Шарика украли его тело из груды требухи, куда оно было брошено. Медовый-Шарик спасла его от разложения, приказав немедленно забальзамировать, а через семьдесят дней договорилась со странствующим торговцем из Дельты, чтобы тот переправил гроб вниз по реке в Саис, где она поместила его в скромную гробницу рядом со склепом ее семьи. Именно там Царица Хатфертити обнаружила мумию этого первого Мененхетета (с мумией Медового-Шарика, лежавшей подле него), и теперь, обладая наконец всеми останками, Она склонила Птахнемхотепа к тому, чтобы Тот разрешил провезти вокруг стен Дворца останки этих четырех выдающихся людей, четыре хорошо спеленутые мумии, каждая в своем тяжелом гробу, на повозке, которую тянула упряжка волов. После этого Она держала их в часовне, окруженной рвом с водой, в которой для безопасности жил крокодил. Вот как велик, как мне представляется, был Ее страх перед Ка Мененхетета.
Разумеется, пытаться понять мою Мать никогда не представлялось разумным делом. Она ревностно ухаживала за часовней и даже развлекала Птахнемхотепа забавными замечаниями о ней, чем добивалась того, что Он терпел все это — Она отпускала ужасные шутки вроде того, что чувствует Себя в полной безопасности под охраной Своих четырех Каноп! — но притом что Она действительно следила за часовней после Его смерти, вскоре после того, как умер я, Она решила (конечно же, еще тогда, когда я лежал в солевом растворе), что Мененхетет-четвертой-жизни, то есть его мумия, саркофаг и сосуды должны быть, по какому-то странному велению Ее сердца, перенесены в ту же неприглядную гробницу, куда Она собиралась поместить меня. Однако, замечу, многое изменилось в Ее жизни после смерти Птахнемхотепа.
К концу жизни Он очень состарился. С годами мой Царственный Отец стал терять ту привлекательность черт, что так выделяла Его среди прочих мужчин, и Его щеки тяжелели, а шея утолщалась. Он неизменно пребывал в унынии. На Шестнадцатом (и предпоследнем) Году Его Правления открылось, что некоторые гробницы древних Фараонов в Западных Фивах осквернены. Дерзость грабителей была унизительна для Него. Казалось, они чувствуют себя в полной безопасности от гнева любого Фараона — живого или мертвого. С мумии Себекемсефа возрастом в несколько сот лет сорвали все украшения и драгоценности, равно как и с мумии Его Царицы. Когда виновников поймали (и ими оказались рабочие Города мертвых), Птахнемхотеп обнаружил, что в грабеже замешаны и многие Его чиновники. Правители Западных и Восточных Фив обвиняли друг друга. Допросам не было конца. Нес-Амон (выживший в качестве Верховного Писца после того, как его надежды на более высокую должность были похоронены Хемушем) был даже послан в Фивы, чтобы вести запись разбирательства.
То был год, когда Птахнемхотеп стал стареть так заметно. А я почувствовал влечение к моей Матери, которое оказалось так трудно обуздать, что я знал, что оно возродилось во мне из-за присутствия Ка неродившегося ребенка Мененхетета. Когда моя Мать также оказалась под воздействием этих страстей, мы стали ощущать на себе то же благословение Богов — или то было презрение? — что Нефертари и Аменхерхепишеф.
Именно тогда, за шесть месяцев до Своей смерти, мой Отец возвысил Амен-Ка, сделав его Своим соправителем. Он даже дал моему брату имя Рамсес Девятый, Хепер-Маат-Ра, Сетепенра Аменхерхепишеф Мери-Амон. Так я был лишен своего права первородства, если так можно назвать мои мало основательные притязания, учитывая, как я был зачат. Но даже в тот год, сразу же после смерти Птахнемхотепа (как же рыдала моя Мать на Его похоронах!), моему брату, которому исполнилось всего десять лет, пришлось справляться с еще более громким позором, чем ограбление склепа Фараона Себекемсефа.
Открылось, что многие десятилетия остававшаяся тайной гробница Рамсеса Второго, расположенная высоко в скалах (в чрезвычайно труднодоступном месте, путь к которому Усермаатра однажды показал Своему Первому Колесничему), также разорена. Взлому подверглась и гробница Его Отца, Сети Первого. Остался ли хоть один Фараон, в чьей усыпальнице не побывали грабители? Бедный мой брат! Среди всеобщей растерянности и смятения, когда повсюду было неспокойно, Он как раз праздновал в Мемфисе Свое десятилетие, а в это время из Фив пришло известие, что чужеземцы из Западной пустыни захватили город. Хемуша (о котором я никак не могу думать как об Аменхотепе) шесть месяцев держали в заложниках и пытали. Когда наконец его освободили, он выглядел не лучше немощного старика. Амен-Ка пробыл на троне еще два года и умер. Когда Его не стало, тогда окончились и все царские права для меня и Хатфертити. Внучатый племянник Рамсеса Третьего стал Рамсесом Одиннадцатым, а вскоре после этого я умер. Не знаю, как это случилось. Ни одна картина не желала вырисовываться в моей голове. Я не мог даже положиться на предательскую память Мененхетета. Тем временем на стене появились иные образы. Теперь я стал очевидцем совершенно поразительного явления. Я начал наблюдать правление тех, кто пришел после меня. Они прошли перед нашими глазами. Первым из этих странных правителей был новый Верховный Жрец по имени Херихор. Он правил в Фивах, и Две Земли оказались еще более разделенными. Затем пришел сириец или кто-то в этом роде, по имени Несубанеджед, и он правил Нижним Египтом от Мемфиса до Пи-Рамсеса у Великой Зелени.
В эти годы взломы гробниц Фараонов стали столь же обычным делом, как чума, и чиновники чувствовали себя такими беспомощными, что, одержимые отчаянием, они перемещали Царские тела, покуда Усермаатра не оказался в одной гробнице с Сети Первым. Однако, когда в Их внешние покои снова проникли воры, оба Фараона вместе со Своими женами были перенесены в гробницу Аменхотепа Первого, а вскоре жрецам пришлось спрятать немало Царских тел к западу от Фив в общей могиле, не имевшей никаких обозначений. В такой темной яме среди скал покоились Яхмос и Аменхотеп Первый, Тутмос Второй и Тутмос Великий, Который был Третьим, Сети Первый и Рамсес Второй и многие другие, уложенные рядышком, как выводок мертворожденных зверей. Я не мог поверить тому, что видел. Стена представляла нам такие виды, которые даже мой прадед не осмелился бы вообразить. Разумеется, тягостный вид этих Фараонов, извлеченных из Их гробниц, заставил мой Ка ощутить себя бездонной ямой, в которую погружались Их каменные тела, и мне оставалось гадать — не пропали ли теперь Две Земли и не лишились ли они своего основания?
Все это время Ка Мененхетета не сказал мне ни слова. Однако я видел, как он улыбается всему, что проходило перед нами, и задумался о том, сколько из этих картин вышло из его сознания? Затем я вспомнил свою собственную мумию — плохо забинтованную, с прорванной и открывшей доступ личинкам червей тканью на ноге, и мною овладело уныние. Я все еще не мог вспомнить, как умер. Чем больше я старался, тем меньше видел на стене и удивлялся, почему так уверен, что как-то ночью меня убили в пьяной драке.
Размышляя над этим, я на мгновение снова увидел ту самую пивную, которая промелькнула перед моими глазами в час, когда я лежал в чудесной комнате, на полу которой была нарисована рыба, и мне снова привиделся Дробитель-Костей, готовый начать свою пьяную драку. Как бы сильно мне ни хотелось узнать о собственной смерти, мне не пришлось больше следовать за превратностями собственной судьбы, но вместо этого я оказался свидетелем многих перемен в жизни Дробителя-Костей и Эясеяб. Хотя сперва я подумал, что мне это не будет любопытно, вскоре я заинтересовался. Ибо предо мной быстро промелькнуло многое. Их лица стали быстро стариться вскоре после того, как Дробитель-Костей был назначен Начальником Царской Лодки в качестве вознаграждения за то, что охранял меня в то утро, когда войска Хемуша захватили Дворец.
Руль Царской Лодки был, однако, не подходящей для него должностью. Дробитель-Костей был неотесан для Царской службы. Так что его перевели на другие работы. Вскоре он стал соскальзывать все ниже и закончил тем, с чего начал: человеком, который пил слишком много, а напившись, буянил даже с Эясеяб, ставшей его женой.
И все же Эясеяб любила его так преданно и сильно каждый день их совместной жизни, что, возможно, даже получила награду от Маат. Для Дробителя-Костей во второй раз в жизни наступило время процветания. Он отправился к Мененхетету, чтобы просить у него работу, и нашел ее. Мой прадед искал человека достаточно свирепого, чтобы служить посредником между грабителями из их деревни в Западных Фивах и им самим.
Дробитель-Костей стал столь полезным в этом деле, что вскоре Эясеяб смогла оставить работу у моей матери и на немалые богатства, добытые его трудами, купить дом на Западном берегу Фив. У них родились дети, и моя бывшая нянька могла бы стать уважаемой госпожой с собственной семейной усыпальницей в Городе мертвых, но после смерти Мененхетета Дробитель-Костей стал неосторожен и был взят под стражу, как один из разбойников, ограбивших гробницу Усермаатра. Вскоре его казнили, а тело бросили в безымянную могилу.
Эясеяб так и не удалось разыскать его тело. Она вернулась в Мемфис и снова стала работать у моей матери Надзирательницей за Всеми Служанками. И вот в одну из ночей, верная клятве, данной своему мужу, она выскользнула из дома и отправилась в Город мертвых. Среди картин, вспыхивающих на стене, я увидел, как бесстрашно она держалась при встрече с призраком — тем самым бродягой с чудовищно зловонным дыханием, которого я встретил, возвращаясь в свою гробницу. Для Эясеяб это была ужасная встреча, но она не убежала, а дождалась, покуда призрак, изрыгая проклятия, не убрался прочь, продолжив свой ночной дозор. Тогда она похоронила маленькую фигурку, изображавшую Дробителя-Костей, которую сама вырезала, прямо напротив входа в мою гробницу. Ибо клятва, которую она прошептала Дробителю-Костей на ухо, состояла в том, что, если его тело бросят в безымянную могилу, она сделает похожую на него фигурку, отыщет гробницу Мененхетета и похоронит ее подле того места. Я чуть не разрыдался, когда подумал о преданности моей старой няньки, а также обнаружил, что мой Ка сохранил Сладкий Пальчик, ибо он также помнил ее.
Почему я увидел эту историю, не знаю, но могу сказать, что после набежавших слез моя грусть исполнилась уже не сожалением об Эясеяб, а мучительными размышлениями о собственной смерти. Теперь я мог видеть мою старую няньку, которая работала на мою мать в последний день, который я мог припомнить, там, в нашем доме, во вдовьих одеждах и все еще оплакивающую Дробителя-Костей. Однако, вид Эясеяб сменился столь же мучительным зрелищем — меня самого в постели моей матери. Я уже не был ребенком, но мужчиной, и мы были любовниками.
Я не мог заставить себя вспомнить, что было между нами, за исключением того, что я знал, что ни одну другую женщину я не желал с такой страстью. Однако в той же постели, даже в те мгновения, что мы сжимали друг друга в объятиях, лежал и груз нашего стыда. Ибо если любовные отношения брата и сестры были обычным делом в жизни всех нас, то о страсти к собственной матери нельзя было сказать того же. Теперь я вспомнил, как боялась Хатфертити ходивших по Мемфису сплетен, на самом деле этот страх был велик, и о нас так неотвязно шептались, что она воссоединилась с Нефхепохемом и во второй раз стала его женой.
В этом склепе, сидя рядом со своим прадедом, в то время как мой бедный Ка вновь пребывал в замешательстве от этих жалких обрывков воспоминаний, я наконец нашел место, в котором соединялись два осколка. Ибо теперь я вспомнил, как часто занимался любовью со жрецом и его сестрой, с той самой, с задницей упитанной пантеры. Ее брат вовсе не был жрецом, отнюдь не жрецом, но Нефхепохемом, который, опасаясь вшей, обрил свою голову наголо, а его сестрой была моя мать.
Погруженный в свои горестные мысли в той гробнице Хуфу, я был принужден размышлять о ревности, исполненной надушенной мерзости и чудовищной враждебности, о самых ужасных ссорах между Нефхепохемом, Хатфертити и мною. А кончилось все это тем, — вспомнил ли я это наконец или лишь подумал, что вспомнил? — что трое мерзавцев были наняты моим дядей (который когда-то считал себя моим отцом, а теперь, вне всякого сомнения, был моим соперником), да, он выбрал их, чтобы подстеречь меня в пивной. Еще до того, как дело было сделано — какое проклятье бессмысленной растраты, какой крах всех ожиданий! — я был мертв. Все, что жило в маленьком мальчике шести лет, вся его доброта, мудрость, радость, все, что предвещало его грядущие дни и обещание этих дней — все пропало. Убить меня было все равно что раздавить жука. Я мог оплакивать себя, будто горевал о ком-то другом. Среди всего разгула этих последних нескольких лет я ни разу не усомнился в том, что в какой-то момент я вдруг воспряну, оправдав, по крайней мере, некоторые из надежд своих ранних лет. Теперь я уже не сделаю этого. Он погиб. Мененхетет Второй был мертв — молодая жизнь, растраченная впустую! Да, слезы хлынули из моих глаз с такой очищающей силой, словно я оплакивал незнакомца, и я внутренне содрогнулся. И пока меня била эта мучительная дрожь, стены тоже начали вздрагивать, и в темноте, раньше чем я успел ощутить страх, на стене явился Дуат. Мы оказались в Дуате.
СЕМЬ
Я всегда полагал, что до Царства Мертвых не добраться, не преодолев огромных трудностей на своем пути. Придется много дней брести под солнцем, раскаленным, как пустыня Эшураниб, а затем очутиться перед обрывом, подобным крутому провалу, ведущему в ужасные пещеры, где царит непроглядная тьма. Из-за тумана от горячих испарений любая опора для руки может оказаться предательской. Однако теперь, сидя рядом с Ка моего прадеда и соприкасаясь с ним бедром, я наблюдал эти картины, двигавшиеся вокруг нас столь естественно, что уже перестал понимать, происходит ли то, что я вижу, в моем сознании, или в сознании моего прадеда, или окажется принадлежащим стене. Некоторые из существ, которых я видел, приближались и с угрожающим видом, казалось, были готовы в несметном количестве нависнуть надо мной, но, как бы по моему приказу, уходили, прежде чем я мог почувствовать себя слишком подавленным. Так это было. И да будет так. Я был в Дуате. Хотя я никогда не входил в непролазные заросли, а только слыхал о таких местах от нубийских евнухов, служивших во Дворце, теперь мое ухо различало доносившееся со всех сторон шуршание и множество крякающих звуков, и весь тот шум, звон и суматоху, которые можно ожидать услышать в дикой чащобе. Повсюду я слышал звуки распахивающихся врат, а также безумные стенания, как и крики Богов, Которые говорили как животные. До меня донесся пронзительный клекот сокола и крики водоплавающих птиц в их гнездах, жужжание пчел и ужасающе громкие стоны Богов-быков и даже котов, ищущих кошек. Я увидел Ка всех тех, кто на свою беду был врагом Ра, и наблюдал разрушение их тел у Первых Врат и утрату ими теней при падении в огненные ямы. Изо ртов Богинь вырывались языки пламени. И все эти необычайные видения не пугали меня. Вскоре я смог различать хранителей Врат от тех несчастных, что ожидали суда, так как Бога имели тела мужчин и женщин, но ходили с головами сокола, цапли, шакала и барана на Своих плечах, а у одного Бога-великана была голова жука. Хотя я не говорил с Ка моего прадеда, меня так и подмывало заметить, что многие из этих Богов выглядели точно так, как Их изображения на стенах храма.
И вот хранимые благословением — хотя как на мне могло быть благословение, когда моя гробница была осквернена? — мы увидели, как перед нами проплыли Первые Врата. Нет, мы не прошли сквозь них, но на стене они медленно проплыли мимо, и я подумал: не находимся ли мы в Священной Лодке Ра и поэтому можем проходить сквозь преграды, не чувствуя огня. Не понимаю, откуда я это знал (так как не видел в лодке никого, кроме себя и прадеда), но могу сказать, что теперь мы были во Втором Изгибе Дуата, и здесь мы наблюдали, как несколько несчастных остановились, чтобы попить холодной воды из источников, и мы увидели, как все, кто в своей жизни слишком много лгал, стали кричать. Потому что вода закипала, как только касалась их языков. Я увидел богача Фетхфути, одежды которого теперь были измазаны в прибрежной грязи. Он пронес пальчик Медового-Шарика через много врат, но все равно оставался здесь, в начале, так как его грехи оказались более многочисленными, чем достоинства. Сейчас он лежал на спине, а петля Третьих Врат упиралась в его глазницу, и каждый раз, когда огромная дверь открывалась или закрывалась, он издавал жалобный крик человека, всю свою жизнь шедшего к своей выгоде напролом. Рядом с ним корчились в путах другие.
Затем мы прошли по длинному проходу, в конце которого была пасть быка, и в ней я увидел двенадцать жертв, живших в озере с кипящей водой. Зловоние от этого озера исходило такое, что птицы в ужасе разлетались, как только приближались к нему, и все-таки я не ощущал запаха серы, хотя и видел многих, тащивших за собой свои тени, а одно из озер было настолько переполнено, что в нем пребывали два ряда из сорока двух кобр и им не было нужды изрыгать огонь, так как слово, изрекаемое ими, было достаточно ужасным, чтобы тени умерших таяли в воздухе перед ними.
В Пятом Изгибе Дуата находились двенадцать мумий. Пока я наблюдал, Бог с головой шакала подошел и приказал им сбросить бинты, снять парики, собрать свои кости и плоть и открыть глаза. Ибо теперь они могли покинуть устрашающие пещеры Секера и подняться в великий предел, куда Он их отведет. Но дальше на пути было лишь озеро с кипятком, и теперь у них не осталось пристанища в пещерах мертвых. В Шестом Изгибе Дуата я увидел Бога с головой рыбы, который мог усмирять морских чудовищ, потрясая сетью под звуки собственных могущественных заклинаний. Он знал духа сети и то, как вязать узлы, способные уничтожить чудовищ, и я увидел огромного жука Хепри, по величине равного восьми львам, и он проходил через все огни неопаленным. Я увидел, как Хепри правил золотой и серебряной Лодкой Ра в теле великого змея, и конечно, Он провел Лодку от отверстия в хвосте, и она покинула змея через его пасть, а в Седьмом и последнем Изгибе мы даже прошли мимо чудовища по имени Аммит, Которая есть Пожирательница Мертвых, обычно Она отдыхает рядом с весами, пока Анубис взвешивает сердце того, кого собираются судить. Как только сердце перевешивает перышко правды, Аммит пожирает его. Аммит — чудовище с головой крокодила, ногами льва и самым отвратительным запахом. Представьте, Ее смрад оказался столь силен, что донесся до меня даже из стены, ведь в ней пребывает зловоние всех злых сердец, которые Она сожрала. Я снова вспомнил тот первый раз, когда вдохнул смрад, исходивший от призрака в Городе мертвых, и подумал: неужели в тот час, когда я приближусь к весам, чтобы взвесили и мое сердце, и откроется правда моей жизни, оно станет частью этого зловония? Так и должно случиться. Когда в сердце нет зла, оно весит не более перышка, а мое, я чувствовал, тянет на целую канопу.
В том углублении в стене Пирамиды Хуфу, где мы сидели, теперь, когда картины на стене исчезли, я почти не чувствовал страха. Хотя эти видения Дуата окутали нас, словно густой туман, и я мог слышать крики, все же они не отозвались дрожью в моем Ка, я не корчился и в языках пламени, и жары особой тоже не было.
Я стал думать: действительно ли я увидел Страну Мертвых или то была ее Хаибит? Могло ли случиться так, что Херет-Нечер перестало существовать? Не было ли то, чему я стал свидетелем, лишь его воспоминанием о себе? Я подумал об оскверненных гробницах Фараонов и о том, как Их тела собраны вместе в одной пещере, где сложены друг на друга, мумия на мумию так, что, вероятно, Дуат уже не может дышать. Да, потеря гробниц Фараонов могла означать конец великой реки мертвых и всех ее пределов. В этом ли причина того, что Херет-Нечер явилось предо мной лишь в образах на стене, и я не ощутил страха? Если так, то мой Ка не узнает, как найти Ану-биса, а мое сердце не будет взвешено. В конце концов, для Аммит не останется никакой пищи.
Однако я не чувствовал облегчения. На протяжении всей своей жизни я слышал описания того, что может случиться с тобой в Царстве Мертвых, но сейчас мне пришлось задуматься над тем, не окажется ли человеческое страдание гораздо более простым? Ибо теперь я знал, как умер, и мог подсчитать растраты собственной жизни, что было достаточно мучительно. Словно ответ на мою мысль, предо мной возникло лицо Хатфертити, и ее черты были обезображены больше, чем у прокаженного. Не могу сказать, как она погибла, но, судя по ее плоти, было ясно, что ее оставили разлагаться на много дней. Еще до того, как я успел подумать, кто так жестоко отомстил ее Ка, я уже знал, что узрел не месть, а лишь предосторожность. Должно быть, Нефхепохем приказал, чтобы, когда его жена испустит дух, о ее теле не заботились. Когда муж ревнует жену, он не доверяет бальзамировщикам. Чтобы избавиться от страха, что они используют мертвое тело для своих любовных утех, он не позволяет бальзамировать тело жены, покуда оно не начнет разлагаться.
Или, может, это Птахнемхотеп оставил указания так обойтись с ней? Я даже не мог представить, чье сердце было столь же отвратительным, как это зрелище ее изменившегося лица. О, это зрелище вызвало гораздо более сильное волнение, чем любая из картин Царства Мертвых. Ко мне снова вернулось мое истинное страдание. Есть ли у меня хоть какая-то память? Как я могу подготовиться?
Именно тогда мой прадед двумя пальцами слегка сжал мое колено, словно хотел выжать из него самое спокойное внимание, и начал говорить.
ВОСЕМЬ
— Так и есть, — сказал он, — Дуат — не более чем призрак. И потом тебе следует понять, что ты мертв уже тысячу лет. Фараонов больше нет. Египет принадлежит другим. Мы знаем лишь слабых Принцев, и их отцы родом из отдаленных мест. Даже народы сменились. Уже ничего не услышишь о хеттах. Есть одна земля по другую сторону Великой Зелени, о которой ты не мог знать, когда был жив. Эта страна расположена далеко к северу и западу от Тира, и представь, сколько времени прошло, если те люди успели обрести величие и потерять свою силу. Вот как длинна череда прошедших времен. Сейчас еще один великий народ живет еще дальше на запад, за Великой Зеленью, эти люди были дикими племенами, когда ты родился. Наши Боги, если мы говорим о Ра, Исиде, Хоре и Сете, теперь принадлежат им. Если ты припомнишь историю о наших Богах, которую я рассказал тебе в начале наших путешествий, то теперь признаюсь, что я передал ее тебе так, как эти римляне и греки рассказывают ее друг другу. Вот почему мой рассказ был знаком тебе, но и отличался от того, что ты знаешь. Дело в том, что наша Страна Мертвых теперь принадлежит им, и для греков она — всего лишь рисунки, которые можно увидеть на стене пещеры. Так что во время испытаний, что ждут впереди, тебе следовало бы понимать, что представляется им смешным. В наши дни Ра не был ни старым, ни дряхлым, но источником всего, что сияет, и пусть у Хора были слабые ноги, но Он являлся Повелителем Небес, Его перья были нашими облаками, а Его глаза — солнцем и луной. Даже Сет обладал силой сотрясать небеса громом. Но греки меньше знают о различиях между Богами и людьми, а римляне хотели бы презирать такие различия. Поэтому они рассказывают историю Богов по-своему. Разумеется, их Боги меньше наших. В подлинном рассказе о событиях их жизни, который ты от меня не услышал, я мог бы описать, как в тот час, когда Сет выдвинул против Хора последние обвинения и проиграл, Боги, вероятнее всего, не смеялись над Ним, как поведали бы об этом греки, но притащили Сета в Свой огромный покой и бросили Его на землю. Затем Они потребовали бы, чтобы Осирис сел на лицо Сета. Это было необходимо, чтобы провозгласить победу справедливости над злом, в чем и состоит наша идея трона. Тогда как греки видят в нем всего лишь кресло для Царей, столь благородных, что они любят знание больше, чем Богов.
Теперь сообрази, — добавил он, — как тебе повезло, что твой проводник — я. Ведь я побывал в стольких путешествиях по Херет-Нечер, что теперь ты можешь избежать последнего из его зловонных испарений. Да что говорить, худшее из всех здешних несчастий случилось с тобой, когда я извергся в твой рот, и это оказалось для тебя столь ужасным, что большего тебе было не снести. Ты избалован. Тебе никогда не познать мук истинной смерти.
Он произнес это, и я ощутил какое-то особое горе. Если мне не суждено пройти страданий Дуата, тогда в том, что осталось от моих семи душ и духов, будет пребывать пустота. Храбрость моего Ка никогда не подвергнется настоящему испытанию. Я могу даже жить вечно и никогда не умереть во второй раз, однако, решил я, нет худшего одиночества, чем не знать, чего стоит твоя душа.
Я сидел там, в ямах нового отчаяния. На меня навалилась тяжесть несбывшихся надежд четырех жизней моего прадеда. Я мог ощущать, как сила его страстного желания и теперь столь же велика, как боль его поражений. Все, чем он желал стать, даже его не уравновешенное реальностью стремление стать Фараоном, могло быть измерено, лишь будучи соотнесенным с тем обожанием, которое внушал ему Осирис. Потому что, насколько я мог судить по его рассказам об этом Повелителе (несмотря на все его попытки запутать меня сказками о греках!), мой прадед жил, должно быть, рядом с грустью, что пребывает в сердце Повелителя Мертвых. Кто, как не Осирис, надеялся открыть, что явится в мир от Богов, которые еще не родились? Действительно, как же я мог понять чувства Повелителя Осириса, если сам не разделил их с Ним? Он был Богом, который стремился создать творения и чудеса будущего. Поэтому именно Он больше всего страдал, когда великий замысел терпел неудачу. Уж Он-то должен был знать, как горько было моему прадеду потерпеть такое поражение, что даже его семя стало отвратительным.
Однако едва я успел начать проникаться смутным чувством подобного сострадания к моему прадеду и его Повелителю Осирису, как вдруг стало происходить нечто поразительное. Я протянул руку, чтобы коснуться Мененхетета — ведь мне было так одиноко, и как только я это сделал — он исчез. Или так я подумал. Было слишком темно, чтобы что-либо разглядеть. Однако в том месте, где находилось его тело, темнота теперь была глубже той, что окружала меня, и мои ноздри уловили слабый запах, чудесный, как благоухание розы. Затем стены за моей спиной утратили твердость камня, но стали мягкими и начали сползать, как глинистые берега реки. Я услышал, как вода льется в наш покой, и тут все запахи поглотила всепроникающая вонь — здесь сомнений быть не могло, ее-то я учуял! — вокруг меня бурлила река. Теперь я увидал вдали перед собой Поля Тростника, зерно в колосьях отливало золотом, а небо было голубым, но течение с силой закручивалось вокруг моих ног в водовороты. Стена отступала с каждым моим шагом. Зловоние усилилось, вода поднялась над моей головой, а я не решался поплыть. От ужаса в своих конечностях я понял, что погружаюсь в поток отбросов. На меня низвергалась грязь и мерзость жизни. Мучительный стыд душил меня. Во мне не было сил бороться с этими водами, я был готов сдаться. Но и мой стыд стал убывать. Покой, подобный самой смерти, снизошел на мое сердце, как темнота покрывает вечернее небо. Я был готов. Я умру во второй раз, и эта смерть будет последней. Даже отвратительный натиск зловония падали уже не казался таким невыносимым. Я снова уловил запах розы, действительно он напоминал аромат вечерней розы.
Затем я услыхал голос прадеда. «Тебе не обязательно гибнуть», — произнес он над моим ухом.
Я знал, что он хотел сказать. Его мысль уже проникла в мое сознание, она пришла вместе с покоем, подобным самой смерти. Можно было утонуть в этой реке испражнений и быть смытым на поля. Останки превратятся в полевые растения.
Или — можно ли сделать смелый и окончательный выбор? — можно ли войти в другую основу? В центре сияния пребывала боль.
Я почувствовал, как тень моего прадеда обнимает мой Ка. Сладкий запах розы исчез. На нас снова накатило зловоние. Оно было мне ненавистно. Я не хотел умирать во второй раз. И все же я не знал, осмелюсь ли войти в основу боли. Ибо я был никчемен, а мой прадед — проклят и никчемен, и над нами тяготели могучие заклятия. Меж тем я ощутил, как грусть его сердца вошла в меня, с мыслью прекрасной, как само сияние: если духи умерших попытались бы достичь уровня небес высших усилий, им следовало бы стремиться к слиянию друг с другом. Но поскольку душа уже не является ни мужчиной, ни женщиной или, чтобы лучше понять это, включает в себя всех мужчин и женщин, среди которых когда-то жила, в Царстве Мертвых не важно, соединила ли клятва мужчину и женщину, двух мужчин или двух женщин, нет, требовалась всего лишь решимость разделить общую судьбу. Благодаря этому откровению, ибо мысль эта пришла ко мне в ослепительном сиянии, мне было также дано вновь увидеть нелепого старика, полного ветров, которого я встретил в своей гробнице. От его тела разило Страной Мертвых (ведь у него было упрямство, чтобы плавать в Дуате, но не хватало силы покинуть его), и теперь я осознал, что в своем одиночестве он желал, чтобы я присоединился к нему. Истории, которые он рассказал нашему Фараону, предназначались также и для меня. Он хотел, чтобы ему поверил именно я. И я поверил. Здесь, в Дуате, в этот час я был готов верить ему.
Я ощутил, как угасает Ка Мененхетета. Его сердце единожды сжалось — и сила сердца Мененхетета перешла в меня, и я знал, что теперь моя молодость (моя совращенная со своего пути духами зла молодость!) укрепится его волей, исполненной силы четырех людей, да, он действительно был силен.
Множество огней появилось над моей головой, и они походили на лестницу из света со многими перекладинами. Я схватился за первую ступеньку и стал подниматься из реки. Лестница изгибалась, и взбираться по ней было трудно, но когда она раскачивалась, золотые поля на другом берегу отступали от меня, так же как и воды, и я перебирал перекладины этой лестницы одну за другой, и каждая из них была прочной, как пуповина каждого человека, которого я хорошо знал при жизни, и я чувствовал объятия их тел. Пока я взбирался, они обступали меня и держали меня за руки, и я не мог подняться на следующую перекладину, покуда не переживал вновь своих чувств к ним, честно размышляя о том, как я их любил или не любил, и вспоминал, что я любил в них больше, а что — меньше всего. Мои члены ощутили все утраты, когда я вновь прошел через раннюю любовь моей матери, но мне пришлось преодолевать ее страх, чтобы удержаться на перекладинах лестницы, потому что она боялась меня, когда я был уже не ребенком, но ее любовником, и я рыдал о Птахнемхотепе, потому что Он не возвысился душой, но стал человеком более мелким, чем был, и в своем тяжком дыхании я ощутил вкус Его исчезающей любви к Самому Себе, да, так я поднимался по духам умерших, покуда не оказался высоко над Пирамидой.
Теперь рядом были Медовый-Шарик и Нефертари, и я взбирался, будто в моем распоряжении были руки Усермаатра, а голова Хер-Ра уподобилась моей собственной голове. Мне вновь было видение великих городов, которым предстояло появиться, и я понял, что, должно быть, сила Ка велика. Ибо так же как нежная сила цветка пробивает камень, так и сила Ка проявится со всей своей мощью, если его истинное желание встретит сопротивление. И таким образом, поднимаясь по лестнице, я мог судить о цели моего Ка по присутствию нашей силы. И вот я поднялся по этой лестнице из огней до того места в небесах, откуда можно было, подобно Осирису, взирать на предвестия всего, что ждет впереди, и пытаться повернуть бурю вспять еще до того, как она разразится. И все это время мною владел страх, что ни я, ни мой прадед недостаточно чисты для такой цели, и ни один из нас не смог бы предложить перышку лечь на чашу, что уравновешивает его сердце, чтобы оно пребывало в ней так же покойно, как покоится в нем знание добра и зла. Затем я увидел мою Ба, ту маленькую птичку с моим собственным лицом, которую не встречал с тех пор, как она улетела, когда мой Ка приблизился к своей гробнице. Теперь она была здесь, надо мной — душа моего сердца, подобно тому как Ка являлся моим Двойником, и потому Ба смогла сказать мне, что чистота и добродетель в глазах Осириса значат меньше, чем сила. Мененхетета не стали бы использовать потому, что он был хорошим человеком, но оттого, что он был сильным. Должно быть, Повелитель Осирис пребывает в столь же отчаянном положении, как и мы, когда Ему приходится набирать Свои Войска. Такой была мысль Ба, самой прекрасной части моего сердца.
Однако мой Ка ответил, что для Ка нет ничего важней знания своего предназначения, и я почувствовал это, когда взбирался по лестнице, но присутствию нашей силы. Я думаю, вся магия лежала у моих ног. Поднимаясь, я видел луну, и Осирис пребывал в ней, ожидая меня, и по одну Его руку сидел Хор, а по другую — Сет. Я приблизился к Лодке Ра. Все во мне пришло в движение, даже само Время.
Ибо теперь приближается комета. Меня хлещут порывы страшного ветра. Подступает еще не ведомая мне боль. Я слышу крик взрывающейся земли. В этом ужасе, огромном, как бездна, я все же ощущаю нечто большее, чем страх. Здесь, в центре боли, пребывает сияние. Да будет моя надежда на небеса равной моему неведению относительно того, куда я направляюсь. Второй ли я, или Первый Мененхетет, или порождение наших дважды семи отдельных душ и све-тов — едва ли я смог бы сказать, и потому не знаю, придется ли мне с ненасытной алчностью вечно трудиться среди духов зла или служить некой благородной цели, которую я не могу назвать.
Этим мне говорится, что я должен войти в силу мироздания. Ибо первый звук, исторгнутый волей, должен пройти сквозь основу боли. И вот, пребывая в таинстве моего первого дыхания, голосом новорожденного я издаю крик и вхожу в Лодку Ра.
Мы плывем через едва различимые пределы, омываемые зыбью времени. Мы бороздим поля притяжения. Прошлое и будущее сходятся на границах сталкивающихся грозовых облаков, и наши мертвые сердца живут среди молний в ранах наших Богов.
1972–1982
ПОСЛЕСЛОВИЕ Магия Нормана Мейлера
Искусство «слов-власти», как называли в Древнем Египте магию слова, открылось Норману Мейлеру рано. Он ворвался в американскую литературу в 1948 году, когда его роман «Нагие и мертвые», написанный безвестным двадцатипятилетним выпускником инженерного факультета Гарварда, почти три месяца продержался в списке бестселлеров и занял место среди классических произведений современной американской и мировой литературы о войне. В университете он серьезно готовился стать знаменитым писателем, но при этом в 1943 году получил почетный диплом бакалавра естественных наук по специальности авиационный инженер, и оглушительный успех его первого романа застал Мейлера в Париже, где он проходил стажировку в Сорбонне. Став звездой, он обнаружил, что не готов к этому положению. Ему казалось, что он состоит в секретарях у кого-то, кто носит его имя, и для того чтобы попасть к этому человеку, люди вынуждены сначала обращаться к нему.
За прошедшие шесть десятилетий Норман Мейлер написал двенадцать романов, более двадцати публицистических книг, его рассказы и стихи выходили отдельными сборниками, он писал пьесы и сценарии, был кинорежиссером и киноактером (например, у Ж.-Л. Годара в «Короле Лире»), владельцем собственной киностудии. К 25-летию литературной деятельности была издана антология его произведений, к 75-летию писателя — огромный сборник «Время, в которое мы живем». Отдельными книгами выходили интервью с ним. Сегодня «библиотеку» Нормана Мейлера составляют около сорока книг, каждая из которых углубляет наше представление не только об этом неизменно привлекательном таланте, но и об одном из самых ярких людей ушедшего века.
Казалось бы, Норман Мейлер — пример сбывшейся «американской мечты», «человек, сделавший самого себя». Однако он слишком неординарен и не укладывается в какие-либо клише. О чем, кстати, говорят и его высшие литературные награды — за две работы в жанре «публицистического повествования». В 1967 году его избрали членом Национального института искусств и литературы и Американской Академии искусств. Два года он был председателем ПЕН-центра США. Безусловно, это признание, но эти официальные его знаки не отражают роли Нормана Мейлера в американской культуре. На своем египетском романе, со свойственной ему иронией по отношению ко всем, кто на протяжении полувека пытался «вычислить» Нормана Мейлера, он написал мне: «Татьяне, чтобы она продолжала осваивать меня как предмет изучения». Конечно же, он знал, что всегда был далек от академических канонов и предметов. И хотя сегодня страсти, кипевшие вокруг всего, что выходило из-под его пера и было связано с ним самим, остались в прошлом, нельзя сказать, что его творчество уже получило взвешенную оценку.
Послесловие к одному из романов Нормана Мейлера, притом что роман этот, несомненно, принадлежит к наиболее значительным его произведениям, как и любая статья о таком крупном писателе, по сути, может быть лишь штрихами к портрету, попыткой наметить наиболее характерные черты его многогранного таланта и незаурядной личности.
В США нет другого писателя, который бы больше полувека вызывал столь противоречивые чувства. Именно чувства, и прежде всего потому, что сам он с первого романа был неотделим от его книг и героев. Мир, созданный его воображением, был настолько проникнут атмосферой жизни Америки, а драматические события ее жизни так естественно воспринимались в его видении, что постепенно, к середине 60-х годов, он стал органической частью этой атмосферы, зеркалом американского сознания, в котором страна узнавала себя. Он превратился в героя «Американского романа», о котором так много писала послевоенная критика, связывая надежды на его появление с блестящей плеядой ныне ушедших писателей, а после выхода «Нагих и мертвых» — неизменно с именем его автора. Того Великого романа, который так и не удалось создать ни одному из них, но который «написало» время, воплотившееся в книгах разных писателей, неповторимых осколках мозаики, из которых и сложилось лицо эпохи.
Однако именно Норман Мейлер сумел приковать к себе столь заинтересованное, эмоционально окрашенное внимание не только потому, что его всегда всерьез занимали проблемы, наиболее существенные для жизни его страны, ее мироощущения, понимания ее перспектив, но и потому, что необычайная яркость и неординарность его личности заставили увидеть все, о чем он писал, с непривычной точки зрения, высвеченным таким пронзительным светом, что созданные им образы общей реальности не могли оставить равнодушными ни критиков, ни читателей. Он сам был сформирован этой страной и хотел быть понятым и признанным ею.
Он родился в 1923 году, вырос в Бруклине, еврейском районе Нью-Йорка. Свой первый рассказ — о нашествии марсиан — он написал в начальной школе, где получал только высшие оценки, но уже тогда провел ночь на Баури, чтобы ощутить жизнь бродяг. Однако больше он увлекался авиамоделями, к тому же писательство не считалось престижной профессией. И он поступил в один из лучших университетов США, где традиционно учились отпрыски богатых «белых англосаксонского происхождения». Гарвард славился своим литературным факультетом. И в его стенах Мейлер по-настоящему заинтересовался литературой и философией. Все выбранные им факультативные семинары были по языку и литературе. Их слушателям полагалось писать три тысячи слов в неделю; Мейлер писал три тысячи слов в день и научился «ваять» тему в пяти-шести вариантах. Суровая школа, которую он сам себе выбрал, очень помогла ему, когда он стал профессиональным писателем. В 1946 году его новелла была включена в сборник «Американской прозы».
В Гарварде он учился не только инженерному делу и литературе. Его окружала незнакомая и поначалу не очень дружественная среда, но его артистическая натура быстро приспособилась к ней. Он усвоил безукоризненные манеры, которые пускал в ход, когда хотел выглядеть респектабельным. В 1941 году он победил в университетском конкурсе на лучший рассказ, который был не только опубликован в самом престижном журнале Гарварда, но его автора взяли в редколлегию. За всю историю университета такой чести удостоился еще только один еврей, другая будущая знаменитость — журналист Уолтер Липпман. Принят был Норман Мейлер и в университетский литературный клуб. Тогда же, на втором курсе, он всерьез увлекся спортом, сначала это был футбол. В Гарварде у него появились друзья, с которыми, как и с большинством обретенных им позже многочисленных друзей, он сохранил добрые отношения на долгие годы. Они пополнили его представления о малознакомых ему сторонах жизни, в частности о женщинах, которые вскоре заняли такое важное место в его судьбе. Доброта и серьезность привлекали к нему людей, друзья недоумевали, что же он делал подростком. Он смутился и, помолчав, ответил: «Господи, я же каждый день ходил в еврейскую школу».
Этот скромный еврейский мальчик в день своего 13-летия (совершеннолетия) произнес речь, в которой высказал желание пойти по стопам таких великих евреев, как Моисей Маймонид и Карл Маркс. Характерен сам выбор и та последовательность, с которой Мейлер развивал и углублял свои представления о заинтересовавших его людях и мировоззренческих системах. Сначала Маркс отодвинул Маймонида на второй план, и Мейлер, как многие его современники, увлекся идеями социализма, которые надолго определили его стремление создать широкое социальное полотно. Однако уже в первом романе проявилось его умение подняться до философских обобщений.
Незадолго до призыва в армию Мейлер женился на девушке, ставшей его первым серьезным увлечением, и основу его романа «Нагие и мертвые» составили его почти ежедневные письма жене. С 1944 по 1946 год он служил на Филиппинах и в Японии — стрелком при полевой артиллерии, поваром при штабе. Мейлер хотел попасть на войну, понимая, что без собственного военного опыта нельзя писать о ней. И снова он оказался в чужой среде: «добрые служаки с Юга» не очень-то любили евреев, да еще интеллектуалов с Севера. Свое неприятие они выражали словами: «Мы не можем все быть поэтами», а Мейлер таскал в своем вещмешке «Закат Европы» Шпенглера и страдал оттого, что опыт посудомойки сужает горизонт его личности. Но если в Гарварде он перенял культуру элиты и избавился от своего бруклинского акцента, то теперь он обогатил свой актерский арсенал армейским говором южан. Мейлер нашел среди них друга на всю жизнь, который вспоминал, что будущий известный писатель был очень смелым, но никчемным солдатом из-за сильной близорукости и чудом уцелел в боях в джунглях Филиппин. Воевали они немного, и основной эпизод в знаменитом романе Мейлера взят из опыта другого взвода. Но, как неоднократно отмечали, таков талант Мейлера — создавать яркие и достоверные образы на основе даже, казалось бы, неглубоких впечатлений. По выходе романа его автор был расстроен тем, что один из критиков назвал его «реалистическое произведение» «документальным» — для него роман был «в высшей степени символическим… о смерти, творческом импульсе, человеческом стремлении покорить стихии, о судьбе…».
Эти проблемы и стали содержанием его творческих исканий в последующие годы, когда он формировал свою концепцию экзистенциализма, названную им «последним видом гуманизма», и приобретал собственный экзистенциальный опыт. В 50-е годы Мейлер опубликовал два романа: «Варварский берег» (1951) и «Олений парк» (1955), и, несмотря на то что существовали контракты с издателями, которые были готовы опубликовать следующий роман Нормана Мейлера, процесс публикации этих книг и оценка критики стали болезненным испытанием для молодого писателя.
Еще до того, как в «Варварском береге» Мейлер соединил свои убеждения с новыми взглядами на чувственность, из-за его выходок в духе мужского превосходства жена навсегда уехала с дочерью в Мексику. После провала «Варварского берега» Мейлер окружил себя эскортом из знаменитостей и оригиналов, среди которых побывали почти все талантливые американские писатели. Воспев «бескоренную» личность, он связал свою жизнь с пристанищем богемы — Гринвич-Виллидж, сменил жену-интеллектуалку на художницу-индианку, которой «правят стихии», и окунулся в жизнь подполья, которое привело его к «горячим» сексу и джазу, марихуане для вдохновения, спиртному — для расслабления, снотворным — для сна. К этому времени относится и начало его интенсивной работы в ведущих литературных журналах (за шесть десятилетий Мейлер сотрудничал в 75 изданиях), где он публиковал свои рассказы, очерки, статьи, эссе, отрывки романов и публицистических книг, вел постоянные колонки. Так, с 1953 года Мейлер сотрудничает с «Эсквайром», ставшим к середине 60-х колыбелью «нового журнализма», того субъективного жанра, который именно Норман Мейлер, за десятилетие до появления манифестов и самого термина «новый журнализм», отточил в своих публикациях до уровня подлинно художественного повествования. В этом же году он начинает печататься в радикальном журнале «Диссент». В 1955-м — издавать с друзьями журнал, которому дает название «Вил-лидж войс». Появившиеся на его страницах очерки стали основой вышедшего в 1957 году и вызвавшего новый взрыв эмоций эссе «Белый негр».
Тогда он не просто создал новый персонаж, но обнаружил еще одну грань своей все усложняющейся натуры. Норман Мейлер формировался, «болея» всеми болезнями своего времени и, говоря словами Р. П. Уоррена, «сопротивляясь своей эпохе» — отказываясь принять то, что противоречило его представлениям об Америке и человеке. Но «заболевал» он раньше большинства своих соотечественников, иногда на полтора-два десятилетия. Более других его волновали две кардинальные проблемы — экзистанса непосредственного опыта личности со всеми его «безднами» и проблема современной власти, бюрократии, «технократии», как он обычно ее называл. Стараясь опубликовать «Олений парк», Мейлер ощутил, что это уже не те издатели, которые поддерживали Скотта Фицджеральда, а индустрия, ориентированная на прибыль. Впервые в жизни ему пришлось сделать некоторые уступки цензорам, но он сознавал, что идет на риск утраты «неподдающегося порче центра своей личности». Но и тогда, среди резко критических оценок, было высказано мнение, что «…инстинкт художника […] определяет его в корне моральный подход к своему материалу». Провал второй попытки закрепить успех своего первого романа лишь укрепил его уверенность в правоте мнения Хемингуэя, что важнее быть настоящим мужчиной, чем великим писателем. Характерен для его настроения того времени тот факт, что, посылая своему кумиру новый роман и опасаясь, что в ответ тот напишет ему «чушь», он заранее решил: «хрен с тобой, Папа». Однако Хемингуэй не получил книгу, а купил ее сам и написал другу: «По сути в „Оленьем парке" Мейлер донес на самого себя».
Погружение в атмосферу черного джаза, размышления о его влиянии на подпольную культуру стали для Мейлера поворотным моментом к его идеям подавления личности в США, которые почти через два десятилетия, во время культурной революции 60-х — начала 70-х годов, были подхвачены молодежью. Уже в первом романе о войне он воссоздал одну из классических экзистенциальных ситуаций. Потом он написал еще четыре романа, герои которых выявили в послевоенной американской реальности одержимость поиском «переживания» и душевный надлом от сознания тщеты этого поиска, отсутствия достойной цели, утраты ориентиров, распада «цепи времен». Герой «Оленьего парка» (1955), писатель-выпускник Гарварда, стремится проникнуть в тайны убийства, самоубийства, инцеста, оргий, оргазма и Времени. Он вспоминает о парке Людовика XIV, где «самые красивые девушки Франции служили удовольствиям ее короля». Журнальные публикации раскрывают новую грань личности его героя — это святой с сатанинскими чертами, прототип хипстера, одержимого идеями Добра и Зла, Бога и дьявола. В его экзистенциальных размышлениях Бог не всемогущ и лишь с помощью человека способен победить в борьбе со Злом. Писатель был убежден, что его долг силой таланта изменить общество, поскольку власти не ведают, что творят, «машиной управляют безумцы… они убивают нас». С 1956 года его колонка в «Виллидж войс» превратилась в декларацию его личной войны с американской журналистикой, средствами массовых коммуникаций и тоталитаризмом личности, «приятной во всех отношениях». Писатель сознательно шел на то, чтобы его активно не любили. Обращаясь к читателям, он писал: «На этой неделе моя колонка трудна для восприятия… если вы не в настроении думать или вас не интересует процесс мышления, давайте забудем друг о друге до следующей недели».
Вскоре марихуана выпустила на свободу «дремлющего зверя». В 60-е годы она стала горючим контркультуры; среди немногих Мейлер открыл ее свойства на десятилетие раньше. В дневнике он сравнил свою плодовитость с удивительной трудоспособностью Зигмунда Фрейда под воздействием кокаина. Наркотики дали ему: «Другое ощущение языка, его звуковую и стилистическую раскованность, свободу Флобера и Генри Джеймса, присущую им в гораздо более зрелые годы… Я уничтожал широкие дороги своего мозга… Я делал с ним то, что Барри Голдуотер рекомендовал нам сделать с листвой вьетнамских джунглей… Я потрясающе много узнал о писательстве, но я заплатил за это знание огромную цену». В 50-е годы он утверждал, что «хип — это американский экзистенциализм, в корне отличный от французского, потому что в его основе лежит мистика плоти, и его истоки прослеживаются во всех подводных течениях и подпольных мирах американской жизни, на глубине в их интуитивном понимании и признании ценности жизни негра и солдата, преступника-психопата, наркомана и джазового музыканта, проститутки и актера и — если вы способны представить себе такую возможность — брака девушки по вызову с психоаналитиком… Бог хипстера — энергия, жизнь, секс, сила, прана йоги, оргон Рейха, кровь Лоуренса, добро Хемингуэя… его Бог — не Бог церкви, но недосягаемый шепот тайны, заключенной в сексе». Возлюбив хипстера, он противопоставил себя всем писателям истеблишмента, даже своим друзьям — Стайрону и Джонсу. Откликаясь на идеи, высказанные Мейлером в «Белом негре», Джеймс Болдуин писал в эссе «Черный парень смотрит на белого парня» (1961): «…невозможно повлиять на его взгляды… музыканты-негры, среди которых нам случалось бывать и которым действительно нравился Норман, ни на секунду не принимали его за кого-то даже отдаленно похожего на хипстера, а Норман этого не знал, и я не мог сказать ему об этом… Они считали его по-настоящему милым, несколько взвинченным белым любителем джаза…» В эти годы Мейлер «изживал свои фантазии» в слове и личной жизни. Хипстер в нем стремился обратить писательство в действие. В следующее десятилетие оказалось, что в «Белом негре» он выступил в роли Кассандры — предрек все революции в США середины 60-х — начала 70-х годов. В сборнике публицистических выступлений, большая часть которых печаталась на страницах «Эсквайра» и «Партизан ревью», вышедшем в 1959 году под названием «Самореклама», Мейлер писал: «…я живу как в тюремной камере, ощущая себя человеком, который не удовлетворится ничем меньшим, чем революция в сознании нашего времени… Именно это моя работа». С тех пор ему редко забывали припомнить опубликованный в «Саморекламе» перечень великих людей (Достоевский, Маркс, Джойс, Фрейд, Стендаль, Толстой, Пруст, Шпенглер, Фолкнер и… Хемингуэй), за которых, как ему тогда представлялось, ему суждено договорить недосказанное. Понятно, что «ясновидцев, как и очевидцев всегда сжигали люди на кострах», но, как подметил тогда один из самых проницательных американских литераторов А. Кейзин, Мейлер почувствовал, что «аудитория потребляет уже не романы, а личности». Другой критик после выхода «Саморекламы» писал: «…он самый большой мастер, а возможно, и самый значительный талант нашего поколения».
В те же годы обнаружилась его неизменная тяга к совершенно непохожим на него людям. Друзья замечали, что стоило ему заподозрить, что перед ним именно такой человек, как в его глазах вспыхивал знакомый им огонек: «А вдруг этот парень знает что-то, что неизвестно мне?» В Мексике его внимание впервые привлек вышедший из тюрьмы убийца, и, встретившись с ним, Мейлер допытывался — какие тот пережил ощущения? Его подлинный интерес к насилию, проявившийся поначалу в его увлечении боксом, порожденном желанием стать современным Хемингуэем, с годами обретал все большее значение. Как отмечал один из его друзей: «Норману хотелось кровавых эмоций… для него кровь — приобщение к реальности…» Постепенно в его сознании насилие соединилось с творческим потенциалом. Еще в начале писательского пути он заявил, что «…отчужденная личность интересует меня гораздо больше укорененной». И вскоре этот серьезный интерес к насилию обернулся драмой в жизни самого писателя.
Новое десятилетие начиналось для Мейлера удачно. В 1960 году в «Эсквайре» появилась его статья о Джоне Кеннеди, который тогда представлялся Мейлеру символом романтического освобождения от скуки 50-х годов, принцем «американской мечты». После краткой встречи, понадобившейся ему для проверки своих ощущений, он дописал портрет политика, в котором увидел черты своего героя-хипстера, уже не литературного персонажа, но реального человека. Талантливый журналист Пит Хэ-мил писал о впечатлении об этом очерке Мейлера: «Словно волна прокатилась по журналистике… Все охали и ахали, говоря себе: вот как это можно делать. Было ясно, что с произошедшими переменами придется жить… Мейлер изменил жанр… Этот очерк заставлял думать больше о моральной, чем политической стороне дела». Сам автор тоже понимал важность своего выступления, сознавая, что ему удалось оказать воздействие на реальность, ощутимо изменить настроения, придать Кеннеди «чарующий ореол». Как он потом признался, эта статья привела его в «наполеоновское расположение духа», и он решил выставить свою кандидатуру на выборах в мэры Нью-Йорка.
Свою программу он изложил в обращении к Фиделю Кастро, в котором высказал мысли, очередной раз оказавшиеся пророческими во время инцидента в Заливе Свиней, но сама избранная тема и форма этого общественного заявления мало соответствовали правилам той политической игры, в которой он решил принять участие. Прием, на котором Мейлер собирался объявить о своем решении, провалился, поскольку представители власти и другие влиятельные лица не явились, и в мрачной атмосфере срыва еще не начавшейся кампании и всеобщего опьянения под утро расстроенный хозяин исчез — как оказалось, приняв вызов одного из представителей «своего» электората. Когда он вернулся с разбитой губой и синяком под глазом, жена высказала ему свое возмущение. Мейлер вынул нож и нанес ей две серьезные раны. Разбирательство длилось год, приговор был отложен, и Мейлера ненадолго поместили в больницу для психиатрической экспертизы, после чего, благодаря усилиям жены, он получил условное наказание. Однако когда шло расследование и жена была еще в больнице, выступая по телевидению и говоря о малолетних преступниках, Мейлер сказал, что нож для них чрезвычайно важен как символ их мужественности.
Свидетели утверждали, что он был временно невменяем, сам же он заявил: «Я горжусь тем, что могу исследовать те области сознания, куда другие боятся заглянуть. Я настаиваю на том, что я вменяем». У Мейлера был недолгий опыт работы в лечебнице для душевнобольных, и он был готов скорее попасть в тюрьму. «Возможно, этот безумный поступок загнал его в общественное сознание глубже, чем десятилетие серьезной целеустремленной работы», — с грустью заметил один из комментаторов. Мейлер признал, что совершил нечто ужасное, но и это драматическое событие не исчерпало его стойкого интереса к насилию. Почти два десятилетия спустя в пространной книге «Песнь палача» (1979) Мейлер попытался докопаться до корней психологии убийцы, ставшего знаменитостью из-за того, что он требовал себе замены пожизненного заключения на смертную казнь. Писатель получил за нее свою вторую Пулитцеров-скую премию, а его сценарий по этой книге был выдвинут на премию Эмми, но когда отрывки из «Песни палача» публиковались в журнале «Плейбой», рекламная кампания привлекла внимание убийцы, который послал автору свои заметки. Мейлер был пленен обнаруженным им талантом и «в интересах культуры» помог ему выйти из тюрьмы. Незаурядный литератор-убийца жил у Мейлера дома, спорил с ним о проблемах экзистанса и творил в уединенном доме, который ему помог найти его знаменитый покровитель, но вскоре опять совершил убийство и, снова оказавшись в тюрьме, пришел к убеждению, что Мейлер предал идеи свободы личности и назвал его «классовым врагом». То был последний бурный всплеск романтического увлечения Мейлера насилием.
Но в начале 60-х его взглядам, как и его стилю предстояло претерпеть существенные трансформации. Все глубже осознавая общественную роль слова, Мейлер сказал Кеннеди, что свободу в Америке поддерживают ее художники, а не ФБР. В это время он продолжает активно сотрудничать в журналах, расширяя их круг. На страницах «Комментари», например, он обсуждает вопросы религии и философии. Летом 1962 года выступление в журнале «Плейбой» положило начало его полемике с феминистками, итог которой был подведен им в интересной публицистической работе «Узник секса» (1971). В июне 1963 года Мейлер написал для «Комментари» три колонки и семь — для «Эсквайра», где прокомментировал и самоубийства двух своих кумиров и звезд американской культуры — Хемингуэя и Монро. Он встречался со студентами, считая это важным и ценя чуткость их аудитории, в суде защищал «Голый завтрак» У. Берроуза от обвинения в непристойности, появлялся он и на телевидении. И даже когда аудитория или интервьюер были настроены агрессивно, ему почти всегда удавалось овладеть ситуацией — с помощью его излюбленных «чудес Станиславского», когда на глазах изумленной публики он менял внешность и манеру поведения или когда он поднимал планку дискуссии на недосягаемую для его оппонентов высоту и в конце концов мог делать с ними все что хотел. Противостояние вдохновляло его, и он всегда был готов пострадать за свои идеи, вступив в борьбу с превосходящим его противником — и поэтому обычно одерживал верх. Как метко заметил один из критиков, мало у кого «хватает духу добровольно одиноко жить на вражеской территории», а Мейлер делал это целое десятилетие. При этом ему удавалось годами поддерживать веру в то, что он еще создаст нечто очень значительное, потому что он один мыслит так масштабно.
Со временем даже те, кто с раздражением воспринимал его рассуждения о Добре и Зле и «фашизме» в США, начали прислушиваться к его словам, улавливая за непривычной формой серьезность его аргументов, они знали, что пройдет время и он окажется прав. Но сначала и те люди, которые хорошо относились к нему, в основном воспринимали сказанное им как метафоры, что сводило его с ума. В 1963 году Мейлер объявил, что в ближайших восьми номерах «Эсквайра» вместо своей постоянной колонки начинает публикацию романа «Американская мечта» и выдержал поставленные себе жесткие условия, в которых в свое время работали великие Достоевский, Диккенс и Генри Джеймс. Эта самоубийственная затея вызвала огромный интерес, а сам автор позже признался, что пошел на нее из-за необходимости расплачиваться по счетам четырех браков — ежегодно ему требовались большие деньги, а их мог дать только роман, обычная работа над которым занимала долгое время. Читатели гадали, что же придумает автор для следующего номера, поскольку сюжет противоречил традиционным нормам повествования — главный герой уже в первом выпуске задушил свою жену. Волновались и редакторы, хоть и надеялись на то, что у Мейлера «очень рациональная и упорядоченная голова» и все встанет на свое место. В начале 1965 года роман вышел отдельной книгой и вызвал такую бурю противоречивых откликов, что в результате разошелся огромным для США тиражом в пятьдесят тысяч экземпляров и попал в список бестселлеров.
К середине 60-х годов Норман Мейлер отказался от вымысла. Сбросив оковы традиционной формы романа, он решил писать современную американскую историю «как роман», став главным его героем. В его документальных повествованиях, написанных от первого лица, наиболее существенные события следующих двух десятилетий читатель увидел его глазами, ощутил посредством его чувств. Бросив перчатку истории, он стал героем своего времени, что придало его мыслям, чувствам и поступкам иной масштаб, новое качество. Казалось, он узурпировал право представлять своих соотечественников на ее подмостках, где он встречался с теми, к кому было приковано сознание страны — с представителями власти, космонавтами, звездами экрана, спорта, уголовной хроники. Создавая непривычно яркие и на первый взгляд совершенно субъективные портреты звезд, передавая атмосферу этой неповторимой эпохи, пытаясь уловить смысл звездных моментов национальной истории, он сам становился неотъемлемой ее частью и звездой. Под его пером «горячая» история обрела не только эпичность, но и черты современного мифа, что порой и раздражало и искажало ее видение. Но неизменно подкупала подлинность чувств и сложность поставленных задач. Он постоянно строил свою систему мировоззрения, стремясь, по его словам, перекинуть мост между Марксом и Фрейдом, выявить в психологии современного человека связь между его общественным бытием и его духовным миром. «Пока мы не поймем, — писал он, — с помощью каких механизмов власти манипулируют нами, почему мы вынуждены вести образ жизни, который нам не по нутру, почему многие из нас чувствуют омертвение души, пока мы не поймем, что наше мироощущение рождено не отсутствием воображения, но есть продукт разветвленной бюрократической системы, аморальной и несправедливой… мы ни к чему не придем… Я пытаюсь найти корни зла, угрожающего обществу, чтобы пригвоздить его к позорному столбу». В характерных приметах американской жизни он искал стереотипы мышления, и его талант неизменно помогал ему проникнуть в существо мифа и тем самым подорвать его основу, что часто возмущало его соотечественников.
В нем самом боролись тяга к экзистенциальному, анархическому и стремление к политике, участию в общественной жизни, сочетались противоречивые взгляды художника и историка, непосредственного участника событий и их аналитика. Талант и обостренное чувство современности, в которой «…дух неверующего человека XX века, оцепеневшего от неудач, страха и ужаса перед грядущим унижением, томится, как холощеный скот перед изгородью…», всегда помогали ему избрать главную тему. И все его размышления приводили его к убеждению в том, что именно романист, художник по своему восприятию, способен вернуть современному человеку подлинность чувств, остроту морального сознания. Мейлер писал обо всем, что составило содержание бурной эпохи середины 60-х — середины 70-х годов, — от «революций» во всех ее общественных сферах до кампаний по выборам президентов, проблемы преступности, войны во Вьетнаме и высадки человека на Луне. Американская реальность трансформировалась в его произведениях, во всем, что он говорил и делал, сквозь призму сознания интеллигента, выходца из того среднего класса, который на протяжении последних двух десятилетий пережил кризис, заставивший заговорить о болезни американского общества, о несоответствии между «американской мечтой» и американской реальностью.
Уже в 50-е годы он стал общественной фигурой, оказавшей влияние на отчужденное поколение молодежи 60-х. Он всегда шел впереди, и ему было очень трудно. Его жизнь складывалась так, что «горячая история» требовала непосредственной реакции — отображения и осмысления, она десятилетиями оттесняла Великий роман и видоизменяла жанровые рамки романов ему предшествовавших. Но Мейлер не только писал: в год выхода его романа «Американская мечта» он выступал перед студентами университета, поддерживая их протест против войны во Вьетнаме, снимал фильмы, участвовал в антивоенном марше на Пентагон, о котором рассказал в «Армиях ночи» (1968). В начале творческого пути Мейлера редактор «Комментари» Н. Подгорец справедливо заметил: «Ему нужно все продумать самому, лично, словно именно ему, посредством собственного жизненного опыта, предстоит снова и снова заново воссоздавать мир». Отрывок из «Армий ночи» печатался в журнале «Харперс», и молодая женщина-редактор десяток раз приходила к старшему коллеге, жалуясь, что не понимает написанного — предложения слишком длинные, и она не знает таких слов. «Детка, — сказал он ей, — ты не понимаешь, что он великий писатель, он создает язык, оставь его в покое». За этот очерк в следующем году Мейлер получил высшие литературные награды — Пулитцеровскую и Национальную книжную премии. Тогда же он принял участие в кампании по выборам мэра Нью-Йорка и занял четвертое место среди пяти кандидатов.
С 1966 года ему стали предлагать большие авансы за все, что он напишет. И уже не только он сам соотносил свои работы с произведениями классиков, но и критика, по большей части привыкшая оценивать его как «…одного из самых нестабильных и в целом непредсказуемых писателей», который всегда выступает «в своем приводящем в бешенство блеске», заметила, что Мейлер «…своенравный, часто своевольный, иногда порочный, остается самым откровенным… и самым щедро одаренным писателем нашего поколения». Выстраивая последовательность Драйзер — Хемингуэй — Мейлер, они признали его и как философа, видя в нем связующее звено между талмудизмом, «викторианцами» и новым временем.
К концу 60-х годов собственная личность как главный персонаж его романа с Историей перестала удовлетворять Мейлера, он стал называть себя в третьем лице — Аквариус. А вскоре, как написал он сам, закончился вызывавший взрывы ярости «…роман с самим собой… величайший роман века». Он отказался от первого лица, а затем и от своего недолговечного alter ego — Аквариуса. К концу десятилетия, когда страна еще кипела в «революционных» событиях, писатель начал сомневаться в перспективах тотального бунта и, как всегда, раньше других ощутил себя «левым консерватором» и почувствовал необходимость возврата к личным усилиям. В начале 70-х один из известных «новых журналистов» Уилфрид Шид написал об этих переменах в его мироощущении: «Так идет вперед Мейлер, так идет вперед нация. Такую форму принимает его талант».
В 70-80-е годы Мейлер развивает и углубляет круг интересов, намеченный в юности: космос из его детского рассказа обернулся его увлечением машинами, способными поднимать человека в небо, а потом сделал его автором самого значительного «репортажа» о высадке человека на Луне. Он взялся писать его для журнала «Лайф», а в результате родилась книга «Из пламени — на Луну» (1970), в которой бывший авиаинженер, размышляя о современной науке и цивилизации, приходит к убеждению, что человек сможет стать счастливым лишь тогда, когда капитанами космических кораблей будут Шекспиры. Мейлер всегда не просто выбирал яркую, социально значимую личность, но поднимался до архетипических обобщений. Писал о молодом Джоне Кеннеди, а получился очерк «Супермен приходит в супермаркет». Его «биография» Мэрилин Монро (1973) — несравненная попытка проникнуть не только в загадку величайшей кинозвезды, но разобраться в феномене секс-символа эпохи. В юности он влюбился в Хемингуэя и много лет примерял на себя маски настоящего мачо, выпуская «дремлющего зверя» и стремясь вовлечь окружающих в эту суровую игру, которая дорого стоила ему. Его артистизм заставлял его жить в очаровавшем его образе, который часто тяготил окружающих, любящих его людей. Однажды на приеме, где известный писатель делал все, чтобы попасть в скандальную хронику, один из них сказал ему: «Норман, прекрати играть роли, а то я расскажу всем, какой ты прекрасный человек». Характерной чертой Мейлера всегда была его поразительная физическая выносливость и настойчивое стремление овладевать все новыми видами спорта. Особое место среди них всегда занимал бокс. По словам Мейлера, он уважает боксеров, поскольку, обладая силой, они умеют сдерживать ее. Как утверждал его многолетний друг, бывший чемпион в легком весе Хосе Торрес, он сделал из Мейлера профессионального боксера, который мог бы при желании стать чемпионом. Всем, чем он увлекался, Мейлер занимался серьезно, в том числе и спортом. Кроме привычных для его класса видов, он овладел, например, хождением по канату и дельтапланеризмом. Однако в творчестве он начал с демифологизации войны, образа воина, покусился на святая святых «мужской» культуры, а затем продолжил эту работу в своем «детективном» романе «Крутые парни не танцуют» (1984). Это особые, мейлеровские парни, и снятый им по собственному роману одноименный фильм совсем не похож на «Уголовную полицию Майами».
Даже когда он стремился с помощью средств, расширяющих физические и умственные возможности, преодолеть усталость от постоянной борьбы за признание, в самые тяжелые периоды душевных переживаний, он неизменно работал не меньше пяти часов в день. Десятки тысяч заказанных слов, которые нужно было написать в невероятно сжатые временные сроки — к следующему выпуску журнала, к дате, указанной в издательском договоре, превращались в сотни тысяч слов иногда совсем неожиданных произведений, которые ставили в затруднительное положение редакторов, настаивавших на их публикации, несмотря на риск потерять место, или издателей, рисковавших большими деньгами, решившись издать новую, неожиданную по форме и спорную по содержанию книгу, а совсем не тот Великий, приемлемый для всех роман, который десятилетиями ждали от него читатели и критика. Они рисковали, потому что их покоряли эти непривычные по форме и мысли сочинения.
Магия личности и таланта Мейлера обнаруживалась в его отношениях со всеми, кто, как и он сам, любил жизнь, людей и был способен воспринять новое, а сам он с годами научился гораздо спокойнее относиться к тем, «кого влечет посредственность». В нем всегда отмечали парадоксы, но, по сути, он явил пример удивительно сильной и гармоничной личности, обаяние которой снискало ему и популярность, и преданную любовь. Самым убедительным доказательством тому могут служить его отношения с женами. Так, известная журналистка леди Джин Кэмпбелл, дочь английского лорда и газетного магната, не одобрившего этот брак и потому лишившего ее нескольких миллионов наследства, стала третьей женой Мейлера, прожила с ним всего один год, родила ему дочь и, выйдя замуж за американского журнального магната Г. Люса, осталась близким другом Мейлера на всю жизнь. Кстати, каждая из других четырех жен прожила с ним не менее 7 лет, а последняя, которой посвящен роман «Вечера в древности» — уже более четверти века. Яркие личности и красивые женщины, они влюблялись в него так же серьезно, как и он. Вторая жена, чуть не погибшая от нанесенных им ран, труднее других выходила из-под воздействия его чар. Наверное, ей оказались бы близки строки Ахматовой: «Ты подаришь мне смертную дрожь, а не бледную дрожь сладострастья…» Из шести жен лишь одна после развода, по условиям которого она разорила его, не осталась ему другом. Мейлер всю жизнь поддерживал не только своих девятерых детей и, как принято в Америке, жен, но оказался единственным из своих однокашников по элитарному Гарварду, который, впервые в жизни получив большие деньги за свой первый роман, помогал своему университету.
Наркотики и спиртное стали видимой причиной всех личных перемен в жизни Мейлера, но на глубине ее была необычайная интенсивность жизни его духа. Он жил на пределе физических и духовных сил, однако, горя всеми реальными и воображаемыми страстями, благодаря своей удивительной внутренней дисциплине и трудоспособности, он не сжигал себя, а пересоздавал, внутренне менялся, добавляя все новые и новые грани к удивительно здоровой основе своей личности. И жены, и некоторые из многочисленных друзей — на время или навсегда — ощущали себя отвергнутыми, оскорбленными. Он переживал бурные романы с героями своих книг и очерков, множеством интересных ему реальных людей, обладавших притягательными для него качествами или жизненным опытом. Он написал, например, о космонавтах: «Мне всегда нравились люди, которые умеют делать то, чего не умею делать я». Он постоянно ощущал неприятие, противостояние, ему приходилось держать удары, и нередко он сам обижал даже тех, кого любил. Но неподдельность чувств, писательский талант и обаяние его личности, как правило, искупали причиненную им боль.
В школьные годы его пленил Маркс, в студенческие — он не замечал сходства между коммунизмом и фашизмом, во времена холодной войны понимал, что противостояние с Россией чревато угрозой новой войны, а в зрелые годы защищал академика Сахарова. Наконец, образ России, ставшей для Америки важным компонентом современной мифологии, потребовал материализации. Страна, о которой он много думал, должна была стать его личным переживанием. По возвращении на родину он так озаглавил свои впечатления: «Это страна, а не сценарий. Американец в России хочет понять, что нас разделяет». Он хотел бы пожить в России, чтобы лучше узнать ее, но не писать о ней: «Я не так глуп, чтобы по впечатлениям нескольких поездок писать книгу о такой стране, как Россия, о ней уже написано много поверхностных книг. Я давно интересуюсь русской историей, культурой, ее литературой, конечно. Я понемногу учу русский язык, без этого невозможно понять психологию народа. Может быть, когда-нибудь мне захочется написать роман в духе „Анны Карениной"».
Всю жизнь он ненавидел власть и любое насилие над личностью до такой степени, что готов был оправдать «ответное» личное насилие. И в то же время дважды собирался стать мэром родного Нью-Йорка и превратить его в 51-й штат. В 1959 году Мейлер сказал, что последние 10 лет вынашивал мысль о выдвижении своей кандидатуры в президенты, а полтора десятилетия спустя на страницах газеты «Интернешнл геральд трибюн» в интервью с самим собой на заданный себе вопрос: «Участвуешь ли ты еще в президентской гонке?» ответил: «Только за пост Президента литературного мира».
Мейлер менялся, но его образ возмутителя спокойствия засел в национальной памяти. Причем знаки очевидной пристрастности были прямо противоположными. Так, например, один отзыв о его последнем романе о современной Америке, о ФБР — «Призрак проститутки» (1991) — начинался словами: «НЕ все любят Нормана Мейлера», а подпись под фотографией автора гласила: «Годы, когда он занимался боксом, прошли», а в другом говорилось: «Его удар хорош как никогда». Размышления писателя о ФБР и ЦРУ связаны с одним из самых громких скандалов в его жизни. На банкете в честь 50-летия знаменитого писателя все представители американской элиты — от видных политиков до актеров и, конечно, прессы — ждали обещанного сообщения государственной важности. Наконец, к всеобщему изумлению и неудовольствию, Мейлер объявил, что после многолетних раздумий о судьбах страны он с полной уверенностью информирует собравшихся о существовании опасного заговора «бюрократических» ЦРУ и ФБР, которому должны быть противопоставлены усилия «демократических» ФБР и ЦРУ, чьи функции возьмет на себя Фонд «Пятое сословие», который он собирается создать, и он призывает гостей поддержать его усилия. Заявление произвело удручающее и вызывающее впечатление. К утру сам виновник торжества в отчаянии повторял: «Я все загубил. Во мне сидит демон!» Но очень скоро разразился Уотергейт, и это событие предстало в совершенно ином свете. Теперь стало очевидно, говоря словами известного политического публициста Джимми Брез-лина, что «…он был прав. Если он что-то говорит — это не бред. Он продумывает свои суждения, и всегда есть шанс, что он прав. К тому, что он говорит, наверняка стоит прислушаться и хорошо подумать, прежде чем отвергать». Сам Мейлер продолжал заниматься этой проблемой во время Уотергейта и после него. В одном из интервью он сказал: «Я хотел написать объективный роман о ФБР. И если одна половина читателей хочет избавиться от ФБР, а другая — стремится пополнить ряды его служащих, мне на самом деле удалось задеть нужную струну». Столь же философски он отнесся и к замечанию о его непривычно спокойном отношении к критикам романа: «Это легенда тридцатилетней давности… неправильно думать, что я неуравновешенный человек — мне бы хотелось все еще быть им. Сегодня мой гнев… упрятан так глубоко, что почти не беспокоит меня… Мир не таков, каким бы я хотел его видеть. Что же, никто никогда не говорил, что у меня есть право на дизайн мира. Кроме того, думать так — фашизм».
Очевидно, что и в глубине души Мейлер не претендовал на дизайн мира, да и его политические амбиции возникли из его личного знания, что система далека от совершенства и на всех своих уровнях противостоит человеку, отторгая как раз тех, кого в Америке называют «самыми лучшими и талантливыми». Для него это был достойный вызов его неиспробо-ванным в этой области способностям. С другой стороны, в этих желаниях проявилось его неизменное стремления «пережить» новые, сильные ощущения, на этот раз — большой политической игры. Думается, что и все его публичные эксцессы происходили из-за неосознанного в тот момент конфликта между уверенностью, что он при желании мог бы принести на общественном поприще большую пользу, чем те, о ком он писал или кого был вынужден видеть на телевизионном экране, и отсутствием такового желания. Он знал свое предназначение и никогда не скрывал этого. Его влекли высшие способности человека, выводящие его за пределы ординарного, посредственного. Он всегда размышлял о существе писательского труда, творчества, искусства, умения воплотить свой замысел. Прекрасно понимая, что именно здесь начинается «по образу и подобию». И если ты — не сотворец, то — отвязанный зверь. Например, в одном из интервью, данном в связи с египетским романом, он, сказал:«… еще в 60-е я решил, что Господь Бог — самый блестящий романист… художественная литература так важна, потому что, мне думается, именно в ней искусство, философия и приключение наконец сходятся. Для меня мир вымысла прекраснее реальности. Важен сам факт, что человек, уподобляясь Богу, создает мир… Можно назвать двадцать великих писателей… при чтении которых думаешь, что, видимо, и у Бога голова работает в чем-то похоже. А это великий вызов, не правда ли?.. Такова жизнь, мы всегда заполняем заминки в ее течении… Мы живем в мире вымысла, воображая себе действительность, добавляя к своему вымыслу несколько крупиц неприятных фактов». И, если иногда кажется, что Мейлер уподобляет Бога человеку, то внимательное чтение его книг убеждает в том, что его неиссякаемая любовь к жизни и стремление узнать о ней как можно больше, ощутить ее как можно полней живут знанием того, что за видимым и доступным нам миром стоит высшая сила Творца. И в тот мир человек может проникнуть лишь с помощью своего Духа — воли, воображения, памяти или древнего искусства магии.
Магия интересовала Мейлера давно. Это высокое тайное искусство сродни творчеству, но если, по утверждению Платона, поэты познают истину в состоянии безумия, не ведая, что творят, то посвященные используют универсальный принцип подобия, который помогает им обрести сверхъестественные силы, воздействовать на саму природу, общаться с Богами и в такие моменты уподобляться бессмертным. Магия — искусство священнодействия, строгого ритуала, требующего концентрации всех душевных сил. И главное ее орудие — слово. Сами Боги творят посредством слова. Произнося имя, сообщая ему дыхание жизни, творец оживляет, вызывает названное из небытия, облекает дух силой и плотью. Мейлер никогда не верил «всей этой чуши про вдохновение», он всегда ощущал потребность волевого усилия, концентрации, даже необходимости полной изоляции в небольшом замкнутом пространстве. Он сам облекался в образы своего воображения, творил мир и себя самого посредством магии запечатленного на чистом листе знака — слова. Входя в образ, меняя акцент и манеру поведения, по сути, он совершал действие, близкое магическому обряду. Так одна из героинь его египетского романа, надевая самодельную корону и привязывая к подбородку бороду, совершает положенный ритуал и обретает способность говорить голосом умершего фараона и таким образом вызывать богиню Исиду.
Любопытен момент, когда, по свидетельству давнего друга Мейлера, талантливого журналиста Джорджа Плимптона, произошел зримый поворот в его мироощущении — от экзистенциализма к африканской философии, магии, идеям бессмертия, кармы и реинкарнации. Вдвоем они полетели в Заир, писать о бое Али и Формана. Незадолго до боя Мейлер согласился участвовать в утренней пробежке Али, хотя сам давно перестал бегать. Он продержался с ним на равных полторы мили, потом Али и его тренер побежали дальше. По дороге назад Мейлер услышал в зарослях рычание льва и мгновенно вспомнил, как рыбачил в Провинстауне, а рядом проплыл кит, и в голове у него промелькнули имена: Мелвилл-Мейлер… и тут же он представил себе возможный сценарий своей славной смерти — лев, за которым охотился Хемингуэй, ждал все эти годы, пока не явилась достойная замена. Плимптон с удивлением вспоминал, что никогда не видел Мейлера таким спокойным и раскованным, как в Африке, «хотя это была территория Хемингуэя». Однако здесь можно вспомнить о другом: отец писателя родился в Южной Африке, в 70-е стали писать о том, что Мейлер сравнялся славой с Хемингуэем, и к тому же бег на длинные дистанции подобен глубокой медитации, и, возможно, во время этой пробежки произошли какие-то глубинные перемены в обычно напряженно работающем сознании писателя — в него вошла первозданная природа, и он вспомнил о своей принадлежности вечности. В появившейся затем книге «Бой» (1975) Мейлер много размышлял о смерти, и критика с недоумением отметила несвойственную ему умиротворенность. Некоторые язвили, что стареющий автор гонит от себя мысль о том, что его интересная жизнь однажды оборвется, и тешится мечтами о ее возможном продолжении. Однако думается, что эта перемена умонастроения подспудно готовилась давно.
В 70-е современность поблекла, Мейлер искал новый жанр и новых героев. «Бой» — небольшая по объему, но очень значительная писательская работа. Однако после «Нагих и мертвых» даже положительные отзывы о каждой новой книге всегда сопровождались «но» — опять не тот долгожданный роман. Было известно, что Мейлер работает над каким-то романом, тему которого он не сообщил даже издателям, но за который потребовал аванс в один миллион, потому что «это счастливое число». Он ходил то ли к астрологу, то ли к нумерологу, который объяснил ему, что число в контракте не должно быть круглым, а обязательно оканчиваться на счастливое число. Таким образом выяснилось, что у великого писателя, как в свое время у Фрейда, появились счастливые и несчастливые числа. Но мистика чисел затрудняла составление контрактов недолго, и вскоре стало ясно, что с 1972 года Мейлер пишет какой-то большой роман. И интервью о нем в американской и европейской прессе постепенно вытеснили слухи. Отрывки из «Вечеров в древности» печатались в таких популярных журналах, как «Плейбой», «Вог», «Дом и сад», «Пэрис ревью», и его публикация сразу же стала событием мировой культуры — одновременно он вышел в США, Франции, Великобритании и вскоре был переведен на другие языки мира. Появились новые интервью. Приведем некоторые высказывания Мейлера как предисловие автора к его роману.
* * *
«…Я решил отказаться от идеи „Великого американского романа", когда меня захватил великий Египет XIII–X веков до нашей эры. Я понял, что современная Америка подобна Балканам — это слишком сложное, многослойное общество, чтобы его можно было объять единым литературным произведением… всегда хочется попробовать что-то новое, никогда не знаешь, чем займешься завтра…
Я собирался совершить короткое путешествие в прошлое — в Египет, Грецию и Рим. Но погрузился в Египет и завяз в нем более чем на десять лет. Обнаружилось, что я шел к этому роману давно. Так, герой романа „Песнь палача" был для меня мифической фигурой на раунде со смертью. Корабль „Аполлон" и его команда предстали мне олицетворением современной технологии, враждебной природе человека. Я всегда занимался символическими фигурами доминирующей на Западе „мужской" культуры. Герой египетского романа, которому удается четырежды родиться на протяжении ста восьмидесяти лет, позволил мне выйти за пределы не только личности, но и самой истории. Эта возможность захватила мое воображение…
Я не раз говорил, что этот египетский роман милей мне любой из моих жен. Я оставляю его на год-два и возвращаюсь назад, а он говорит мне: „Ты выглядишь усталым, ты вернулся издалека, так позволь мне омыть твои ноги". До сих пор я мог без затруднений возвращаться к нему. Но роман подобен этому мистическому существу — хорошей женщине. Нельзя вечно злоупотреблять ее терпением. Поэтому я думаю, что настало время кончить египетский роман. Пришло время…
Я начинал, как всегда опережая собственное понимание предмета. Сколько раз я и раньше убеждался в том, что сам процесс работы над книгой высвобождает какие-то дремлющие в нас возможности. Лучшее, что удается написать, рождается именно из этого источника. Мне самому было странно мое увлечение Древним Египтом… вдруг — такое отдаленное прошлое, совершенно иная культура. Я ничего не знал о Древнем Египте, но какой-то инстинкт влек меня к нему… Это была и магия незнакомого языка. Я немного занимался языком Древнего Египта, и меня увлекла его диалектика, его экзистенциальная чувствительность, столь прекрасно воплощенная в самой культуре этого периода его истории. Так, например, слово „магнетизм" одновременно означает и „ты", то есть оно говорит о том, что два человека, обмениваясь взглядами, ощущают игру неких сил. Сегодня мы говорим о „вибрациях", но это лишь бледная тень мироощущения древних египтян, каждое слово языка которых столь прочно и тонко было связано с множеством других слов… Я попытался мыслить как египтяне, создать новую психологию… Эта книга подобна археологическим раскопкам. Я не думал писать произведение такого большого объема. Но чем глубже я копал, тем больше я находил интересного и тем больше мне хотелось продолжать раскопки… Количество меняет качество. Боюсь, что длинная книга — анахронизм. Но чтение длинной книги становится частью вашего опыта, она вплетается в вашу жизнь… Не мне судить о результате моих многолетних усилий, но более чем когда-либо я был убежден, что действительно большая книга способна продолжить свою жизнь в сознании читателей, менять их жизнь…
Пока длился мой „роман" с египетским романом, я написал несколько книг о современности. …Но я не оставил свой давний замысел. Мне уже, видимо, не придется углубиться в жизнь Древней Греции или Рима, но я хотел бы в следующей части задуманной трилогии, которую открыл роман «Вечера в древности», перенестись на два-три века в будушее и написать роман о космическом корабле… Это будет головокружительно трудно… Третий роман, на который я очень рассчитываю, если мне доведется его написать, будет о современности. Есть у меня кое-какие припрятанные козыри, о которых я пока умолчу. Они-то и позволят мне связать воедино Древний Египет, космический корабль будущего и современность. Хочется верить, что я смогу соединить их столь же естественно, как три ствола, растущие из одного корня, или, если вспомнить символику мифов Древнего Египта, это будет трезубец — мистический фаллос Осириса. Если я смогу претворить в жизнь весь этот замысел, он позволит мне заглянуть в совершенно новые области, писать шире и лучше. Не знаю, смогу ли осуществить задуманное».
* * *
Подобно машине времени, роман Нормана Мейлера «Вечера в древности» переносит читателя на три тысячелетия назад, ввергая его в поразительно живой мир Древнего Египта времен правления Великого Рамсеса II и его потомка Рамсеса IX, эпох, исполненных кипения вечных человеческих страстей и объединенных чудесной жизнью главного героя романа.
В увлекательном повествовании Мейлера жизнь Богов, исторических персонажей и вымышленных героев разворачивается в едином потоке бытия, в котором миф и реальность неразделимы, поскольку, как заявляет автор в эпиграфе к роману, он верит в то, что множество человеческих сознаний «могут перетекать одно в другое и таким образом создавать или выявлять единое сознание, единую энергию… И наши воспоминания есть часть единой памяти, памяти самой природы».
Основополагающие события жизни Богов, эпизоды которой «воссоздаются» в жизни героев романа, в их воспоминаниях, служат матрицей существования каждого обитателя Египта, бесконечно повторяясь в смене времен года, ночи и дня, рождения и смерти, взаимоотношениях людей, общенародных праздниках, религиозных обрядах и, наконец, в жизни их земного представителя — фараона Рамсеса П. Именно благодаря убедительности мифопоэтического видения читатель воспринимает как естественные и те многочисленные описания мистических состояний, которые являются органической частью повествования и, постоянно переплетаясь с рассказом о жизни героев романа, постепенно обретают все более явственные черты единого эпического полотна, где ощущение и реальность, настоящее и прошлое не имеют четких границ. Где само время благодаря этой поразительной силе памяти и воображения превращается в пространство-время, вечное сейчас, в котором человек чувствует себя настолько свободным, насколько сильно развито его воображение и богата его память. Ведь путь в бессмертие — это жизнь, достойная воспоминаний. Укорененность в мифе сообщает повествованию иной масштаб, а присущий Мейлеру интерес к взаимоотношениям мистики и науки придает роману удивительно современное звучание. Именно благодаря зыбкости этой грани, заставляющей порой воспринимать этот уводящий нас в глубь веков роман как увлекательное путешествие в будущее, рассказ Мейлера убеждает читателя в том, что специфика культурно-исторического контекста, все различия мировосприятия — лишь фон, выявляющий неизменность человеческой природы.
Выбрав местом действия своего романа родину тайного знания, Норман Мейлер сделал его героем «звезду» древности — Рамсеса II, фараона, чья империя простиралась далеко за пределы Египта, чья армия в 1278 году до нашей эры одержала легендарную победу у стен столицы хеттов Кадета, и чья запечатленная в камне слава и сегодня отпечатана на почтовых марках других континентов Земли, и три тысячелетия спустя способна вызывать к жизни поэтические строки. Так, англичанин Шелли посвятил ему сонет «Осимандиас». Столетие спустя его перевел русский поэт Бальмонт. Шелли никогда не видел засыпанную до подбородка песком пустыни голову колосса Рамсеса, но прочитав в 1817 году в газете, что впервые за XI веков удалось проникнуть в его храм в Абу-Симбеле, сумел ощутить исходящий из камня «надменный пламень». «Вы, Владыки (пришедшие в этот мир после меня), скорбите (о своем ничтожестве), взирая на мои деяния…» — так представлял себе Шелли выражение лица каменного изваяния. К. А. Китчин, автор прекрасной монографии «Фараон — триумфатор. Жизнь и эпоха Рамсеса II», пишет, что изучение множества его имен очень помогло Шампольону: «…можно с полным основанием утверждать, что Рамсес II и его храм в Абу-Симбеле явились небольшим, но принципиально важным звеном в дешифровке египетских иероглифов, положившей начало египтологии и широкому спектру современного знания о Древнем Египте». Ведя собственные «раскопки», Мейлер, по его словам, не ощутил духа древности в современном Египте, где развалины храмов поддерживают туристический бизнес. На вопрос, что почитать об истории Египта для перевода его романа, он записал мне имена четырех корифеев: Уильяма Баджа, Джеймса Брестеда, Адольфа Эрмана, Густава Масперо — видимо, их книги, проникнутые любовью к предмету их многолетних исследований, зажгли его воображение. Этот «универсальный американец» с темпераментом ирландца, на протяжении всей своей жизни размышлявший о своих еврейских корнях и проживший часть ее как «белый негр», искал ключ к миру Древнего Египта в его языке. Ведь язык живет по законам мироздания, используемым магией, его «порождающие» модели работают по принципу подобия. Писателя не могло оставить равнодушным само слово «фараон» — большой дом: большой дом — дворец — где живет земной Бог, сам царь — дом небесного Бога, который после смерти нынешнего царя переходит в нового правителя… Небесный Властитель — хозяин своего земного «дома», которому принадлежат два дома — Верхний и Нижний Египет. Фараон — Двойной Дом… Фараоны — полубоги, земные потомки Богов, их дворцы вздымаются к Небу, подобно пирамидам, единосущным Первому холму Творения, символу жизненной силы и так далее. Сколько книг написано о тайнах пирамид, сегодня все больше ученых приводят доказательство того, что изначально они не были усыпальницами, но универсальными акустическими сооружениями, служившими бессмертным пришельцам, а их оставшиеся на Земле потомки превратили их в свои гробницы в надежде с их помощью вернуться в бессмертие. Пирамида — часть вечности, ее символ. Бесконечное повторение ритуала погребения утверждает знание о существовании жизни после смерти тела и помогает творческим силам природы. Символ и предмет нераздельны, часть выступает как целое. Двухметровый «великан» Рамсес II — не потомок ли тех гигантов, пришельцев из космоса?
Наиболее интересными представляются в романе взаимоотношения двух главных его героев, подлинных исторических лиц: фараона Рамсеса II и его колесничего Менны — в романе Мененхетета I. И если о великом фараоне до сих пор повествует камень, сохранивший рассказы о его героических деяниях, то его колесничий присутствует лишь на стенах, на которых изображены сцены величайшей битвы древности. Но и на них нет ничего, кроме его уменьшенной по сравнению с царем фигуры, имени и одной нелестной фразы. Он сражался рядом с Рамсесом и без его повеления никогда не удостоился бы великой чести остаться на камне рядом с ним. Царский слуга вырезал его имя, возможно, как оставил на камне и имена лошадей фараона, славных уже тем, что они служили ему. Эти изображения и надписи волновали воображение поэтов на протяжении веков. Как и образ царицы Нефертари, маленькую фигуру которой традиционно помещали у исполинской ноги Рамсеса. Рядом со своим знаменитым храмом (в современном Абу-Симбеле), украшенном его огромными фигурами, он воздвиг ее храм, стены которого сохранили ее красоту и сделанную по его повелению надпись: «Это для нее сияет солнце». Остались каменные изваяния и других его цариц, была и чужая Египту хеттская принцесса, о ней почти ничего не известно — лишь сухие записи: ее отец, заключая с Рамсесом мир, прислал дочь в подарок тогда-то, еще ее хеттское имя и то, которое дал ей владыка Египта… даты его следующих браков… Из этих скупых сведений магия Мейлера творит живой мир.
Очень скоро читатель осознает, что колесничий намного интересней почитаемого и искренне обожаемого им фараона. При всей незаурядности личности Рамсеса II, его духовный мир более ограничен и сковывающими его видение жесткими рамками традиционных условностей двора, и несравнимой бедностью его опыта — опыта единственной человеческой жизни. И несмотря на то что границы бытия фараона несколько раздвинуты благодаря наличию гарема и его «новой жизни» с третьей женой, хеттской принцессой, не говоря уже о постоянной возможности ухода в ритуал — в жизнь богов и предков, мировосприятие фараона оказывается беднее мудрости, обретенной его подчиненным на протяжении четырех воплощений, два из которых падают на время правления Рамсеса II. Главный герой романа — его колесничий, Мененхетет I. Это его глазами мы видим жизнь Древнего Египта периода его наивысшего расцвета, наблюдаем восход и закат его богоподобного властителя, чей пульс бьется в унисон с мыслями египетских Богов, и оба Египта, Верхний и Нижний, живут в одном ритме с этим пульсом, с дыханием фараона, определяющим скорость течения Нила.
Прославленный воин Мененхетет в расцвете сил (в те же 60 лет, что Мейлер начал писать «Вечера в древности») целиком посвящает себя медицине и магии, которые помогают ему расширять возможности памяти и воображения. Думается, что, создавая этот поразительный образ, писатель вспоминал свое восхищение Моисеем Маймонидом (1135–1204), по стопам которого он собирался пойти в юности. Маймонид родился в Испании, а с 1165 года служил придворным врачом у египетского султана, что позволило ему, занимаясь теологией и философией, развивать свои взгляды на разум: с одной стороны, существующий по законам материи, а с другой — приобретенный, представляющий собой эманацию универсального разума. Именно этот разум и есть бессмертная часть человеческого существа. Мысли о природе сознания, воображения, творчества всегда занимали Мейлера. Его блистательный роман, в котором яркая экзотика Древнего Египта проникнута не только живой мистикой, перед которой меркнет современная парапсихология, но и мировосприятием конца тысячелетия, с его представлениями о памяти клетки, в которой заложены воспоминания о будущем, с искушениями клонирования и других открытий современной науки. Именно мысль о непрерывности жизни, о непрерывности тока мысли и крови сквозь пространство и время — главная идея романа Нормана Мейлера «Вечера в древности». Бурная жизнь страстей и искусство секса, предельный натурализм являются в романе не данью моде или литературным приемом, но сущностными компонентами мировосприятия. Соединенные с удивительным искусством повествования они стирают грань между мыслью и чувством, духом и плотью, живым и мертвым.
Есть в романе и еще один замечательный персонаж, близкий душе Нормана Мейлера: он говорил, что его увлекла идея создать образ ребенка, которому дано столь же тонкое понимание жизни, как у Марселя Пруста. Один из друзей писателя, известный литературный критик Джон Леонард, задолго до выхода романа говоря о Мейлере заметил: «Он гениа-
лен, но подозрителен, в нем живут два человека — маленький мальчик и глубокий старик». Эти грани своей души Мейлер и воплотил в образах двух Мененхететов — I, умудренного опытом четырех жизней, и II — ребенка шести лет, обладающего даром ясновидения. Прадед и правнук, они связаны в романе узами крови и памяти. Это они главные рассказчики, от лица которых ведется повествование в его романе «Вечера в древности», и главные участники необыкновенного праздника — Ночи Свиньи, прерывающего привычную череду дней, требующих установленного ритуала поведения. В Ночь Свиньи все темное, потаенное, а значит, и наиболее сокровенное и ценное для знания о людях и самой природе выплескивается наружу. Ночь Свиньи дает право заглянуть в экзистенциальные бездны, излюбленные Мейлеровские «каверны» бытия. Мененхетет превращает этот вечер в пиршество памяти, когда раскрываются все тайны, и одна из них — мечта Мененхетета стать визирем при слабом фараоне, практически правителем Египта, столь человечная и знакомая автору. У подлинного мага Нормана Мейлера есть и гораздо более волнующие тайны. Например, шокировавший критиков раскрытый в романе секрет бессмертия, который на самом деле остроумно наделяет древность откровениями, близкими исканиям современной науки. Размышления о бессмертии духа, поддерживающего память сердца и бренное тело, одухотворенное божественной энергией и мыслью и омываемое кровью, которая соединяет жизнь и смерть — самые интересные и глубокие в египетском романе Нормана Мейлера. Захватывающий сюжет при беглом чтении, возможно, не позволит по достоинству оценить всю сложность и глубину этого произведения, рожденного зрелым талантом большого художника слова, начавшего свой творческий путь с раскрытия души бескоренной личности и вернувшегося к восточным корням современной западной цивилизации. Многократно перечитывая «Вечера в древности», вспоминаешь эпиграф из Андре Жида к раннему роману Мейлера «Олений парк»: «Не спешите понять меня».
Сегодня, будучи частью американской культуры и истории, Норман Мейлер продолжает обнаруживать все новые грани своей личности, одаренной способностью проникаться пониманием самых разных явлений, невероятной трудоспособностью и неиссякаемым богатством воображения, которое позволяет ему воссоздать юные годы Пикассо («Портрет Пикассо в молодости», 1995), дерзнуть написать «Евангелие от Сына» (1997) или в романе «Вечера в древности» (1983) посредством слова вызывать к жизни давно исчезнувшие миры, убеждая читателя в том, что, пребывая в вечности, «мы плывем через едва различимые пределы, омываемые зыбью времени. Мы бороздим поля притяжения. Прошлое и будущее сходятся на границах сталкивающихся грозовых облаков, и наши мертвые сердца живут среди молний в ранах наших Богов».
К 80-летию писателя вышла книга его публицистических размышлений и интервью, посвященных «горячей» истории США — «Почему мы воюем», его третья книга о войнах его страны: Второй мировой, вьетнамской и иракской. Было давно известно, что Мейлер работает над большим романом, тему которого держит в тайне. Критики гадали о том, какие же козыри пустит в ход этот искусный маг. И вот весной 2007 года вышел первый за последние десять лет роман Нормана Мейлера «Замок в лесу», вновь вызвавший бурную реакцию на страницах американских газет. Роман о юности Гитлера. Издательство «Амфора» собирается познакомить русского читателя с инфернальными героями нового романа писателя, принадлежащими гораздо более близкой нам истории, с иным, чем в «Вечерах в древности», стилистическим пластом творчества этого замечательного автора.
Т. Ротенберг
Примечания
1
Н. Мейлер использует разные географические названия: др. греч., араб, и др. егип., что отражает наличие подобного смешения в египтологии.
Мемфис др. греч. — др. егип. Мен-нефер или Анх-тауи (прекрасная стена, жизнь обеих Земель). Др. г. на Зап. берегу Нила. Первонач. название «Белые стены», по имени крепости на границе Верх, и Ниж. Египта, возле которой он был заложен. В период Др. царства (XXVIII–XXIII вв. до н. э.) стал царской резиденцией, главным религиозным и культурным центром.
(обратно)2
Фивы др. греч. — др. егип. Уасет. В сер. ХХII-ХХ вв. до н. э., объединив под своей властью весь Египет, Фивы становятся столицей и остаются ею в эпоху Среднего и Нового царств, хотя некоторые фараоны избирали своим местопребыванием другие города. Гомер в «Иллиаде» воспел богатство «стовратых Фив».
(обратно)3
Рамсес IX (1125–1107 гг. дон. э.) Рамсес, Неферкара, Сетепенра.
(обратно)4
Рамсес II (1279–1213 гг. до н. э.) Рамсес, Усермаатра, Сетепенра, Осиамандис — др. греч. транслитерация одного из тронных имен.
(обратно)5
Канопы — Н. Мейлер опирался в основном на работы классика египтологии Э. А. Уоллеса Баджа (1857–1934), кот., в свою очередь, кроме известных в его время др. егип. источников, использовал работы др. греч. историков. Будучи художественным произведением, роман «Вечера в древности», естественно, не может рассматриваться как научная работа по истории или мифологии Др. Египта. Да и сама версия классической египтологии древнейшей истории этой части мировой цивилизации сегодня подвергается сомнениям, как пересматривается и ряд толкований «Книги мертвых». Так, по совр. данным, содержимое сосудов Хора было следующим: в канопе Хепи лежали легкие, сосуд Дуамутефа вмещал желудок, Имеет владел печенью, а сокол Кебехсенуф — кишками и желчным пузырем. Сердце бальзамировали отдельно и вкладывали в мумию.
(обратно)6
Кемет одно из др. наз. Египта: черный, темный (цвет ила — плодородный). Само др. греч. слово «Египет» означает «загадка, тайна», поскольку во времена Др. Греции, как, впрочем, и сегодня, все, что связано с Др. Египтом, окутано тайной.
(обратно)7
Число составляющих бальзамической смеси, по Баджу, соответствовало тридцати шести ипостасям Осириса.
(обратно)8
Резец использовался в церемонии «отверзания уст и очей» во время мумификации умершего.
(обратно)9
Библ др. г. в Финикии.
(обратно)10
Буто др. г. в Ниж. Египте, «дом» Уаджет, богини-кобры, защитницы фараонов. Она охраняла Египет на севере, тогда как другая богиня — коршун Нехбет, охраняла страну на юге.
(обратно)11
Бубастис др. греч. от имени г. в дельте Нила, где почиталась богиня Бастет в образе кошки.
(обратно)12
Бусирис др. греч. (др. Тапосирис Магна).
(обратно)13
Баламун араб. — др. егип. г. Бехдет в дельте Нила
(обратно)14
Атрибис др. греч. — др. егип. г. Хут-хери-иб
(обратно)15
Он так в библейской традиции назван др. егип. г. Иуну, где почиталось солнечное божество Ра. Поэтому др. греки называли его Гелиополем.
(обратно)16
Фаюм оазис в Сред. Египте, в Зап. пустыне, др. егип. Шереси, где почитался бог Себек, отсюда др. греч. Крокодилополис.
(обратно)17
Саути г. в Сред. Египте — др. греч. Ликополис.
(обратно)18
Абидос др. греч. искажение др. егип. наз. г. Абджу в Верх. Египте, место почитания Осириса.
(обратно)19
Дендера г. в Верх. Египте, др. егип. Иунет или Танторе — др. греч. Тентирис, где почиталась богиня Хатхор.
(обратно)20
Элефантина остров и город — др. греч. — др. егип. Абу, центр почитания бога Хнума.
(обратно)21
поединок медведей в конце романа. Мененхетет говорит правнуку, что рассказал ему историю египетских богов так, как излагают ее римляне.
(обратно)22
папирус растение, которое отвращает крокодилов согласно др. егип. мифологии, по Баджу, Исида, разыскивая Осириса, путешествовала по Нилу в лодке из папируса, и крокодилы из уважения к Исиде (страха перед ней), старались избегать папирус.
(обратно)23
Арвад др. г. в Сев. Финикии, в союзе с хеттами воевал с Др. Египтом.
(обратно)24
Медес (Мидия) 727–550 гг. до н. э. союз племен на севере Ирана. Эти территории были завоеваны и присоединены персами.
(обратно)25
ушебти (гиабти) «ответчики» небольшие каменные, деревянные или фаянсовые (голубые и зеленые) погребальные статуэтки в виде мумии, снабженные магической формулой и именем покойного. В гробницах богатых египтян, особенно фараонов, ставились особые ящики в форме саркофага Осириса с сотнями таких фигурок.
(обратно)26
шардана один из народов Эгейского мира («народов моря»).
При Рамсесе II шарданы служили наемниками в его войсках, позже объединились с ливийцами и вели длительные войны с Др. Египтом.
(обратно)27
Кадеш г. в Сирии. Известен по др. егип. и клинописным источникам с XVI в. до н. э. В XV в. до н. э. захвачен хеттами. битва при Кадеше 1275/74 г. до н. э. Точная дата дискутируется.
(обратно)28
титул фараона «два дома» символизирует единство Верх. и Ниж. Египта.
(обратно)29
на протяжении тысячелетий истории Др. Египта наз. стран, как было с Кушем и Нубией, менялись, при этом их границы редко полностью совпадали, поэтому в тексте присутствуют оба названия.
(обратно)30
Харга оазис в Зап. пустыне.
(обратно)31
Элам др. государство в Междуречье, в юго-зап. части Иранского нагорья (III тыс. — сер. VI в. до н. э.).
(обратно)32
Пунт реже — Вават — др. егип. наз. страны в Вост. Африке, которую др. егип. наз. «землей Богов». Из Пунта вывозили благовония, в частности мирру, слоновую кость, черное дерево, золото, редких животных, рабов и др. товары. По поводу точного местоположения Пунта ведутся дискуссии.
(обратно)33
Карнак др. егип. Ипет-сут в Вост. Фивах. В Др. Египте один из самых почитаемых храмовых комплексов. Здесь, в Главном храме Амона проходили коронации фараонов и юбилеи их правления.
комплекс из двух храмов, посвященных Рамсесу II и его царице Нефертари. Вырезанные в скале на территории Нубии, неподалеку от границы с Египтом для устрашения воинственного соседа, они должны были увековечить память о победе Рамсеса II в битве при Кадете (др. егип. Меха, араб. Абу-Симбел).
(обратно)34
Западный берег Нила в Фивах, Западные Фивы огромный погребальный комплекс, где хоронили фараонов, их жен и знать, сооружали заупокойные храмы. Этот Некрополь обслуживали целые армии трудового населения, жившего в близлежащих деревнях. Много столетий спустя далекие потомки жителей Западного берега Нила стали торговцами древностями — ведь древние гробницы оказались буквально под их домами.
(обратно)35
хетты назв. «Хетты» относилось к племенам хатти, «протохетты», жившим в излучине р. Галлис (совр. Кызыл-Ирмак). В сер. II тыс. до н. а это имя нач. применяться к населению Хеттского царства. Сущ. полит. роль обрело Новое хет. царство (вт. пол. XV-нач. XII вв. до н. э.), кот. поставило в зависимость Митанни и Сирию, воевало с Египтом. Угроза со стороны Ассирии заставила хеттов заключить мирный договор с Рамсесом II (1296 г. до н. а). Хет. царство, как позже и Египет, было завоевано «народами моря».
(обратно)36
Хатшепсут (1525–1503 гг. до н. э.) Дочь Тутмоса I, сводная сестра и жена Тутмоса II. Мачеха Тутмоса III. После смерти мужа провозгласила себя фараоном. Ее прекрасный заупокойный храм располагался на Зап. берегу Нила в Фивах (араб. Дейр-эль-Бахри, совр. Луксор).
(обратно)37
Асуан совр. г. на Ниле — др. греч. Сиене — библ. Асван — др. егип. Свенет.
(обратно)38
Пи-Рамсес (ранее) Джаанет, г. в сев. — вост. дельте Нила с храмами фиванской триады: Амона, Мут и Хонсу — др. греч. Танис.
(обратно)39
Газа др. г. в Ханаане.
(обратно)40
Мегиддо др. г. — крепость в Палестине на пересечении торговых путей Перед. Азии.
(обратно)41
Финикия др. страна на вост. поб. Средиземного моря, у подножия Ливанских гор. Со II тыс. но XIII в. до н. э. находилась под господством Египта. Наиболее значит, событие ее истории — колонизация Центр, и Зап. Средиземноморья в кон. II-нач. I тыс. до н. э.
(обратно)42
Илион (Троя), Педасос др. греч. города.
Каркемиш, Алеппо др. города в Сирии, захваченные хеттами.
(обратно)43
Дамаск в Сирии, один из древнейших г., упоминается в Библии.
(обратно)44
Йоппа др. егип. библ. — Яфо, др. греч. — Иоппия, совр. — Яффа.
В др. егип. фольклоре отражена история захвата Тутмосом III в XV в. до н. э. этого самого южн. финикийского гор. — порта, много позже перекочевавшая в сборник «Тысяча и одна ночь». Рамсес II построил в Йоппе форт.
(обратно)45
Зефти др. г. в Ханаане.
(обратно)46
Таанак др. г. в Ханаане.
(обратно)47
Халдея земля народа калду на юге Вавилонии, др. греч. — халдеи
(обратно)48
Урарту библ. «царство Арарат» в Передней Азии.
(обратно)49
Питом библ. г. в дельте Нила — др. егип. Пи-Атум.
(обратно)50
Др. египтянам была хорошо известна игра слов. Заменяя слово близким по звучанию или написанию, они достигали многозначности смыслового толкования, что особенно характерно для религиозных текстов. Этот прием использует автор, однако в романе — это талантливая стилизация.
(обратно)51
Ашкелон др. гавань, столица Филистеи в Ханаане, позже — др. греч. крепость, г. — полис — др. егип. Искелуни.
Филистимляне — один из «народов моря», захвативший часть Ханаана, — нападали на Египет.
(обратно)52
Табор гора и крепость на ней в Ханаане.
(обратно)53
Галилея область в Ханаане.
(обратно)54
Речену библ. г. в Ханаане — др. егип. Речену — назв. Сирии и Палестины.
(обратно)55
Кусия др. греч., г. в Сред. Египте — др. егип. Ух.
(обратно)56
Митанни др. страна в Верх. Месопотамии (XVI–XIII вв. до н. э.).
(обратно)57
Хаммурапи царь Вавилонии (1792–1750 гг. до н. э.).
Свод законов Вавилонии (ок. 1760 г. до н. э.) — важнейший памятник др. — вост. права.
(обратно)58
Саргон Аккадский (2334–2279 гг. до н. э.) создатель обширной державы в Месопотамии.
(обратно)59
Священной считалась прежде всего «Книга мертвых».
(обратно)60
Нехен древнейшая столица Верх. Египта — др. греч. Иерахон-полис.
(обратно)61
Омбос др. греч. — др. егип. г. Нубт.
(обратно)62
акация в Др. Египте священное дерево.
(обратно)63
Дохла оазисы в Зап. пустыне.
(обратно)64
Мареотис др. греч. — др. егип. Мариут, озеро в дельте Нила и район вокруг него, завоеван, фараоном Нармером (около III тыс. до н. э.). Вино из Мареотиса вывозили в Др. Грецию и Рим, его воспевали поэты Катулл, Вергилий и Гораций, им восхищались римские историки Страбон и Плиний Старший.
(обратно)65
Пелусий др. греч. — др. егип. Суни. Г.-крепость в дельте Нила (около III тыс. до н. э.), кот. не смогли взять ассирийцы; два века спустя, одержав здесь нелегкую победу, Египет завоевали персы. В 333 г. до н. э., П. открыл ворота «освободителю» — Александру Македонскому. Близ П. потерпела поражение армия поел. егип. царицы из династии Птолемеев — знаменитой Клеопатры (Клеопатры VII). П. славился винами, фруктами, овощами и тканями.
(обратно)

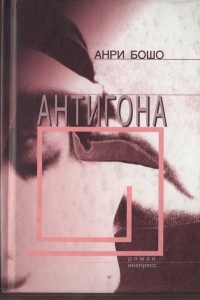
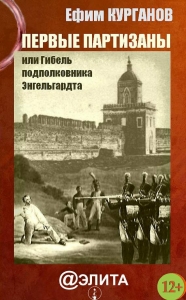

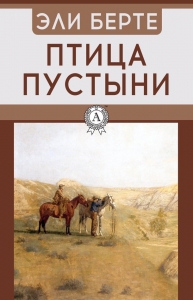
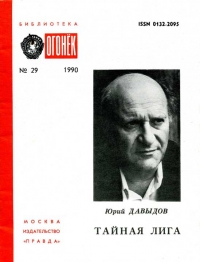

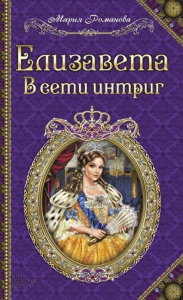

Комментарии к книге «Вечера в древности», Норман Мейлер
Всего 0 комментариев