Валентин Пикуль Царица престрашного зраку
Летопись первая Государева невеста
Мощно, велико ты было, столетие! Дух веков прежних
Пал пред твоим алтарем ниц и безмолвен, дивясь.
Но твоих сил недостало к изгнанию всех духов ада,
Брызжущих пламенный яд чрез многотысящный век.
А. Н. Радищев. Осьмнадцатое столетиеНикто не уповай на веки,
На тщетну власть князей земных:
Их те ж родили человеки,
И нет спасения от них…
Михайла Ломоносов. Псалом № 145Глава первая
По самому краю гиблого света течет стылая Сосьва-река. А куда течет – неведомо, и там, за рекой, пусто, только зверь пушистый сигает. Вот на этом-то берегу, распевая псалмы и богохульствуя, одинокий старик с полудня копал могилу.
Ненастно было…
– Ай-ай, дел наделал – всего и не упомнишь!
Зато и был он князь двух империй (Российской и Римской), генералиссимус и ордена Андрея Первозванного кавалер. Сердечный друг, «мин херц Данилыч», его высокое сиятельство Алексашка Меншиков – на краю света, в армяке мужичьем, бородатый и страшный, и вот… видит бог: копает могилу!
Для дочери. Для Марьюшки. Для царевой невесты.
– И вознесо-ох избранна-аго-о, – пропел Меншиков сипло.
А в могиле было ему даже хорошо: не обдувал ветер, что забегает с тундры, не виднелись из ямы постылые крыши Березова-городка. Только чистые облаци над головой старика – плывут и плывут в незнаемое.
Под вечер вернулся Данилыч к себе в домишко, что срубил саморучно (бревна-то в два венца клал, окошки-то в кругляк вывел – на зависть одичалым березовцам). Семейство опального князя, выплакивая глаза, сумерничало в нетопленых горницах. Всего двое и остались: сын его Санька да девка малая – тоже Александра. Супругу-то свою, Дарью Михайловну, еще под Казанью навеки оставил – на самом берегу Волги зарыл ее, когда в ссылку обозом тянулись.
– Будет вам! – цыкнул Меншиков на детей. – Пряники-то писаны на Москве остались. И скулить – неча… Мой грех вижу в том, что не отведали вы ранее горбушки серенькой.
Раздул лучину – прошел к покойнице. В кедровом гробу, обитом сукном изнутри, покоилась царская невеста – княжна Марья. А жития ей было осьмнадцать лет. И хвори она никакой не знала – просто тоска приключилась. «В Москву, – плакала перед смертью, – в Москву бы мне…» Торчал теперь из кружев остренький носик, а губы раскрылись в смерти – губы, царем недавно целованные.
Меншиков подул на замерзшие пальцы, долго и неумело вдевал серьги в занемевшие мочки покойницы. Вдел кое-как, и затрясся в рыданиях гордый подбородок:
– Эх, Марьюшка… быть бы тебе императрицей! Почто не отдал я тебя за Сапегу? Жила бы в Польше… Внука бы мне… внука!
После погребения не мог Данилыч отойти от дочерней могилы. Все на другой берег Сосьвы посматривал. А там синел корчеватый лес да стелились вдали тобольские тундры – края постылые, жуткие, безлюдные… И сказал сыну и дочке с лаской:
– Детушки, вы домой ступайте. Не то озябнете, чай!
А сам примерился глазом, сразу помолодевшим. Лопатой отсек добрую сажень и торопко начал копать другую могилу. Рядом с дочерней – только пошире, только поглубже… Страшно стало, и в рев ударились княжата:
– Тятенька, тятенька! Не пужайте нас, миленькой… На што вторую-то грабстаете? Ой, горе нам, сирым Меншиковым…
Данилыч знай копал – быстро и сноровко.
– Не вам, не вам, – ответил. – А имени несчастному моему!
И вскорости правда слег. Сначала интерес к еде потерял. Пил только воду с брусникой.
Лежа на полатях под шубами, начитывал Данилыч мемуар свой, а княжата записывали. Память не изменяла временщику: баталии да кумпанства, виктории громкие да ретирады стыдные – все он помнил… Все! А однажды поманил к себе сына поближе:
– Глуп ты, чадушко, но смекни. Деньги-то мои при банках надежных лежат – в Лондоне и Амстердаме. Смотри же, Санька: как бы тебе на дыбе из-за них не болтаться…
Юный князь вяло шевельнул бесцветными губами:
– Сколько ж там у нас, тятенька?
– Да миллионов с десять, почитай, набежит… Велик грех!
Тоненько и горестно заплакала дочка:
– Ой, лишенько! Оскома от клюкв и брусник здешних, вишенок бы мне московских из садика… Желаю я на Москве показаться!
Вспомнил тут Данилыч, как отказал жениху ее, принцу Ангальт-Дассаускому, потому как мать его была аптекарской дочкой.
– Терпи, – сказал. – Да за казака ступай здешнего. Что прынц, что казак – едина доля тебя ждет, бабья…
В конце короткой тобольской осени, когда метельные «хивуса» залепили снегом окошки, почуял Меншиков смерть и выпростал из-под вороха шуб свою жилистую руку.
– Вот она… пришла, стало быть, за мною! Ну, так ладно.
Велел камзол нести да брить себя. Без бороды, принаряженный, стал он тем, каким его ранее знали. Даже глаз с искрой сделался – будто в знатные годы. Губы, всегда скупые, размякли, добрея.
И все замечал с одра смертного. Эвон паутинка в уголке ткется, у лампадки фитилек гаснет, мышонок корочку в нору себе прячет. Вот и мышонок сей жить останется. Березовская мышь – не московская: что она знает-то? «А я, князь светлейший, помираю вдали от славы и палат белокаменных… Обида-то какая! – содрогнулся всем телом. – Мыши – и той завидую…»
– Прощайте все, – произнес внятно.
Над ним склонился сын – в грудь отца вслушался:
– Поплачь, сестричка: изволили опочить во веки веков наши любезныя тятеньки, Александры Данилычи…
Но глаз временщика открылся снова – круглый.
– Еще нет, – сказал Меншиков. – За мной слово остатнее. Не раз, детушки, помянете вы дни опальные, яко блаженные! И завещаю вам волю отцовскую: подале от двора царева живите. Не совладать вам… Вот и все. А теперь – плачьте!
Матвей Баженов, мещанин Тобольской губернии, хоронил грозного временщика… В мерзлую землю, посреди голубого льда, поставили тяжелую гробовину и засыпали землей пополам со снегом. Великие сибирские реки, во едину ночь морозами смиренные, уже звонко застыли: открылся до Москвы путь санный – тысячеверстный.
* * *
Долго едет казак на заиндевелой лошадке. Гремят в котелке мерзлые куски щей, наваренных бабою на дорожку, да стукаются в мешке вкусные пельмени. У редких станков ямских пьет казак горючую водку. Корявым пальцем достает из лошадиных ноздрей острые сосульки. Коль не вынешь их – кобыла падет, а казак пропадет.
Больше месяца ехал служивый по сверкающему безлюдью снегов. Но вот потянуло дымком над долиною Иртыша: Тобольск – пупок всей Сибири, город важнецкий, при губернаторе и чиновном люде. За щекой у казака пригрелся серебряный рубль. Ух, и загуляет же казак на раздолье кабаков тобольских, вдали от жены и урядника!
Но допрежь вина – дело. В сенях канцелярии казак сбросил гремящую от мороза доху, ружьецо курком к стенке прислонил и достал пакет из-за теплой пазухи.
– Эй, люди! – объявил казак. – Дело за мной государево да спешное. Во Березове-городке на Аксинью-подзимницу скончал живот свой поругатель царя и отечества бывший князь Меншиков, персона известная… На чью руку мне депеш о том скласть?
А до Москвы от Тобольска еще более двух тысяч верст. Медленно движется обоз из Сибири: посылают соболей да серебро в казну царскую – ненасытную; везут кяхтинскую камку да черный чай, зашитый в кожаные «шири». Под полстью храпит в возке крытом пьянственный поручик (командир обозный). Иной час протрезвеет и гаркнет в лютую морозную ночь:
– Эй, наррроды дикие! Водки бы мне… Хо-адно. Грустно.
Москва же это время жила сумбурно и лиходейно, во хмелю, в реве охотничьих рогов, в драках да плясках. «Эй-эй, пади!» – И по кривым улицам пронесется, давя ползунов-нищих, дерзкий всадник на запаренной лошади. Бок о бок с ним проскачет князь Иван Долгорукий, а за ними гуртом дружным (с белыми соколами, что вцепились когтями в перчатки) промчатся с гиком да свистом доезжачие, кречетники, псари, клобушечники…
И падет народ по обочинам: то сам царь – его величество Петр Вторый, внучек Петра Первого да Великого. От плоти царевича Алексея, что казнен был гневливым батюшкой, урожденный. А в Воскресенском монастыре, средь кликуш и юродивых, еще доживала свой век его бабка – царица Евдокия Лопухина.
Год 1729-й – год на Руси памятный: канун раздоров, крамол боярских и разливов крови российской…
Ждите, люди, беды народной – беды отечественной!
* * *
Времечко-то ненадежное – без ласки к людям, без приветности душевной. Вот и воронья на Москве стало много. Старые люди крестились походя: «К беде, стал быть, коли каркают». Ивашке Козлятину, что у Ильи-пророка на Теплых Рядах дьяконствовал, опять виденьице было: будто бы покойный царь Петр Лексеич из гроба восстал, а от дыхания его так и пышет. Ивашка в приказе Преображенском пытан был и на огне ленивом, плетьми дран, показал допытчикам: мол, так оно и было… восстал и пышет!
Приказ Преображенский тот вскоре уничтожили, и притихло бы вроде все: ни тебе «слова», ни «дела». Только у рогаток замшелые дониконианцы на люд прохожий двумя перстами грозились. О Страшном суде покрикивали сердито: «Нонешний Синод – престол антихристов, скоро вера сыщется, и будет людям жить добро, да не долго!» А в кружалах и фартинах царских грамотеи книжные шепотком подметные письма читали. В них о райской землице сказано было. Есть, мол, такая за Хвалынь-морем, идти до нее надобно сорок дён, не оборачиваясь. А коли обернулся, милок, то и пропал…
Крестьянство пребывало на Руси в великом оскудении: войны Петра I прошлись податями по мужицким хлевам да сусекам. Повыбили скотинку, повымели мучицу. Армия тоже притомилась в походах. Изранилась, поизносилась. Люди воинские от семей отбились – блудными девами пробавлялись. А на базарах дрались, воровали и клянчили калеки – обезноженные, обезрученные, стенами крепостными при штурмах давленные, порохом паленные… Всякие!
Дорого дались России победы азовские, на лукоморьях Гиляни каспийской да в землях Свейских – полуночных. Теперь офицерство промеж себя толковало так-то:
– Ныне малость и отдохнем! Государь пока младехонек, войны не учнет. Лисичку где на охоте пымает – и рад! Да и Верховный совет тайный, слава те господи, к миру склонен…
А напившись тройной перцовой (которая горит – свечку поднеси), рвали на себе мундиры жиденького суконца, рубили шпагами по тарелкам, плакались горько и себя жалели:
– Мало, што ли, погибло да потопло нашего корени – дворянского? На што нам Питерсбурх да галеры мокрые? Не нанимались в каторгу, чтобы грести по морю веслами… Виват шляхетство!
И правда, Петр II от моря Балтийского отъехал подалее. Как явился в Москву на коронацию, так и остался в покоях дворца Лефортовского, на слободе Немецкой; в уши ему дудели бояре:
– Вот, осударь, Москва-матушка – куды-ы там до нее Питеру, что на болотах ставлен. Тамо-тко и дух гнилой, чухонский. И дичи той нету, а у нас – эвон: из окна стебай лебедя любого – еще десять летит к тебе, чтобы вашему величеству угодить…
Царь-отрок на Москве прижился и закапризничал:
– Что это умники, словно гуси лапчатые, о водах Балтийских пекутся? Не хочу плавать флотски, как дедушка! Велите на площадях указ мой под барабан бить: чтобы под страхом наказанья свирепого не болтать никому – вернусь в Питерсбурх или нет! Мое то дело, государево: где желаю, там и живу…
Кляня русские порядки и бездорожье, кутаясь в меха и одеяла, иноземные посольства тоже потянулись в Москву. Поближе к интригам двора, к теплым печам московского боярства, к варварской музыке бестолковых куртагов, к широкоплечим русским красавицам.
Петербург опустел. Замело сугробами едва намеченные першпективы. От Невского монастыря да с чухонской Охты забегали прямо в «парадиз» волки и выедали из будок сторожевых собачек. Иногда рвали в клочья и запоздалого путника. Флот получил из Москвы грозный приказ: «Далеко не плавать!»
В один из дней москвичи проснулись от грохота. По кривым проулкам, дребезжа станками, тянулся громыхающий обоз. Это переехал в Москву и Монетный двор. Где власть – там и деньги. А следом за станками ехали великие возы с великими бочками. Везли в этих бочках не рыбу – везли архивы Двенадцати коллегий. Без бумаг, как и без денег, не стало житья русскому человеку.
* * *
Петру II было тогда всего четырнадцать лет. Дядькою при нем состоял князь Алексей Григорьевич Долгорукий, а воспитание царя-отрока было поручено вице-канцлеру – барону Андрею Ивановичу Остерману, который иногда прокрадывался в двери императора.
– Ваше величество, не пора ли нам занятия продолжить?
Но барона силком выталкивал прочь дядька царя.
– Ступай с богом, Андрей Иваныч, – говорил Долгорукий. – Кака там учеба? Каки еще занятия? Вчера только пороша выпала… Собаки с вечера кормлены… по первопутку волка травить едем!
Глава вторая
И по ночам в честные домы вскакивал гость – досадный и страшный…
Князь Мих. ЩербатовСпит Москва боярская, развалясь дворами в темноте сугробов, в тупиках переулков, что бегут от Мясницкой вдоль Тверской-Ямской – аж к лукавому на кулички. Одинокой искрой светится окошко на самом верху Сухаревой башни. Редко проползет в тени заборов хожалый, да хорошо (мертвецки!) спится пьяницам, которых утречком божедомы соберут в одну братнюю могилу – без родства, без племени. И крест водрузят упившимся – един крест на всю братию!..
От рогатки вдруг заголосил страж города:
– Кто едет? Не худой ли человек? А то – вертай вспять…
На сытых лошадях под золотыми попонами ехали от заставы трое в масках, словно разбойники. «Эть!» – сказал один и кистенем вмах уложил стража в сугроб, отлетела в сторону алебарда…
– Куды далее? – спросил другой, постарше да в седле поусядистее. – Сказывают, будто у Салтыковых девки хороши больно.
– Запирают их, – отвечал третий. – Да и собаки злые…
Кистенями взмахивая, ехали далее. Фыркали лошади.
– Чей дом сей? – спросил всадник, самый юный и верткий.
– Апраксиных, кажись…
– Ломай! Тута девки живут, нами еще не мятые…
Старший грузно обрушил забор. Самый юный – худой и тонкий, с голосом петушка – приказывал, а двое покорно его слушались. Взвизгнула отбитая ставня. Тишком влезли через окно в девичью. Старший двери сторожил, а молодые пошли мять девок…
Снаружи – на крик! – ломилась уже хозяйская дворня. Ворвался народ с дубьем и плетками. Впереди всех (лютый, в слезах) наскакивал хозяин, граф Апраксин:
– Бей, убивай разбойников… Я в ответе! Огня, огня…
Вздули огонь, и Апраксин, раскорячив босые пятки, вдруг начал стелиться по полу. Так и пластался, словно раздавленная жаба. И светилось лицо вельможи умильной радостью:
– Ваше величество, почто через окошко жалуете? Завсегда и с параду принять рады… Ай и молодечество, государь! Вот и выпала благость нашему дому-то…
Разом упало дубье, вмиг опустились плети. Скинув маску, стоял юный отрок – император. Друг его, князь Иван Долгорукий, штаны подтягивал, а возле дверей ухмылки строил егермейстер Селиванов.
Таились от людей и от света девки – порушенные…
– Брысь, подлые! – шипнул на них Апраксин. – Вы, дуры, еще благодарить бога должны… Честь-то! Честь-то кака!
И просил гостей нежданных откушать чем бог послал. Прошел царь с любимцами своими к столу. Наливки разные пробовали. Юный царь вина не любил.
– Чу, – сказал он, – тихо… Музыка-то откуда идет?
Притихли за столом. А из глубин дома всплакнула флейта. Повела осторожно. Так и тянуло на нее, словно в сон, и спросил князь Долгорукий хозяина:
– Уж не у тебя ли играют, граф?
– Ей-ей, – заерзал старый вельможа, хитря. – Ума не приложу. Видать, гостьюшки дорогие, это из дому Салтыковых слыхать…
Но царь встал, на потолки указывая:
– Не ври! Вот тут… веди в покои верхние!
Апраксин снова пластался перед царем:
– Ваше величество, смилуйтесь… Женишка моя, старуха… А человек ейный – на што он вам, молодцам экиим?
– Сказывай – где? – прикрикнул император…
Упали засовы с дверей. Потаенные. Коптила свеча. Прикованный длинной цепью, сидел на полу белобрысый малый в бархатном кафтане. И держал перед собой флейту – нежную, сладкоголосую.
– Ты кто? – спросил царь узника. – Музыкант?
– Нет, – отвечал парень, бренча цепью. – Я есть куафер графини Апраксиной… Землепашец провинции Нарвской, зовут же меня: – Иоганн Эйхлер… А что играю – так скушно мне!
Ванька Долгорукий цепь поднял с пола.
– Тяжела, – сказал. – А за што ты в железах сиживаешь?
– Сижу на цепи, потому как ведаю женский секрет своей госпожи, и боится она, как бы не выдал я!
– Каков секрет? Говори прямо… Я – царь твой!
– Парик ей делаю, – ответил Эйхлер, низко кланяясь.
– Давно ль прикован ты?
– Пятый уж годочек пошел, как света белого не вижу…
Царь взялся за цепь, и (длинная-длинная) она повела его из темницы. Змеей уходила цепь под двери спальни графини. Хмельная компания вслед за Петром гуртом вломилась в опочивальню: озорник Долгорукий откинул пуховые одеяла: жмурясь от света яркого, старуха Апраксина сослепу тыкалась в подушки, а голова у нее была – гладкая, как колено…
– Отомкни цепь, – велел Долгорукий хозяину. – Бабьи секреты не в нашу честь. Мы люди веселые, охотные, а до старух нам дела нету. Прощай, граф! Да отвори конюшни свои – нам лошадь нужна…
Со двора Апраксиных отъехали уже четверо: позади всех жадно дышал ветром чухонец Иоганн Эйхлер; торчала из-под локтя его флейта – жалостливая…
На рассвете четыре всадника, пришпоривая усталых коней, тишком въехали в подмосковное имение Горенки.
* * *
Рассвет наплывал со стороны Москвы, сиренево сочился в берегах Пахры-реки, осенял застывшие в покое леса. За окнами старой усадьбы в Горенках вьюжило – мягко и неслышно. Господская домовина, поскрипывая дверьми, угарно дымилась печками спозаранок.
Алексей Григорьевич князь Долгорукий (гофмейстер и кавалер) с трудом перелез через супругу, что была поперек себя шире, и нехотя зевнул на иконы.
– Ишь ты, – жене буркнул. – Развалила бока-то… Вставай! Уже кафу варят, чую, быдто в Варшаве живем… О, хосподи!
Свечной огарок раскис за ночь, в опочивальне было мутно и едко. В одном исподнем князь юркнул в сени, с писком разлетелись перед боярином челядные девки.
– Я вам… Кыш-кыш! Глаза-то куда растопырили?
В соседней вотчине князей Голицыных (за рекою, в Пехро-Яковлевском) уже усердно названивали к заутрене. «Богомолы… умники!» – думалось Алексею Григорьевичу, который никого из Голицыных не жаловал: рознь ветхозаветная, еще от пращуров. Две древние фамилии (Долгорукие от Рюрика, Голицыны от Гедимина) исстари перед царями свары устраивали.
В дальних покоях князь Долгорукий приник к дверной щели. На широкой постели, в обнимку, словно братья, спали его сын Ванька с императором. Порхал над их головами огонек лампадки. Из лукошка под кроватью вылезли малые кутята, в теплых потемках трепали один другого за уши.
И сладостно обомлел Алексей Григорьевич: «Вот счастье-то! Сам государь-император с Ванькою моим дрыхнет… Мне бы честь эту!» – позавидовал отец сыну. Собрал князь одежонку царскую, что была второпях разбросана. Не поленился – и сыновью поднял. Низы кафтанов прощупал: полы мокрехоньки, видать, снова на Москву для тайных забав ездили. «Ну не дурень ли Ванька? Ему бы приваживать царя к фамилии нашей, а он… Пора уже, – решил князь. – Пора навечно приковать царя к дому нашему…»
С такими мыслями вернулся в опочивальню.
– Ваньку-то, – сказал князь жене, – драть бы надобно по старой науке – вожжами…
– Попробуй выдери, – усмехнулась княгиня. – Сынок-то наш обер-камергер. Да чином по гвардии выше тебя залетел, батька.
– Вроде и так, мать, – согласился князь Алексей. – Да шалить стали много, жалобы слыхать на Москве… Собак вот покормим еще с денек и на охоту снова отъедем. Надобно нам государя оттянуть подале от забав и соблазнов московских.
Прасковья Юрьевна враз поскучнела:
– О дочерях-то подумал ли? Девки наши, словно доезжачие панские, по лесам и берлогам так и ширяют. Никакого политесу не стало. Личики на ветру обсохли, воланы закрутить некогда, бедным.
– Оно и ладно, – ответил князь, о своем размышляя.
– Кому ладно-то? – наседала княгиня. – Три дщерицы на выданье, а на Москве показаться не могут: будто леший худой по охотам их таскает… Всех женихов растеряем мы за отбытием нашим!
Алексей Григорьевич мигнул с опаской:
– А его величество… чем не жених нашей Катьке?
– Эва! – заплескала княгиня руками полными. – Болтаешь ты, батька родный, попусту. Проморгал ты, светик: Катеньку нашу граф Миллезимо из послов цесарских давно выглядывает. И домок себе за Яузой снял, чтобы к Лефортову быть поблизости…
– Дипломату сему, – посулил князь, – перешибу ноги палкой. Вот и пущай до Вены своей на костылях пляшет!
– Уймись, батька мой ненаглядный, – укоряла его княгиня с нежностью. – Ни свет, ни заря, не пимши, не емши, а ты уже и вожжи и палку помянул… Миллезимо-то – чай, видывал? – кавалерчик сахарный. Умен – страсть как! Катенька сама глаз на него вострит…
– А ты, дура генеральная, что дуре Катьке потакаешь!
– Так какого же тебе еще жениха надобно?
– Через ручей за водой к реке не ходят, – отвечал ей муж. – На што Катьке кавалер сахарный, коли в светелке у нас сам император врастяжку спит… Смекнула?
Прасковья Юрьевна затряслась двойным подбородком:
– Будет залетать-то тебе! Не ты ли помогал Меншикова сожрать с его невестушкой? То-то, гляди, князь-душа: на каждого волка в лесу по ловушке… Попадешься и ты на зуб к Остерману!
– Я-то? – загордился Алексей Григорьевич. – Да моего Ваньку от царя никакой Остерман не отклеит. Вся гвардия – вот здесь, под рукой у меня! Любого раздавлю – только сок брызнет…
Долгорукий накинул кафтан с пуховым подстегом, вынул кружева из манжет – широкие, ясновельможные, из польских земель вывезенные. И приник к испуганному лицу жены своей:
– Ведомо тебе буди, княгинюшка, что дому Романовых не привыкать к нашей фамилии! Вспомни-ка – кто была жена царя Михайлы Федоровича? – Долгорукая… То-то! Уразумела теперь?
Прасковья Юрьевна так и бухнулась перед иконами:
– Господи! Простишь ли князя моего в гордыне великой? Вознесся он… во грехах своих и алчности вознесся!
* * *
За окном просветлело солнечно, от старой Владимирской дороги, обсаженной вязами, запели по морозцу мужицкие дроги, и коронованный отрок проснулся.
– Вань… а Вань, – стал он тормошить Ивана Алексеевича. – Князинька, друг сердешный… Да когда же ты откроешь гляделки свои? Что делать сегодня станем?
Долгорукий разлепил глаза, провел ладошкой по большим красным губам. Лоб его был бледен и чист – без морщинки.
– Что делать сей день? – спросил, потягиваясь. – Надо бы вашему величеству иной раз о заботах государства своего потужить!
– Что ты, друг мой, – поскучнел царь. – Умней барона Остермана не будешь. Да и члены совета Верховного даром, што ли, хлеб свой едят? Вот и пусть об России беспокойство имеют… А мне испанский дука де Лириа обещался мулов подарить, да не везут все мулов. Боюсь я – не обманет ли меня дука испанский?
– Мадрид далече, – отвечал князь Иван. – А моря бурные. Один корабль дука напротив Ревеля разбило. Дука без денег, долги вокруг кошеляет. Мы с дукой в приятелях, он мне тоже андалузских лошадей обещал, да корабли ныне редко приходят…
Долгорукий подавал царю одежды, но обувать его не стал:
– Сами, ваше величество… Чай, не маленькие!
Царю было лень с пряжками возиться, он башмаки отшвырнул.
– Ладно, – сказал. – И в валенцах хорошо побегаю сегодня.
– Фриштыкать чем будете? – спросил его куртизан.
– А совсем не буду севодни… Не хочется! Вчера объелся!
– И не надо, коли так. Еще живее обед проглотим…
Петр радостно запрыгнул на подоконник:
– Хорошо как здесь… Милы мне Горенки ваши!
Князь Иван раскрыл скляницу, достал горстку перьев.
– Ваше величество, – сказал учтиво, – но и в Горенках делами обеспокою… Кой месяц уже бумаги важные по лесам блуждают!
– Ой, Иван Алексеич, неужто ты меня за стол приневолишь?
– Коли вы меня, государь, и вправду любите, то… садитесь. Бумагам важным, министрами уже одобренным, апробации учинить от вас надобно. И меня пожалейте: люди придворные, завистливые и без того клевещут, будто мы, Долгорукие, вас по охотам таскаем, от дел государственных вовсе избавили…
Ласковым таким манером залучил царя за бумаги. А сам встал за спиной его, подсказывая – быть или не быть по сему. Из-под пера, свирепо брызгаясь, выбегали пауки подписей: Петръ, Петръ, Петръ…
– К делу ярыжному не прилежу душою, – сказал царь, перо отбрасывая. – И горазд не люблю писать чернильно… Сбегаю-ка я лучше до псарен, а ты проставь подписы под руку мою. Сам знаешь!
И кубарем катился отрок-царь по лестницам – в хрусткие сугробы. Лес вдали, там олени и кабаны, – вот рай-то! Растирая щеки, хваченные морозцем, домчал император до псарни – особый дом, большой, вровень с усадебным (охота Долгоруких испокон веков славилась). А навстречу царю – егермейстер Селиванов, в ранге полковничьем, в мундире сукна зеленого, сам пьян и весел.
– Ай да государь! – орал еще издали. – Как раз овсы варим, собак чтобы потчевать… Не желаете ли, ваше величество, бурду собачью мешать в корыте?
Тысячная свора борзых и гончих встретила царя голодным лаем. Император сразу заспешил: кидал жаркие поленья в печи, веслом половника мешал в котлах густое собачье варево. А на длинных шестах, под потолками птичников, сидели в черных клобучках, словно монахи, соколы да кречеты. Рвали они когтями красное свежее мясо, и капли крови летели вниз – на людей челяди…
Вошел князь Алексей Григорьевич, присмотрелся к «апробациям» и не мог отличить руки царя от руки сыновьей.
– Перенял славно… ловок ты! – похвалил князь сына.
– Не осрамлюсь, батюшка, – отвечал ему Иван Алексеевич.
И тоже направился на псарню. Там, среди собак, они и обедали. Им было не привыкать! Иогашка Эйхлер обедал с псарями. А вечером был зван с флейтой наверх – к царю, где играл умилительно. После чего ужинал при князе Иване Долгоруком. Так он стал куртизаном при куртизане.
Глава третья
Верховный тайный совет вершил судьбы империи. Совещались министры в Оружейной палате Кремля, куда еще затемно пришли Василий Степанов (правитель дел) и Анисим Маслов (секретарь Совета). Людишки они так себе, мелкотравчатые, но зато близ высоких особ и сами в силу входили.
Раненько явился граф Рейнгольд Левенвольде (камергер и посол герцога Курляндского), красавец писаный, бабник ловкий. Вынул он из собольей муфты пакет, промолвил вкрадчиво:
– Ея светлость Анна Иоанновна, герцогиня Курляндии и Семигалии, изволят писать высоким господам министрам.
– Ежели ея светлость, – отвечал Маслов, – вновь о денежных дачах печется, так тому вряд ли бывать, ибо господа министры верховные в деньгах сами весьма озабочены.
Левенвольде кивнул, и две громадные серьги в ушах дипломата брызнули нестерпимым блеском. Пошевелил пальцами, и вновь засияло вокруг от множества бриллиантовых перстней.
– Курляндия, – произнес посол, – маленькая и бедная, а Россия большая и богатая… Ея светлость Анна Иоанновна немного и просит от щедрот русских… Червонцев сто – не более!
Стали собираться министры. Пришел, на трость опираясь, старый канцлер Гаврила Иванович Головкин, и сразу на икону письма холуйского полез – целовал Христа в тонкие пепельные губы. Явился следом приветливый Василий Лукич, князь Долгорукий, версальский баловень, иезуит тайный, пройдошистый. Притащился, вынув из ушей вату, вице-канцлер барон Андрей Иванович Остерман – человек иноземный – и вату отдал Степанову.
– Куды-нибудь брось ее, – сказал Остерман по-русски.
Показался старейший верховник князь Дмитрий Михайлович Голицын, и Анисим Маслов разоблачал князя от шуб, а старик Голицын, долгонос, быстроглаз, поцеловал Маслова в высокий лоб умника.
– Спасибо, сыне мой Анисим, – поблагодарил за услугу.
Позже всех прикатил из Горенок князь Алексей Долгорукий, и Верховный тайный совет начал работу…
– Как быть? – вопросил Степанов. – Герцогиня Курляндская из Митавы слезьми худо плачется: посол граф Левенвольде с петухами «петичку» принес: пособить просит – деньгами или припасами!
– Охо-хо, – завздыхал Дмитрий Голицын. – Где взять-то? Русь и без того поборами догола выщипана.
Остерман поглядывал на всех из-под зеленого козырька.
– Поелику, – сказал он, туману подпуская, – герцогиня Анна суть от корени царя Иоанна, а сестрицы ее Екатерина и Прасковья на Москве от нас удовольствие имеют, то и почитать сие нам убытка не обнаружится… Dixi! – закончил Остерман по-латыни.
– Чего, чего, чего? – очнулся от дремы канцлер Головкин.
Василий Лукич прыснул в кулак смешком ребячливым.
– Уж ты, ей-ей, прости меня, барон, – сказал он Остерману. – Но тебя разуметь трудно: дать на Митаву или не давать?
Остерман через козырек всех видел, а его глаз – никто.
– Оттого, князь Василий Лукич, не разумел ты меня, – заговорил он обиженно, – что язык-то российской не природен мне. Да и невнятен я ныне по болести своей – давней и причинной.
Князь Алексей Долгорукий показал свою ревность.
– А коли так, – зашпынял он Остермана, – коли языка нашего не ведаешь, так на кой ляд ты, барон, вызвался нашего царя русской грамоте обучать? Или тебе, вице-канцлеру, делать нечего?
Старый канцлер Головкин скандал учуял и сразу затрепетал.
– Дадим на Митаву или не дадим? – вопросил дельно.
И тогда поднялся князь Дмитрий Голицын, объявил властно:
– Герцогиня Курляндская от корени нашего. Верно! И пособить ей мы бы и рады. Но каждому ведомо, что на Бирена да прочую немецкую сволочь денег русских не напасешься. А посему полагаю тако: пока Бирен при герцогине, то и посылать на Митаву дачей наших не следует… Сорить легко, добывать трудно!
Великий канцлер империи показал на песочные часы.
– Анисим, – велел секретарю, – переверни-ка…
Маслов часы перевернул. Тихо заструился золотистый песок: полчаса – время на размышления. Но князь Дмитрий Голицын часы те взял и перетряхнул песок обратно. Был он горяч – сплеча рубил.
– Митавские слезницы, – выкрикнул злобно, – того не стоят, чтобы полчаса на них изводить. Лучше бы нам под песок этот, пока он попусту сеется, о нуждах крестьянских поразмыслить. О торговле внутренней! О сукна валении! Да и о прочем…
Рейнгольд Левенвольде через секретарей выслушал отказ.
– Странно! Мы же немного и просили от такой богатой России! Червонцев сто – не более…
Внизу, у подъезда Кремля, его ждал возок, крытый узорчатой кожей. Курляндский посол нырнул под заполог, и кони понесли его в пустоту морозных улиц.
* * *
Холодно испанцу на московских улицах…
Герцог Якоб де Лириа и де Херико (посол Мадрида в России) сунул нос в муфту, царем ему даренную, заскочил в санки. Два русских гудошника, за пятак до вечера нанятые, при отъезде посла заиграли гнусаво. Отставной солдат-ветеран (без ноги, без уха) ударил в трофейный тулумбас персидский, где-то в бою у Гиляни добытый. И посол отъехал – честь честью, со всей пышностью.
Рукоять меча иезуитов – в Риме, но острие его повсюду (даже в Москве). Герцог прибыл сюда не в сутане, а в платье светском, под которым удобнее затаить «папежский дух». Сидя в мягком возке, уютно и покойно, он сказал секретарю своему:
– Благородный дон Хуан Каскос! Здешние гнилостные лихорадки происходят по причине неуместных запахов. А посему, кавальеро, дышите на Москве только в половину дыхания, не до глубин груди. И чаще принимайте сальвационс по рецепту славного врача Бидлоо!
Что ни улица Москвы – то свой запах. Сычугами несло от места Лобного; на Певческой подгорали на жаровнях варварские масляные оладьи; из лубяных шалашей, что напротив Комедиантского дома, парило разварной рыбой; а на Тверском спуске пироги с чудскими снетками воняли удивительно непривычно для испанского гранда.
Возле дома Гваскони, что был отстроен для духовной «папежской» миссии, герцог де Лириа велел задержать лошадей. В прорезь двери посла ощупал чей-то пытливый глаз. Долго лязгали запоры… В темных сенях герцог сбросил шубу, и на широкой перевязи поверх жабо качнулся «золотой телец» – овца, перетянутая муаровой лентой под самое брюхо.
– Моя славная овечка! – засмеялся посол. – Увы, мой туассон скоро будет заложен, ибо король не соизволил прислать нам жалованье…
Эти слова расслышал человек, замерший наверху лестницы; острый подбородок его утопал в черных брабантских кружевах; руки – цепкие – в перчатках черных перебирали четки.
– Аббат Жюббе! – воскликнул де Лириа, поднимаясь по ступеням. – Как я счастлив снова вас видеть в Москве…
Вдетые в поставцы, курились благовонные бумажки. Аромат их дыма был необычен, душист и сладок. Кружилась голова, и было легко… Два «брата во Христе» долго беседовали.
– Полы моей сутаны, – говорил Жюббе, – в отличие от вашего кафтана, герцог, очень коротко подрезаны, дабы не возбуждать подозрения русских. И за благо я счел называть себя учеником Сорбонны, ибо кого пришлет Рим, того Московия не примет…
– А много ли рыбы в нашем неводе? – спросил де Лириа. – И что за выгода нам от вашей духовной дочери – Ирины Долгорукой?
– Она – Долгорукая по мужу, но урождена княжной Голицыной, и в этом, поверьте, герцог, ея главная женская прелесть…
– Какое счастливое совпадение! – заметил де Лириа.
– О да… Долгорукие и Голицыны – их много! А в них – вся сила фамильной знати. Именно через их могущество нам можно обратить заблудший народ к истинной вере. О князе Василии Лукиче Долгоруком вы извещены, герцог: еще в Версале он был тихонько отвращен от презренной схизмы. А ныне он – министр верховный! Государь еще мальчик, душа его – песок, который вельможи бездумно пересыпают в своих пальцах… В сетях моих бьется сейчас прекрасная княгиня Ирина, но невод мой тяжел и без нее!
– Я наслышан о князе Антиохе Кантемире, – напомнил де Лириа.
Длинные пальцы аббата сложились в замок на впалом животе:
– Человек блестящих дарований и… мой искренний друг. Будучи высокого происхождения, князь Антиох не имеет родственных корней средь русской знати. Его корни там… в Молдавии, откуда вывезли его ребенком! Да, он помогает мне в расстановке невода, хотя и далек от слияния наших церквей. Это ум для ума, слова ради слов, но… где же дело? Сейчас Кантемир переводит для меня благочестивые сочинения Сорбонны на язык московитов. Дружба со мною не мешает ему дружить и с Феофаном Прокоповичем…
После чего разговор двух иезуитов снова вернулся в прежнее русло – они заговорили о Долгоруких. По их мнению, князья Долгорукие вскоре обязательно должны повторить попытку князя Меншикова.
– Дядька царя, – пророчил Жюббе, – наверняка подведет свою дочь Екатерину под царскую корону… То, чего не удалось свершить прегордому Голиафу – Меншикову, то удастся Долгоруким!
– А вас не пугает, аббат, что у русского царя есть соперник? Княжна Екатерина пылко влюблена в имперского графа Миллезимо.
– Только одно мое слово послу Вены, – ответил Жюббе, – и этого цесарца не будет в Москве завтра же. Никто не смеет мешать великому Риму, а нашей церкви выгоден этот брак – брак Долгорукой с императором… Впрочем, – слегка нахмурился Жюббе, – в этой варварской стране молнии иногда разят среди ясного неба, и един всевышний ведает судьбы людские!
Герцог де Лириа встал, и «золотой телец» долго еще качался на его груди, подобно маятнику. На прощание Жюббе подарил ему пачку благовонных бумажек.
– Откуда это у вас, аббат? – удивился посол.
И в ответ ему тонко усмехнулся аббат Жюббе-Лакур:
– Не проговоритесь Риму о моем кощунстве, но Московию я почитаю центром вселенной. Отсюда, из дома Гваскони, мои руки уже протянуты к Шемахе, они бесшумно отворили ворота Небесной империи и даже… Откуда, вы думаете, эти душистые бумажки?
Де Лириа глубоко вдохнул в себя благовонный дым:
– Не могу поверить… Неужели из Тибета?
– Вы угадали, герцог. Солдаты Иисуса сладчайшего уже взошли с крестом божиим на вершины гор загадочного Тибета… Нет путей в мир Востока иных, нежели путь через Москву.
Аминь!
* * *
А за Яузой, что бежала под снегом, в оголенных кустах боярышника и берсеня, уже припекало солнышко…
Граф Альберт Миллезимо, секретарь посольства Имперско-Германского, наслаждался бегом русских коней. Лошадиные копыта взрывали комья рыхлого снега, бился в лицо венского графа сладкий московский ветер… Молодой дипломат не скрывал своего счастья: пусть все видят на Москве – едет жених, едет возлюбленный Екатерины Долгорукой! Счастлива юность – даже на чужой стороне. И думалось – с нежностью: «Ах, милая княжна, с ногами длинными, с важной поступью боярышни, скоро блистать тебе на балах в прекрасной Вене!»
– Вон летят сюда галки, – показал служитель Караме. – Не пора ли вам, граф, опробовать свою новую фузею?
Миллезимо вскинул ружье – выстрелил. Над притихшей Яузой, над усадьбами, утонувшими в снегах, четко громыхнуло. А со стороны дворца Лефортовского, скользя и падая, бежали по солнечной ростепели русские гренадеры. На ходу они примыкали штыки.
– Что бы это значило? – удивился Миллезимо…
Первый же гренадер, добежав до посольского возка, рванул Миллезимо из саней наружу, атташе запутался ногами в полсти.
– О, какое лютое наказанье ждет вас за дерзость эту! – кричал он по-чешски, надеясь, что русские поймут его.
Лошади дернули – Миллезимо остался в руках гренадеров, и они поволокли атташе через речку по снегу.
– Куда вы меня тащите? – спрашивал он.
На крыльце дома князей Долгоруких стоял, налегке, без шуб, сам хозяин – возможный тесть легковерного цесарца. Гренадеры доволокли Миллезимо и бросили его возле ступеней.
– Любезный князь, – поднялся атташе, – что происходит на глазах всей слободы Немецкой? Я жду ответа и гостеприимства, каким столь часто пользовался в вашем доме.
– Весьма сожалею, граф, что вы попались этим молодцам. Но таково поступлено с вами по воле государевой.
– В чем провинился я? – спросил Миллезимо.
– По указу его величества под страхом наказания свирепого запрещено иметь охоту на тридцать верст в округе Москвы…
В мутном проеме окна Миллезимо вдруг разглядел испуганное лицо княжны Екатерины Алексеевны и загордился сразу:
– Указа я не знал. Но я стрелял по галкам.
Долгорукий плюнул под ноги цесарца и спиной к нему повернулся, уходя прочь. Лица княжны в окне уже не виделось. Значит, не блистать ему в Вене с русской красавицей… Вышел на крыльцо лакей-француз и сказал:
– Не обессудьте, сударь, на огорчении: в этом доме принимают русского императора, но совсем не желают принимать вас…
Отвадив Миллезимо, князь Алексей Григорьевич сыскал в комнатах свою любимицу – Екатерину. Еще издали оглядел дочь: «Хороша, ах, до чего же хороша бестия… Воистину – царский кусок!» Княжна стояла возле окна, и по тряске плеч ее отец понял: видела дочка, как отшибали цесарца, и теперь убивается…
– Ну-ну, – сказал поласковей, – будет грибиться-то… Экими графами, каков Миллезимо, на Руси дороги мостят!
Лицо дочери – надменное, брови на взлете – саблями.
– Я, тятенька, вашим резонам не уступлю, – отвечала. – Кто люб, того и выберу. Девицы варшавские эвон какие свободы ото всех имеют. Даже по женихам без мамок одни ездят…
Алексей Григорьевич поцеловал дочь в переносие:
– Слышь-ка, на ушко тебе поведаю… Государь-то наш император уж больно охоч до тебя, Катенька.
– Постыл он мне! – отвечала княжна в ярости.
– Да в уме ли ты? Подумай, какова судьба тебе выпадет, ежели… В карты с ним частенько играешь. Иной раз и за полночь! Ты его и приголубь, коли он нужду сладострастную возымеет.
– Тьфу! – сплюнула княжна. – Гадок он мне и мерзостен!
Посуровел князь, обвисли мягкие брыли щек, плохо выбритых.
– Это ты на кого же плюешь?
– Да уж, вестимо, не на вас же, тятенька.
– А тогда – на царя, выходит? На благодетеля роду нашего?
Взял косу дочкину, намотал ее на руку и дернул. Поволок девку по цветным паркетам (тем самым, кои из дома Меншиковых украл и у себя настелил). Трепал Катьку да приговаривал:
– Нет, пойдешь за царя! Пойдешь… Быть тебе в царицах российских. Поласковей с царем будь…
Трепал свою Катьку без жалости. Потому как знал ее нрав.
Не пикнет!
* * *
Винный погреб испанского посла дважды бывал затоплен в Петербурге (при наводнениях). Он перевез его теперь в Москву и каждую бутылку ставил в счет своему королю… Сегодня в испанском посольстве – ужин для персон знатных.
– Продолжайте, мой друг, – сказал де Лириа, обращаясь к князю Антиоху Кантемиру, и тот заговорил:
– Смело могу изречь, что племена суть восточные ничем не нижае племен западных, и великий Епиктет, родоначальник филозофий моральных, тому мне немало способствует…
– Ну зачем ты все врешь, Антиошка? – грубо перебил его молодой граф Федька Матвеев, на стульях вихляясь, и стало тихо.
– Я вас, граф, – заметил де Лириа, – прошу не мешать.
– А я тебя не знаю, – отвечал пьяный Матвеев послу Испании.
– Позволительно ли бывать в доме, хозяина коего вы не знаете? Вы нанесли мне, граф, оскорбление, сославшись на незнание особы, коя при дворе российском от имени короля моего поверенна, и прошу вас, граф, выбрать оружие для благородного поединка…
Матвеев взял бутыль с мозельским (в 50 копеек на русские деньги) и запустил ее в испанского посла.
– А теперь, – сказал де Лириа, – я буду требовать удовлетворения. Но уже не от вас, дикаря, а от вашего правительства…
Вскочил хмельной князь Ванька Долгорукий (куртизан):
– Еще чего – верховных беспокоить… Эй, люди! – кликнул он со двора гайдуков своих. – Ведите графа Федьку на двор и расстилайте его. Пять палок по заду его сиятельства не помешают…
Не поленился – сам сбегал и вернулся обратно, учтивый:
– Дал все десять, с задатком, чтобы неповадно было… Ваша светлость, удовлетворены ли вы?
– Вполне, – отвечал де Лириа, снова повернувшись к притихшему Кантемиру. – Продолжайте же, мой юный друг. Вы остановили свое красноречие как раз на философии Епиктета…
Кантемир от Епиктета перешел к Фенелону. А с улицы еще долго кричал им Федька Матвеев словами зазорными:
– Собрались… эки умники! Я тебе, Ванька, не прощу. Коли попадешься мне, стану бить палкой неоструганной, чтобы занозы из зада вынимал ты долго…
Прощаясь с гостями, де Лириа задержал Долгорукого:
– Вы так любезно вступились за мою дворянскую честь. Благодарю, благодарю… Но скажите, не сможет ли вам отомстить этот наглый гуляка Матвеев?
– На Руси, герцог, – мудро отвечал куртизан, – мстит родня. А у Федьки из родни одна мать, коя состоит ныне гофмейстериной при дворе герцогини Курляндской Анны Иоанновны.
– Анна Иоанновна… А кто это такая? – спросил де Лириа.
Глава четвертая
«Бытие Руси, – говорил Остерман, – определяется наличием немцев в России: главные посты заняты нами – значит, Россия на пути к славе, посты заняли русские – значит, Россия пятится к варварству…» Но такие речи слышали одни земляки его.
Сын пастора из Вестфалии, Генрих Иоганн Остерман недолго в Иене науки штудировал. Вокабулы кое-как постиг, а метафизики не смог объять разумом. Куда деться бедному студиозу?.. Старший братец Остермана – Христофор Дитрих (или Иван Иванович) уже прижился в России: на селе Измайловском обучал он дочерей царя Иоанна Алексеевича «благолепию телесному, поступи немецких учтивств и комплиментам галантным». Бедный студиоз Генрих Остерман тоже нанялся к русскому адмиралу Корнелиусу Крюйсу: ботфорты ему чистил да пиво студил. И адмирал в настроении похмельном вывез Остермана в Россию, где его и стали величать Андреем Ивановичем… Давно это было!
А сейчас Остерману уже под пятьдесят. Он вице-канцлер империи, он начальник главный над почтами, он президент Коммерц-коллегии, он член Верховного тайного совета… Жарко стреляют печи в старобоярском доме Стрешневых, на дочери которых женат вице-канцлер. Андрей Иванович сиживает в креслах на высоких колесах. Шлепая ладонями по ободам, покатывает себя по комнатам. Блеск русского самодержавия озаряет чело барона…
Коптят тонкие сальные свечечки – вице-канцлер бережлив (копит на старость). Ноги укрыты пуховым пледом, очень грязным. Над бровями – зеленый зонтик, чтобы глаза бесстыжие прятать. Служба у Остермана наитончайшая – конъюнктуры при дворе и козни европейские занимают его воображение. Отсюда, из душных стрешневских покоев, Остерман – как паук – ткет незаметную паутину, в которой скоро запутается, противно и липко, все Русское государство.
Захлопали двери внизу дома, потянуло туманцем.
– Марфутченок моя… пришла, – обрадовался барон.
Марфа Ивановна, баронесса Остерман, боярыня дородная, породы столбовой, знатной. Под стать мужу своему – грязная. И характером – побирушка…
– Вот пильсын моему Ягану! Левенвольде шлет!
Остерман на лету поймал апельсин – дар из завоеванной Гиляни. Понюхал волшебный плод, уже побывавший в кармане курляндца.
– Вижу, что Марфутченок любит своего старого Ягана, – сказал он ласково (на языке русском, добротно и хорошо скроенном).
Вице-канцлерша подпихнула под него плед, откатила коляску поближе к печкам, прожаренным так, что плюнь – зашипят. Слов нет, очень любила Марфа Ивановна своего немца. Да и было за что любить: не пьянствует ее Яган, не кочевряжится и не шумствует, как иные. Знай себе тихо и благочинно ведет разговоры с людьми иноземными…
– Что видела, Марфутченок? Что говорят на Москве?..
Вести были дурные: случай с Миллезимо возмутил Немецкую слободу. Дипломаты и без того жаловались – месяцами не было аудиенции при дворе, Петр круглый год на охоте, в отъездах дальних, Долгорукие всем скопом своих сородичей заслонили от мира царственного отрока… А теперь посол венский, граф Франциск Вратислав, будет просить сатисфакции. Посланники выражали Остерману возмущение поступком Долгоруких. Но вице-канцлер уже загородился от них козырьком и стал говорить столь невнятно, что сам себя уже не понимал:
– Поскольку его величество император цесарский благоволит к государю нашему, надлежащее удовлетворение при том, что граф Вратислав болен апоплексически, для нас весьма прискорбно, но его величество властен, как самодержец, отдавать любые указы, для чего и почту себя обязан…
Великий канцлер Головкин в дела не вмешивался – давно уже политикой ведал Остерман, и многие пытались в тарабарщине его разгадать великий смысл и мудрость. Вратислав первым понял, что сатисфакции не будет, и вызвал посрамленного Миллезимо к себе.
– Ваши дурацкие выстрелы, – сказал посол, – раздались кстати для Долгоруких. Свадьба состоится, но ваша голова никак не пролезет в жениховский венец… Все! Собирайтесь-ка в Вену…
Перед сном к Миллезимо проникла сама княжна Екатерина Долгорукая. Со слабым стоном (куда и гордость ее девалась?) припала она к ногам красивого венца.
– Умоляю, – шептала, – скорее увезите меня отсюда. Меня продают… Уедем, уедем. Я так буду любить вас! Но только не оставляйте меня здесь одну…
– В уме ли вы? – оторопел Миллезимо. – Я облечен доверием его величества императора Карла; ссора наших дворов… Нет, нет! Умоляйте не меня, а своего отца!
Княжна губу выпятила, блеснул ряд зубов – мелких.
– Стыдитесь, сударь, – ясно выговорила она. – Княжна Долгорукая, презрев резоны чести и благородства, пришла к вам любви просить, как милости… А вы? О чем говорите девице несчастной? Будьте же рыцарем… Варшавские кавалеры, – добавила с ядом, – те вот так никогда не поступают!
– Уходите скорее, – растерялся Миллезимо. – Боже, как вы неосмотрительны. Нам следует учиться осторожности…
Долгорукая выпрямилась во всю свою стать – в надменности.
– Ах, трусливый шваб… ну, ладно! – прошипела она. – Ты еще подползешь ко мне, словно уж… На коленях! Чтобы руку мне целовать, как русской царице!
Миллезимо в страхе побежал будить болящего графа Вратислава, желая поведать ему об очередной конъюнктуре.
– Вы, кажется, толковый дипломат, – похвалил его посол. – Но, великий боже, до чего же вы – дрянной кавалер!
– Я люблю ее! – воскликнул Миллезимо.
– Увы, – вздохнул посол, отворачиваясь, – так не любят…
* * *
Царедворец гордый и лукавый, князь Алексей Григорьевич Долгорукий страстно нюхал воздуха весенние – подталые… Чем пахнут? Царь-отрок в свою родную тетку влюблен, в цесаревну Елизавету Петровну: сколько уже костров с нею в лесах спалил, у ног ее воздыхал да вирши писал любовные. И, чтобы соблазна царю не было, еще по снегам раскисшим умчал Долгорукий царя из Москвы – травить зайцев по слякоти, по лужам, по брызгам. К ночи император от усталости, где упадет, там и спит. Зато никаких теток в голове – только придет подушку поправить княжна Катерина, тому батькой своим наученная…
Царская охота двинулась к Ростову, а от Ростова – на Ярославль: бежали, высунув языки, многотысячные своры гончих, ревели в пущах рога доезжачих, взмывали в небеса, косого выглядывая, белые царские кречеты. А под вечер раскинуты шатры на опушках, до макушек берез полыхают костры. Городам же, возле коих удавалась охота, юный Петр II дарил грамоты с похвалой о русаках и медведях – с печатями и гербами, как положено.
Только в июне, в разгар лета, вернулся государь на Москву – прямо в Лефортово. Длинноногий, высохший от бесконечной скачки, заляпанный грязью до пояса, царь (в окружении любимых борзых) взбежал на высокое крыльцо.
– Жалость-то какова! – огорчился царь. – Хлеба мужицкие поднялись в полях высокие – мешают мне забаву иметь…
Но утром – царь еще и глаз не открыл…
– Ваше величество, – доложили ему, – кареты поданы.
– А куды нужда ехать? – спросил, зевая.
– Вас уже в Горенках ждут: огненная потеха готовится…
Внизу дворца сидел Остерман – стерег пробуждение царя, как ворон падали.
– Некогда, Андрей Иваныч! – крикнул ему на бегу император. – Видит бог: не до наук мне ныне. Потом вот ужо, погоди как вернусь, ты меня всему сразу научишь…
Громы с молниями трясли небеса над Москвою: вокруг гибли в пожарах мужицкие деревни, полыхали дворянские усадьбы. Много ли зальешь огня молоком от черной коровы? Жарко было, до чего же душно! Ну и лето выпало… Свистали в лесах разбойные люди, жестокий град побивал хлеба, иссушило их солнце…
О, Русь! Русь!
Все лето 1729 года прошло в охотничьих азартах, а под осень замыслили Долгорукие новый поход на медведей и зайцев. Теперь они уводили царя за 400 верст от Москвы – подалее от слободы Немецкой, прочь от красивой тетки-цесаревны. Шли на косого да косолапого, как на войну ходят, – с причтом церковным, с музыкантами и канцелярией. Только денег вот на ходу не чеканили, но зато указы посылали с дороги. Открывал шествие караван верблюдов, навьюченный грузами: котлы и овес, шатры и порох, серебро для стола и прочее.
Хатунь – Серпухов – Скопин – Лимоново – Чернь видели царя в этом походе своими глазами. Дальше, дальше! В леса берложные, в бурелом чащобный, в гугук совиный, туда, где лешие бродят… Одичалый и грубый, коронованный мальчик нехорошо ругался, капризничал, привередничал. Пробились на подбородке царя первые волосы, разило от него сермяжным потом, лошадьми, порохом да псиной. По вечерам – пьян! Так-то вот Петр охотился за зверьем, а Долгорукие охотились за царем…
Затянуло Россию дождями, и когда раскисли поля, завернули обратно – на Москву. Громадные обозы трофеев тянулись за царем на подводах: кабаньи туши, медвежьи окорока, жалобные лани, пушистые рыси, горою лежали убитые зайцы, которым даже счет потеряли. А на въезде в Москву, у заставы, придворные поздравляли царя с богатой добычей. Петр вздыбил жеребца под собой и, оборотясь в седле, нагайкой указал на карету, спешащую за ним:
– Дивную дичь затравил я: эвон везу двуногих собак!
А в карете той ехала мать Долгорукая с тремя дочерьми.
Так что молод-молод, но царь все понимал!
* * *
Печально оголились леса, разволокло унылые проселки…
По вечерам садились Долгорукие вокруг стола, рассыпали перед царем карты. Играли однажды в бириби – на поцелуи: кто выиграет, тот княжну поцелует. И конечно же, так сдали карту в марьяже, что его величество выиграл. Княжна Катерина уже и губы подставила – на, целуй! Но шлепнул царь карты и… ушел. Колыхнулись свечи в высоких шандалах. Зловещее почудилось тут Алексею Григорьевичу, и тогда позвал он в Горенки двоюродного брата своего, князя Василия Лукича: дипломат тертый, иезуитством славен.
Где, что, как – расспросил, сразу загорелся, и начал Лукич альянс любовный сколачивать крепко. Тому и природа способствовала: дожди все плыли, шумело в трубах, на двор не выйдешь, зато уютно сидеть во мраке. В туманных зеркалах ослепительно вспыхивали драгоценные камни, а матовая белизна плеч женских казалась точеной – словно мрамор… До чего же хорошо грезится о любви под тонкое пение флейты Иогашки Эйхлера!
А княжна Екатерина Алексеевна, после казуса того с женишком цесарским, замкнулась. Повзрослела. Еще больше вверх вытянулась. На губах же ее – ухмылка, ко всему презренная. «Не привелось, – размышляла Катька, – графинею Миллезимо стать, так буду на Руси императрицей. И тот красавчик подползет, как миленький… Хорошо бы ему туфлю к носу приставить: целуй, невежа!»
Василий Лукич научил племянницу свою – как девице вести себя в положениях заманчивых. Чего надо бояться, а чего не следует, коли попросят нескромно. Сначала Катька еще краснела, дядю слушая, а потом перестала…
И часто встречался Петр с княжною в местах притемненных, где даже свеч не было. Но смутен был в эти дни князь Иван.
– Гляди, сестрица, – сказал он как-то, – не обожгись. Негоже так: чужой грех с цесарцем царевым именем покрыть хочешь!
Екатерина заголила перед ним грудь и шею свою:
– Устала я от злодейств ваших! Не от тебя ли, братик, синё вот тут? Это за венца мово… А вот, гляди, от батюшки память! Это чтобы царицей я стала, всем вам на радость. А случись мне царицей быть, так я батюшку со света сживу… Тебя же, братец, в Низовой корпус сошлю – гнить тебе, Ванька, на Гиляни!
– Гадюка ты, – сказал Иван, но отступился…
В один из вечеров (уже похолодало) Алексей Григорьевич, прибаутничая, разливал вино. Петр чарку не взял – морщился.
– Не лежит душа моя к винному питию, – сказал.
– Ах, государь! – лебезил воспитатель. – Что бы вам уважить свово учителя? Чай, потчую-то ваше величество от сердца…
Князь Иван злодейство почуял, поднял лицо сумрачное:
– Папенька, стоит ли государя к вину приневоливать? Час уже поздний, его величеству опочивать бы…
Тут князя Ивана в сенцы позвали – вроде бы ненароком. А там братцы его (Николашка, Алешка да малолеток Санька) принялись дубасить его. Били да приговаривали:
– Не мешай счастью нашему! Плохо будет, коли заперечишь…
Палки побросали потом – и кто куда. Фаворит поднялся, о притолоку дверную паричок от пыли выбил. У зеркала постоял, синяки разглядывая, припудрился и снова в покои вернулся. А там отец его хныкал – все еще уговаривал царя:
– Знаю, ваше величество, не люб я вам стал. Паче того, обида моему дому, что у Юсуповых вы полбутылки выпили да похваливали. У дука де Лириа сами винца просить изволили…
Князь Иван, со зла на своих родичей, полную чашу вина выглотал. Император глянул на него и сказал:
– Коли ты пьешь, от тебя не отстану… Потешим боярина!
Пили и княжны. Прасковья Юрьевна охмелела – увели ее. А старик знай себе подливал царю да прибаутничал. Иван Алексеевич придвинул к отцу свою посудину.
– В остатний раз хлебну, – сказал, – и спать уйду…
Ушел. Разморились княжны – их тоже наверх отослали. Алексей Григорьевич и не заметил, как пропал царь из-за стола. Отыскал он его на дворе. Под дождем холодным, весь мокрый, стоял мальчик-император внаклонку. Его рвало. Долгорукий царя повлек за собой.
– Ничего, – говорил, – сейчас на постельку ляжете…
Петр провис на его руках, мотало его в разные стороны.
– Лошадей, – бормотал, – запрягай…
Старый князь втолкнул царя в сени, что вели прямо в опочивальню княжны. На цыпочках вернулся Алексей Григорьевич к себе, а жене сказал молитвенно:
– Благодари бога, Прасковья… Быть дочери твоей поятой от корени царского – корени благословенного!
* * *
Утром в Горенках загремели шпоры Василия Лукича. Хватался дипломат за виски, нюхал мускусы разные, бегал на кухни пенники пробовать, чтобы воодушевленным быть. На пару с братцем оповещали они честной мир – направо и налево:
– Не доглядели! Эх, люди… Царь-то – молод, горяч, спрос короток. Порушил его величество княжну нашу! Лишил ее добродетели главной… Ой, горе нам, горе! Выпало бесчестье фамилии всей нашей… Куда ж вы смотрели, люди? Не уберегли касатку!
Князь Иван послушал, как глумливо шумят отец с дядей, велел лошадей запрягать:
– Мне более в Горенках не бывать. Вы с тем и оставайтесь!
Петр II, поутру проснувшись, застыдился:
– Алексеевна, ты ли это? Скажи – как выйти-то мне отсель?
Долгорукая лежала рядом с ним – длинная, поджарая, словно молодая кобылка. Повернула к царю лицо свое без единой кровинки:
– Как вошли, ваше величество, так и выйдете.
– Эва! Да ведь там народ ходит, мне людей стыдно… – Петр встал, глянул в окна. – Высоко… Чай, ноги поломать можно!
Но уже стерегли, видать: ждали, когда царь проснется. Ввалились в спальню, шумно и пьяно, князья Долгорукие – всей фамилией, будто свора. Шум, гвалт, рев, плач, кликушество. Алексей Григорьевич (без парика, глаза с мутью, вздох сивушный) кинулся к постелям – с кулаками полез на дочку:
– Что ты наделала? Задушу!.. Великий государь за мои-то заботы о нравах ваших, за труды мои великие… Эдак-то вы меня отблагодарили? Ы-ы-ы-ы… Не снесть мне позора сего!
Но кулак князя перехватил император (он был сильным).
– Не смей бить княжну, – сказал. – Ни она, ни я невинны перед богом… Ступайте все прочь! – велел, потупясь, голосом гневным. – Объявите княжну невестой моей… Быть по-вашему, по-долгоруковски!
Тут все кинулись руку ему целовать.
– Да отстаньте вы… Где Иван, друг мой сердешный?
Сказали, что рано на Москву отбыл.
– И мне запрягайте! Более здесь делать нечего…
Кое-как нахлобучил на голову парик, шагнул в сенцы. На княжну Екатерину даже не глянул – укатил за другом своим. Но слово сказано – не воробышек это слово, Долгорукие его поймали…
Василий Лукич кликнул братца, заперли они двери. Поставили перед собой вина доброго, положили двух зайцев сушеных. Долго крестились кузены на киот. Дружно сели.
– Ну, – сказал «маркиз» Лукич, – тепереча, Алешка, потолкуем. Кого мы сразу жрать станем, а кого на потом оставим?
– Теперь-то нас, – возрадовался отец невесты, – никакой Сенат уж не сшибет! Долгорукие в полную честь войдут да всех врагов изведут под корень… Начнем с Голицыных, пустозвоны оне! С утра все звонят, звонят, звонят. А на селе Архангельском, где мудрят всего более, мы с тобой псарни разведем.
Глава пятая
Село Архангельское – вотчина подмосковная. Под деревьями – старая домина в три сруба, сенцами связана. Окна там – в переплетах свинцовых. А внутри дома – четыре стула поставлены. Вот и все… Хозяин усадьбы, князь Дмитрий Михайлович Голицын, давно немолод, телом сух, долгонос. Взор его с огоньком, голос тихий, но вдруг как рыкнет:
– Эй, баба! Беги к ручью да скорей умой дите свое – у меня глаз дурной, и ты, баба, меня всегда бойся…
Старины крепко держится. В доме без слова божия никто и зевнуть не смеет. Пока не сел князь Дмитрий – все домочадцы стоят. Муха пролетит – слыхать. «Садитесь», – позволит, и все разом плюх на лавки. А из двух братьев верховника (оба они – Михайлы, старший и младший) на стул только старший брат Миша сядет, потому что он давно уже Российской империи фельдмаршал.
Князь Голицын был поклонником духа русского. Однако в доме его часто слышалась речь иноземная – от лакеев князя. Секретарь Емельян Семенов и комнатный слуга Петя Стринкин были людьми учеными, по-латыни читали и изъяснялись. Образование в людях высоко чтил князь Дмитрий Михайлович, а рассуждал он таково:
– Немцу на Руси делать нечего. Немцы у себя дома сами-то не способны порядок навести. И нам затей европейских не надобно. Почему не жить нам, как живали отцы и деды? Стыдно мне! По указу Петрову немец без разума вдвое более умного русского был жалован – чинами и денежно.
Когда же загибали перед ним пальцы: вот то хорошо от Петра, мол, вот это неплохо… – то князь Дмитрий снисходил.
– А я новому не противлюсь, – говорил тихо. – Коли хорошо оно, это новое-то! Надобно, судари, из русских условий, яко алмазы из недр, законы русские извлекать…
Боялись князя многие: как бы не сглазил. Всего четыре стула в доме его, а книг – семь тысяч. Куда столько? Но Василий Никитич Татищев, сам книгочей и любомудр, ради книг и приехал в Архангельское. Ныне он при Монетном дворе состоял, в науках знаток и нравом пылок… Дмитрий Михайлович секретаря позвал, перед Татищевым рундуки открыли, книгами хвастали.
– Еще когда на Киеве губернатором был, – говорил князь, – переводил с диалектов чужих. Сам-то я в языках иноземных мало смыслю, зато школяров киевских при себе содержал. Ели они в доме моем, пили и гадили. Терпел пакость эту, ибо школяры те знатно книгам переводы учиняли… Ну-ка, Емеля, покажи гостю!
Емельян Семенов – без парика, в кургузом распахнутом кафтанчике, с пером за ухом – любовно перебирал библиотеку:
– Вот и Макиавелли, и Пуффендорф… Это Гуго Гроция, Локк да Томазия несравненный – у нас все есть в Архангельском!
На каждой книге у князя был особый ярлычок приклеен, чтобы не украли такие вот гости, как этот Татищев: «Ex bibliotheca Archangelina». Василий Никитич – жадно и цепко – полистал синопсисы да хронографы. Голицын на сундуке сидел.
– Не токмо книгу читаю, – сказал он, – но и мыслю я! Оттого-то и не жду дня светлого. Вот кабы царям воли убавить! Хорошо было б, Василий Никитич… Одни временщики, сам ведаешь, чего стоят. Не помяни ко сну Малюту Скуратова да Басманова Данилу! А еще и пришлые: Монсы да Сапеги, Левенвольды да прочие… Раньше мы хоть пришлых не знали.
Татищев прищурился – хитер он был, зубаст:
– Что-то, князь, вы Генриха Фика не помянули?
Старик Голицын с силой задвинул сундук в угол:
– Генрих Фик – камералист[1] известный, конституций европейских толкователь. При дворе шведском в шпионах наших бывал и великую пользу принес России. Поболе бы нам Фиков таких иметь…
– Помянем еще братца вашего, князя Василья Голицына, что при царевне Софье успех немалый имел, – подольстил Татищев.
– Един он был, – отвечал верховник со вздохом. – Петр не знал его доброго сердца. Но я – чту! И когда-либо Русь еще помянет князя Василия добрым словом… Нет, не временщиком был подлым мой братец, а – головой Руси и мужем зрелым!
– Временщики, приветной хозяюшка, – толковал Татищев, – токмо в республиках опасны, да! От аристократии же вред мне чудится, а монархия зато есть благо народное…
Емельян Семенов усмехнулся кривенько, на Голицына глянув.
– Народоправство! – вступил дерзко. – Вот корень времен грядущих, и в нем есть благо. Правление всенародное – избранное!
– То не так, – возражал ему Татищев. – Россия к демократии неспособна, благодаря пространственности и лесов обилию. От монархии же умиляюсь я ежечасно!
Голицын глядел из-под бровей глазами впалыми:
– Ну а ежели монарх – дурак? И народу своему – вреден? И ежечасно людей тиранствует?.. Ты тоже умиляешься, Никитич?
– А тогда следует верноподданным такого монарха за наказание божие почитать и терпеливо, не шумя, смерти его выжидать.
Емельян Семенов захохотал, перо из-за уха выпало, а Голицын вдруг полез долой с сундука, застучал палкой:
– Опричнина да приказ Преображенский… Канцелярия пытошная, Ромодановские да Ушаковы… Люди зверские в сане духовном – Питиримы да Феофаны! Куда их прикажешь девать, Никитич?
Татищев не заробел.
– Огонь пытошный не страшен, – сказал. – Ежели токмо поручена инквизиция государства человеку правил благочестивых. Да чтобы он в бога веровал. А злостные и неблагочестивые, в крови усладясь, сами утихают за старостью и болестями…
– И так-то ты мыслишь? – вопросил старый князь.
– Именно так, – отвечал Татищев.
Тут Голицын плюнул прямо в лицо Татищеву.
– Проглоти, пес! – сказал в бешенстве…
Более в село Архангельское Никитич уже не наведывался.
– Олигарх главный, – говорил впредь о Голицыне. – Но как бы не намудрил он чего… Все зло на Руси от аристократии следует. Опора престола есть шляхетство чиновное, служивое…
Дмитрий Михайлович вызвал своего сына Сергея из Мадрида, где тот состоял посланником российским.
– Сыне мой, – признавался старый верховник, – яко двуликий Янус, взираю я на Русь боярскую и Русь нынешнюю. Вижу выгоды немалые – в былом ее славном и в будущем, что станется не менее дивным! Но уже без немцев, без временщиков прихлебствующих. По мне, так всем куртизанам головы рубить надо… А царям пора уже воли поубавить!
Таков был князь Дмитрий Голицын: мехи-то старые, но вино в них молодое (бродило вино это).
* * *
Эх, немало кабаков на Руси, но краше нету московских!
А кто позабыл их, тому напомню: Агашка – На Веселухе – Живорыбный – У Залупы – Под Пушкой – Каток – Заверняйка – Девкины Бани – Живодерный – Тишина и прочие (всех не перечесть).
Нет страшнее кабака Неугасимого: укрылся он глубоко в земле, нет в нем окошек. Зато круглый год непрестанно, как в храме, горят в нем свечи, оттого-то и зовется он так – Неугасимый. Солдат-дезертир, баба-гуляка, лакей-утеклец, ярыга-пропойца, тать-ворон – все бывали в Неугасимом, всем было хорошо в полумраке. Даже нож не блеснет, когда сопитуху прикончат. Шито-крыто, в мешке продано, в темноте расплачивайся…
В пятом часу утра (когда петушок только пропел) собирался народ. Кто выпить, а кто просто так – поглядеть, как другие пьют. Вошел старичок, по виду – странничек. Таких-то немало по Руси шляется. Вынул гривну, и на ту деньгу дал ему целовальник ковшичек гнутый, который мерою для вина служил.
– Эвон, – зевнул с хрустом, – сам зачерпни…
У бочки с белым толпился народ. Иные, винца зачерпнув, на икону глядя, давали клятву всенародную – не пить более никогда, и пусть этот ковшичек, видит бог, станет последним. Иной же, кто денег не имеет, зипунишко смахнет с себя, кричит навеселе:
– Эй, душа целованна, гляди – вешаю тебе на память!
И для того был шест над бочкой: каждый пропитую лопоть на тот шест вешал. Соответственно и пил – во сколько целовальник «лопоть» его оценит. Старичок странник водочки себе зачерпнул, когда очередь подошла, и спокойно, с молитвами, отодвинулся.
– Господи! – сказал. – Образумь меня, грешного…
И надолго приник к ковшичку.
Тут его, как водится, обступили:
– Передохни, мила-ай. Лопнешь ведь…
– Оставь… О-о-о, глотнуть тока, с донышка бы мне!
– Да не досасывай, или креста на тебе нету?
Но старичок был не из робких.
– Даром-то, – ответил, – угощают в бане угаром. Да и то, кажись, по дням субботним…
Потом еще копеечку из порток вынул и требушинки попросил. Ел в аккурат – над кусочком хлебушка. В зубах он имел некоторый убыток. Но очень уж вкусно и приятно кушал старичок этот…
– Ты быдто царь кушаешь, – засмеялись люди гулящие.
Но из мрака кабацкого рыкнул кто-то, словно филин:
– Царя не трожь… Или «слова и дела» не слыхивал? Расшибут тебе кости, обедня вам с матерью!
– То вранье, – отвечали смело. – Нонешний государь добр, он Тайный приказ разогнал, а «слово и дело» уже не кричат. Говори, что замыслил, и Ромодановского с Ушаковым нам не бояться!
Старичок требуху доел, а корочкой миску всю выскреб дочиста.
– А ну, – хихикнул, – а ну ежели я крикну? Ась?
Целовальник, однако, ему пригрозил:
– Ты, убогонький, коли выпил лишку, так и ступай по святым местам. Неча «слово и дело» языком вихлять! Кончилось время лютое – и слава те хосподи, что миновало…
Кое-кто (у кого спина драная) закрестился. Подошел к старичку отставной солдат – столь высок и громаден, что голова его едва под потолком виднелась. Но белели из носа кости, а ноздри были клещами давно изъяты.
– Чтой-то голос на манир знакомый, – сказал солдат. – Дай-ка я погляжу на тебя, старичок… Может, когда и виделись?
Смотрел на ветерана старик – чисто и бестрепетно.
И вдруг заорал солдат:
– Постой… постой-ка! Да я ж тебя знаю! Робяты, воры да пьяницы, запахни двери поскорей – живым отсель он не выйдет…
Но старичок дал ему снизу по зубам мудреным вывертом, и солдат, как сноп, рухнул. Лежал – и пятки врозь.
– Ловок! – засмеялись вокруг. – Поклал славно!
Подскочил к старику капрал с пылающим чирьем на лбу:
– Ты пошто служивого человека вдарил? Он – кум мне…
Но старичок хихикнул, потом – хлоп, и капрал лег. Стало тихо в кабаке, как в храме божием. Да мерцали по углам свечи кабацкие – свечи неугасимые… Старичок рыгнул после еды, как и положено православному, увязал котомку. К двери пошел, но от самых дверей винопивцам да ворам сказал он так – веще:
– Слово миновало, но дело осталось… Вы, люди, ждите!
И поминай как звали. Солдат с вырванными ноздрями очнулся. Сидел на полу очумелый. Целовальник его в закуток отвел, угостил особо – из чарочки:
– Отведи обиду… Да уж больно любопытен я, теперича и спать не буду. Уж ты поведай мне – кто же был сей старичок?
Солдат выпил. И рассказал:
– Старичок сей есть генерал Ушаков. А по имени Андрей. А по батюшке Иваныч. И был главный живодер в Канцелярии тайной… Государево «слово и дело» сыскивал! Ни детей малых, ни баб не жалел. Кровь сосал, а жилами закусывал… Потому, – загрустил солдат, – мне из Москвы бежать надо аж до самого синего моря, ибо Ушаков сей зело памятен и меня завсегда здесь сыщет!
* * *
Первопрестольная шушукалась:
– Царь женится… Обвели его Долгорукие. Доколе же нам, шляхетству, терпеть их норов боярский?
Ждали, что царь на Москву вернется – день рождения своего в Лефортове справить. Да принять поздравления, по обычаю. Но и тут вышло иначе: Петр II дал в этот день бал в Туле… А что Тула? Смешно сказать: на берегу речки Упы обкурили кое-как домишко, чтобы тараканов изгнать, даже припасов для стола не нашлось. Мажордом вышел, жезлом в пол стукнул и гостям объявил:
– Почтенные господа! Конжурация такая: стола нетути, а есть буфеты, возле коих его величество и просит благородное тульское шляхетство откушать по собственному соизволению…
Туляки все глаза на невесту царскую пропялили:
– Да их три, никак? Какая же из них середняя?
Алексей Григорьевич, спесив и глуп, давал пояснения:
– В зачатии законном породил я сыновей четырех, а дочерей трех, из коих наблюдать вы, судари, всех сразу честь имеете! Середняя, меж Анной и Аленой, и есть та, коя богом самим в государыни ваши предназначена… Отчего и советую вам, господа, не мешкая, к ней приблизиться и к руке приложиться.
Петр был трезв и сумрачен, к невесте своей – ни шагу.
Но княжна Екатерина тоже к нему не ласкалась. Принесли ей ветку рябины с мороза, щипала тихо по ягодке. «Горька любовь моя – горьки и ягодки…»
Князь Иван Долгорукий шепнул ей:
– Не знал ранее, что такая гадюка у меня сестрица родная…
И еще раз буфеты обошел, всюду вина пробуя. Император обнял его и на двор выволок. Кафтан распахнул, дышал глубоко – обидно:
– Вот и окрутили меня, Ваня, твои дядья с батькой.
– А я, ваше величество, к сватовству сему не прикаян. Воля ваша была – избрать подругу для утешений сладострастных…
– Мне без тебя, друг сердешный, – сказал царь, – жениться одному скушно. Коли ты меня, князь Иван, крепко любишь, так и ты женись тоже… В один день свадьбы сыграем!
– Чудно, – хмыкнул Долгорукий, хмелея на ветру.
– Женись, братец мой, – нежно уговаривал его царь. – Станем единым домком жить. Собак в комнатах разведем. Спать вместе будем. А жен наших куда-либо в деревни вышлем, пущай они там с простокваши пенки снимают…
– На ком жениться-то мне, ваше величество?
– Да на ком пожелаешь… тебе никто не откажет.
– Ваша воля, а мне и впрямь не откажут… Вот у Ягужинского графа, – задумался Иван, – девки хороши да чернявы. Видать, на любовь горячие. Только матка у них стерва известная…
Взволнованная слухами Москва и посольства иноземные никак не могли изловить пропавшего в лесах императора. Выехав из Тулы, Петр 27 октября был в Зарайске, 30-го его видели в Коломне, а проснулся уже в Гуслицах. Потом следы его затерялись… Царственный отрок кружил вокруг Москвы да около, но самой Москвы избегал, словно боялся ее. На пустынных дорогах, бездомным кочевником, под дождями, под снегом, на льду по слякоти блуждал внук Петра Великого – последний мужчина из дома Романовых!..
Тишком, словно воришка, лишь 9 ноября Петр воротился в Москву и прямо, никуда не заезжая, поехал в Немецкую слободу, в Лефортовский дворец. Там и остановился. Все ждали: что-то будет?
В один из дней к подъезду дворца подкатил заляпанный грязью возок, скособоченный, с драной кожей, стекла на окнах – в трещинах… Дверь открылась со скрипом, высунулась из возка нарядная шелковая туфля, долго выискивая – куда бы ступить где посуше, не в лужу. И резво выпорхнула из возка молодая крутобокая красавица – с круглыми, как у кошки, зелеными глазами, волосы – чистое золото, нос курносый, ямочки на щеках – и разом все потеплело на улицах… Краса людская всегда приятна!
Это была цесаревна Елизавета Петровна…
Долгорукие опасность почуяли: Елизавета – нрава легчайшего, Петр горяч, как бы не дали Катьке Долгорукой от ворот поворот. И вскорости Елизавету Петровну спровадили обратно – в слободу Александрову, где она жила и кормилась с вотчины. Гуртом подступили Долгорукие к молодому царю.
– Ваше величество, – дерзко заговорил Василий Лукич, – пора уже о невесте своей объявить всенародно.
– Быть по-вашему, – отвечал император, потупясь. – Велите же звать господ верховных министров, персон духовных из Синода, и генералитет пущай явится тоже…
Собрались. Мальчик-император потеребил, стыдясь, тяжелую кисть скатерти, глаза отвел и тихо объявил, что женится на княжне Екатерине Долгорукой. Особы первых трех классов стали тут изощрять себя, как бы радости больше выказать. Но довольных искренне не было, и промеж себя говорили совсем иное: «Долгорукие смело поступили, да – шатко. Царь еще молод, но скоро подымется и тогда разумеет то, чего сейчас невдомек ему… Как бы Долгорукие не поехали следом за Голиафом – Меншиковым – в Березов, где волков хорошо морозить!»
Барон Остерман вдруг заохал и затворился, на болезнь жесточайшую ссылаясь. Болезнь вице-канцлера значила, что положение в Русском государстве чрезвычайно и грозит смутами.
Глава шестая
На Большой Никитской, по стороне правой, возле церкви Малого Вознесения, недалече от переулка Вражского (где когда-то колдун Брюс звездочетничал), имел свое усадебное жительство последний папа Собора Многогрешного и Всепьянейшего – князь Иван Ромодановской… Ныне он пребывал в абшиде – не у дел, говоря иначе.
Тайный приказ недавно закрыли, а Ромодановского отставили. Скушно теперь: что делать? Ей-ей, не придумаешь…
То ли раньше бывало – чуден век и славен: встанешь утречком, возблагодаришь Бахуса первой чаркою, а на дворе уже костерки разложены, чины приказные людишек коптят, словно рыбу в Астрахани… Забыли Ромодановского. Никто и не навестит папу.
Андрей Иванович Ушаков (бритенький, чистенький, в мундирчике полевом – незаметном) явился вдруг на Никитской.
– Мне бы до графов Иванов Федорычей, – сказал робко.
– До баньки ступайте, – показали ему. – Эвон, в саду дымит. Кой денек пошел, как его сиятельства изволят париться…
За домом раскинулся побитый сад. Мерзлые яблоки катались под ногами. Ни вишенье, ни берсень-крыжовник убраны по осени не были (так и пропало все). А банька – черная, колдовская, тараканья. Ушаков едва протиснулся в нее, поглядел в потемки:
– Иван Федорыч, да покажись… Где ты, голубь наш?
Кверху пузом томился на верхнем полке князь-кесарь. Тело желтое, как свечка.
– Поддай… слышь? – приказал сверху. – Пивцом лей!
Ушаков взял ведро с пивом, окатил раскаленные камни, и в пьяном облаке пара захлестался веником папа.
Андрей Иванович присел на лавку в предбаннике, сказал, подумав:
– Иван Федорыч, неужто не узнал ты – кто я есть таков?
– А – кто? – рыкнул сверху, аки зверь, Ромодановский.
– Ушаков ведь я, генерал бывый… Тайный фискал и от гвардии майор. Пострадал от козней Меншикова Алексашки, был сослан в полки полевые. Претерпел глад и хлад, обнищал и пришел на Москву в лаптях, Христовым именем побираясь… Ведаешь?
– Не ведаю, – ответил Ромодановский и, вниз спустясь, исподнее натянул. – Всю жизнь ты врешь, Андрюшка, – заговорил вдруг просветленно. – У гроба блаженныя памяти царицы Екатерины Первыя возжелал ты нынешнего царя от престола отшибить. Ибо в головы отсечении отца его, царевича Алексея, ты участвовал. А посему тебе карьер ныне закрыт, и вот ты ползаешь да плачешься…
Ушаков не обиделся:
– А что ты, князь, из баньки-то, домашние сказывают, кой денек уже не вылезаешь? Сомлеешь ведь в жаре-то эдакой!
Ромодановский с трудом повернул кочан головы своей:
– Веред лечу… Вишь, как шею-то занял! Лаврушка Блументрост, архиятер государев, ножом хотел шею мне резать. Да я ему, живодеру, не дался… Душит он меня, веред-то, ой, как душит!
– Хошь – так выдавлю? – И Ушаков кулаки сдвинул, показывая, как следует дрянь из нарывов выпускать.
– Повременим, – отвечал Ромодановский. – Сначала давай с Ивашкой спознаемся (и вытянул из-под лавки «Ивашку» – громадный штоф). Тройная! – князь-папа щелкнул ногтем по бутыли стекла зеленого, узорчатого…
Старики были многоопытны. А всяк опытный человек знает, что перцовую (тройной выгонки) ничем не заешь, ничем не запьешь. Ты, милок, коли уж рискнул тройную выпить – то запивай ее просто хлебной водкой. Тогда она пройдет как по маслу, и тебе хорошо станет. Во всяком случае, хоть не помрешь тогда!..
Сдвинулись кружки, Ромодановский от души пожелал Ушакову:
– Пьянство Бахусово, Андрей Иваныч, да будет с тобою затемневающе, телом дрожащее и валяющее и безумствующее тя во вся дни жизни твоея… Виватаксиос!
Выпили тройную водку и запили просто водкой. Задвигались беззубые челюсти, жуя снетки псковские. И стало им тут хорошо. Так хорошо стало, что они разом нежно заплакали.
– Обидели тебя, Иван Федорыч, – говорил Ушаков, сморкаясь. – Потому и зашел… изнылся! Желаю тебе решпект выразить. Россия-то погибнет ведь, коли народец не драть. Эки вольности завелись!
От перцовки Ромодановский медленно наливался дурной кровью. Двигал шеей, как бык, величаво. Лилово разбухал на затылке его страшный мясистый веред. Ушаков у него все дела сокровенные выпытывал: кто с кем живет, с кем водится, что замысливают?..
– А на што тебе собирать? – плевался Ромодановский. – «Слово и дело» миновалось. Да и ты – не инквизитор более. Вишь, Андрюшка, мундирчик-то какой дрянной на тебе!
– Да оно вить… сгодится, – отвечал Ушаков. – Коли государство имеется, то каково же ему без инквизиции быть?
Ромодановский рванул Ушакова за ворот.
– Опять врешь, – сказал. – Инквизиции на Руси не стало. Я от мук людских кормление имел. Но теперь без ужаса не могу страданий людских вспомнить. Страшно! Забудь и ты, забудь…
И они снова выпили. Князь-кесарь замолк.
– Или в сон клонит? – спросил Ушаков. – Не хошь ли в садик выйти? Может, яблочка тебе принесть… Холодненького-то?
Молчал князь-кесарь. Глаза закатил. А изо рта у сердешного папы водочка вытекает. Ручейком бежит… Тройная! Перцовая! «Никак без покаяния? – испугался Ушаков. – Уходить надо от греха подалее…» Затворил черную баньку и – убрался прочь.
На Красной площади стучал барабан, толпился народец. Колотил солдат в тугие шкуры, потом палки застыли в воздухе, а с помоста читать по бумаге стали:
– «В дому Франца Фиршта имеет быть ввечеру комедийное действо „Об Иезекии, царе Израильском“. Благородные платят по рубли, а кто желает удовольствие особо выказать – тот волен и более комедиантам подавать. А подлому народу сие – не к сведению!»
Снова застучал барабан – подлый народ ближе придвинулся.
– «А в дому господ Апраксиных, у жены иноземца де Тардия, можно видеть птицу-струсь, из земель Африканских привезенную. Сия птица-струсь бегает скоряе лошади, а в когтях особливую силу имеет. Оная же птица-струсь, ко удовольствию почтенной публикус, железо, деньги и горящие угли охотно поедает. Благородные платят по изволению, с купечества брать будут по гривне. А что касаемо людей подлых, то смотреть им тую птицу-струсь опять же отказано…»
Ушаков послушал зазывал – неторопливо побрел далее. Затерло его среди армяков и тулупчиков, потерялся он на Москве шумной.
Но был где-то здесь – рядом… Ждите его, люди!
* * *
Как сыр в масле катался Иоганн Эйхлер (спасибо флейте: она его высоко подняла при персонах сильных). На долгоруковских хлебах здорово раздобрел Иогашка, залоснился щеками, стал бархаты да парчу нашивать… Теперь ему чина хотелось!
– Иогашка, где ты, рожа чухонская? – позвал князь Иван.
Эйхлер предстал, себя уважая.
– Зачем звали громко? – сказал обиженно. – Вот в Нарве у нас и дворянство, и купечество, и простолюдье даже на базаре так не кричит. Всюду тишина – как в ратуше…
– Нашел ты мне город, которым хвастать. А сейчас – дуй в погреб за щами!
– Дуй сам в погреб за щами! – заорал Эйхлер.
– Или забыл, кому счастьем своим обязан?
– Нет, не забыл, – отвечал Эйхлер. – Но за счастие сие отслужил столько, что давно чина коллежского достоин…
С руганью князь Иван сам сбегал в погреб, вернулся с бутылками кислых щей, открыл их – и полетели в потолок лохмы сочной капусты. Разлил он пенные щи по бокам (с похмелья хорошо).
– Пей, коли так, – сказал благодушно. – Да собирайся живее. Я невесту сыскивать еду. На запятках у меня побудь… не сломаешься, чай, барин!
Первый дом, куда заехал Иван Долгорукий, был домом бывшего генерал-прокурора, графа Павла Ивановича Ягужинского, о котором Петр I говаривал: «Вот око мое, коим буду я все грехи видеть!» Впрочем, «око» это слезилось нечисто: честолюбие мерзкое снедало прокурорскую душу. Ягужинский ненавидел людей родовитых, но сам же и завидовал боярству. «Вот бы и мне корень иметь, – размышлял. – Хоша бы от мурзы какого татарского… для куражу!»
И вдруг у него, сына жалкого органиста из костела, князь Долгорукий просит руки дочери. От такого родства совсем ошалел прокурор:
– Наташа, Пашка, Марья, Аннушка… сюда, окаянные!
И вдруг адъютант Ягужинского – Петька Сумароков рухнул в ноги генерал-прокурора:
– Не надо Аннушку! Люба она мне, ваша младшенькая. Смилуйтесь, Павел Иваныч, нешто же сами молоды не бывали?
– Убирайся! – И адъютанта граф ногой отпихнул…
Пулями влетали окаянные дочки, политесы чинили, куртизану плечи свои показывали. Были они чернавками, с искрой в глазах, густобровы, резвы как бестии… Ягужинский всех четырех загреб в объятия, придвинул к Ваньке.
– Бери любую! – кричал. – Остальных с кашей есть будем!
Князь Иван поглядел на несчастного Сумарокова:
– Петь, а Петь! Кажная тварь земная – кузнец своему счастью. Уж ты прости меня, Петь: люба мне как раз Аннушка.
– Бог вам судья. – И вышел адъютант, шатаясь…
А тесть с зятем сели за стол, винцом балуясь, заговорили о том, о сем… Кончилась беседа ужасной дракой.
– Знаю, – орал Ягужинский, – давно ведаю, что вы, толщ боярская, не в чести меня держите. Худ я для вас! Худ, коли без порток юность пробегал, когда на золоте едали… Но я – человек самобытный, не чета прочим, и тебя, Ванька, я бить стану!
В драке сцепясь, выкатились на лестницу. Потом на крыльцо. Оттуда – на улицу. Сбежался народ – поглядеть, как бьются персоны знатные. Обер-камергер да генерал-прокурор!
– Почто смиренно стоим? – заволновался какой-то ярыга. – Не видите, что высокий Сенат бьют?.. Эй, гвардию сюды!
– Каку им гвардию, – отвечала толпа со смехом. – Дерутся-то они, видать, партикулярно. По нуждам собственным… Тута поношения высокому Сенату нетути! Пущай колотятся, оно же занятно!
За ярыгу вступились двое, подбили нищего. А за нищего уже десять влезло. Потом и все, кто стоял стороной, в одну кучу свалились, не разбирая – кто кого, и тут пошла такая веселая работа, что – куда голова твоя, а куда шапка… Петька Сумароков не удержался: тоже в схватку вошел, кулаком работая.
– Ты Ваньку, Ваньку бей! – азартовал Ягужинский. – Коли ты Ваньку собьешь, я тебе Аньку-младшую с потрохами отдам…
А князь Иван в коляску свою заскочил, Иогашка Эйхлер ему паричок с земли поднял, помог отряхнуться.
– Посватались мы к чертям, теперь посватаемся к ангелам… Эй, везите меня прямо в дом Шереметевых – на Никольскую!..
Ангел Наташа сиротою жила. Знаменитый фельдмаршал граф Борис Шереметев породил ее на старости от вдовы Нарышкиной, а вскорости «скончал живот свой». В долгах и в славе! Затем и мать Наташина вином опилась, умерла в горячечной потрясухе. Дом богатой сироты ломился от женихов. Ревела по вечерам музыка. Пялились на Наташу мамки да свахи. Но девочка вдруг заявила братьям:
– Высокоумная! А чтобы не было на мне слова худого да поносного, заключаю себя в одиночестве. Веселье еще будет – поспешу-ка я скуки попробовать!
И затворилась: читала, алгеброй занималась, шила, сочиняла песни, рисовала и чертила из геометрий разных. Два года так! Не могли ее выманить, чтобы под венец увести…
Однажды постучались к ней в комнаты:
– Братец Петр Борисыч вас до себя просят…
Вздохнула тут Наташа, закрывая готовальню. Явилась.
– Графинюшка, – сказал ей братец Петя, – а вот князь Иван из славного дому Долгоруких честь оказал: твоей руки просит…
Наташа посмотрела на свои детские ручонки – в красках они, в туши да в заусеницах. И застыдилась:
– Ни к чему сие. Мне ли до утех любовных?
Брат круто повернулся на каблуках, чтобы уйти. А в ухо сестрице успел шепнуть: «Дура… соглашайся!» Молодые остались одни. Долгорукий стянул с головы громадный парик-аллонж:
– Гляньте на меня, Наталья Борисовна: ведь я… курчавый!
– Ой и правда, – засмеялась Наташа. – Да смешной-то какой вы, сударь, без парика бываете…
– Ангел Наташенька, – позвал ее князь Иван. – Посмотри же еще разок на меня… Неужто не нравлюсь тебе какой есть?
Посмотрела она. Стоял перед ней генерал-аншеф и полка гвардии Преображенской премьер-майор. Горели на нем ботфорты, блистала каменьями шпага, сверкал на поясе золотой ключ обер-камергера. И все это – в двадцать лет… Куртизан царя!
– Наташа, – признался Иван, беря ее за руку, – свадьбу день в день с царской играть станем… Я неладно жил до тебя. Блудно и пьянственно. Ты и сама про то ведаешь. Однако не бойся: я тебя не обижу. Мы с тобой хорошо жить будем… Веришь ли?
Наташа ответила ему взглядом – чистым, как у ребенка:
– Отчего же не верить, коли ты говоришь? Хорошо – так хорошо, а плохо – так плохо… Истинно ведь так?
Вернулась затем к себе, раскрыла любимую готовальню:
– Боже, всем мил князь Иван… Только зачем при дворе состоит царском? Уехали бы в деревню, вот рай-то где!
* * *
А в древнем, как сама Русь, селе Измайлове все по-старому. Божницы и киоты, дураки и дуры, заутрени, шуты гороховые, клопы, тряпье, грязь, вонища (тут «гошпиталь уродов»). И рыгает сытая вороватая дворня, икают вечно голодные фрейлины…
С утра до ночи валяются на постелях две сестры – Прасковья да Екатерина Иоанновны, дочери царя Иоанна Алексеевича. Прасковья, та уже совсем из ума выжила: под себя ходить стала, левую ножку волочит, плетется по стеночке. Иногда вдруг за живот схватится, возрадуется:
– Ой, понесла, понесла… Вот рожу! Сейчас рожу!
Дура дурой, а в девичестве не засохла: еще при Петре, суровом дяденьке, привенчала к подолу себе вдовца-генерала Дмитриева-Мамонова, с ним и жила тишком. А сестрица ее, Екатерина Иоанновна, та все больше хохочет и наливками упивается. От мужа-то своего, герцога Мекленбургского, который лупил ее как сидорову козу, она с дочкой давно удрала – теперь на слободе Немецкой туфли в танцах треплет. «Дикая герцогиня» – так прозвали ее в Мекленбурге. От пьянства, от распутства герцогиня Екатерина распухла, разнесло ее вширь. Хохочет, пьет да еще вот дерется – как мужик, кулаками, вмах… А что с нее взять-то? Ведь она – дикая…
Феофан Прокопович – гость в Измайлове частый и почетный. Забьется в угол хором, горбоносый и мрачный, посматривает оттуда на разные комедийные действа… Вот и сегодня – тоже.
«О, свирепый огнь любви!» – сказала прекрасная Аловизия. «О, аз вижу земной рай!» – отвечал маркиз Альфонсо. «Я чаю ад в сердце моем». – «Хощу любити и терпети», – провыл маркиз (треснуло тут что-то – это фрейлина раскусила орешек). «Хощу вздыхати и молчати». – «Прости, прекрасная арцугиня», – отвечал маркиз (а рядом с Феофаном кто-то с хрустом поспешно доедал огурчик соленый). «Прошу, – сказал маркиз, – изволь выразуметь». – «Чего вы изволите?» – удивилась прекрасная Аловизия. «А что вы говорить хощете?..»
Веселая комедия «Честный изменник, или Фридрих фон Поплей и Аловизия, супруга его» закончилась. Феофан Прокопович крякнул, потянул за шнур кисет с часами. Тянул-тянул-тянул, но часики не вытягивались. Так и есть: обрезали. От часов остался один лишь шнурок на память вечную – неизбытную… Ах, так вас всех растак! Стуча клюкою, косматый и лютый, встал непременный член Синода перед Дикою герцогиней Мекленбургской:
– Голубка-царевна, уж ты не гневайся. Токмо опять обшептали меня людишки твои. Кой раз смотрю у вас материи комедийные – и по вещам одни убытки терплю. Плохо ты дерешь свою челядь…
Ближе к вечеру вздохнули у ворот запаренные кони, девки припали ртами к замерзшим окнам – оттаивали дырки для глаза:
– Батюшки, красавчик-то какой… Охти, тошно мне!
Сбросив в сенях плащ, залепленный снегом, легко и молодо взбежал наверх граф Рейнгольд Левенвольде – посланник курляндский и камергер русский. Разлетелся нарядным петухом перед герцогиней, ногою заметал мусор, тыкалась сзади тонкая шпажонка.
– Миленькой… сладкой-то, – пищали по углам девки.
Пахло в закутах водкой и потом. Пьяные лакеи храпели под лавками. С полатей соскочила слепая вещунья – вдова матросская.
– Сказывай паролю мне! – крикнула. – Не то из ружья бабахну!
– Никитишна, – велела ей герцогиня, – а ну приударь-ка!
Старуха, вихляясь, пустилась в пляс. Крутились нечистые лохмотья ее, посол кланялся, а Дикая смеялась. Провела она гостя во фрейлинскую. Полунагие, вприжимку одна к другой, лежали фрейлины. С просыпу терли глаза. Одна из них (совсем еще ребенок) громко заплакала… Герцогиня залучила посла в свои покои, завела разговор с ним – семейный:
– А что сестрица моя на Митаве? Пишет ли вам?
Левенвольде передал на словах: не лучше ли, сказал посол, Анне Иоанновне самой приехать на свадьбу царя в Москву, чтобы подарки иметь, но разрешат ли ей выехать из Митавы господа верховные министры, которые очень строги и денег не дают больше…
Мекленбургская дикарка погрозила красавцу пальцем:
– А вы, граф, все шалите? Говорят, с Наташкой Лопухиной?
Пальчиком, осторожно, Левенвольде стукнул ее по груди.
– Пуф-пуф, – сказал он, играючись…
Выехал из села уже за полночь. При лунном свете достал даренный впопыхах камень. Присмотрелся к блеску граней:
– Дрянь! – и выбросил любовный дар за обочину…
* * *
Вот из этого села Измайлова, словно из яйца, давно протухшего, и вылупилась герцогиня Анна Иоанновна, что сидела, словно сыч, вдали от России – на Митаве… Странная судьба у вдовицы!
Брак Анны был «политичен» и выгоден Петру I. Герцог же Курляндский, прибыв в Петербург для свадьбы, словно ошалел от обилия спиртного. Так и заливался русскими водками! Но едва не погиб от трезвой воды: такая буря была, такой потоп от Невы, что избу с новобрачными понесло прочь от берега – едва спасти успели. Наконец, отгуляв, молодые тронулись на свое герцогство – на Митаву. Но отъехали от Петербурга только сорок верст: здесь, возле горы Дудергоф, молодой муженек Анны Иоанновны дух спиртной из себя навеки выпустил…
И повезла она покойника к его рыцарям, а там, в Митаве-то, ее и знать никто не желал. Шпынять стали. Хотела уж домой ехать. Но из Петербурга ее удержали: «Сиди на Митаве смиренно!»
Да так и засиделась, пока рыцари к ней не привыкли. Без малого двадцать лет! Вернее, не сидела она, а – лежала. Вечно полураздетая, на душных медвежьих шкурах часами Анна Иоанновна лежала на полу, предаваясь снам, мечтаниям и сладострастью.
Глава седьмая
Глушь и дичь над Митавой («дыра из дыр стран не токмо Европских, но и ориентальных»). Краснея битым кирпичом, присел в сугробах древний замок курляндских герцогов. Уродливые львы на гербовых воротах, да ветер с Балтики мнет и треплет над крышею оранжево-черный штандарт.
Тишина… мгла… запустенье… скука…
Забряцал вдали колоколец, и паж Брискорн выбежал на чугунное крыльцо. Холеные лошади подкатили к замку возок. Из полсти его высунулась костлявая рука в серебристой перчатке (сшитой из шкур змеиных). На ощупь рука отстегнула заполог. Брискорн подбежал резво и покрыл поцелуями эту змеиную руку.
Отто Эрнст, славный барон Хов фон дер Ховен, потомок палестинских крестоносцев, ландгофмейстер Курляндии, зашагал прямо к замку. Пунцовый плащ рыцаря стелился по снегу, а на плаще – герб господень среди трех горностаев. Стальные ребра испанского панциря круто выпирали из-под кафтана барона.
– Что делает герцогиня, мой милый мальчик?
– Она убирает волосы, – ответил паж, ласкаясь к рыцарю.
В прихожей замка, увешанной кабаньими головами, жарко стреляли дрова в громадных каминах. За карточным столиком два камер-юнкера герцогини – Кейзерлинг и Фитингоф – лениво понтировали в шнип-шнап. Вскочили, загораживая двери:
– В покои нельзя. Ея светлость убирает волосы…
Но ударом ноги, бряцавшей шпорою, барон уже распахнул половинки дверей, и хвост плаща, сырой от снега, медленно втянулся за ним во внутренние покои… Анна Иоанновна сидела перед зеркалом; багровое мужеподобное лицо герцогини было густо обсыпано рисовой мукой, которая заменяла ей (ради экономии) пудру; сейчас она прицепляла к вискам покупные рыжие букли. Фон дер Ховен заговорил с нею властно:
– Великая герцогиня! До каких же пор вы будете испытывать терпение благородного курляндского рыцарства? Зачем вы посылали своего камер-юнкера Бирена в Кенигсберг? Этот выползок из конюшен герцога Иакова снова подтвердил свое подлое низкое происхождение…
– Не пугайте меня, барон. Что опять с ним случилось?
– Бирен опозорил ваше светлое имя… В непутном доме, с непотребными женщинами он проиграл ваши деньги, был пойман на грязной игре в карты и теперь сидит в тюрьме Кенигсберга!
Черные, как жуки, глаза Анны Иоанновны быстро забегали; даже сквозь слой муки проступили резкие корявины глубокой оспы.
– Правда, – усмехнулся барон, – Бирен пытался не называть своего имени, дабы поберечь вашу честь, герцогиня…
– Но? – повернулась Анна Иоанновна резко.
– Но, увы, смотритель Кенигсбергского замка знавал Бирена еще по университету, когда тот предавался ночным грабежам и воровству. И вот теперь Бирена каждый день лупцуют палками. За старые грехи и за новые! Но бьют его, ваша светлость, не как студента, а как… вашего камер-юнкера. Прусский король – скряга известный, за грош удавится, и он не выпустит Бирена, пока не получит сполна штрафы за все грехи Бирена…
Анна Иоанновна тупо смотрела в зеркала перед собой:
– Вы всегда были так добры ко мне, барон…
– Нет! – возразил фон дер Ховен. – На этот раз я не дам ни единого талера. Выручайте, герцогиня, своего куртизана сами. А не выручите – курляндское дворянство будет только радо избавиться от человека, который пренебрегает вашим высоким доверием.
Нога ландгофмейстера быстро согнулась в жестком скрипучем ботфорте, он рыцарски приложил к губам край платья герцогини и направился к дверям, волоча за собой шлейф плаща.
– И никогда! – сказал с порога. – Никогда, пока я жив, ваш камер-юнкер Бирен не будет причислен к нашему рыцарству…
В вестибюле замка, погрев зад у камина, фон дер Ховен обратился к Фитингофу и Кейзерлингу:
– Я говорил при герцогине нарочно громко, чтобы вы, молодые дворяне, слышали мою речь и сделали вывод, достойный вашего древнего благородного происхождения…
Паж Брискорн уже откинул заполог у возка.
– Мое милое дитя, – сказал ландгофмейстер и с отцовской нежностью потрепал мальчика по румяной щеке; лошади тронули…
* * *
В замке снова наступила тишина. Фитингоф с треском перебрал в пальцах колоду испанских карт, шлепнул ее на стол.
– Мы с тобою, Герман, всегда играли честно.
– Всегда, дружище, – ответил Кейзерлинг.
– Но между нами, оказывается, сидел опытный шулер… Мы только камер-юнкеры, но Бирен этот лезет в камергеры!
– Для этого Бирен имеет оснований более нашего…
Фитингоф потянулся за шляпой:
– Я не стану более служить светлейшей Анне, которая не желает иметь честных слуг… А ты, Герман?
– Не сердись: я остаюсь здесь… на Митаве!
– Прощай и ты, – вздохнул Фитингоф. – Я поеду служить курфюрсту бранденбургскому или королеве шведской… На худой конец, меня примет Август Сильный в Дрездене или в Варшаве. Мы, курляндцы, не последние люди в Европе, ибо умеем отлично служить любым повелителям мира сего… Прощай, прощай!
Тем временем Анна Иоанновна стерла с лица муку рисовую, вырвала из прически букли и, заголив рукава, словно перед дракой, толкнула низенькие боковые двери. Потайной коридорчик вывел ее в соседние покои, где селилось семейство Бирена. В детской комнате, возле колыбели, Анна Иоанновна расстегнула лиф тесного платья и дала грудь младенцу. Кормила маленького Бирена – Карлушу, как выкормила перед тем еще двух. А чтобы злоречивых наветов не было, женила Бирена на уродке, неспособной к материнству. Теперь герцогиня детей рожала, а Биренша под платьем подушки носила, притворяясь беременной…
Покормив младенца, герцогиня проследовала далее. Бенигна Готлиба, жена Бирена, урожденная Тротта фон Трейден, сидела на двух подушках. Маленькое, хилое, безобразное существо. Два горба у нее – спереди и сзади. И лицо – в красных угрях, глазки слепые, белесые. Такую-то жену и надо Бирену, чтобы не польстился он жить с нею любовно… Бенигна стихла, завидев герцогиню.
– Ну, – сказала ей Анна Иоанновна, – ты уже все знаешь. Да не жмись заранее: бить на сей раз не стану… Где у вас штатулка моя бережется?
Герцогиня выбрала из шкатулки драгоценности. И свои девичьи – дома Романовых, и мужнины – короны Кетлеров, и биренские – рода Тротта фон Трейден. Замухрышка-горбунья не пошевелилась. Тогда Анна Иоанновна прицелилась глазом и вынула из ушей ее серьги. Бенигна сама сняла с себя кольца, чем растрогала сердце Курляндской герцогини.
– Даст бог, – сказала Анна, – верну тебе все сторицей. А сейчас не бывать же твоим детям сиротами!
После герцогини явился к Биренше веселый Кейзерлинг. Дружески потрепал горбунью по костлявому плечу:
– Не плачь, Бенигна: когда одного мужчину любят две женщины сразу, такой мужчина не пропадет… даже в замке Кенигсберга!
– А как безжалостен! – всхлипнула горбунья. – Уже не студент, ему под сорок. Но стоит отъехать от замка, и он сразу вспоминает грехи своей юности. Пожалел бы детей, если презирает меня…
– Ну, милая Бенигна, – засмеялся Кейзерлинг, – о детях ты не должна беспокоиться… О! Что я вижу? В ушах остались только дырочки? Прости, Бенигна, я тебя тоже ограблю!
И нагло отстегнул от пояса жены Бирена ключ.
– Зачем тебе? – спохватилась женщина. – Отдай мне ключ!
Кейзерлинг с издевочкой шаркнул перед ней туфлей:
– Ваши конюшни в Кальмцее маленькие, но славятся своими лошадьми. Я до вечера возьму у вас жеребца. Так нужно! Поверь: я тоже хочу помочь тебе и… твоим детям!
* * *
На лесистой окраине Митавского кирхшпиля Вирцау, заслоненная от нескромных взоров навалами камней, приткнулась к озеру мыза фон Левенвольде. Две старенькие пушки с ядрами в пастях извечно глядят на дорогу – с угрозой. Скрипит на въезде в усадьбу виселица: крутятся на ней под ветром, вывернув черные пятки, висельники – рабы господ Левенвольде. А под виселицей – плаха, на которой отсекали левую ногу беглецам, и плаха черна от крови.
Сейчас на мызе, в окружении книг и собак, рабов и фарфора, отшельником проживал Карл Густав Левенвольде – лицо в курляндских хрониках известное. Недолго он пробыл фаворитом овдовевшей Анны Иоанновны и с умом (он все делал с умом) уступил Бирену любовное ложе. Зато убил двух бекасов сразу: сохранив приязнь герцогини, он приобрел и дружбу Бирена.
Брат же его, граф Рейнгольд Левенвольде, в короткое царствование Екатерины I пригрелся в ее постели, зато в графы и камергеры шутя выскочил. На Москве так и остался – посланником от герцогов курляндских… И теперь, на глухой мызе прозябая, Густав Левенвольде знал все, что происходит в России, – через брата Рейнгольда…
Был поздний час, вороны на снегу едва виднелись, когда усталый Кейзерлинг подъехал к мызе. Бросив поводья конюхам, прошел в дом, изнутри беленный, чистый, жарко натопленный. Густав Левенвольде угостил его вином, развалил ножом жирный медвежий окорок:
– Ешь, Герман, и пей, но только не молчи…
– Удивляюсь я Рейнгольду, – заговорил Кейзерлинг, уплетая окорок. – Как он не боится жить в Москве, где его ненавидят?
Левенвольде подлил гостю вина.
– Мой брат Рейнгольд под защитой барона Остермана, и пока Остерман на службе России, нам, немцам, бояться нечего…
Кейзерлинг неожиданно захохотал:
– Мы совсем забыли о женщинах! Скажи, милый Левенвольде, сколько сокровищ русских боярынь прячется в подвале твоего замка? Сколько русских княгинь разорил твой брат на Руси?
Левенвольде отвечал на это – черство, без улыбки:
– Мой брат очень красив… это верно. И он не виноват, что знатные дамы спешат одарить его за любовь. Тебя же, Кейзерлинг, я больше не держу. Возьми окорок на дорогу и – ступай!
Юноша понял, что задел больное место в славной истории рода рыцарей Левенвольде, и выплеснул вино в камин:
– Я больше не пью, а ты не сердись, Густав… Дело, по которому я приехал, отлагательства не терпит.
– Деньги? – сразу спросил Левенвольде, попадая в цель.
– Ты ловко выстрелил! – ответил Кейзерлинг.
– Опять герцогине?
– И да. И нет. Мимо ее рук – в Кенигсберг… Знаешь, что случилось с Биреном? А я хочу выручить этого шалопая и мота.
Левенвольде затих: было видно – думает. Прикидывает.
– Ну а зачем тебе нужен… Бирен? – спросил.
– Прости меня, Густав, – начал Кейзерлинг, – но… ведь ты был счастлив с герцогиней. Был? Не был?
Левенвольде мечтательно посмотрел в окно. Там чернели леса, там выли волки. Из буреломов несло жутью. Пять веков назад сюда, в этот лес, пришел с мечом и крестом из Люнебурга первый рыцарь из рода Левенвольде. Сколько вина! Сколько крови! Сколько костров, стонов, стрел, и вот… Кажется, род Левенвольде достиг вершины славы: один брат вкусил от русской императрицы, другой брат познал герцогиню Курляндскую… Что может быть выше?
– Не я один… – отозвался Густав. – Сначала у Анны был князь Василий Лукич Долгорукий, потом Бестужев-Рюмин, а за ним уже и я… Но, не умея ценить счастья, я тут же передал его другому… Так зачем же, ответь, ты хочешь выручить Бирена?
Кейзерлинг отложил тяжелую, как меч, старинную вилку, источенную в ветхозаветных пирах тевтонских рыцарей.
– Я патриот маленькой страны, что зовется Курляндией, – сказал он тихо. – Наша же герцогиня русская, а Россия – рядом, дорогой Левенвольде. Она большая и сильная, мы всегда зависим от нее. Кордоны слабы, а что будет дальше – не знаю. Посуди сам, откуда придет свет и благополучие?
– Вряд ли от России, – ответил ему Левенвольде.
– Ты сказал мне это, не подумав… Нам следует быть готовыми к любым конъюнктурам войны и мира, и даже негодяй Бирен может пригодиться… Ты подумай, Левенвольде; ты думаешь?
Левенвольде с улыбкой поднялся из-за стола.
– Я не глупей тебя… Сколько нужно? – спросил деловито.
* * *
Митавский ростовщик Лейба Либман – по просьбе самой герцогини – тоже был вынужден раскошелиться, и через неделю, таясь вором полуночным, Эрнст Иоганн Бирен вернулся из тюрьмы на Митаву. Стройный, рослый и гибкий, он легко шагал в темноте, раздвигая кустарники… Глаза его видели во мраке отлично, словно глаза кошки. Там, где Аа-река огибает предместье, далеко за кирхой и каплицей польской, он постучался в низенький дом. Лейба сам открыл ему двери и закланялся камер-юнкеру герцогини.
– Вот и вы, – поздравил его Лейба. – Господин Бирен всегда счастливчик! Вот уж кому везет…
– Слушай ты… низкий фактор, – ответил ему Бирен. – Если судьба меня вознесет, то – верь! – никогда не забуду услуг твоих.
Бирен вдруг нагнулся и пылко прижал к своим губам костяшки пальцев митавского ростовщика.
– Высокородный господин, – смутился Либман. – Стоит ли вам целовать руку низкого фактора, если дома вас ждут красивые жена и дети? Я верю в ваше высокое будущее…
И снова умолкло все на Митаве: тишина, мгла, запустенье, скука… Именно в этом году митавский астролог Фридрих Бухер нагадал Анне по звездам, что скоро быть ей русской императрицей.
– Да будет врать-то тебе, – смеялась Анна. – Мне от России и ста рублев не допроситься… Опять ты пьян, Бухер!
Это правда: Бухер был пьян (как всегда).
Глава восьмая
Дитя осьмнадцатого века,
Его страстей он жертвой был,
И презирал он Человека,
Но Человечество любил…
Князь П. ВяземскийНикакому курфюршеству не сравниться с Казанской губернией.
Разлеглась она у порога Сибири, в жутких лесах, в заповедных тропах бортников, редко-редко блеснут издалека путнику огни заброшенных деревень. Кажется, вся Европа уместится в этих несуразных просторах…
С востока – горы Рифейские и течет мутная Уфа, скачут по изумрудным холмам башкиры; с юга – степи калмыцкие, и бежит там Яик казацкий, река вольная, звонкоструйная; глянешь к северу – видать Хлынов-городок на реке Вятке, а далее уже шумят леса Вологодские; обернись на запад – плывет в золотую Гилянь величавая разбойная Волга. Но это еще не все: перемахнув через губернию Астраханскую, Казань наложила свою лапу и на Пензу – выхватила самый лакомый кусок у соседки и, обще с Пензой, притянула его к своим гигантским владениям.
Всем этим краем управлял один человек – Артемий Петрович Волынский, и вот о нем поведем речь свою.
* * *
День над Казанью так начинался: хлопнула пушка с озер Поганых – адмиралтейская, будто в Питере; зазвонили к заутрене колокола обителей. Потом забрались на башню Сумбеки татарские муэдзины – завыли разом, тошно и согласно.
И тогда Артемий Петрович Волынский проснулся…
– Бредем розно, – ни к чему сказал. – И всяк по себе разбой ведем… Помогай-то нам бог!
Одевался наскоро – без лакеев. Бегал по комнатам, еще темным, припадал на ногу, хромая. Год назад, когда въезжал в Казань, воевода чебоксарский палил изрядно. И столь угодничал, что пушку в куски разнесло, канонир без башки остался, людишек побило, губернатора в ногу ранило, а воеводу даже не нашли: исчез человек… Ехал тогда по чину: одной дворни более ста человек, свои конюшни и псарни. Дом на Казани расширил, велел ворота раздвинуть. «Сам-то я пройду в калитку, – говорил Волынский. – Да чин у меня высок – пригибаться не станет!»
То прошлое – теперь забот полон рот. Москва да господа верховники далече: сам себе хозяин, своя рука владыка, пищит люд казанский под тяжелой дланью… Смелой поступью вошел в опочивальню калмык во французском кафтане, по прозванию Василий Кубанец; Волынский его у персов откупил и для нужд своих еще из Астрахани с собою вывез. Кубанец протянул пакет губернатору:
– Ночью гонец из Москвы был с оказией верной… Вам дяденька Семен Андреевич Салтыков писать изволят.
– Положь, – сказал Волынский. – Ныне честь некогда…
Покряхтел, поохал. Дома нелады: детишек учить некому, жена в хвори. И лекарей изрядных нет на Казани: помирай сам как знаешь.
Прошел Артемий Петрович в канцелярию, велел свечи затеплить, а печей более не топить (был он полнокровен, сам по себе жарок), и секретарю губернскому велел:
– Воеводы – што? Пишут ли?.. Читай экстрактно, покороче, потому как зван я на двор митрополита, а дел немало скопилось…
От дел губернских к полудню взмок. Парик скинул, кафтан снял. У кого просьба – того в глаз. У кого жалоба – тому в ухо. Так и стелил челобитчиков на пол. Купцу первой гильдии Крупенникову полбороды выдрал. Тряслись руки подьячих. Сошка мелкая срывалась в голосе – «петуха» давала. «Запорррю!..» – неслось над Казанью. Просители, у коих и было дело, все по домам разбежались. Заперлись и закаялись. Только причт церкви Главы Усекновения высидел. В молитвах и в смирении, но приема дождался.
– Впустить кутейников! – распорядился Волынский.
Долгополые бились в пол перед губернатором.
– Ну, страстотерпцы, – рявкнул он на них, – врите… Да врите, опять же, экстрактно – лишь по сути дела…
«Страстотерпцы» рассказали всю правду, как есть. Церквушка Главы Усекновения стоит ныне по соседству с молельней татарской. И пока они там о Христе плачут, татаре шайтанку своего кличут. Но того не стерпел вчера ангел тихий и самолично заявился…
– Кто-кто явился к вам? – спросил Волынский.
– Ангел тихий…
– Так, – ничуть не удивился губернатор. – Явился к вам этот ангел. Как же! Ну и что он нашептал вашей шайке?
– И протрубил, чтобы, значит, не быть шайтану в соседстве. О чем мы и приносим тебе, губернатор, слезницу.
Волынский прошение от них взял, но кулаком пригрозил:
– Вот ужо, погодите, я еще спрошу этого тихого ангела – был он вчера у вас или вы спьяна мне врете?
Шубу оплеч накинул – не в рукава. Вышел губернатор, хватил морозца до нутра самого. И велел везти себя:
– На Кабаны – в застенок пытошный!
* * *
Приехал на Кабаны… Подьячий Тишенинов изложил суть: женка матросская, Евпраксея Полякова, из слободы Адмиралтейской, почасту в дым обращалась и сорокой была…
Волынский локтем спихнул мусор со стола, сел.
– Дыбу-то наладь, – велел мастеру голосом ровным.
Палач дело знал: поплясал на бревне, ремни стянул.
– Сразу бабу волочь? – спросил он хмуро…
Артемий Петрович взглядом подозвал к себе Тишенинова:
– Человече, сыне дворянской… Имею я фискальный сыск на тебя: будто ты сорокою был и в дым не раз обращался.
Тишенинов стал как мел и в ноги Волынскому – бух:
– Милостивец наш, да я… Всяк на Казани ведает: не был я сорокою, в дым не обращался я!
Волынский палачу рукою махнул:
– Вздымай его!
Ноги – в ремень, руки – в хомут. Завизжало колесо, вздымая подьячего на дыбу. Шаталась за ним стена, вся в сгустках крови людской, с волосами прилипшими…
– Поклеп на меня! – кричал Тишенинов. – Ковы злодейские!
Палач прыгнул ногами на бревно: хрустнули кости.
Двадцать плетей: бац, бац, бац… Выдержал!
Артемий Петрович листанул инструкцию – «Обряд, каково виновный пытается». Нашел, что надо: «Наложа на голову веревку и просунув кляп, и вертят так, что оной изумленный бывает…»
Прочел вслух и палачу приказал:
– Употреби сей пункт, пока в изумление не придет…
Опять выдержал! Только от «изумления» того орал истошно.
Волынский был нетерпелив – вскочил, ногою притопнул.
– Огня! – сказал. – С огнем-то скорее…
Воем и смрадом наполнился застенок казанский. Жгли банные веники. На огне ленивом Тишенинов показал, что сорокой он был и в дым часто обращался…
– А с женою, – подсказал ему Волынский, – случаюсь блудно по средам и пятницам…
– Случаюсь, – подтвердил с дыбы Тишенинов.
– И собакой по ночам лаю…
– Лаю, – упала на грудь голова…
Волынский табачку нюхнул, кружева на кафтане расправил.
– Вот и конец колдовству! Велите жену матросскую Евпраксею домой отпустить. Лекаря ей дать для ранозалечения из жалованья твоего, секретарь. Ты бабу чужую угробил на пытках, вот и лечи теперь ее… А тебя с дыбы можно снять.
Сняли. Тишенинов лежал на земле – выл.
Рубаха на нем еще горела…
– Прощай, секретарь! В другой раз умней будешь, – сказал Волынский. – С пытки-то и любой в колдовстве признается…
Заскочив домой ненароком, чтобы жену спроведать, Артемий Петрович позвал калмыка-дворецкого:
– Мне, Базиль, татаре сей день на ноготь сели. Или раздавлю их молельню, или оставлю. Знать, подношение тайное будет. Прими.
– Нам што! – ощерил зубы Кубанец. – Мы примем что хошь…
Волынский на него глянул, будто ране никогда не видывал:
– Зверь, говорят про меня. А вот ты, Базиль, калмыцкая твоя харя, скажи – тронул я тебя хоть пальцем?
– Нет, господине, меня не били, – заулыбался дворецкий.
– Ну, так жди: скоро быть тебе драну…
Потом письмо из Москвы от Салтыкова[2] читать стал:
«И не знаю, для чего вы, государь мой, себя в людях озлобили? Сказывают, до вас доступ очень тяжел и мало кого допускать до себя изволите. Друзей оттого вам почти нет, и никто с добродетелью об имени вашем помянуть не хочет. И как слышим на Москве, что обхождение ваше в Казани с таким сердцем: на кого осердишься – того бить при себе, а также и сам, из своих ручек, людей бьешь… Уж скажи ты мне по чести: не можешь ли посмирней жить?»
* * *
Через ворота Тайницкие, из Кремля казанского, возок губернатора вынырнул. Сшибли лошади самовары с горячим сбитнем, насмерть потоптали бабу с гречневыми блинами на масле.
– Пади-и-и-и… ади-и-и-и! – разливались форейторы.
А на подворье – тишь да благодать. Попахивает вкусными смолками. Монахи сытеньки. Девки матросские им полы даром моют (для бога, мол). Половики раскатывают.
– Зажрались, бестолочи! – И разом не стало ни баб, ни монахов: это Волынский ступил на крыльцо архиерейское…
Митрополит свияжский и казанский, Сильвестр Холмский, мужчина редкой дородности. Нравом же крут и обидчив. Бывал бит, а теперь сам людей бьет. «И буду бить!» – грозится…
Губернатора благословил, однако, с ласкою.
– Господине мой! Причту церкви Главы Усекновения опять знамение свыше было. Чтобы убрать молельню поганую от храма святого!
Волынский похромал по комнатам, руками развел.
– Дела господни, – отвечал, – не постичь одним разумом. Едва клир ваш от меня убрался, как мне тоже видение свыше было. Сама богородица на стене кабинета моего явилась, плачуща…
– Дивно, дивно, – призадумался Сильвестр.
– Убивалась она, что причт-то ваш пьянствует. В наказание, мол, и молельня татарская поставлена с храмом рядом.
Сильвестр руки на животе сложил, намек раскусил.
– Ну ладно, коли так… Нам, убогим, с богородицей-то и совладать бы, а вот с губернатором спорить трудно!
Обедали постненько. Но винцом грешили. Сильвестр обиды не таил противу синодальных особ – так чистосердечно и высказался:
– Феофан Прокопович ныне высоко залетел. От него поруганий много идет. Феофану волю дай – стоять нам в крови по колено… Ох и лют!
– Лют, да умен, – отозвался Волынский.
– А был бы умен, так за умом к Остерману не бегал бы!
Волынский отмахнулся – с неба на землю сошел:
– Ныне вот Долгорукие повыскакивали. И патриаршеству, коли быть ему снова, в патриархи князя Якова Долгорукого прочат.
Сильвестр вкусно обсосал стерляжью косточку:
– Слыхал я, какой-то нонеча латинянский писатель на Москве объявился… Жюббе-Лакур, кажись, эдак кличется. Вот от сего писателя дух папежский и прядает. По ночам, сказывают, куда-то ездит, советы тайные с верховными да духовными особами имеет…
В разговоре митрополит вдруг по лбу себя хлопнул:
– Артемий Петрович, чуть было не забыл… Ты уж стихарь-то верни в монастырь!
– Какой, ваше преосвященство? – удивился Волынский.
– Да тот… уборчатый… Для супруги брал. Чтобы узоры для шитья трав дивных за образец взять.
– Так я же вернул его вам!
– Вернул, сие правда. А потом дворецкого Кубанца присылал. И тот опять взял. Дабы рисунок поправить. А стихарь-то, сам знаешь, много богат. Одного жемчугу с пуд на нем!
– Нет, – построжал Волынский, вставая, – не брал мой дворецкий стихаря у вас. Вы сами пропили его всей братией, а теперь на меня клепаете…
Сильвестр побледнел. Стихарь-то еще от Иоанна Грозного, ему цены нет, по великим службам им требы духовные пользовали.
– Едем! – гаркнул митрополит. – Едем к тебе, и пусть калмык твой, рожа его маслена, скажет: брал он стихарь или не брал?
* * *
Кубанец посмотрел на митрополита, потом на губернатора:
– Нет, не брал. И не видывал… На што он мне?
– Ты крещен или в погани живешь? – спросил Сильвестр.
Дворецкий вытянул из-под кафтана французского крест:
– Господине мой крестили меня – еще в Астрахани…
– Так бога-то побойся, – умолял митрополит. – Не бери греха на душу… Где стихарь, такой-сякой-немазаный?
– Розог! – распорядился Волынский, вечно скорый на руку.
Но и под розгами орал калмык, что не брал второй раз стихаря. И не видывал его! Кровь забрызгала лавку, отупело глядел Сильвестр на исполосованную спину раба, потом встал:
– Пропал стихарь… Отныне, губернатор, ты враг мне первый!
Волынский к ночи навестил драного дворецкого. Сунул под голову Кубанца кисет с деньгами:
– Вот и ты дран, Базиль… Да ништо! Теперь я в тебя верю. Крепок раб мой, буду и я к рабу моему крепок…
Жемчуга да камни драгоценные от стихаря отпорол, пришел к жене и обсыпал ими всю постель жены, умирающей без врачей и лекарств. Приник к ней, плача, весь трясясь:
– Не оставь меня, Санюшка, с детками малыми…
* * *
Артемий Волынский давно принадлежит истории – как патриот, как гражданин. Но образ этого человека слишком сложен и противоречив. «Дитя осьмнадцатого века», он жил законами своего времени – трудного и жестокого. Дурное в нем отлично уживалось с добром. Он был достаточно образован, чтобы не верить в колдовские чары, но, спасая бабу от пытки, Волынский пыткой же доказывал палачу, что колдовства не существует. Волынскому ничего не стоило украсть из церкви стихарь, чтобы утешить слабеющие взоры умирающей жены… Пытошный огонь, никогда не страшивший его, позже и очистит нам образ Волынского, и он предстанет пред нами в истинном своем свете – как патриот, как гражданин!
Именно Волынский и станет нашим главным героем…
Глава девятая
Из дома отчего переехала невеста царская во дворец Головинский – к престолу поближе. Своих подружек во фрейлины приблизила. И повсюду – гербы орляные (хищноголовые, коронованные). Сорочки исподние, кои из дома вывезла, и те отдала Катька белошвеям-монашенкам с таким наказом:
– Всупоньте в кружева орлов царских. Отныне я ничего простого нашивать не стану…
Закинула подбородок еще выше. Целая копнища темных волос сверкала, убранная камнями и перлами гурмыжского жемчуга. Похорошела княжна изрядно – стать-то какова! Даже батька ее, князь Алексей Григорьевич, и тот робел перед нею.
С ножом к горлу лезла Катька на брата Ивана:
– Где бриллианты царевны Натальи? Доколе мне ходить только в одних фамильных? Дашь или не дашь?
– Не дам, – отвечал Иван. – И без них ты хороша, ведьма…
В день великомученицы Екатерины царская невеста получила титул: «Ея высочество». Катили к подъезду Головинского дворца кареты: сановные старцы, дипломаты, сенаторы, генералы – всяк спешил поздравить ее. И гремели перед Катькой пышные роброны, склонялись перед нею плечи статс-дам, сверкали эполеты, сыпалась с париков розовая пудра, взлетали шляпы иностранных послов.
А над улицей возводили триумфальную арку, под которой будущая царица должна в день обручения под венец проехать.
Свадебная та арка. Для куражу она!
Народ называл ее «трухмальной»…
* * *
Еще с вечера сорок карликов, попискивая, раскатали тяжелину ковра персидского. Во всю ширь палаты Лефортовского дворца раскрылись цветы восточные – цветы нездешние. Был ставлен стол, закинули его парчою. А поверх водрузили ковчег чистого золота; в ковчеге – крест. По бокам от него – тарелки «уборные»: в каждой по кольцу обручальному, а в кольцах тех – диаманты чистые.
– Эй, косой! – позвал Иван Долгорукий.
Старик преображенец князь Юсупов, вояка матерый, рубленый, подбежал к фавориту и подставил ему тугое ухо:
– Говори, князь Иванушко, чего-сь надобно?
– Дело таково, татарин… Батальон гвардии Преображенской тишком вводи во дворец Лефортовский. Да в палате обручальной ставь в ряд. Остальные пусть в покоях вахтируют.
Торжественный кортеж уже отъезжал от дворца Головинского. Посреди золотой кареты, в шестерню цугом впряженной, сидела прибранная невеста. Тучу волос стянули ей в четыре косы, к темени прикрепили корону. Маленькую – с яблоко. Платье на Катьке серебряное, с фалбалами, чешуей отсверкивает. Будто рыбка, поплывет сейчас княжна навстречь счастью своему (или несчастью?)…
Иван отодвинул дверцу кареты, шевельнул губами:
– Готова ль ты, сестрица моя?
– Вели ехать, брат. Но в остатный раз пытаю тебя по родству: дашь ты мне бриллианты царевны Натальи?
– Отстань, язва персицка! – отвечал князь Иван…
На крышу кареты с невестой водрузили – честь честью – большую корону, крикнули на козлы:
– Езжай с опаской и бережением… Не сковырни корону!
Тронулись… Первыми – камергеры, за ними князь Иван – отдельно (как обер-камергер). Бежали скороходы в ливреях, трясли в колокольчики. Скакали почтальоны и трубили в рога. Ехал сердитый шталмейстер Кошелев и мрачно махал жезлом…
Вот опала снежная пыль на дороге, и ахнула толпа:
– Гляди-ка – еще следом прутся!
– А кто же это таки будут?
– Долгорукие, бабка, едут… кланяйся!
– Охти, спина моя. Согнусь аль не согнусь?
С лицом без кровинки, губу закусив, величаво проплыла в стеклах кареты невеста. Катила за ней маменька с сестрицами. Плясали вокруг жеребцы гайдуков, пестрели одежды пажей. Ехали и дамы-кавалерши в лентах: Чернышева, Ягужинская, Черкасская да Остерманша (Марфутченок). Бежал следом за ними народ. Московский народ – любопытный. Иные через всю Москву лапти трепали – и недаром, как выяснилось. Под конец шествия случилось такое, что было потом о чем вспомнить.
Высокая карета с невестой на въезде в ворота дворца Лефортова зацепилась верхом своим за перекладину. И грохнулась корона наземь. Покатилась, громыхая, будто ведро пустое.
– Стой!.. Ах, ах… Осади назад… езжай далее!
Растерялись провожатые. Катька звон услышала, выглянула из кареты. А там, разбитая в куски, лежала под копытами лошадей ее царская корона… Еще не ношенная!
– Не бывать свадьбе! – кричал народ московский. – Примета больно худа… Слезай, невеста, приехала! Грешна, видать, ты…
Дернули лошади – осколки звякнули. Тоненько, словно плача.
«Не танцевать мне в Вене, не веселиться…»
– Тпрррру-у…
И заиграла музыка – начались любовные канты.
* * *
Славный боевой фельдмаршал, Василий Владимирович (тоже из Долгоруких), прибыл к свадьбе с самого Низу – из корпуса Низового,[3] над коим держал команду в землях, у Персии отвоеванных.
Желтое бельмо заливало глаз ветерана.
Удивленно озирал старик мундиры в карауле.
– Робяты, – спросил у солдат, – вы ж какого полка?
– Твоего, князь.
– Но я вас, мать вашу так, сюды разве ставил?..
Алексей Долгорукий оттянул ветерана в уголок.
– Василь Владимирыч, – зашептал на ухо, – коли сам ты есть Долгорукий, так на што рыпаешься? Это мы преображенцев сюды расставили. Шипят на Москве, противу фамилии нашей козни строят. Как бы чего не вышло! А на штык гвардии, чаю, не полезут…
Под музыку любовных кантов невеста уже вышла из кареты.
Вахта ей салют учинила, но без боя барабанного (дабы старух придворных не испугать). Внизу дворца Катьку встретила и приголубила бывшая царица Евдокия Лопухина, а ныне старица-монахиня.
– Касатинька… невестушка, – шептала старая добрая Евдокия, а по иконному лику ее – кап-кап – слезы, мутные; может, вспомянула старая сны молодые в кельях да казематы шлиссельбургские?
Только три кресла, зеленым бархатом крытые, стояли в обручальной палате: для царя, для невесты и для бабки-царицы Евдокии, чтобы старость ее уважить. Принцессы крови (сестры Иоанновны и цесаревна Елизавета) да еще Долгорукие – те сидели на простых стульях. А более никто сиживать права не имел…
Невеста поглядывала на всех с презрением явным.
Петра (во всем светлом, серебром шитом) вывели господа верховники. Пасмурно посматривал император вокруг себя. К невесте подошел, в кресло опустился. С минуту сидели жених и невеста, друг на друга глядя. Глаза в глаза, зрачки в зрачки.
Затихло все. Только дипломаты: шу-шу-шу-шу…
– Я готов! – вскочил император, и на запястье Екатерины надел тяжелый браслет со своим портретом. Тогда шесть генералов (из коих два иноземца) взялись за штанги и растянули над аналоем покров балдахина, как шатер. Заплескались алые шелка, в палатах повеселело. И запели голоса – высоко-высоко…
Воздев руки, Феофан Прокопович встал под балдахином. Евангелие протянул для поцелуя царю сначала, потом Долгорукой. После чего жених невесте поклонился, а невеста жениху. В бороде Феофана затаилась усмешка – коварная. «Коротко царствование сие, но второй раз обручаю царя… Что-то бог даст и этой?..»
Краткую речь произнес фельдмаршал Долгорукий (бельмастый).
– Твоя фамилия, – сказал невесте, – слава всевышнему, богата и занимает посты высокие. А ежели тебя, по прихлебству известному, станут просить о милостях кому-либо, ты хлопочи не в пользу имени, но лишь в воздаяние заслуг подлинных…
Эта прямая речь мало кому понравилась. А окна уже тряслись от грохота пушек. Старцы стали прихорашиваться, как петушки. Петр держал руку Екатерины в своей, давая ее для поцелуя каждому, кто подходил по порядку очереди. Все шло чинно и благопристойно… Глаза у невесты были опущены – даже не глядела, кто там прикладывается. И вдруг побледнела, а руку свою из руки царя вырвала – заметила Миллезимо. Нет, любила она его, любила, любила… И руку свою сама венцу красивому протянула.
– Прощайте, граф, – произнесла в боли сердечной…
В боковых апартаментах дворца толпились дипломаты, и они видели, как граф Вратислав вышибал на улицу Миллезимо.
– Болея апоплексически, – оправдался посол, – не углядел я, как он проник в палату обручальную… Еще один такой амур, и меня отвезут в Вену, но уже залитым воском… В Вену его!
Впрочем, дипломатов занимало сейчас совсем другое. Обручение русского царя с Долгорукой спутало многие карты в европейской игре: одним выгодно, другим – ужасно… Посол Пруссии, барон Вестфален, скупой и вечно голодный, тут же вспомнил инструкцию из Берлина: помалкивать и более других слушать.
– Моему королю этот брак кажется весьма странным, – сказал он вскользь, скривив рот, и больше он уже ничего не скажет.
Зато посол Дании в пику Голштинии (что Дании была враждебна) высказал большую радость от имени своего короля:
– И эта радость будет всемерно расти с каждым наследником, рожденным от Долгорукой, чтобы никогда иноземный род не имел притязаний на престол Российской империи!
Это полетела палка в голштинский огород, где уже созревал, словно огурец, один наследник, и в посольских рядах заволновались.
– А вот это уже свинство! – выразился посланник Бонде. – Наша прекрасная Голштиния имеет права на престол русский. Сын Анны Петровны, принц Петр Ульрих,[4] растет не по дням, а по часам. Господа! Смею вас заверить: слезая с горшка, он уже сам застегивает на себе гульфик. И мы, голштинцы, не жалеем масла и розог, чтобы он вырастал сильным и мудрым…
Барон Габихсталь представлял Мекленбург, иначе – Дикую герцогиню с дочерью и ее мужа, сумасшедшего палача – герцога Мекленбургского.
– Но, – сказал Габихсталь, – герцогиня Екатерина Иоанновна привезла в Россию свою дочь Христину…[5] И, если ее сочетать браком со здоровым немцем, она родит кучу наследников для России… Господа, я удивлен вашим невежеством: как можно забыть про великий Мекленбург?
Посланник Курляндии, граф Рейнгольд Левенвольде, понял, что молчать далее ему никак нельзя. И он сказал – обиженно:
– Напрасно здешний двор не поддержал наших мудрых предложений. Герцог Фердинанд Курляндский[6] хотя и сварливого характера, но мужчина еще в соку и к супружеству способен. Он уже предлагал свою руку и сердце цесаревне Елизавете Петровне, и напрасно цесаревна отказала ему. Этим браком породнились бы две ветви Романовых – Ивановны и Петровны!
Над париками вдруг раздался чей-то жесткий смешок. Дипломаты обернулись, дабы взглядом уничтожить дерзкого. А это смеялся аббат Жюббе, невозмутимо перебиравший четки.
– Синьоры! – сказал он. – Почему я не слышу здесь голоса еще одного посланника? А именно – цыганского, ибо, мне думается, цыгане тоже не откажутся от прав на престол России…
Рядом с аббатом замерла пышнотелая красавица с низко вырезанным лифом платья. И была она столь обворожительна в греховной красоте своей, что дипломаты разом притихли. Это была духовная дочь аббата Жюббе – княгиня Ирина Долгорукая, урожденная княжна Голицына. Аббат Жюббе, тайный посол от Сорбонны, тоже имел строгую инструкцию: «Следовать во всем откровению, которое угодно богу будет ниспослать вам в Московии для соединения этой великой церкви с латинскою…» А княгиня Ирина, думалось аббату, сомкнет рознь двух великих фамилий – Голицыных и Долгоруких…
Целование руки закончилось, но еще долго стреляли пушки.
* * *
Здесь пушки не стреляли, но пел хор рязанских ямщиков, а Иогашка Эйхлер усердно дул во флейту. Был день сочельник, роскошные палаты Шереметевых на Воздвиженке ломились от гостей, «свадебные комиссары» покрикивали:
– Господа, не стой посередке. Лучше к стенкам жмись, а то как бы полы не рухнули…
Темнело уже, полыхали со двора смоляные бочки. Били на улице два фонтана – винный и водочный. От жареного быка шел пар.
Наташа стояла – рука в руку – с князем Иваном, а перед нею складывали дары свадебные: родовые кубки с гербами, фляши золотые, часы разные с музыкой немецкой, квасники и поставцы, бочата порцелена саксонского, зеркала венецианские и канарские, серьги, перстни, табакерки… Брат Петя Шереметев – словно откупился от сестры: подошел, шесть пудов серебра в слитках сложил к ногам Наташи и, ничего не сказав, откланялся. И вдруг глаза невесты загорелись – обрадовалась она.
– А вот и готовальню голландскую дарят, – шепнула Ивану…
Впустили дворню с кормилицей. Мужики в чистых онучах, бабы в лапотках, рты платами закрыв, в ноги кланялись. И поднесли тоже невесте: пирог с рябиною, варежки домовязаные да пеленки детские, искусно шитые.
По отцу-фельдмаршалу, что мужиков не обижал, чтил народ и дочь его Наталью Борисовну. Долгорукий смотрел на свою невесту сбоку: «Совсем дите малое…» – думал.
А ночь застала жениха в доме Трубецких, где шумствовали. У князя Ивана давно грех был с Анастасией Гавриловной, дочерью канцлера. И, опьянев, стал он водить ее от гостей в комнаты дальние для блуда. А муженек – Трубецкой, хотя и зять канцлера, но фавориту царя не смел перечить: пусть водит, от жены не убудет. Только единожды, когда Ванька стал на гостях уже «рвать» Настасью, он робко и тишайше вступился:
– Князь Иванушко, у вас теперича и своя утеха есть. Почто княгинюшку мою безжалостно треплете?
За такие дерзкие слова Долгорукий стал Трубецкого в окно выбрасывать. Несчастный супруг гузном стекла выдавил, взывал к Алексею Григорьевичу:
– Уйми сына своего… не дай в сраме погибнуть!
– Мой сын, – отвечал отец, – молодечество свое показывает. Покажи и ты свое молодечество!
Легко сказать – покажи, когда уже над улицей виснешь.
– Гости мои дорогие, будьте хоть вы заступниками хозяину!
Тут сбоку Иогашка Эйхлер подвернулся, князя спас, а Ивана домой отвез. Наташа плакала утром, корила:
– И дня не миновало… Где же твои слова, князь Иван, что все хорошо будет? Не рушь чужих семей – и своя не порушится!
Долгорукий виноват был – встал перед ней на колени:
– Наташенька, ангел мой, скажи: чего ты желаешь?
– Уедем в деревню с тобой. Близ царей – близ смерти…
Вскоре вся фамилия Долгоруких собралась на семейный совет.
– Дела неустойчивы, – затужил князь Василий Лукич. – Народ-то простой вроде бы и рад, что царь не на немецкой принцессе женится. Да вот шляхетство-то служивое ропщет.
Мутно слезилось бельмо в глазу фельдмаршала.
– Нет, не напрасно роптает Москва! – заговорил князь Василий Владимирович. – Двенадцать тыщ холопьих дворов получил ты, князь Алексей, от царя… А за што? Может, трактамент выгодный заключил? Или в войнах ироикой упражнялся? Или доходы государства нашего бедного ты преумножил? Какую пользу принес ты?
Брат фельдмаршала – Михаил Долгорукий (губернатор Сибири), что прибыл из Тобольска свадьбу играть, кулаком по столу рубанул в гневе:
– И княжество Козельское, что в Силезии от Меншикова бесхозным осталось, – на кой ляд оно тебе? Даже в Горенках своих порядка не умыслишь, а уже в Силезию залезаешь? Худые, князь Ляксей, слухи идут: будто ты, по примеру покойного Меншикова, еще и титула князя Римской империи домогаешься? Так или не так?
Дядька царя от нападок Владимировичей заикаться стал:
– А че-че-чем я Меншикова хуже? Он породил невесту для царя, и я породил. А что мне руку люди целуют – так вам, братики, просто завидно стало. Оттого и грызете меня!
Василий Лукич руку поднял, споры прекращая.
– Торопиться свадьбою надо, – сказал веско. – Кольцо еще не кандалы, а жених – не каторжник… Как бы не сбежал царь от Катьки нашей! Недаром по ночам к тетке своей, Елисавет Петровны, в слободу Александрову ездит. А что он там делает? Еще привалится к ней, к тетке-то… Не дай бог! Девка она сладкая, недаром солдатами вся облипла, словно пряник мухами…
– В монастырь ее, – загалдели кругом. – В монастырь Лизку!..
Свадьба царя была назначена на 19 января следующего, 1730 года. Москва шумными пирами праздновала свадьбу загодя. Отовсюду, из самых глухих деревень, утопая в сугробах провинций, ползли по дорогам России возки, колымаги и сани.
Не только знать – мелкотравчатые тоже копились на Москве табором, и здесь их сразу шибали сплетнею:
– Долгорукие-то, Нефед Кузьмич, совсем Русь под себя подмяли… Как бы нам, шляхетству, насилия какого от них не стало! Фамилия-то ихняя, сам знаешь, весьма велика…
– Того не допустим. Нас, маленьких да сереньких, больше!
* * *
Герцог де Лириа, кутаясь в жидкий мех, отогревал за пазухой собачонку-трясучку, писал скоро, без помарок, решительно:
«…батальон гвардии еще находится наготове вблизи дворца и держит караул в комнатах, в которых живет фаворит. Изо всего этого высокий ум моего короля поймет не только то, что в этом браке руководит единственно честолюбие (царь-мальчик отдается в руки Долгоруких без понимания сущности дела и с безразличием), но и то, что князья Долгорукие боятся народа, привычного к заговорам и возмущениям…»
Собачка выставила мордочку, нюхнула ароматное жабо хозяина.
– Сю-сю, моя прелесть, – сказал ей герцог де Лириа. – Какой негодник этот король, что заслал нас в эту ужасную страну!
И стал писать далее – о цесаревне Елизавете Петровне:
«…красота ее физическая – это чудо, грация ее неописанная, но поведение с каждым днем все хуже и хуже. Принцесса Елизавета без стыда совершает вещи, которые заставляют краснеть даже наименее скромных».
Глава десятая
Александрова слобода – место страшное, народом проклятое. Лютовал здесь царь Иван Грозный, жег людей на огне, нагишом гонял их по снегам, и плясали здесь опричники – в вое и смерди. Отсюда Грозный пошел кровь пролить в Новгороде, здесь принимал послов иноземных, здесь женил сына на Сабуровой, здесь он посохом убил сына, здесь и сам поды – хал в страшных муках…
Но все забылось с тех пор, как цесаревна Елизавета получила слободу в вотчину. Перед окнами дома ее – площадь, где базар, а там ветлы шумят и качели взлетают. Соберет она баб да девок, обнимет Марфу Чегаиху, подругу деревенскую, и поют – до слез. На святках ряженые придут – угощенье бывает: пряники-жмычки, стручки цареградские, орехи каленые, избоина маковая. А коли выпьет царевна, то подол подберет да пойдет вприсядку…
Был при Елизавете и придворный штат, как положено. Даже свой поэт был – Егорка Столетов, музыкант и любовных романсов слагатель. Сядет он вечерком за клавесины и поет:
Ох, рана смертная в серцы стрелила, Ох, злая Купида насквозь мя пробила…– Да замолкнешь ли ты, скверна худа? – кричит Елизавета. – Алешенька, друг милый, дай ты ему по шее… Чего он воет?
Алешенька – новый друг цесаревны. С тех пор как Сашку Бутурлина в Низовые полки выслали, пошла любовь горячая от сержанта Алексея Шубина, помещика села Курганиха, что в шести верстах от слободы Александровой…
– Тоска-то какая, господи! – жаловалась Елизавета по вечерам. – И куда ни гляну, одни рожи каторжные вижу…
В самом деле – и Егорка Столетов и Ванька Балакирев были драны еще при батюшке крепко, в Рогервике сиживали, из моря камни доставали и в бастионы их складывали. Елизавета обоих (и шута и поэта) не шибко жаловала.
– Изюмцу хочу, – капризничала. – Изюмцу бы мне!
– А где взять-то? – вопрошал Шубин. – Я не побегу… Эвон сколь бездельников по лавкам лежат. Пусть Егорка и стегает!
– Я, – обиделся Столетов, – весь в думах пиитических пребываю. Мне то неспособно. Пусть Балакирев лупит, ноги-то бойкие!
Иван Емельянович Балакирев, услыхав, что его посылают, пихнул с лавки Лестока – хирурга цесаревны:
– Отъелся, как свинья на барде. Сбегай, или не слышал?.. Тебе, французу, не впервой на собак наших сено косить!
Жано Лесток продел ноги в валенки. Побежал – принес изюму, вина, пряников. Снова раскидал валенки, один туда, другой сюда.
Цесаревна взяла изюминку, а Шубин рот открыл.
– Чай, сладкая попалась, друг мой Алешенька?
Балакирев, распахнув мундир полка Семеновского, гоголем прошелся через светелку:
– Чай да кофий – не к нутру: пьем винцо мы поутру.
– Коли делать нечего, – подхватил Шубин, – допиваем к вечеру… Разливай! Пьем да людей бьем.
Балакирев кулак поднес к носу Егорки Столетова.
– А кому это не мило, – сказал, – того мы – в рыло!
– Сядь, Емельяныч, – велела Елизавета. – От тебя у меня голова трескается и в глазах рябить стало…
– Я сяду, царевна-душенька. Ныне я, опосля каторги, тихий стал. Ныне мной – хоть полы грязные мой: сам выжмусь!
Забулькало вино. При сиянии свечей медью вспыхивали рыжие волосы цесаревны. Приплюснутый нос ее дрожал от смеха. Сидела среди мужчин в штанах солдатских, ногами болтая. Хмелела.
– У княжны Катерины, – рассказывала, – на животе вот такое пятно. И на месте видном. То не к добру ей… приметно!
– А у вас? – спросил Лесток. – Где у вас пятно?
Елизавета в лоб хирургу медовым пряником – тресь.
– Знаешь – так молчи! Не про тебя растут мои пятнышки…
Прямо с мороза, в санях продрогшие, ввалились еще двое гуляк. Алексей Жолобов – президент штатс-конторы и Петька Сумароков, что ходил в адъютантах у графа Ягужинского.
– То-то нос чешется, – засморкался в тепле Жолобов. – Они, и правда, винцом балуются… Здравствуйте же, наша красавица-матушка, наша цесаревна-голубушка, Елисавет Петровны!
Балакирев тянул Жолобова за стол:
– Ты с нами попей – увидишь скоро зеленых чертей!
– Маврутка, – кликнула Елизавета, – тащи посуду пошире…
Мавра Шепелева, подруга цесаревны (тоже в штанах солдатских), расставила кубки, ударила по рукам президента Жолобова:
– Не лапайся, хрыч старый, каторжник окаянный!
– Да ты меня с Балакиревым-то не путай, – обиделся Жолобов. – Меня пронесло пока мимо каторги. Не бывал пока в катах.
– Да что с того, что не бывал? По морде видать – будешь…
– Тихо! – гаркнул француз Лесток. – Не забывайте, что здесь находится ея высочество – наша государыня-цесаревна…
Елизавета фыркнула, округлив глаза зеленые:
– Я думала, Жано, ты дело скажешь. Гаркнул так, что в ушах звенит… Ну-ка, Петрович, – повернулась она к Жолобову, – распотешь компанию. Поведай, каково ты живал в краях курляндских?
Жолобов куснул пряник (зубы желтые, каждый – в ноготь):
– Эх, матушка! Ну, кажинный день бывал пьян с поведением…
– Это как… с поведением?
– А так: водили меня два кавалера под руки, сам уже не ходил. А он-то – боялся. В митавской остерии хотел стул от меня брать, так я обернулся скоро и… Так в стенку его вклеил, что он даже мякнул!
– Про кого говоришь-то? – спросил Сумароков.
– Чуть что, бывало, – продолжал Жолобов, – я его бить! Ботфорты ношены дал. «Чини!» – говорю. Уж не знаю, сам ли чинил или на сторону давал, только вернул, гляжу – чинены!
– Да о ком ты это?! – заорал Шубин.
– Да все о нем… о Бирене, что с Анной живет чиновно.
– А-а-а, – догадался Шубин, зевнув протяжно.
Елизавета ему изюминку туда – раз!
– А эта небось слаще, Алешенька!
– Тьфу! – сплюнул Шубин. – Разливай. Вино не берет меня.
– Дурной башке и хмель не брат, – заметил Столетов.
Шубин, не долго думая, треснул поэта в ухо.
– Верно, Ляксей, – подзадорил его Балакирев. – Чтобы чужие тебя боялись, надо поначалу своих отлупцевать…
И, развернувшись, сшиб с лавки хирурга. Лесток залетел под стол – кусил цесаревнина фаворита за ногу. Шубин от боли подскочил – стол опрокинул. Попадали тут и потухли свечи. В темноте визжала цесаревна Елизавета:
– Ой, мамоньки мои! Да кто ж это щекотит так меня?..
Кое-как угомонились. На дворе звонко запел петух.
– Не в пору запел, – заметил строгий Сумароков. – Видать, будут от государя указы новые…
Двери захлопали, и – на помине легок – вошел император.
Оглядел пьяную компанию, сказал:
– Тетушка, изгони всех. Скучаю вот. Тебя видеть приехал…
* * *
– Надобно нам, – рассуждали верховники, – уже не о новых викториях мыслить, а удержать хотя бы то, что от прежних викторий осталось. Россия сильна мужиком и хлебом! А налоги безжалостны столь изнурили Русь, что платить мужик более не способен. Передых ему надобен! Мужик и солдат, как душа и тело наши, – едины: не будь крепкого мужика на Руси, кто же тогда Россию оборонит от врагов наших?..
И недоимки мужикам министры в царствование Петра II скостили, а офицеров, кои палками налог выколачивали, из деревень убрали.
Вроде и полегчало. Русь передохнула. Замычали на пажитях коровенки, пошли стрелять в пику овсы, зацветала гречиха. Мужик торговал с мужиком, деревня с деревней, город с городом, губерния с губернией. Жить на Руси стало вольготнее… Князь Дмитрий Голицын дела мужицкие (дела хлопотные и нудные) к своим рукам в Совете прибрал, а помогал ему в этом Анисим Маслов, секретарь. Бывало, с разбегу спотыкалось перо в руке князя Голицына, впадал он в неистовство над бумагой казенной:
– Гофгерихтер, плени-потенционал, обер-вальдмейстер, фельдцейхмейстер… К чему, – вопрошал старый князь, – ломаем и портим язык природный? Устоял он противу татар, так неужто ныне от немчуры погибнет? Скажи мужику нашему: старший лесник или начальник дела пушечного – и он поймет! А на таких словах и мне трудно языка не сломать. Оберегать надобно, яко от язвы поганой, язык российский ото всех словес чужеземных, кои простонародью нашему противны и невнятны…
Но это не значило, что у Голицына не было друзей-иностранцев. Генрих Фик, камералист известный, частенько гостил в селе Архангельском. Пронырлив и вездесущ, на русской каше вскормлен, на русских сивухах вспоен. Ныне – Коммерц-коллегии вице-президент, а президентом в ней – барон Остерман. От князя Голицына, после речей высоких о правленье коллегиальном, едет Фик к дому Стрешневых. От самого крыльца дух не перевести от жары, все щели в доме забиты – хоть парься с веником. А барон – в халате ватном, ноги под пледом, глаза за козырьком зеленым. И никак Генриху Фику до глаз президента Коммерц-коллегии не добраться, чтобы заглянуть в них – какие они?..
– Барон, – спросил Фик, важничая, – не пора ли попросить Блументроста, чтобы глаза он вам вылечил?
– Теперь болят ноги, – простонал Остерман. – Я страдаю…
Фик взялся за коляску и вежливо покатал барона по комнатам:
– Подагрические изъяны лечит Бидлоо, а вы никогда не лечитесь… Вы и встать не можете, барон? Ах, бедняжка! Скажите, по совести: если я подожгу ваш дом, сумеете вы из него выскочить?
Остерман резко застопорил коляску:
– Зачем вы пришли ко мне, Фик?
– Василий Татищев, что ныне состоит при Дворе монетном, сочинил проект – о заведении на Руси школы похвальных ремесел…
– Бред! – сказал Остерман. – Еще что?
– Школа ремесел должна быть при Академии. Разве не нужны России токари и ювелиры, граверы и повара?
– Россия, – отвечал Остерман, – в хроническом оцепенении варварства, и своих ремесел ей не видать. Русские ленивы, они сами не захотят учиться. Все произведения ремесел должно ввозить из Европы… Еще что у вас, Генрих?
Фик – назло Остерману – перешел на русский язык:
– Заслоня народ от просвещения выгод, можно ли, барон, попрекать его в варварстве? – спросил Фик.
– Генрих, не забывайте, что я болен…
Фик ушел, а Марфа Ивановна нахлобучила на голову мужа, на парик кабинетный, еще один парик – выходной, парадный.
– Так тебе будет теплее, – сказала заботливая баронесса.
– Марфутченок! – умилился Остерман. – Миленький Марфутченок, как она любит своего старого Ягана…
– Ведаешь ли, кто пришел к нам? – ласково спросила жена.
– Конечно, Левенвольде!
До чего же был красив этот негодник Левенвольде – глаз не оторвать… Рука вице-канцлера лежала на ободе колеса; синеватая, прозрачная, на крючковатом пальце броско горел перстень. Левенвольде изящно нагнулся и с нежностью поцеловал руку барона.
– Я только что от женщины, – сказал он бархатно, подымая глаза. – Но общение с вами мне дороже красавицы Лопухиной!
Остерман притих под одеялами. Подбородок его утопал в ворохе лионских косынок. В духоте прожаренных комнат плыл чад. Билась на лбу вице-канцлера выпуклая жила. Он ничего не ответил.
– Мы, иностранцы, – заговорил Левенвольде далее, – уже давно не видим в России того, что всегда выделяло ее из других государств…
– Чего же ты не видишь, мой мальчик?
– Тирании самодержавия, – четко отвечал курляндец (Остерман промолчал). – Россия склонна к олигархии. А это… не опасно ли?
– Опасно… для кого? – спросил Остерман.
– Для нас, связавших свои судьбы с русскими варварами. Долгорукие и Голицыны не потерпят возле себя гения вестфальдца Остермана – не так ли?
Остерман снял со лба козырек, бросил его на стол. Левенвольде чуть ли не впервые увидел глаза Остермана – бесцветные, словно у младенца, покинувшего утробу, почти без ресниц.
– Дитя мое, – тихо засмеялся Остерман. – О чем вы говорите? Разве в России могут быть партии? Русские люди – недоучки, и Петр Великий был прав, называя русский народ детьми.
Левенвольде громко расхохотался:
– Однако рубить головы своим «детям» – не слишком ли это строгое воспитание?
– Это право монарха, – сухо возразил Остерман. – Да будет оно свято. И во веки веков… Аминь!
Самое главное Левенвольде сказал уже от дверей:
– А что, барон, если мой брат Густав снова приблизится к герцогине Анне Иоанновне?
Остерман подумал, что фавор семейства Левенвольде, всегда ему близкого, гораздо выгоднее, нежели фавор какого-то захудалого Бирена.
– А как отнесется к этому бедный малый Бирен?
– Я думаю – он запищит и потеснится.
– Что ж, – отвернулся Остерман, – я послушаю его писк…
* * *
Запищали сразу оба – и сам Бирен и Карл Густав Левенвольде.
Двух фаворитов отпихнул от герцогини барон Иоганн Альбрехт Корф – светский мужчина тридцати трех лет, нумизмат и библиоман, рыцарь курляндский… Бирен громко плакал, его горбатая Бенигна сгорбилась еще больше. Но Густав Левенвольде был нещепетилен и тут же сдружился с Корфом, как раньше сдружился с Биреном… Густав даже стал торопить события.
– Открой погреб, Альбрехт, – посоветовал он, – и вели подать буженины… Как можно больше буженины! Самой жирной! Уверяю: если герцогиня устоит перед тобой, то никогда не устоит перед бужениной. Это ее любимейшее блюдо…
Два друга-рыцаря предстали перед Анной и, скользя по паркетам, долго махали шляпами. Авессалом, старый шут герцогини, лаял из-под стола на них собакой.
Анна Иоанновна потерла над шандалом большие красные руки:
– Ну, Корф, если и буженина, то… едем!
Печальный Бирен отозвал в уголок Левенвольде:
– Дружище, куда вы увозите герцогиню?
– Мы едем в Прекульн – на мызу Корфов…
– О чем вы там? – крикнул от дверей Корф.
– Бирен спрашивает меня, куда едет ея светлость с нами.
– Его ли это дело? – ответил Корф нахально…
На крыльце вьюга швырнула снегом в лица. Левенвольде прытко добежал до лошадей, сдернул с их спин тяжелые попоны.
– А ты не сердишься на меня, Густав? – вдруг спросил Корф, когда лошади тронули возок через сугробы.
– За что? – притворился хитрый Левенвольде.
– Все-таки… ты имеешь больше прав на нашу герцогиню.
– Что ты, Альбрехт? – утешил Корфа Левенвольде. – Между нами говоря, я не люблю подогревать вчерашний суп. А тебе этот суп еще внове… Сердиться будет Бирен, а не я!
В замке остался – одинок – удрученный Бирен. Шут Авессалом, тряся гривой волос, все еще ползал по полу, рыча. Чтобы зло свое сорвать, Бирен стал пинать его ногами:
– Я убью тебя, польская скотина… Лайдак! Быдло!
И вдруг раздался строгий голос Кейзерлинга:
– Не трогай несчастного шляхтича, Эрнст… Авессалом тебе не соперник! – Сытый и веселый, он поманил Бирена: – Иди сюда ближе, олух… Скажи: кто самый умный на Митаве?
Красивые глаза Бирена застилали слезы.
– Говорят, – всхлипнул, – что этот бездельник Корф…
– Ошибаешься! – ответил Кейзерлинг. – Самый умный здесь я, хотя про меня этого никто еще не говорил. А про Корфа болтают на Митаве, да что с того толку?
Бирен оставался мрачен, грыз ногти.
– Ну а с тебя-то что за толк? – спросил он грубо.
Кейзерлинг сбросил плащ. Отцепил от пояса шпагу. Закинул ловко ее на шкаф, где хранились со времен герцога Иакова старые пыльные карты далекой Гамбии… Медленно, палец за пальцем, Кейзерлинг тянул прочь тесные перчатки.
– Бродяга, коновал, картежник и счастливчик Бирен! – сказал он. – Говори мне честно: чего ты желаешь сейчас?
Бирен поглядел на окна – далеко тянулись следы саней.
– Я хочу, чтобы Анна вернулась. Хотя бы… к ночи!
Кейзерлинг хлопнул его по плечу:
– Мужлан! Сиди и жди: она вернется… к ночи!
– А как ты ее вернешь из объятий Корфа?
В руках Кейзерлинга раскрылась свежая колода карт:
– Вот так верну… Садись напротив. Я сдаю. Играем! Ты и я. Только одно условие: между нами не должно быть шулера.
– Как ты мог обо мне так подумать? – возмутился Бирен.
– Это не я подумал. Это, поверь, подумали другие…
…А руки Курляндской герцогини уже парили над столом в замке Прекульн; при свете пламени каминов лицо ее, корявое и жесткое, вдруг похорошело, глаза сверкали.
– О-о, – сказала она, – вот моя любимая буженина!
Корф разливал вино, хвастал доходами с гаков:
– Хватило даже оставить по два куля ржи моим рабам. Теперь они лежат в пыли и лобызают мои шпоры. Я – самый добрый господин для латышей: вчера на свадьбе я позволил им плясать в обуви и даже разрешил играть на волынках… Скажите, где еще вы видели это в Курляндии?
Под каменными сводами замирало эхо. Камни замка, сваленные три века назад, нависали над столом барона. А где-то далеко, почти неслышно, играли сестры хозяина на арфах… Левенвольде раскрыл высокие книжные шкафы и невольно воскликнул:
– О, вот где ересь… И божий крест лежит на древних томах, сожженью преданных еще в испанской инквизиции!
– Да, – смеялся Корф, счастливый от соседства герцогини, – все, что не уместилось в монастыре, ночует у меня сегодня!
– А четки где?
– На них удобно вешаться, – не унимался Корф.
Анна Иоанновна от учености всю жизнь бегала. Мельком глянула через плечо: рядами – книги, книги, книги…
– На что тебе, барон, столько? Всех книжек не прочтешь.
– Я был бы глуп, – ответил Корф, – прочитав только эти книги, ваша светлость. Да, я понимаю, что наношу богу тяжкое оскорбление тем, что мыслю, но ничего не могу с собой поделать.
– А ты и вправду еретик, – нахмурилась герцогиня.
Корф расхохотался пуще прежнего:
– Но еретики необходимы церкви тоже… Иначе на чем бы святая церковь заостряла свои вертела?
Анна Иоанновна чуть не подавилась жирным куском.
– Побойся бога, – растерялась она. – Ты звал на буженину! Не богохульствуй: сегодня воскресенье – божий день!
– Ах, ваша светлость, – разошелся Корф, – вторая проповедь еще никому не портила аппетита. Прошу вас откушать и запить вином вот этим… Видели ли вы, герцогиня, когда-нибудь пса, нашедшего в пыли под забором мозговую косточку? Если видели, то, конечно, помните, с каким благоговением он ее высасывал…
– К чему ты это мне… про пса-то? Я буженину ем, а ты про пса мне толкуешь, барон!
– Все мы уподоблены псам, ваша светлость: один высасывает мозг из косточки знаний, другой из косточки дурости…
Левенвольде вдруг резко захлопнул книжные шкафы: «Какой дурак этот Корф… Разве он не знает нашей герцогини?..»
Лакеи внесли тушки жареных зайцев. Но Левенвольде по-хозяйски отстранил подносы от стола.
– Не нужно! – сказал он и поглядел прямо в глаза герцогини. – Я сказал: не нужно, ваша светлость, ибо зайчатина, как учат нас «Салернские правила», возбуждает нескромные желания, а сегодня воскресенье – божий день…
…Бирен послушал бой старинных голландских часов.
– Еще метать? – спросил, собирая колоду.
– Уже не нужно, – зевнул Кейзерлинг. – Разве ты не слышишь? Сюда мчатся кони – герцогиня уже возвращается из Прекульна…
Брякнул колоколец и замолк. Забегали лакеи с факелами, освещая дорогу к замку, и Бирен швырнул карты в камин.
– Ты, Кейзерлинг, ты… – закричал в восторге. – Ты самый умный на Митаве!
Сухо трещал паркет под грузным шагом Анны Иоанновны. Гневно дыша, она проследовала в детскую, развернула из пеленок своего любимца – грудного Карлушу.
– Ребенок-то обхудился, – заметила по-русски. – И никто не доглядит, стоит мне отлучиться.
– Няньки отосланы, – сжалась Биренша, – уже все спят.
Анна Иоанновна выдернула мокрые пеленки из-под младенца, с размаху хлобыстнула ими горбунью по лицу.
– Могли бы и сами, сударыня, – добавила по-немецки.
Бирен стоял в дверях – терпеливо ждал.
– Пойдем, – велела ему герцогиня. – Уже час поздний…
За стенами замка вдруг заржал стоялый жеребец. Попадая след в след Анне Иоанновне, по узкому тайному коридору Бирен уходил за герцогиней Курляндской – во мрак, в камень, в духоту спален.
Утром он спросил Кейзерлинга:
– Добрый друг, ты разве колдун?
– Нет, не колдун. Но я хорошо знаю Корфа и… нашу герцогиню. Корф закоренелый безбожник, а наша Анна боится ереси…
В эти дни астролог Фридрих Бухер рассматривал стечение планет над Митавой и опять нагадал Анне судьбу русской царицы.
– Ты пьян! – смеялась Анна. – Бухер, сознайся – ты пьян?..
Это правда: Бухер был пьян, в чем и сознался.
Глава одиннадцатая
Деньки над Москвою – серенькие. Мглистые. Туманит.
Скрипят шлагбаумы на заставах – едут дворяне. Прут в сенцы к московским сородичам поросят в мешках, катят на крыльцо анкерки с медом. Прижимая к пузу, тащат дворяне сулеи с домашними наливками.
Тесно стало на Москве и обидно. Куда ни придешь, где ни послушаешь, везде одно говорят:
– Государь-то невесты не жалует. Как в Лефортове затворился, так и не смотрел ее ни разу.
– Да и невеста-то – лукава и неласкова. Мне большак мой сказывал, что Долгорукие сомлели: царь лишил их милости прежней.
– Как бы свадьба не кувырнулась! Ехали мы, тратились…
– Все едино, где исхарчиться… Племяшек, наливай!
И то правда: Долгорукие засели во дворце Головинском, а Петр их чуждался. Принимал только князя Ивана – дружба меж ними еще детская, приязнь наивная… Явился Иван к царю – весь в слезах и обидах горьких:
– Поносные вирши на себя имею. Антиошка Кантемир, из господарей молдаванских, на меня, государь, хулу изблевал. А по Москве читают скверну его и злобятся… Честь ли?
– Чти, – разрешил отрок.
Иван Долгорукий прочел царю по бумажке:
Не умерен в похоти, самолюбив, тщетной Славы раб, невежеством наипаче приметной. На ловли с младенчества воспитан псарями, Как, ничему не учась, смелыми словами И дерзким лицом о всем хотел рассуждати?..– Не ел бы редьки, Иванушко, так и не рыгалось бы тебе, – ответил император. – Сказывала мне бабушка: лжа – что ржа. Верю! А что, братец, ты с младенчества псарями воспитан, так обо мне эдак тоже сказать можно… Из песни слова не выкинешь.
– Ваше величество, – вспылил куртизан. – Всем на Москве не переломать ноги, чтоб умолкли… Как быть-то?
Петр потер лицо, посмотрел сквозь пальцы:
– Так и быть: на иордань подниму тебя по гвардии выше.
Куртизан даже не обрадовался. Катька говорила теперь так, родни уже не стыдясь: «По свадьбе моей с царем быть Ваньке в Низах самых!» – А в Низовом корпусе плохо: там болота Гиляни, на них розы цветут персидские, но розам тем не верь – под ними гниль и лихорадка. Кусит клещ тебя, и готов раб божий: понесут вперед пятками… До чего же много мрет на Низу русского люда!
На выходе от царя столкнулся князь Иван с Иогашкой Эйхлером, обнял музыканта ласково.
– Тезка чухонская, – сказал ему. – Пока я в случае пребываю, торопись жар сгрести. Будешь в чине и ко шляхетству причислен. Целуй руку мне, да не забудь добра моего…
Затрубил на дворе рожок. Залаяли собаки. Топоча сапожищами, придворных расталкивая, бежал до царя егермейстер Селиванов:
– Ваше величество! Я не сплоховал: эвон, мужики дворцовы логово волков обложили… Вас ждем!
Петр легко и бездумно сорвался с места, кинулся в седло. И помчал царь за Рогожи – травить волка… Серый снег летел косо. Волк матерый, видать: уходил он в хитрости, коварно петляя. По кустам заметывал. Петр долго гнал лошадь, но след зверя потерял. Стал людей звать – ему никто не ответил: отбился.
– А и ладно, – сказал, пустив коня шагом…
Москва угадывалась вдали – сумеречным блеском колоколен, сизыми дымами, вороньим граем. Въехал император в деревню, и горазд некстати въехал. Мужики как раз тащили гроб из избы – одно корыто другим прикрыто. И тащили не в дверь, а через окно, дабы смерть запутать… Петр подскакал, снял шляпу.
– Кто помер? – спросил.
– Девка… кривого Пантелеича дочь.
– От хвори, видать?
– Воспа… – загалдели мужики. – Она, тошная!
Наступала на деревню мгла. От леса уже скакали доезжачие – царя сыскивали, чтобы на Москву ехать.
– А ты, барин, – спросили мужики, – чей же будешь: юсуповский сынок али господ Барятинских?
– Я сам по себе, – отвечал царь. – Волка вот гнал…
Открыли гроб. Надо бы, как водится, «позолотить» покойницу. Да с собой ничего не было: как рога затрубили – так и выскочил. Тогда Петр, сострадая, стянул с шеи офицерский шарф и бросил его поверх покойницы. На скудной посконинке вдруг ярко сверкнула серебряная мишура.
– Возьми, отче, – сказал Петр. – Более отдарить нечем…
Тронул лошадь, но тут же прискакал обратно:
– Постой, старик! Случаем руку в кафтан сунул, да и нашел… Рубль тебе, бери! Крышу поправишь или еще что сделаешь…
Дед рубль взял, а шарф дареный снял с покойницы и обратно царю протянул:
– Возьми, добрый сын. Простынешь…
Император замотал шарф вокруг тонкой шеи и дал коню шпоры.
Деревня скоро осталась позади… «Воспа, она тошная!» – мрут от оспы русские люди – не меньше, чем на Гиляни.
* * *
Желтым бельмом глядел фельдмаршал Василий Владимирович князь Долгорукий на старенькую иконку. Пошептал губами, вдавил пясть в лоб, кинул длань через плечо и задержал руку на пряжке.
Иногда прорывалось – в моленье его – житейское:
– Да полегчи, полегчи в регименте Преображенском…
Волоча ноги по пыльным восточным паласам, подошел адъютант и племянник фельдмаршала, тоже князь Долгорукий.
– Чего надобно тебе, Юрка? – спросил старый воин.
– Егорка Столетов до вас, дяденька.
– Столетов? Это из каких же будет?
– Роду он худого, незнатного, – отвечал Юрка.
– Кличь! – Позвали Егорку, и запахло в покоях фельдмаршала водками и духами. – Почто пьян ко мне являешься?
– То не пьян я, – отвечал Егорка, – то вчера был пьян. Вот и хороводит меня весь день…
– Юрка! – повелел фельдмаршал. – Ты молодцу чарочку вынеси да репку покрепче выбери. А то голова у него на пупок завернута.
Чарочку прияв и репку расхрумкав, Егорка осмелел.
– Был я наверху, – сказал, – а ныне мне стало низко. Состоял кавалером при Виллиме Монсе, коему государь Петр Первый за любовь его к Катерине-матушке высочайше башку отрубить соизволил. А по дружбе с Монсом и мне влипло: на десять лет в Рогервик был сослан, там меня только в бочке вот не солили, а так – все было как надо. Ныне же при дворе цесаревны Елисавет Петровны числюсь, но службою сей не доволен я.
– Чего так? – спросил фельдмаршал.
– И без меня у ней счастливцев хватает.
– А в несчастии, – спросил Долгорукий, – жить не свычен ты, как я погляжу? На што я тебе, кавалер Монсов? От стола моего фельдмаршальского швырки-пинки да пули летят, а кусков сладких с него не падает…
– Возле славной особы служить бы рад! – сознался Егорка и руку старика, воском пахнущую, поцеловал с чувством.
– А на што годен ты? Я ведь солдат прямой, паркеты во дворцах пузом не протираю, и мне держать прихлебателей при себе не пристало по чину… К чему, ответь, гораздую склонность имеешь? Что возлюбил ты в мире сем, окромя водки?
– В музыке я горазд, – отвечал Егорка Столетов. – Есть ли музыка-то в доме вашем? Я бы показал…
– Того не держим, – подал голос Юрка Долгорукий.
Огорчился Егорка и попросил из челядной ложек ему принесть деревянных; на ложках тех заиграл, стервец, запел замечательно:
Сердце пылает – не могу утерпети, Хощу ныне ж амур с Дориндой имети. Умру ж я, и лучшее мя умирати, Неж без Доринды долго живати…– Не робок ли ты? – спросил его затем фельдмаршал.
– Того в баталиях воинственных еще не проверял.
– Ну, сейчас проверишь, даже в батальях не побывав… Эй, Юрка! Водрузи-ка чарочку ему на само темечко.
Юрка чарочку на голове Столетова приспособил, чтобы ровно стояла. Сыпнул порох на полку пистоля шведского. Курки взвел – столь тугие, аж лицом покраснел. Взял старый фельдмаршал пистолет и сказал Егорке:
– Смотри же на меня честно и открыто… Без жмуриков!
А сам здоровый глаз закрыл – бельмом стал целиться.
– Славный князь! – завопил Егорка. – Не тем ты целишься… Раздрай здоровый, ой-ой!
– Цыц! – отвечал фельдмаршал, и видел Егорка в прорези прицела желтое бельмо ветерана… Трах! – лопнула чарочка на голове, а старик пистоль отбросил, долго лил вино в чашку, по краям щербатую. – Не сбежал, – похвалил, – и то ладно… Желателей много имею, да в бельмо-то мое мало кто верит… Пей вот! Юрка, сбегай еще за репкой…
Потом пальцем ткнул Егорку под ребро самое:
– А Дурында твоя, о коей ты в песнях плачешься, она… кто? Из слободы Немецкой, чай? Что-то я такой девки на Москве не упомню. Может, за отсутствием моим уродилась, подлая?
– Ваше сиятельство, Доринда сия есть сладкий вымысел, ибо, служа Купиде, немочно мне открыть истинной дамы сердца.
– Неужто и мне не откроешь?
– Под именем Доринды оплакиваю я страсть к Марье Соковниной, что прозябает ныне в девичестве природном.
– Ну и дурак! – вразумил его фельдмаршал. – Коли хошь любить Машку, так и пиши в стихах честно: мол, хочу иметь грех с Машкой Соковниной… А то выдумал ты каку-то Дурынду! – Помолчал старик и добавил: – Мне песен твоих не надобно, мне и от своих тошно бывает. А в адъютанты свои велю завтрева тебя вчислить. Будь с утра самого тверез и чист, аки голубь небесный… На водосвятии иорданском явлю тебя перед полком уже в чине!
* * *
Месяц январь – зиме середка. День на куриный шаг прибывает. Бабы на крещенском снегу холсты белят. И висят над крышами звезды в кулак, – это хорошо: быть урожаю гороха да ягод. Воры да пропойцы московские до первого спаса белья не прут. Стирай, баба, вешай, суши, что имеешь, – не опасайся!..
Праздник иордань – не столь для бога, сколь для молодечества. Каждому удаль показать надо. Первым делом – перед бабами, молодицами, да и себе в похвальбу. Трещит от мороза приклад ружейный, а солдат на льду стоит себе: морда, как бурак, красная. Ладан мерзнет в кадиле, а он головою в прорубь – бултых!..
Тринадцать дней осталось до свадьбы царя. Во вторник, в день водосвятия, с утра учащенно благовестили колокола церквей. Построили на льду Москвы-реки два полка: семеновцев да преображенцев. Мороз был лютый, каких давно не помнили. Солнце светило вовсю, и дул ветер сильный…
Петру доложили, что невеста подъехала, и он сбежал вниз. Княжна Екатерина («Ея Высочество») одиноко сидела в открытых санках. На коврах, на подушках. В шубах теплых.
– Пошел! – крикнул царь и вскочил на запятки саней.
Кавалергарды тронули следом. Глухо били копытами в мерзлую землю тяжелые лошади. Блестели кирасы на солнце. За дворцовыми садами с разгону выехали на лед. Хорошо и легко бежалось лошадям. Вдалеке уже и парад иорданский виден…
На запятках стоя, видел царь бархатный верх невестиной шапки, убранной хвостами собольими, да четыре косы – толстые, в руку. Чего-чего, а волос хватало!
Только единожды нагнулся Петр к уху Екатерины.
– Не замерзли, сударыня? – спросил и снова замолчал.
Словно кувалды, ухали лед копыта кавалергардии.
Вот и приехали. Петр едва руки от саней отвел: окоченел шибко. Стянул зубами перчатку – грел дыханием пальцы. Потом князь Иван подвел ему лошадь, вальтрапом крытую, и царь занял место во главе русской лейб-гвардии. По чину он был полковником, а фельдмаршалы – Долгорукий и Голицын – заняли места подполковников. Солдаты кричали «виват» и ружьями всякое вытворяли. Народ был рад царя видеть с невестой рядом. «Чай, – говорили в толпе, – не чужая принцесса, а своя – подмосковная…»
– Эй, сбитенщик, – крикнул Петр, – угости, озяб я!
Выпил сбитня горячего – еще час простоял. Покрылась инеем лошадь под царем. Дышала шумно и парно.
От прорубей тоже несло паром, там пели: «Во Иордане крещающуюся тебе, господи, тройческое явися поклонение…» Там, над кругом черной воды, качался на ленточках голубь, из дерева вырезанный, – символ «духа божия». Феофан Прокопович, в роскошных ризах, трижды опускал крест в прорубь. Освящал на целый год всю Москву-реку. И шел народ с горы, неся иконы.
По освящении полезли все в воду. Прямиком, руки сложив по-солдатски, залетали в прорубь купцы первой гильдии, за ними – второгильдейские сыпали. Мужики шлепались в глубь ледяную. И выскакивали обратно – с глазами выпученными. Синие и без дыхания. Бежали голые бабы по снегу, с визгом взметали брызги…
Так прошло четыре часа. Сняли наконец царя с лошади, уложили в сани, запахнули шубами, крикнули кучерам:
– Гони скорее!..
Под вечер был зван на царскую половину князь Иван.
– Голова болит, – сказал Петр. – Да и знобко мне.
– Может, сразу Блументроста позвать?
– Перемогусь…
Постоял царь, зажмурясь. Потом крикнул:
– Ой, держи меня, Ваня! – и бросился к Долгорукому.
Его било, трясло. Дышал с трудом. Дыхание влажно…
Во дворец Лефортова срочно прибыл архиятер Лаврентий Блументрост, врач очень опытный. Но царя уже осматривал Николас Бидлоо – врач Долгоруких, и начались интриги – не хуже боярских:
– Я прибыл первым. Мой декокт уже готов.
– Выплесните его собакам, – отвечал Блументрост…
Бидлоо звали на Москве проще – Быдло, и лечиться у него избегали. Грешил он по ночам «трупоразодранием», людей резал и научно кусками по банкам раскладывал (за это его боялись и не жаловали). А Блументросты уже век на Москве жили; коли кто из Блументростов рецепт прописал, так его из рода в род, от деда к внуку передавали, как святыню. И такой славе Блументроста Бидлоо – Быдло – сильно завидовал.
Сейчас его от царя прогоняли, и он заявил при всех:
– На руках великого Блументроста за три года умерло три человека: Петр Великий, Екатерина Первая и царевна Наталья… Не слишком ли много славы для одного Блументроста?
А царь пил сиропы, метался, рвало его желчью.
– Вот здесь… больно, – сказал Петр под утро.
– Где, ваше величество? – склонился над ним Блументрост.
– Вот тут… в самом крестце!
Блументрост, глядя в пол, вышел к Остерману:
– Первый бюллетень таков: у царя – оспа.
– Вы отвечаете своей головой, – напомнил Остерман.
– Я не ошибся: боль в крестце – верный признак… Оспа!
С грохотом упал стул, это вскочил Алексей Долгорукий:
– А мой Быдло не так сказал… Чего уж там умничать? Скорей венчать царя надо на дочке моей. От венца-то его и полегчит!
Остерман быстро закрыл лицо козырьком. Начинались конъюнктуры. На этот раз – самые опасные…
* * *
А возки все плыли среди сугробов – ехали дворяне пировать на свадьбе царя. Теснились по домам, спали на лавках, стелили им хозяева уже на полу. Из дальних губерний и провинций, из-за лесов дремучих, шагали на Москву солдаты: стягивались войска – чтобы стоять на парадах и «виваты» кричать. Москва сделалась ковшом, – не тронь ее, а то переплеснет…
Высились над улицами арки – триумфальные, пышные. Под ними проезжали герольды-скороходы и читали народу бюллетени: «Оспа у его императорского величества выступила обильно и здорово». Это правда: оспины уже стали вызревать. Опасность вроде миновала, и караул вошел во дворец с барабанным боем и флейтами, как обычно. До свадьбы царя оставалось всего четыре дня.
Пятнадцатого января Блументрост разогнул усталую спину:
– Его величество уснул… Велите закрыть улицы!
Быстро задвинули улицы рогатками, передавили в усердии всех собак, какие попались, чтобы не вздумали лаять. Тихо, Москва! – его величество спит… Замер Лефортовский дворец. Белели в сумерках громадные печи в изразцах голландских. Хаживал здесь когда-то веселый «дебошан» Лефорт, пировал здесь молодой Петр Первый, а теперь лежит его внук, с лицом под страшной коростой… Лежит. Тихо.
– …венчается раб божий… – сказали ему.
Бредово глядели глаза царя-отрока: «Сон или явь?»
Боже, боже! Стоит князь Алексей Долгорукий, а подалее, вся в белом, невеста его Екатерина. Плывут свечи… каплет воск.
А на палец царю надевают кольцо ледяное.
– Люди, люди, – прошептал юный царь.
И снова – тишина. И нет княжны, угасли свечи…
«Сон или явь?.. Люди, люди, на што вы меня покинули?»
А утром – чудо: задышал Петр легко. Встал.
Выли трубы в печах. Шатаясь, шагнул к окнам. Откинул рамы.
Москва, Москва! Родимая… Сыпало в лицо ему поземкой. Пахло пирогами. Так вкусно. А вдали – лес: там волки, кабаны, лисы, зайцы и рыси… Тру-ру-ру-ру – зовет рожок на охоту.
И болезнь обрушилась на царя заново. Сквозняк от окна добил его. Оспа прошла в горло и даже в нос – Петр стал задыхаться. Блументрост в бессилии развел руками:
– Виноват буду я, но… пусть придет шарлатан Бидлоо!
Пришел Бидлоо – Быдло – и сказал громко, безжалостно:
– Последний Рюрик загублен великим Блументростом! Еще раз спрашиваю: не слишком ли много славы для одного человека?
Вспомнили, что в Риге живет грек Шенда Кристодемус, врач-кудесник. Но уже было поздно… Поздно звать!
До свадьбы царя осталось всего два дня.
Вельможи толпились во дворце – растерянны:
– Отворите тюрьмы… Кормите нищих! Недоимки простить… Рассыпайте соль по улицам для бедных… пусть гребут в запас!
Был зван ко двору Феофан Прокопович со святыми дарами (на случай последнего елеосвящения). Из монастыря привезли во дворец бабку царя – старуху Евдокию Лопухину; она, как встала перед распятием на колени, так уже более и не поднималась. Муж заточил ее в застенок, сыну голову отрубил, а теперь судьба отбирала у нее последнюю надежду – внука…
– Венчать царя, – твердил Алексей Долгорукий. – Венчать!
И плакал: рушились гордые помыслы его фамилии.
В этот момент все услышали, как вдруг заскрипели колеса.
Это к дверям царской палаты подъехала коляска с Остерманом.
* * *
Остерман, как часовой, занял свой пост. Немец охранял русское самодержавие. Неприкосновенность трона! Чистоту монархической власти Романовых!
Заодно он охранял и себя. В соседстве с престолом Остерман всемогущ и неуязвим. В свою руку, не боясь заразы, он взял ладонь императора и не выпустил ее – все долгих два дня.
Глава двенадцатая
Дворец Головинский – словно гробовина (гулок и темен). В спальне царского дядьки Алексея Григорьевича собрались князья Долгорукие: сиживали на кроватях, слонялись по комнатам – потерянные, сугорбые. Зазвенели бубенцы – и враз полегчало:
– Едут, едут… Владимировичи едут!
Вошли с мороза еще двое Долгоруких – Владимировичей: князь Василий (фельдмаршал) и брат его Миша (губернатор сибирский).
Маршал жезлом взмахнул – кровью брызнули рубины яркие:
– Званы были на совет семейный… Так вот мы!
Долгорукие заговорили:
– Государь-то плох. Выбирать престолу наследника надобно!
– И кого же вы избрать порешили?
Князь Алексей Григорьевич пальцем на потолок показал:
– Вот она!
А там, наверху, Катька…
И, показав на потолок, он к дверям поплелся:
– Его величество спроведую. А то Остерман, чтобы он сдох, извелся… Дежурит, будто пес на костях!
Подозрительно глядело на всех желтое бельмо фельдмаршала.
Нюхал табачок из кармана его братец Миша – озирался косо.
Дядька царев убрался, но остались его братья – Сергей да Иван Григорьевичи, здесь же и Василий Лукич был, а в уголочке приткнулся Ванька-куртизан (он больше помалкивал). Братья Григорьевичи и Лукич обступили братьев Владимировичей, заговорили так – слово в слово:
– Его величество опасен стал. А ежели дух испустит, надобно нам удержать в престолонаследницах княжку Катерину… Катьку нашу царицей сделать! Затем мы вас и звали. Что скажете?
Старики Владимировичи (обоим было 128 лет) ответили:
– Тому нельзя статься. Понеже Катька ваша с царем в супружестве не спряглась, а токмо обручена. И нам сие не по нраву покажется: мы уже Полтаву отгрохали, когда вашей Катьке еще и пупка не завязали… А вы хотите, чтобы соплячка та над нами да над Русью стояла? Нет, тому не бывать!
И так сказали они твердо. Тогда Григорьевичи всем скопом на стариков насели, а «маркиз» Лукич помогал им.
– Как тому не бывать? – кричали. – Ты в полку Преображенском подполковник, а князь Ванька – майором. И то учинить легко! Семеновцы тоже спорить не станут. Вспомни, как Екатерину Первую на престол подпихнули? Тогда тоже иные рыпались. Так их в окно бросили, и кто сел на престол? Катька и села… Так пущай будет на Руси Катерина вторая – из роду нашего!
– Да вы – одни на Руси, што ли? – сказал Михаил (губернатор).
– А коли канцлер Головкин и князь Дмитрий Голицын воспротивятся, – отвечали, – так мы их бить станем. Оно и получится!
Михаил Владимирович на это отвечал им:
– Что вы, робята, врете? Совсем вы уж заврались…
– Да как я полку своему объявлю такое? – поддержал брата фельдмаршал. – На штыках своих же солдат и мне, старику, помирать страшно… Неслыханное дело затеваете вы. Отступитесь!
Василий Лукич озлился, притопнул туфлей нарядной.
– Не хотите? – сказал. – Так мы и вас бить станем!
– Меня? Ах ты, гнида версальска… – И навис над буклями Лукича тяжелый жезл фельдмаршала. – Один раз вдарю, и никаких царей в башке не останется… Отступись, говорю я вам!
Долго еще спорили князья Григорьевичи, заодно с Лукичом, противу князей Владимировичей. Но честные старцы не сдавались на уговоры и говорили в ответ разумно:
– Даже если б ваша Катька и венчана была, то конжурацию такую принять опасно. Петр Первый Катьку Скавронскую при животе своем короновал… Как-никак, а она – царица законна!
С тем и уехали. Фельдмаршал, когда в санки садился, брату своему признался – с тоской и горечью:
– Мы вот с тобой, Миша, претим им. А, глядишь, государь-то поправится, Катька-дура и впрямь станет царицей на нашу шею. Тогда – держись: князь Алексей с братьями так разнесут кости наши, что и ворон их не сыщет!
– Зато мы правду сказали, – отвечал брат. – И несбыточно их в чудеса престольные не сманивали… Плюнем!
Тем дело не кончилось. Долгорукие дождались, когда из Лефортова дядька царя вернется. Алексей Григорьевич вернулся, стал плакать – мол, царь совсем худ, как быть? Катьку же – не поймешь, как и называть: то ли высочество, то ли величество?
Василий Лукич (он многих умнее был) сомневаться начал.
– Не пропасть бы нам, – говорил. – Может, оставим?
Но отец невесты окрысился на него.
– Чего оставлять-то? – кричал. – Престол – это тебе не ведро худое! Зарядил свое: оставим да оставим… Коли Катька на трон сядет, так тебе же, дураку, выгоды да прибытки станутся!
И вдруг… сказал Сергей Григорьевич слова тихие:
– Вот ежели бы государь духовную дал, по которой можно было бы Катьку законной наследницей считать…
– Верно! – поддакнул Иван Григорьевич. – Тогда бы небось и Владимировичи упрямиться не стали.
Брат их, Алексей Григорьевич, глаз с потолка не сводил.
– Эка забота! – сказал он. – Коли только за тем нужда стала, так мы таких духовных целый воз сейчас напишем… Ты, Лукич, грамотей славный – садись и пиши.
– Моей руки письмо коряво, – уклонился дипломат.
Завещание от имени царя написал князь Сергей Григорьевич. И копию тут же сняли.
– А теперь-то что же делать нам? – призадумался Лукич. – Надо, чтобы царь подписал. Иначе силы бумага не имеет. Фальшива!
– А вот царь подпишет – тогда и фальши не скажется.
Но князь Алексей Григорьевич стал руганью всех обливать:
– Еще чего! Жди, пока царь подпишет… Уж один-то лист мы сейчас сготовим… Где Ванька мой? Ты чего там в углу засел? Вылезай на свет божий. Ты под руку царя не раз уже писался… Выручай всех нас… Давай, милок. Во, перышко тебе! Макай его в чернила. Да покажи всем нам – как ты ловко за царя писаться умеешь…
Князь Иван, заплаканный, взял перо и одним махом вывел.
– Спрячьте, тятенька, фальшь эту, – отцу посоветовал. – А второй лист мне дайте. Может, царь и сам еще подпишет?
На том и разошлись.
* * *
Сын царевича Алексея, ненавистника иноземных новшеств, умирал во дворце Лефортовском, на слободе Немецкой. Рука умирающего императора лежала в руке вестфальского проходимца.
Остерман не покидал царя. Ничего не говорил – просто сидел.
Князь Иван Долгорукий ждал: может, уйдет барон?
Шуршала в кармане его кафтана бумага. Царем не подписанная.
Но Остерман никуда не вышел.
* * *
Пробили полночь часы в Лефортовских палатах.
Наступало 19 января 1730 года – день свадьбы.
Алексей Григорьевич сам измучился и сына измучил:
– Ванька, подсунь бумагу-то… Может, и наскребет как!
– Да не выходит Остерман, батюшка! Я и сам рад бы!
– Следи, следи, Ванька… Когда-нибудь-то он выйдет?
– Боюсь, батюшка, что никогда…
* * *
Петр Второй рывком поднялся с подушек на острых локтях.
Прохрипела страшная маска лица:
– Сани запрягайте – еду к сестре!
И упал на подушки…
Были при нем в этот момент только двое: Остерман – с непроницаемым козырьком на глазах и фаворит – с фальшивым завещанием в кармане…
Опять забили часы половина первого ночи.
Мужеское колено дома Романовых пресеклось навсегда.
Россия начинала жить без царя.
Эпилог
Как раз в этом 1730 году —
«В селе Ключе, недалече от Ряжска, кузнец, Черная гроза прозываемый, зделал крылья из проволоки, надевал их, как рукава. На вострых концах надеты были перья самые мяхкие, как пух из ястребов и рыболовов, и по приличию на ноги такоже, как хвост, а на голову, как шапка, с длинными мяхкими перьями. Летал тако: мало дело ни высоко, ни низко. Устал и спустился на кровлю церкви, но поп крылья сжег, а его проклял».
Летопись вторая Боярская пора
Была пора – боярская пора!
Теснилась знать в роскошные покои,
Былая знать минувшего двора,
Забытых дел померкшие герои…
М. Ю. ЛермонтовГлава первая
Полыхали костры на московских улицах. Бежали, крича, скороходы, и висло над первопрестольной дымное дрожащее зарево. Белели во мраке оскаленные морды лошадей.
Волновался народ. Москве не привыкать пить из чаши «перемен наверху». Первый глоток – самый горький! – москвичам достается. Грамотеи книжные поминали убиение царевича в Угличе да Гришку Отрепьева. В толпе, тряся бородами, похаживали старики, кои не забыли еще бунтов стрелецких да голов сечение.
«Мужеское колено дома Романовых пресеклось навсегда…»
Ой, как бы не замутилась земля Русская! Жди беды, народ православный: начнутся смуты боярские. Лихолетье да пиры кровавые. Будет щука жрать щуку, давясь костями…
Чаще всего выкрикивали в толпе имя цесаревны:
– Елизавета – дщерь Петрова, вот ее и надо сажать!
* * *
Князь Дмитрий Михайлович Голицын отошел от окна: «Елизавета? Нет, только не Лизку…» Служки разоблачали после соборования членов Синода, к духовным подошел фельдмаршал Долгорукий:
– Персон синодальных просим поумешкать с уходом. Благо будет сейчас советованье важное об избранье государя нового…
Дмитрий Голицын повернулся вдруг столь скоро, что с парика мятого пудра посыпалась.
– Братия! – закричал пронзительно. – За грехи великие и пороки, от иноземцев воспринятые, господь бог отнял у нас государя нашего… Сейчас же министрам верховным для совета тайного за мной следовать! Да велите звать вице-канцлера…
Но Остерман остался при теле мертвом, которое омывали дворцовые бабки. Сказал, что когда в гроб положат царя, тогда и придет… На пятки наступая, шепчась и толкаясь, особы первых классов пропускали министров. Гуськом из толпы выбрались вершители судеб России – верховники, от бессонья серые, небриты, заплаканы. Великий канцлер граф Головкин шибко сдал – била его потрясуха, еле ноги волок, и вели его под локотки двое: Василий Степанов да Анисим Маслов – секретари совета Верховного.
Дмитрий Голицын – уже от дверей – еще раз оглядел сановных. Глазищами – луп, луп, луп – своих выискивал. Пашка Ягужинский всех распихал, наперед вылез. Мол, вот он – я! Умен, горласт и самобытен: бери меня за собой… Но маститая власть посмотрела мимо, будто Пашки и не было. Голицын других людей поманил.
– Фельдмаршала Долгорукого и Голицына тож, – объявил князь Дмитрий, – а тако ж и тебя, Михайла Владимирович, – позвал он губернатора Сибири, – прошу на совет тайный идти, не чинясь…
Третий фельдмаршал России, князь Иван Трубецкой, сгоряча завыл от обиды горькой – несносной, боярской:
– Своих выгребаешь, князь Дмитрий! А нас – куды?.. Разве ж Трубецкие тебе не фамилия? Почто меня не берешь в Совет?
Но уже грохнула дверь за верховными. Ягужинский небрежения к особе своей тоже не ожидал. Однако надежд еще не терял. Стал он похаживать среди особ знатных и шумствовать.
– Доколе, – кричал Пашка, – нам цари головы сечь будут? Пора бы уняться. Не хотят министры меня слушать, а я бы сказал…
Феофан Прокопович крест облобызал и вострубил гласно:
– Нечисто дело! Почто верховные в числе осмиличном дверьми закрылись? Свято дело не в норе тайной вершится…
Но министры того уже не слышали (двери – на замок, а ключи – на стол, как положено). Канцлер Головкин, дрожа и кашляя, предложил духовных позвать. Но князь Дмитрий Голицын ладонью рубанул крест-накрест, противничая тому, и начал в скорби:
– Беда! Мужеской отрасли дома Романовых на Руси не стало…
Вскочил Алексей Долгорукий, затараторил:
– Покойному величеству благоугодно было духовную начертать, в коей запечатлел он наследницей престола государыню-невесту, дочку мою – Катерину Алексеевну!
Блеснули над столом боевые жезлы, и два старых фельдмаршала (Долгорукий и Голицын) разом осадили его властно.
– Сядь, дурак! – сказали. – Сядь и не завирайся более…
– И тако продолжаю, – заговорил верховник Голицын. – Мужеское колено угасло, а женское осталось. Вот и выбирайте.
– Елисавет Петровны, – подсказал канцлер. – Она же значится в наследницах престола по тестаменту Екатерины Первыя.
Но Голицын прожег канцлера дотла своими глазищами.
– Екатерины Первыя, – ответил, – корени есть непутного! Права на престол российский не имела, и тестамент ее нам негож. Паче того, тестамент сей голштинцем фон Бассевицем составлен. О дочерях же самой Екатерины и толковать неча. Они рождены до брака законного, привенчаны к подолу маткину попом пьяным… – И, сказав так, повернулся к Алексею Григорьевичу, отцу невесты царской: – А твое завещание, князь, есть подложно!
Круто взял. Круто. Прямо беда. Надо выручать.
– Михалыч, – сказал Василий Лукич Голицыну, – зачем брата моего сквернишь бездоказательно? Ты его не позорь. Там ведь рукою самого усопшего государя завещано: быть Катьке в царицах!
Фельдмаршал Долгорукий снова обрушил свой бас:
– Подложно – да! И никто права на престол не сыщет, покеда дом Романовых без остатку не вымер… Ладно. Разумней всего, полагаю я, избрать на престол бабку-царицу старую – Евдокию Лопухину, что в монашестве пребывает!
Голицын не садился – так и стоял все время.
– Евдокия Лопухина, – отвечал он фельдмаршалу, – только вдовица царева. Да и чин у нее монашеский. А из монастырей много ли ума вынесешь? Лопухиных же на Руси – сотни, по деревням сиживают и злобятся. Евдокия – взойди, так они Русь-матку не хуже муравьев по закутам растащут…
Василий Лукич поглядел пасмурно, поиграл перстнями.
– По тебе, князь Михалыч, так никто и негож, – сказал он.
– Престол – не кол! Седоки найдутся… Забыли мы об Иоанновнах, что рождены от тишайшего царя Иоанна Алексеевича!
Совет оживился. Прасковью Волочи Ножку никто и не помянул, благо она с генералом Дмитриевым-Мамоновым венчана; но заговорили все разом об Екатерине Иоанновне – толстой, обжорной и дикой герцогине Мекленбургской, что жила в Измайлове:
– Принцесса добрая и веселая. С ней – ладно! А что немцы ее Дикой герцогиней прозвали, так нам не убыток… Телом она мягка да широка местом уседним: сие признаки доброты и согласия желанного. Такую и надо! Пущай она царствует на Руси!
– Весела… весела… весела, – закивали старцы.
Но князь Дмитрий Голицын снова пошел поперек всех.
– А что нам, – сказал, – с веселья того? Добро бы в девках была… А то ведь муженек-то ее, герцог Мекленбургский, тоже на Русь притащится. Сумасброд он, кат и сволочь! Дня не пройдет, чтобы головы кому не отрубил… А нам, русским, зла чужого не надобно – мы своим злом сыты по горло.
– На тебя, князь, не угодишь, – заметили фельдмаршалы.
Дмитрий Михайлович легонько тряхнул великого канцлера:
– Гаврило Иванович, погоди чуток… Взбодрись!
– Стар я… болен, – проскрипел Головкин. – Ослабел в переменах коронных… Однако же бодрюсь, бодрюсь!
Вошел Остерман, и крепко запахло ладаном. Дмитрий Михайлович выждал, пока не сел вице-канцлер, и главный козырь выкинул.
– А вот – Анна, герцогиня Курляндии и Семигалии, – подсказал, глядя искоса, – чем плоха? Правда, норов у нее тягостный, вдовий. Однако на Митаве не слыхать от рыцарства обид на нее!
Тут все распялили глаза на Василия Лукича. Канцлер Головкин и тот заерзал в креслах, хихикая. Секрета не было: Василий Лукич на Митаве бывал и герцогиню Анну любовно тешил.
– Что ж, – сразу учуял выгоды для себя Василий Лукич, – отчего бы нам и не посадить на престол герцогиню Курляндскую?
Алексей Григорьевич тоже взбодрился: «Не удалось через дочку, так, может, через братца Лукича снова в фавор влезем?..»
– Чего уж там! – сказал. – Надо Анну звать на престол…
Дмитрий Голицын вдруг как хватит кулаком по столу.
– Можно Анну, – крикнул, – а можно и не Анну!
Опять министры оторопели: чего князю надобно?
– А надобно, – отвечал Голицын, – и себе полегчить…
– Как полегчить? О чем ты, князь? – спросил Гаврила Головкин.
– А так и полегчить. Будто, канцлер, ты и сам не ведаешь, как легчат? Надобно всем нам воли прибавить…
Василий Лукич уже блудные козни в голове строил: «Бирену-то поворот сделаю, а сам прилягу… Оно и пойдет по-старому!»
– Воли прибавить хорошо бы, – сказал Лукич, осторожничая. – Но хоть и зачнем сие, да не удержим.
– Удержим волю! – грозно отвечал Голицын…
На избрание герцогини Курляндской вроде все согласились. Правитель дел Степанов уже придвинулся с перьями: записывать.
– Как желательно, господа министры, – заговорил вновь князь Голицын. – А только, пиша об избрании Анны, надобно нам не глупить и послать на Митаву некоторые… пункты!
– О каких пунктах замыслил? – спросил его канцлер.
– Нужны условия, сиречь – кондиции! Дабы самоуправство царей в тех кондициях ограничить…
Остерман посмотрел снизу – тяжело, будто гирю поднял:
– Я человек иноземный, не мне о русской воле судить.
* * *
Особы первых трех классов тоже времени даром не теряли. Третий фельдмаршал, князь Иван Юрьевич Трубецкой, ходил, пузом тряся, да «похаркивал»:
– Видано ль дело сие? Правы синодские: разве можно от нас, родословных людей, затворяться?.. Вынесли бы правду-матку!
И соловьем разливался пламенный Ягужинский.
– Мне с миром беда не убыток! – похвалялся Пашка. – Долго ли еще терпеть, что головы нам ссекают? Ныне как раз время, чтобы самодержавству не быть на Руси!
Широко распахнулись двери – гурьбой вышли верховники.
– Господа Сенат, генералитет и персоны знатные, – обратился канцлер Головкин. – Рассудили мы за благо поручить российский престол царевне Анне Иоанновне, герцогине Курляндской.
Ягужинский за рукав Василия Лукича дергал, просил:
– Батюшки мои! Воли-то нам… воли прибавьте!
Василий Лукич рвался от Пашки:
– Говорено о том было. Но пока воли тебе не надобно…
Сенат и генералитет: шу-шу-шу – и к лестницам. Вниз!
– Куда они? – Дмитрий Голицын шпагу из ножен подвытянул. – Надобно воротить, – сказал. – А то как бы худо от них не стало…
Но всех не вернул. Трубецкой с крыльца провыл ему люто:
– Много воли забрал ты, Митька! Печку растопил – вот сам и грейся. А мы свои костры запалим… Жаркие!
Оставшимся персонам Голицын начал рассказывать:
– Станем мы ныне писать на Митаву: об избрании и прочем. А кто по лесенке скинулся, тот в дураках будет. Потому что вас всех мы спрашиваем: чего желательно от нового царствования?..
Немцы, кучкой толпясь, помалкивали. Русские же люди, будто прорвало их, закричали все разом – у кого что болело:
– Чтобы войны не учиняла… Миру отдохнуть надо!
– Мужики наши обнищали горазд…
– Бирена! Пущай она Бирена на Митаве оставит…
– Живота и чести нашей без суда не отнимать!
– Куртизанам вотчин не жаловать…
– Милости нам… милости! – взывал Ягужинский.
– И все то сбудется, – заверил собрание Голицын.
Опустел дворец Лефортовский, остались верховники, чтобы писать кондиции. Бренча шпагами, совсем раскисшие, уселись министры за стол. От имени Анны Иоанновны сочиняли – для нее же! – кондиции: «Мы, герцогиня Курляндская и Семигальская, чрез сие наикрепчайше обещаемся…»
Разошлись верховники под утро. Голицын в Архангельское не поехал – здесь же, на диванчике, и приткнулся. Так закончилась эта ночь.
За стеною лежал мертвый император, всеми уже забытый!
* * *
Великий канцлер империи смотрел, как нехотя разгораются дрова в камине. Головкин дождался огня жаркого и раскрыл тайный ковчежец. Ходуном ходили стариковские пальцы. Лежала на дне бумага, болтались красные, как сгустки крови, печати.
Это был тестамент Екатерины I – бумага очень опасная сейчас для России. Все было не так! Наследовать престол должна бы Анна Петровна (дочь Петра I от Екатерины), но она уже умерла в Голштинии. Сын же ее, Петр Ульрих («кильский ребенок») – от горшка два вершка. Невестою Петра Второго объявлена по тестаменту дочь Меншикова, которая, как и жених ее, тоже уже мертва…
– Господи, прости прегрешение мое!
И канцлер бросил бумагу в огонь. Свернулась она от жара, дымясь. Потом, тихо хлопнув, сгорела дотла.
– Вот и все… Пора спать.
Глава вторая
Жестко хрустел снег под валенками. Александрова слобода тонула во мраке. Лишь смутно белели стены Успенского монастыря, да кроваво отсвечивали на востоке звезды. Жано Лесток на ощупь отыскал крыльцо, долго дубасил в двери застывшей пяткой в валенке.
Алексей Шубин затряс свою подругу за рыхлое плечо:
– Лиза, Лизанька… стучат вроде со двора!
Цесаревна Елизавета Петровна открыла сонные глаза:
– Кого это черт принес? Ой, прости меня, царица небесная…
Шубин босиком прошмыгнул в соседние комнаты, где с похмелья дрых в обнимку с портным Санковым гофмейстер Нарышкин.
– Сенька, – растолкал его Шубин. – Барабанят, кажись…
– Если Балакирев, – вскочил Нарышкин, – я его бить стану.
Упали тяжелые засовы. Отшвырнув гофмейстера, лейб-хирург Лесток опрометью кинулся к дверям спальни цесаревны:
– Ваше высочество, отопритесь… Дело особливое имею!
– Да я голая, – послышался шепот Елизаветы.
– Ах, ваше высочество! Разве я не видел вас голой? Отопритесь же – и быть вам императрицей… Слышите?
– А чего ты печешься обо мне? И без меня найдут желателей.
– Народ кричал ваше имя, вся гвардия за вас. Монахи – тоже!
Елизавета хихикнула за дверями:
– С монашками-то, кажись, я еще и не амурничала…
Лесток орал, дубася в двери:
– Избрали Анну, герцогиню Курляндскую. А вас отрешили, но мы это исправим, если вы покажетесь народу… Умоляю вас: оставьте лень свою – седлайте лошадей, скачите на Москву!
Из-за дверей послышался сладкий зевок цесаревны:
– Мне и так хорошо. Ступай, Жано… Я спать хочу!
Вылетел лейб-хирург на улицу, в бессилии сжал кулаки:
– Ох, и дура! Разве с такою карьер сделаешь?..
Вышел на крыльцо сержант Алешка Шубин.
– Небо-то как вызвездило, – сказал. – А ты, Жано, совсем дурак, как я погляжу… Наши Елисавет Петровны еще молоды, им с гвардией погулять охота. А то возись тут с бумагами да сенаторами! Пропадешь ведь с ними…
(Время Елизаветы еще не пришло!)
* * *
Утром в Оружейной палате опять был сбор великий, звали всех – до бригадирского чина. Бродил сенатор Семен Салтыков – сородич Анны Иоанновны, все о кондициях выпытывал.
– Каки там ишо кондиции изобрели?.. Можно ли то, – говорил, – чтобы на самодержавство русское узду надевать?
Салтыкова – кому не лень – клевать стали:
– Кондиции те – противу тиранства умыслены! Сколь много топлено, вешано, рублено… Тому более не бывать. А ты, сенатор, по родству с Ивановыми, видать, прихлебства желаешь?..
Смерть Петра Второго, такая нечаянная, словно развязала руки Голицыну; он объявил о выборе Анны Иоанновны и просил «виват» кричать. Кричали «виват» трижды – средь корон, мечей, кубков и седел царских.
Трубецкой да Ягужинский пальцами в верховников тыкали:
– Был у нас един монарх, а теперича – эвон! – целых семь объявилось. Один монарх бил – больно; коли бить все семеро станут – тогда и больно и смертно скажется…
– Пошли все вон! – велел гордый Голицын. – Уже все сказано, а у нас еще дело… Духовных персон, однако, поудержим!
Феофан Прокопович – с клиром – предстал. И сразу речь повел о правах на престол потомства Петра: «кильского ребенка» Петра Ульриха Голштинского и цесаревны Елизаветы. Стоял – словно идол, весь в блеске парчи, а лоб – в шишках, глаза – угли.
– Елизавета, – отвечал Голицын, – рождена в стыде и живет бесстыдно, а ныне от сержанта Шубина брюхата ходит… Ее – прочь! А имени Катьки Долгорукой в ектениях более не поминать, как о государыне…
– Смиряемся мы, слуги божии, – сказал Феофан, в зобу своем злость пряча. – А каково быть теперь с величанием Анны Иоанновны? С какой титлою возносить нам имя ее в церквах?
– Поминайте, как и ранее цариц поминали, – отмахнулся Голицын, не заметив, что он меч уронил, а Феофан этот меч поднял…
Феофану того и надобно: раньше-то ведь царей с титулом «самодержец» упоминали… Таково и Анну теперь объявит!
– Церковь, – возвестил Феофан клиру своему, – всегда, яко пес, должна стеречь престол наследников божиих. И от ущемления прав монарших спасать должно… Волочитесь же за мной, братия во Христе! Время ныне таково, что мы с кистенем в головах спать будем. Но они, затейщики конституций дьявольских, еще пожрут кала нашего, сиротского…
Голицын, после ухода духовных, еще раз просмотрел кондиции.
Фельдмаршал Долгорукий взирал на князя бельмом – тускло.
– Герцогиня Курляндская, – сказал, – монахов чтит. Коли кто повезет кондиции на Митаву, так в депутаты надо бы и синодских назначить. Заодно и Феофана задобрим: от него язвы жди.
– Туды-т их всех… такие-сякие! – пустил Голицын.
– Имеешь ты сердце на попов? Скажи – с чего?
– Лживы, подлы и суетны, – в ненависти отвечал Голицын. – Духовенство русское в народе решпекту не имеет. Палачи да фискалы в рясах! Гробы смердящие!
Звали в Совет бригадира Гришу Палибина – он почтами ведал:
– Повелеваем тебе, бригадир: Москву заставами оцепить, из приказа ямского подвод и подорожных не выдавать. Мужикам тоже без дела по дорогам не ерзать. Да проведывать, кто куда едет! А всех, кого спымаешь, держи взаперти, яко воров, до вторника. За иноземцами же и послами – глаз особый… Прочувствовал ли?
Замысел был таков: никто не должен предупредить Анну Иоанновну, и никто не смеет перегнать депутатов верховных.
* * *
– Несомненно, дорогой Левенвольде, – сказал Остерман, – заставы будут перекрыты, и нам следует немедля послать гонца на Митаву. Вы, как искренний друг герцогини, обязаны это сделать. Пишите на брата Густава – он человек разумный: поймет, как действовать далее…
Отпустив посла, барон подъехал на колясочке к жене:
– Дорогой Марфутченок не забыла, что ее старый Яган любит сушеные фиги? Так будь же добра, угости меня фигушенками…
Очень уж любил барон фиги. К зеркалу Остерман подсел и натер себе лицо сушеными фигами. Сразу стал вице-канцлер желтым, страшным, зачумленным. Потом напрягся, и брызнули из глаз его слезы. Большие, они залили бурые щеки. «Зеер гут», – сказал Остерман, и слезы те вытер. Мало кто знал, что вице-канцлер умел плакать. Когда захочет – тогда и плачет. Сейчас он просто проверил – не забылось ли? Нет, плакалось отлично. И он успокоился…
Из коллегии иностранных дел явился затерханный ярыга:
– Верховные министры просят нас до Митавы. И сказано, что ехать им «для некоторых дел», а каких дел – к сему не приложено изъяснения. А число лиц в пасе велят указать тако: «и прочие».
– Выдать! – не моргнул Остерман, и коллежский выкатился…
Запела в клетке ученая птица. Барон ездил по комнатам. Узлы завязывались и развязывались. «Конъюнктуры!» Тикали часы; успеет ли Левенвольде послать гонца? Захлопали двери, птица смолкла.
– Правитель дел Верховного тайного совета имеют честь с бумагами явиться, – доложил барону его секретарь Розенберг.
– Что ж, пусть войдет…
Степанов вошел и увидел: вот она, смерть-то, какова бывает. Весьма неприглядна! Голова у Остермана – назад, торчал из-под косынок кадык, обмело губы, лицо желтое, ужасное…
– Весьма сочувствую горю вашему, – тихо повел Степанов, – яко воспитателю государя покойного. Но дела Совета безотлагательны, и велено мне от министров довесть их до вас…
– Что еще? – заклокотало в горле Остермана.
– Депутаты везут государыне новой на Митаву конституционные пункты, сиречь – кондиции знатные об ограничении воли монаршей!
Под душными одеялами сжался Остерман, похолодев.
– Читай же внятно, – сказал, едва ворочая языком.
Степанов на пальцы плюнул, раскрыл бумаги кондиций. Читал:
«…в супружество мне во всю мою жизнь не вступать и наследника не определять… Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать… Ни с кем войны не всчинять – миру не заключать… Новыми податьми народа не отягщать… В знатные чины выше полковничьего ранга не жаловать… Живота, имения и чести без суда не отымать… Вотчины и деревни никому не жаловать…
– …а буде чего, – закончил Степанов, – по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской!» Прошу подписать, барон, кондиции сии…
Вице-канцлер задвигался. Выпростал правую руку, и рука (боевая, письменная) протянулась к Степанову, тряская. До самого локтя она была замотана. Лишь синели ногти мертвецки.
– Да, – громко заплакал Остерман, – когда-то у меня была рука… Но теперь она отнялась.
Слезы затопили лицо вице-канцлера. Больше он ничего не подписывал. И в Совете не был ни разу. По Москве ползли слухи, что Остерман умирает (от горя – по смерти царя).
– Подохнет, так похороним, – говорили люди московские.
* * *
Дорога от Москвы до Митавы! Тайный гонец Левенвольде хорошо ее знает. Каркают черные вороны с берез. В наезженный санями тракт тупо колотят подковы: туп-туп… туп-туп! Торчат из-за пояса гонца кривые рукояти пистолей. А в них – пули, крупные, как бобы. Вот уже завиднелись вдали крыши Черкизова…
Неужели опоздал? Нет, успел вовремя: последним проскочил через улицу деревни. Более никто Москвы не покинул. Из розвальней вдруг горохом посыпались солдаты, у Черкизова рогаток наставили, багинеты к ружьям примкнули…
– Чтобы мыши не прошмыгнуть! – велел Гриша Палибин.
Первопрестольная замкнулась в кольце застав. А вокруг Москвы – метельные посвисты, сияние лунное; там лежат губернии разные, встают города над обрывами речек, притихли деревеньки под снегом.
И никто еще не ведал, что стряслось во дворце Лефортовском. И там, в провинциях, еще поминали в ектениях императора Петра Второго с государыней-невестушкой – Екатериной Долгорукой.
Москва же варилась сама в себе. Бурлила и выплескивала.
Сейчас она решала за всю Россию, что примолкла в сугробах.
Быть на Руси самодержавию или не быть?..
Но уже скачет гонец Левенвольде и Остермана на Митаву.
Бешено колотятся подковы в дорогу: туп-туп… туп-туп…
* * *
Отужинали в доме Голицыных. Сын верховного министра, князь Сергей Дмитриевич, сидел перед отцом – лицо черное, испанским солнцем сожженное… Был он человек неглупый, но тихий.
– Тятенька, отчего Анну, а не другую посадили вы на престол?
– По размышлении… – отвечал отец. – Рождена сия особа от царя Иоанна, духом нищего. И сама Анна духом нища. Забита ото всех бывала. Всем в ноги кланялась. Меншикову руку лизала. Такую-то, сыне, нам и надобно! Из наших ручек на помады да фижмы получит, а более – шиш: сиди на престоле смиренно. А мы, люди родовитые, будем вертеть ею, только успевай Анна поворачиваться.
– Что далее ты умыслил, тятенька? – спросил сын.
– А ныне проект пишу. Каково далее жить… Будут Сенат да палаты, вроде парламента. А наказывать людей не по прихоти, а – по закону. Вины же отцов и матерей на детях не взыскивать: это – грех! Армию, силу грозную, царям в руки не давать. Анне выделим регимент для охраны – и пусть себе тешится. А коли к доходам государства лапу протянет – треснем так, что закается! Стоять же во главе дел российских должны лишь мы – знатные, столбовые… Пущай я погибну! – заключил Голицын. – Щуку съедят, да зубы останутся. Готовлю я пир на Руси, большой и веселый. Только бы гости не подрались. Живем по-старому: где пир – там и драка…
Он вышел. За частоколом двора конюхи князя ставили на полозья старый шлафваген – карету объемную, с кроватями, столом для дел письменных да с печкой. Ехали на Митаву трое: Василий Лукич, брат министра – генерал Голицын Михаил Михайлович (младший) да еще Леонтьев, тоже генерал, троюродный брат императора Петра Первого.
Собрались. Даже дровишками запаслись. Лукич был весел изрядно. Ему большие выгоды на Митаве чуялись. «Прилягу к Анне, – мыслил. – Сам прилягу, а Бирена отшибу…»
Вот с этого Бирена и начал Дмитрий Михайлович наказ читать:
– Смотри, Лукич, чтобы не вздумала Анна, по слабости бабьей, любителя сего в Россию волочь на хвосте своем. От дел наших его сразу отвадь. Пинка дать не бойтесь…
– Чему учишь, князь? – обиделся Лукич. – Я из пеленок прямо в Версаль угодил, знатных дуков через ушко протягивал. Неужто с одной Анной не справлюсь? На спине у ней в Москву въеду.
– Глаз держи востро, – поучал Голицын, – курляндцы хитры и оборотливы. А слухи да изветы в порошок мельчи. Отписывай на Москву цифирно, сиречь – по азбуке секретной… Ну, с богом!
Ворота раскрылись, выпуская шлафваген на улицы. До заставы ехали – все устроиться не могли. Сундук с деньгами для Анны (на подарки ей) брыкался под ногами. Мотало на ухабах громадный шлафваген, словно фрегат парусный в бурю. Леонтьев уже спал, будто суслик, в кошмы завернувшись. Наконец Москву миновали.
Надвинулась на путников темь губернская, провинциальная – деревни, церкви, кладбища да погосты. На Черных Грязях костры горели, солдаты понабежали, и перестали скрипеть полозья:
– Стой… Кто едет? Кажи пас или подорожную.
Василий Лукич пасы показал и спросил офицера караульного:
– А кто до нас проезжал или нет?
– Зайца не проскочило, – отвечал офицер…
И побежала лунная дорога до Митавы. Форейторы зажгли факелы, помчались наперед депутатов, освещая сугробы брызжущим пламенем. Хлопнули бичи – рванули сытые кони. Замелькали черные руки дерев, побежала мимо Россия – тихая, без огонька. Слепо глядели на путников редкие мужицкие избенки.
* * *
В доме касимовского царевича, что по левой стороне Мясницкой, где селилось семейство Долгоруких, – тоже отвечеряли. А отвечеряв, дружно – всем семейством – плакали…
– Это ты виноват! – сказал Алексей Григорьевич, хватая Ивана за волосы. – Убить тебя мало, что не Катька на престол села!
– Чего уж тут! – подскочил князь Николашка. – Если бы я при государе состоял, я бы не так плох был… Давайте бить Ваньку.
Княгиня Прасковья Юрьевна вступилась за сына старшего:
– Уймитесь, окаянные! Полно вам Ванюшку-то мучить…
На пороге, разматывая заледенелые шарфы, явился черный арап Петра Великого – Абрам Ганнибал, и лицо негра, в трещинах, лоснилось от гусиного жира. Кинулся к Ваньке, целовал его:
– Милостивец мой! Сокруши печали мои… Бежал я из Селенгинска, куда сослан был Голиафом прегордым – Меншиковым. У границ китайских службу имел, худо мне! Хотел в землях чужих утаиться, да не привелось за рубежи бежать – шибко стерегли меня…
Тихо стало в доме Долгоруких. Едва-едва опомнились.
– Пентюх чумазый! – сказал князь Алексей Григорьевич. – По дороге-то к нам заезжал ли ты куда-либо?
– Нет, – отвечал арап. – Из Селенгинска – прямо к вам!
– Ступай вон, – заговорила Прасковья Юрьевна. – Опоздал ты шибко: ныне от нашего дома фавору тебе не выпадет.
– Дурак ты, Абрамка, – сказал князь Иван. – За милостями новыми езжай в Питер до Миниха.
Абрам Ганнибал с колен поднялся. Выпученными глазами (а в них – степи, вьюги, версты, безлюдье) оглядел всех и с криком выскочил… Еще тише стало в доме Долгоруких. Мучились.
– Кажись, – прислушалась Прасковья Юрьевна, – подъехали… А кто подъехал к дому нашему – не худой ли кто? Выгляньте.
Аленка, младшая, протаяла ртом замерзшее оконце.
– То царица порушенная! – заверещала. – То Катька…
Вошла «ея высочество» – подбородок кверху. В чем была, прямо из саней, так и примостилась у стола. Скатилась с головы ее шапка, открылся затылок невесты – нежный, молочный.
– Вот и отцарствовала свое! Примите, родители дорогие, царицу на постой прежний. Уж не взыщите, миленькие: есть да пить из вашего корыта, как ране, стану… – И завыла вдруг, страшно, по-волчьи: – Это вы виноваты-ы… Плясала бы сейчас в Вене со своим Миллезимчиком! А ноне брюхата я сделалась! Травить надо! Дите царское – беды ждите… Он – престолу наследник, дите мое – корени петровского… от дому Романовых!
В эту ночь князья Долгорукие испепелили в прах подложное завещание. Одно – царем не подписанное (чистое), а другое – то, что подмахнул за царя князь Иван. Не знали они, что делать с Катькой – рожать ей дитятю от корени царского или затравить его сразу, еще во чреве?
Глава третья
И замутилась земля Русская от слухов московских.
– Что деется? – толковали всюду. – Люди фамильные, ненасытные опять ковы противу нас строят. Что они там говорят по ночам? Или в окно давно не летали? Так мы их пустим…
Отзывалось по домам и трактирам не шепотом, а в голос:
– Не токмо мы, шляхетство служивое, но и люди знатные кирпичи уже собирают – верховных бить станут! То им не пройдет даром, чтобы замышлять тайно… Эка, придумали: вместо единого царя – целых восемь на нашу шею. Доконают нас совсем, хоть беги!
И на всю Москву раздавался гневный рык Феофана Прокоповича:
– Благочестива Анна избранная, и самое имя ее Анна с еврейского на благодать переводится. Но чины верховные сию благодать от нас затворили. Быть всем нам сковану тиранией, коя у еллинов древних олигархией прозывалась. А русский народ таков есть мудрен, что одним самодержавием сохраниться может…
Граф Павел Ягужинский нюх имел тонкий, собачий: за версту чуял, где повернуть надо. Верховные не допустили его до дел министерских – теперь мстить им надо!..
– Сумарокова сюда… пусть явится Петька.
Петр Спиридонович Сумароков, будучи адъютантом графа, носил звание голштинского камер-юнкера.
Ягужинский взял парня за плечо, к свету придвинул:
– Ведаю, что люба тебе дочь моя. И то – дело! Быть тебе в зятьях у меня, только спроворь… – И кисет с золотом в карман Сумарокову опустил. – Езжай на Митаву с письмом к герцогине…
– Негоже мне ехать, – заробел адъютант. – Я при голштинцах состою. Петр Ульрих, l’enfant de Kiel, соперник Анне Иоанновне в делах престольных. Да и заставы перекрыты: поймают – бить учнут меня… Худо будет!
– На голштинство свое плюнь, – отвечал Ягужинский. – Тишком поедешь. Да слушай… Герцогиню науськай, чтобы депутатам не верила. Истинно узнает все, когда на Москву прибудет. А когда станут ее понуждать, дабы кондиции те мерзкие подписала, то пущай рыпается, сколь можно… Осознал, Петька?
– А ежели герцогиня спросит меня, кто в Совете просил воли царской ей поубавить, то как отвечать мне?
Ягужинский сам о воле кричал и – уклонился:
– Так и скажи ея величеству: мол, всякие кричали, большие и малые. Орали по-разному! А старайся объявить герцогине все тайно. И не мешкай с отъездом. Быть тебе потом зятем моим.
– Дорога опаслива. Спросят подорожную – где взять-то?
– Заяц ты у меня! – осерчал Ягужинский и опустил в карман адъютанту второй кисет с золотом. – Еще зятем не стал, а уже убыток мне учинил… Разорил ты меня, еще не отъехав!
На том они и расстались: Сумароков стал собираться.
* * *
Вскипая над пламенем свечи, стекал сургуч. Феофан Прокопович пришлепнул его печатью, и пакет с письмом на Митаву живо скрылся в подряснике монашка.
– Скачи, – велел Феофан. – Здесь все сказано, а ты помалкивай… Иди ближе – под благословение мое!
Перстами осененный, монашек спросил хрипато:
– А ежели словят на заставе? Тады как? Убьют ведь…
– Червяка видел? – спросил Феофан. – Он куды хошь ползет, и никто не усмотрит путей его, ан, глядь, и вылез… Тако и ты поступай. А коли словят, быть тебе в обители Соловецкой! До смерти намолишься там святым угодником Зосиме и Савватию…
Монашек выскочил рыбкой – словно пьяница из кабака.
Феофан сжал кулаки, возложил их перед собой, размышляя.
– Горе вам, книжники и фарисеи, – сказал…
Полвека прожил. Из купцов вышел, науки от иезуитов восприял. Сам папа Климент XII благословил его. Пришлось Феофану, уже бороду имея, опять в купель прыгать («из веры подлыя кафолическия приять вновь веры православныя»). Петр ему большую власть дал. Заиграет Феофан в Синоде – другие только поплясывают. Возле Петра хорошо было. При Петре-то Феофан разумом светился.
«Слово похвальное о флоте российском» написал. Зверинолютейший «Духовный регламент» изобрел, в коем способы указал – каково противников церкви живьем сжигать, а жилища их разорять. Инквизицию Феофан создал при Синоде такую, что округ него на версту жареной человечиной пахло. Кто противился – того на дыбу! Хорошо людей жрать и монахами закусывать…
– Просвещенному деспотизму быть! – сказал Феофан.
Теперь все надежды на Курляндскую герцогиню. И сейчас было страшно ему, что Анна Иоанновна не будет самодержавной… Чьим рабом станет тогда мудрый Феофан? Чьим именем раздувать костры церковной инквизиции? Верховные министры такой воли ему не дадут. А врагов у Феофана немало – только святым огнем их убрать можно…
– Лошадей! – гаркнул Феофан.
Ветер закинул бороду на затылок, мчался Феофан, а народ сбегал на обочины, открещиваясь. Показались вдали витые луковицы теремов Измайловских. «Помогай мне бог», – грезил Феофан и вдруг вспомнил:
В невежестве гораздо более хлеба жали, Переняв чужой язык, свой хлеб растеряли…Кантемир – пиит изрядный. Его надо к сердцу прижать.
Вылез Феофан перед крыльцами на снег. Подползла к нему дура герцогини Мекленбургской – затрещал горох в пузыре бычьем:
– Дин-дон, дин-дон… царь Иван Василич!
– Благословляю тя, дура, – сказал Феофан и, покрестив юродивую, ногою ее прочь отодвинул. Поволочились за ним, по ступеням обшарпанным, собольи шубы – царями на благость его даренные. Сверкала панагия на груди впалой, бухался народ на колени.
– Дин-дон, дин-дон… царь Иван Василич! – И трещал горох в пузыре, ползла за ним дура. – Дин-дон, дин-дон…
Феофан замер: «Монастыри… колокол… святость!»
– …царь Иван Василич! – допела дура.
«А это опричнина, Иван Грозный, костры да черепа…»
И железный посох в руке Феофана вдруг повис над дурою.
– Убью! – завопил. – Кто тебя научил извету такому?
Но раздался хохот – это смеялась Екатерина Иоанновна:
– Да сие не про вас – сие про сестрицу мою, Анну Иоанновну! Ее сызмала так дразнили: «Дин-дон, дин-дон, царь Иван Василич». Потому как сестрица моя – то молится, то гневается грозно!
Феофан остыл. Выпив романеи (он любил выпить), сказал:
– На тебя, царевна-матушка, тоже спрос был. Да невелик спрос. Сама ты хороша, да муженек подгадил. Из-за него не быть тебе в царицах наших. Побоялись министры, что герцог твой прикатит!
– И пусть, – отвечала Дикая. – Коли уж быть царицей, так самодержавной. А ныне обстругали власть монаршую. Чем умнее люди – тем хуже: ранее живали цари и никаких кондиций не ведали! Однако за сестрицу я рада… Теперь, чай, ассамблеи будут, а я повеселюсь. Мне при сестрице моей не занимать, чай!
Феофан (хитрый-хитрый) шевельнул смоляной бровью:
– До веселья далече, матушка. Как бы и сестрице твоей в долгах не сидеть! Дадут вам верховники тышшу на весь год. Вот и будете драчёно яблочно на хлеб мазать и слезой закусывать…
Дикая герцогиня привыкла в Европе к муссам разным, теперь ее драчёно яблочное уже не соблазняло, и тут она проговорилась:
– Писала я уже на Митаву, в известность Аннушку ставила.
– А ты еще пиши, – нашептывал Феофан. – Вгоняй в злость праведную сестрицу свою. Чтобы камень за пазухой она еще с Митавы сюда везла. Иначе пропадет великое дело Петрово, потопчут его затейщики верховные! Помни, матушка: покуда кондиции не разодраны – тебе тоже не станет житья: худо будет, бедно будет…
Довел Дикую герцогиню до белого каления и помчался обратно на Москву. Звенел в ушах Феофана ветер: «Дин-дон, дин-дон… царь Иван Василич! Монастыри да опричнина… плети да хоругви».
– А просвещенному деспотизму все равно!
И перст Феофан поднял. Мчали кони – сытые кони, синодские.
* * *
Возки офицерские да сани мужицкие, сеном обложенные, застревали на выезде: далее солдаты никого не пропускали из Москвы.
Сумарокову ямщик попался толковый: как вожжи взял – так и трусить не стал. «Солдат омманем!» – посулил. До Черных Грязей ехали чуть не с песнями. На дорогах – ни души. Вот и рогатки уже показались. Солдаты валенками топают, рукавицами хлопают, кашу у костров лопают. Увидели возок с Сумароковым и закричали:
– Стой! Кто едет?
– Камер-юнкер принца Голштинского, – отвечал Сумароков.
– Какой? – спросил офицер от костра.
– Голштейн-Готторпский.
– Ты нам зубы не заговаривай. Лучше подорожную кажи!
– У меня только пас, – сознался Сумароков. – До именьишка добираюсь, – соврал он, боясь, как бы не стали молотить его.
– Нашел время по именьям разъезжать! Заворачивай оглобли!
Делать нечего: завернули обратно на Москву, обошли заставы окольно и ехали до станции Пешки; отсюда застав уже не было – езжай себе куда хочешь. Сумароков щедро отсыпал ямщику из кисета графского. Далее он нанимал «копеечных» (вольных) извозчиков, платил им хорошо – и кони летели.
Новгород уже наплывал гулом звонниц своих…
Остановился Сумароков щец похлебать в придорожном трактире. Стряпуха как раз стол убирала. Объедки жирные были на столе, щедрые (она их себе в подол складывала).
– Кто проезжал-то до меня, бабушка? – спросил Сумароков.
– Господа каки-то, сынок… Сами важные, в шубах. А карета у них – больша-больша! С трубою, как изба. Дым-то так и прядает. Дров не жалеют. Платили знатно… Енералы! Им-то что?
Сумароков понял, что нагнал депутатов. Хорошо бы теперь их обогнать. Да чтобы с ними не встретиться. Ни-ни. А то ведь князь Михайла Голицын таков – чуть что не так, сразу за палку. И думал камер-юнкер голштинский об Аннушке Ягужинской: «Быть счастью моему с тобой или не быть… Где ты, Аннушка?»
За Новгородом ему повезло. Сумарокова нагнал знакомый поляк, курьер саксонского посла Лефорта – дружок по кружалам.
– Когда ты выехал из Москвы? – спросил он Петьку.
– Двадцатого, – отвечал Сумароков.
– А я на день раньше… Как же ты меня обогнал на клячах?
– Плохо, панич, – прилгал Сумароков. – Вишь, санки-то у меня каковы? Обстучали меня по дороге люди воровские. И пас сгинул!
– Помочь можно, – отвечал курьер. – У меня два паса с собой. Один канцлером Головкиным подписан – из коллегии. Вроде бы на купца рижского. А другой на меня – от посла Лефорта.
– Мне тебя послал сам бог! – обрадовался Сумароков…
С пасом на имя рижского купца он тронулся дальше, пересев на лошадь верхом…
Митава была недалеко, и с каждой верстой приближалась к нему любезная Аннушка Ягужинская… Так он и скакал – лесами.
* * *
Скакали, скакали – курьеры, курьеры. Везли они депеши от послов – королям, курфюрстам, герцогам… Пусть знают в Европе, что случилось в России: там покусились на самодержавие!
Саксонско-польский резидент Лефорт депешировал:
«Новый образ правления, составляемый вельможами, дает повод к волнению в мелком дворянстве, среди которого слышны разговоры: „Ограничить деспотизм и самодержавие?.. Но кто же поручится нам, что со временем, вместо одного государя, не явится столько тиранов, сколько членов в совете Верховном?..“
Французский посланник Маньян в эти дни сообщал королю:
«Испытав на опыте недавнее возвышение Долгоруких, русские опасаются могущества временщиков; вследствие этого хотят уничтожить самодержавие или же крайне ослабить его участием аристократии… Герцогине Курляндской они собираются дать только корону в пользование, вверив ей престол до той поры, пока они (вельможи) согласятся между собою насчет новой формы государственного правления».
Прусский посланник барон Мардефельд злобно пророчил:
«Все русские вообще желают свободы, но не могут согласиться между собою о мерах ее и качестве и до какой степени им следует ограничивать самодержавие… Императрица возвратит себе в короткое время полное самодержавие, ибо русская нация, хотя и много говорит о свободе, но свободы не знала, не знает и никогда не сумеет воспользоваться ею…»
Герцог де Лириа, посол Испании, спросил: «А кто это такая – Анна Иоанновна?» – после чего отписал в Мадрид следующее:
«Русская нация не могла лучше выбрать государыню. Курляндской герцогине 36 лет от роду, она очень величественной наружности, весьма любезна, отличается большим умом и поистине достойна русского трона…»
Глава четвертая
Врач и философ Кристодемус, доктор медицины и философии Падуанского университета, был начальником военных госпиталей в России; по происхождению – грек… Ныне он проживал в Риге, занимаясь науками, бесплатно лечил солдат и бедняков, собирал для коллекции монеты древнего мира. Двери дома своего Кристодемус всегда держал открытыми…
– Кто там стучит? Двери жилища философа не закрываются!
Вошел малый.
«Бычок славный; костюм – оранжевое с черным, цвета курляндской службы, а челюсть, челюсть… Бог ты мой, вот это кувалда!» – подумал Кристодемус, оглядывая гостя.
– Я камергер из Митавы… Бирен! Может, слышали обо мне?
– Нет, не слышал. А на что вы жалуетесь?
– Я здоров и ни на что не жалуюсь.
– Счастливчик, – вздохнул Кристодемус.
– Еще бы! Никто не спорит… Кстати, у меня скопилось уже немало старых медяков, но у вас, говорят, их больше?
– Показать?
– Нет, продать.
– Что для души – не продается. Один чекан Евкратида, царя Бактрии, мне обошелся в сорок ваших тощих кошельков.
– Надеюсь, – ответил Бирен, – вы не станете набивать цену?
– Вот там, в углу, – показал Кристодемус, – стоит моя палка, которую я беру с собой, чтобы отбиваться от голодных собак… Видите? Так возьмите ее в руки!
– Я взял, – ответил Бирен. – А дальше – что?
– Теперь этой палкой тресните себя по глупой башке…
– Весьма печально, – усмехнулся Бирен, – что вы не желаете услужить мне, камергеру Курляндской герцогини…
Так закончилось первое свидание ученого византийца с Биреном.
Впереди – еще два!
* * *
Густав Левенвольде скакал на Митаву. «Великий боже, – думал он, прыгая в седле, – кто мог предвидеть?» На мызе Корфов, возле ворот, качался тяжелый молоток. Левенвольде перехватил его, заухал в медный щит, висевший на столбе:
– Будите господина! Пусть скачет прямо к замку Вирцау…
Бирен безмятежно спал, когда в ухо ему крикнул Левенвольде:
– Вставай же, Эрнст, случилось чудо: наша герцогиня Анна избрана в императрицы всероссийские… Встань, твой час пробил!
Из-под длинной рубахи Бирена виднелись ноги в штопаных чулках.
– О, горе нам, горе… – с трудом опомнился камергер. – Кто же теперь защитит нас на Митаве? Бенигна, мы с тобой погибли…
За пологом алькова мелькнула горбатая тень Бенигны Бирен, вспыхнул огонек свечи возле распятья.
– Всевышний, – пылко шептала горбунья, – за что нам это наказанье? Не много ли ты даешь нам испытаний? Защити нас и отврати семейство Биренов от разлуки с герцогиней Анной… Сжалься!
Анна Иоанновна вышла из спальни (щеки в узорах от кружевных подушек). Зевала сочно, словно мужик, в большой мясистый кулак. Левенвольде громко стукнулся коленом в пол, протянул герцогине письмо от своего брата.
– Ваше величество! – оглушил он Анну. – Читайте… из Москвы!
– Эрнст, свечу сюда, – велела Анна, еще всего не осознав.
Письмо раскрылось в пальцах герцогини – с треском. Возле корявого лица плясало пламя. Зрачки Анны – прыг-прыг по строчкам, губы втянуты. Вдруг руки вскинула, забормотала по-русски:
– Вот оно… вот оно… подкатило! Сколько лет муку терпела. На восемь тышш жила, в нитку тянулась. И каждому угоди… А теперь-то – вот оно: Россия – моя, чай?
Затрясла письмом, заколыхалась грудями:
– Оценили вдовство мое… всенародно! Господи, – заревела Анна, – маменьки-то нет. Вот порадовалась бы, на меня глядючи. Густав! Эрнст! Бенигна! За любовь-то вашу… озолочу!
Рука Бирена опустилась, лизал ее коптящий язык огня. Желтый воск стекал на вытертые в танцах ковры. Бирен громко рыдал.
Левенвольде вздохнул – шумно, словно загнанная лошадь.
– Ваше величество, – произнес он, – возьмите себя в руки… Успокойте свое высокое достоинство и перечтите письмо заново: вы пропустили, в счастии своем, самое главное. Русские вашу власть ограничивают. Отныне ваш престол – не трон, а только место для удобного сидения…
Услышав это, Бирен снова поднял свечи к лицу Анны.
– Если так, – сказал обрадованно, – то не лучше ли остаться на Митаве? Здесь сидеть удобнее…
Анна Иоанновна вчиталась в письмо и сильно побледнела:
– Мне страшно стало, что здесь пишут… Эрнст! Русские хотят, чтоб ты остался на Митаве. И никого из близких мне с собой не брать… Но ты пойми: не стану ж я ради тебя престола русского лишаться…
Разбуженный шумом, тонко заплакал за стеною ребенок – ее сын, Карлуша Бирен, и этот плач напомнил каждому о многом…
– Все уладится, – сказал Левенвольде. – Важно сохранить тайну. Депутаты из Москвы не должны знать, что гонец немецкий опередил посланцев русских. От этого зависит многое!
Гулко захлопали двери замка Вирцау, Анна дунула на свечи:
– Кто там идет? Спрячемся… тихо!
– Какая тьма, – раздался чей-то сонный голос. – Не попал ли я к Вульзевулу в чистилище? Конечно, в преисподне дьявола удобнее творить выгодные дела, нежели в чистом раю при херувимах.
– Это безбожник Корф! – испугался Бирен. – Что ему надо?
Левенвольде нащупал в потемках руку Анны – влажную:
– Это я пригласил барона Корфа в Вирцау…
– Зачем ты это сделал, Густав? – прошипела Анна.
– Не обессудьте, ваше величество, но Корф… умен. И никто лучше Корфа не сможет наладить отношения с Остерманом…
– Альбрехт, – позвала Анна Корфа, – я еду на Москву! Поздравь меня: я стала русской императрицей…
В темноте Корф споткнулся, упал, что-то загремело.
– Черт побери! Зажгите хоть одну свечу – я не вижу новое величество мира нашего…
Прямо из замка, не заезжая в Прекульн, барон Альбрехт Корф помчался на Москву, где его поджидал «умирающий» Остерман.
* * *
Рейнгольд Левенвольде писал на Митаву брату Густаву, что избрание Анны, как и смерть Петра, окружены пока непроницаемой тайной. И советовал: до времени с депутатами не спорить – подписать все, что дают, а здесь, на Москве (сообщал Рейнгольд), уже есть люди, которые приготовят Анне престол в том великолепии, которого она достойна, как самодержица.
Оплывали бледные свечи – за окнами Вирцау светало.
Нежданно явился Кейзерлинг, веселый и бодрый.
– Ну, – сказал, – от меня-то, надеюсь, вы не станете скрывать, что тут случилось?
Ему сообщили новость, и вот тут-то Кейзерлинг понял, что он был самым умным на Митаве: никогда с Биреном не ссорился, наоборот, даже помогал ему… И сейчас он сказал Бирену:
– Эрнст, не я ли подарил тебе на счастье орех-двойчатку, которую нашел осенью по дороге на Кальмцейге? А теперь я согласен на самое малое: дозволь мне быть твоим конюхом.
– Погоди, – хмурился Бирен. – Москва еще далеко, да меня русские варвары в Москву и не пускают…
Раздались звоны шпор и тяжелый шаг: то прибыл ландгофмейстер фон дер Ховен, и гроб господень отливал багрово на его плаще среди трех горностаев. Почетный рыцарь Курляндии преклонил свое надменное колено перед притихшей Анной Иоанновной.
– Мы счастливы, – сказал барон, – что великая и могущественная империя русских возлагает корону дома Романовых на вашу прекрасную голову! Прошу не забывать и тяжести короны дома Кетлеров – именно с нее и началось ваше чудесное величие…
Кейзерлинг подтолкнул Бирена в спину:
– Момент удобный… пользуйся, болван!
Бирен, крадучись, поймал фон дер Ховена в дверях замка:
– Может быть, в минуту, столь торжественную для Курляндии, вы соизволите причислить меня к благородному рыцарству?
В ответ лангофмейстер захохотал:
– Рыцарство благородно, но… благороден ли ты?
Раньше обычного проснулись в это утро фрейлины – защебетали. Тайны сохранить не удалось: еще и день не осветил Митавы, а сонные бюргеры, позевывая, уже сходились к ратуше:
– Слышали? Наша герцогиня стала уже императрицей…
Волновался фон Кишкель (старший) за своего сына – фон Кишкеля (младшего), выдвигал его впереди себя:
– Мой Ганс недаром восемь лет учился клеить конверты. России всегда нужны чиновники – образованные и честные!
– Фрау Мантейфель, а вашей дочери повезло: из фрейлин курляндских быть ей статс-дамой в России.
– Добрые митавцы, а каково теперь бродяге Бирену?
– О-о, вот уж выпало счастье…
Анна Иоанновна спешно перебирала свои сундуки, встряхивала гремящие роброны. Прикидывала на себя фижмы – какие бы попышнее? И выбрала такие, что в двери боком пролезала, иначе было никак не пройти – задевала за косяки. Навзрыд лаяли в замке собаки: просились на двор, но сегодня было не до них – лайте!
– Великое дело! – сказала Анна Иоанновна, зардевшись в гордости. – Теперь, что ни день, буженину с хреном есть буду. Зверинцы разные разведу. На богомолье схожу – святым угодникам поклониться. Милостыньку нищим подам. Баб разных приючу, чтобы они сказки мне про разбойников страшных сказывали…
Кейзерлинг заметил на столе белую костяную палочку камергера (Бирен забыл ее в суматохе). Взял он эту палочку и сказал:
– Какая прелесть! Эрнст, подари мне ее… на память.
– Бери, бери, – расщедрилась Анна Иоанновна. – Жалую тебя в свои камергеры… Чувствуй и верь: благосклонна я к друзьям!
В дверях неслышно появился фактор Лейба Либман; ростовщик оглядел толпу придворных герцогини и во всеуслышание объявил:
– Высокородные дворяне, вот повезло вам… правда? Вы едете на Москву, я слышал, а бедный Либман остается здесь. И все, что вы набрали в долг у меня, теперь… пропадет? Правда?
– О подлый фактор! – оскорбились рыцари. – За нами не пропадет… Дай только добраться до Москвы!
– Э-э-э, – засмеялся Либман, – так не годится. Уж лучше я поеду вместе с вами. И получу, что мне полагается с вас, из рук в руки – уже на Москве…
Из-за леса – от рубежей – примчались верховые, возвестив:
– Едут… московиты едут!
Курляндцы перестарались. Василий Лукич вошел в тронную и сразу понял: здесь кто-то уже был… предупредили! Вдоль стен охорашивались фрейлины. В затылок Бирену, по немецкому ранжиру, равнялись камер-юнкеры. А сама Анна Иоанновна – в лучшем, что было, – стояла под балдахином, и в прическе герцогини жиденько посверкивали нищенские бриллиантики короны Кетлеров.
Лукич через плечо шепнул Голицыну и Леонтьеву:
– Кто-то был… до нас. Уже приготовились!
И упал на колени перед престолом курляндским. Перед ним высилась баба – ея величество. «Прилягу… ей-ей, прилягу!»
* * *
Паж Брискорн продел меж пальцев собачьи поводки, и визжащая от нетерпения свора легавых сильными рывками потащила его в сад.
– Эй, мальчик! – вдруг окликнули Брискорна по-немецки.
Возле ограды Вирцау стоял человек в русском тулупчике, из-под меха бараньего торчал ворот мундира. Измученная лошадь склонила на плечо ему голову, висла с удил белая кислая пена.
– Ты, мальчик, служишь при здешней герцогине?
– Да, сударь… А что вам нужно?
– Я имею важное письмо до твоей герцогини. А коли гости к ней из Москвы прибыли, так ты не возвещай обо мне громко. Шепни обо мне герцогине на ухо… Я человек секретный!
Мальчик очень любил секреты и скоро вернулся, перехватил из рук Сумарокова (это был он) поводья.
– Я передал о вас. Коня я спрячу. Пойдемте, сударь…
Сумароков протиснулся в двери. Ступени вели куда-то вниз. Коридоры, витые лестницы. И очутился в погребе, под землей.
– Здесь и велено ждать, – сообщил Брискорн.
Паж оставил ему свечу. Сумароков томился долго: казалось, вот сейчас войдет сюда Анна Иоанновна и улыбнется ласково… Но перед ним уже стоял изящный господин в шелку и бархатах. Нос с горбинкой, а губы незнакомца приятные и глаза светятся.
– Я камергер герцогини… Иоганн Эрнст Бирен, и поручение имею вас выслушать и в точности донести до госпожи своей.
– Того исполнить не могу, – ответил Сумароков. – Дело, с коим я прибыл, весьма важное, только самой государыне могу сказать о нем. А вас, сударь, как слышано, до русских дел пускать не велено… Неужто Анна Иоанновна не знает об этом?
Глаза Бирена засветились еще ярче, он стройно выпрямился.
– Хорошо, – кивнул челюстью, – но герцогиня вряд ли будет вскоре свободна. Побудьте здесь… Распоряжусь прислать обед.
Бирен вышел, грохнули на дверях засовы. Сумароков поднял над собой свечу: качались над ним пытошные цепи, решетка покрывала люк, а оттуда, из мрака преисподни замка Вирцау, разило падалью.
– Эй, люди-и-и… – позвал он в робости.
Вошел маленький человек с умным взглядом, до пояса заросший волосами. На подносе в его руках качались чашки и тарелки.
– Вы, сударь, кто? – спросил его Сумароков.
– Я шут герцогини, по прозванью – Авессалом.
– А я русский дворянин, – вспылил Сумароков, – и камер-юнкер принца Голштинского… И мне обед подает какой-то шут?
Авессалом откинул волосы со лба, рассмеялся скрипуче:
– Вам подает обед не шут, а польский шляхтич Лисневич, который по бедности служит в шутах. А разве в России нет шутов из дворян? Ого! Я ведь знаю их – Балакирева, Тургенева, Васикова!
Петр Спиридонович поел, и снова явился Бирен – с запиской: Анна Иоанновна просила доверять Бирену, как самой себе. Сумароков передал письмо от графа Ягужинского.
– Ея величество, моя госпожа, сумеет отблагодарить вас…
И снова громыхнули засовы на дверях. Тюрьма!
– Эй, люди-и-и… – Но голос замер, сдавленный камнем.
Курляндские рыцари умели строить. На крови рабов стоит тяжкий фундамент. Миллионы свежих яиц раскокали рыцари в Вирцау: желток выбросят, а белок яичный в замес опустят. И тем замесом на белках скрепят кладку. Веками оттого нерушимо стоят курляндские замки. В одной зале пируют рыцари, а за стеной человека огнем жгут. И пирующие не слышат стонов его, а мученик не слышит звона кубков и голосов веселых…
* * *
Настала минута, для России ответственная, как никогда.
Анна Иоанновна еще раз перечла кондиции. Лицо замкнулось, посерело – не угадать, что в сердце ее бушует. На голове герцогини, словно шапка на подгулявшей бабе, съехала набок курляндская корона. Тяжело сопели над нею генералы – Голицын с Леонтьевым.
– Перо мне! – велела, а глазами косить стала.
Анна Иоанновна локтем по столу поерзала, примериваясь. И вдруг одним махом она те кондиции подписала: «Посему обещаюсь все безъ всякаго изъятия содержать. Анна». Раздался вой – это зарыдал Бирен: теперь Анна уедет, а рыцари залягают его здесь, как собаку, своими острыми шпорами…
Кондиции подписаны! И Василий Лукич уже со смелой наглостью пошел прямо на Бирена.
– Сударь, – сказал, – дела здесь вершатся русские, а посему прошу вас сие высокое собрание покинуть и более не возвращаться.
Бирена он выталкивал, а сам за Анной следил: мол, как она? Анна Иоанновна – хоть бы что: по углам глазами побегала, щеки раздула и осталась любезна, как будто не друга ее выгнали:
– Гости мои радостные, милости прошу откушать со мною!
За столом Василий Лукич пытать ее начал:
– Благо, матушка, люди здесь не чужие собрались, так поведай от чистого сердца: кто донес тебе об избрании ранее нас?
– Да будет тебе, Лукич! От тебя первого радость познала…
А князь Михайла Голицын локтем в салат заехал, дышал хрипло:
– Тому не бывать, чтобы немцы тебе в ухо дудели… Не забывай, осударыня, что ты русская, и оглядки в немецкий огород не имей!
После обеда депутаты, вина для себя не пожалев, раскисли и пошли отсыпаться после качки в шлафвагене. А герцогиня, руки потирая, вся в испуге и страхах ужасных, Бирена позвала:
– Что делать-то нам теперь? Подозревают нас…
Бирен в ответ показал ей ключ от погребов, шепнул на ухо:
– Гонец от Ягужинского… вот его и выдадим!
– Ладно ль это? Ведь он с добром прибыл…
– Не забывайте, – ответил Бирен, – что Сумароков камер-юнкер двора голштинского. А голштинцы имеют претендента на престол русский – «кильского ребенка»… Чего жалеть?
– Да ведь забьют его, коли выдать.
– А тогда, – поклонился Бирен, – вам придется выдать Левенвольде, Рейнгольд не щепетилен в вопросах чести: он выдаст русским Остермана. А… что вы будете делать без Остермана?
Под вечер в замке Вирцау все неприлично зевали. Анна Иоанновна задремала. Послышались шаги. Но это был не Бирен, а Василий Лукич Долгорукий, друг старый, любитель опытный.
– Лукич, в уме ли ты? – отбивалась Анна. – Я и старый-то грех с тобой едва замолила, а ты в новый меня искушаешь…
И казалось Лукичу, что всходила звезда – звезда его «фамилии»!
* * *
Паж Брискорн вчера подслушал разговор герцогини с камергером о Сумарокове. «Какая низость… Но я же – рыцарь!» – сказал себе мальчик и разбудил волосатого шута Авессалома:
– Послушай, что я узнал… Ведь мы с тобой – самые благородные люди в этом проклятом замке Вирцау!
Снова грохнули тюремные засовы – Сумароков встал.
– Сударь, – сказал ему Авессалом, – вам грозит опасность. Но мы ваши друзья: шут и паж… Добрый Брискорн уже приготовил вам лошадь, я проведу вас через замок, чтобы никто не видел…
Паж Брискорн вручил Сумарокову поводья скакуна:
– А в саквы я положил ветчины и хлеба. Прощайте!
Петр Спиридонович нагнулся и поцеловал пажа в висок:
– Прощай, мой мальчик. Ты – настоящий рыцарь!
Анна Иоанновна снова позвала к себе Бирена:
– Силушек моих нет больше. Измучили депутаты: велят признаться. Голштинского выкормыша отдать придется. А то худо нам будет.
Бирен навестил депутатов, взмахнул перед ними шляпой:
– Высокопоставленные и важные депутаты! Я терплю от вас множество неудобств. И – видит бог – напрасно терплю. Вы и сами сейчас убедитесь в этом. Моя госпожа, по слабости женской и простительной, не желала огорчать вас в радости. Но… (Бирен достал ключ от погребов) прошу вас, – сказал, – за мной следовать, и вы получите агента тайного.
Открыли погреб – пусто: Сумарокова не было.
– Ты еще дурачить нас смеешь? – закричали депутаты.
Бирен пошатнулся, но тут же пришел в себя:
– Он не мог отъехать далеко. А мои конюшни славятся на всю Митаву, хотя я и беден… Скачите!
– Лейб-регимент – в седло! – приказал Леонтьев.
Погоня настигла Сумарокова на тридцатой версте от Митавы. Впереди лейб-регимента скакал на красавице кобыле с короткой челкой дружок Сумарокова – прапорщик Артемий Макшеев.
– Замри, Петька! – кричал издали. – Не хочу греха на душу брать, а мне стрелять тебя велено… Уж ты прости меня. Служба!
Вернулись в замок. Сумарокова били – и Леонтьев, и Голицын.
– Я позже вас прибыл на Митаву, – клялся гонец Ягужинского. – От кого герцогиня обо всем сведала – того я не знаю.
– Врешь! Говори, вор худой, кто тебя послал на Митаву?
Петр Спиридонович выплюнул в ладонь зубы:
– Ягужинский, – сознался. – От него ехал…
Допытчики переглянулись: ого, пожива-то крупная!
– А кто тебя выпустил отсель, шут ты гороховый?
– Я не шут. Но меня выпустил… шут!
* * *
Авессалом не хотел умирать – цеплялся за края люка.
– Не надо, – молил он, – сжальтесь надо мною…
– Падай, падай! – Бирен стучал и стучал каблуком башмака по красным от крови пальцам шута. – Подыхай же, ясновельможный пан! – И размозжил ему череп…
Вопль Авессалома замер в скважине старинного колодца. Бирен заглянул в мрачную глубину – там было тихо и черно. Посветил фонарем: еле-еле белели кости внизу. Захлопнул люк крышкой…
Анна Иоанновна по лицу Бирена догадалась обо всем.
– Что ты сделал с ним? – спросила тихо.
Бирен оглядел себя – не запачкался ли? И ответил:
– Он слишком много знал такого, что можно простить шуту Курляндской герцогини. Но зато нельзя простить шуту императрицы всероссийской.
Глава пятая
На Аксинью-полузимницу приехали в Казань, проездом из Москвы, воеводы: свияжский – Федор Козлов и саранский – Исайка Шафиров. Волынский (в похвальбе и гордыне) давал им мозоли свои щупать.
– Вишь, воеводы? – хвастал. – В драках волдыри выросли. Сколь бью людишек, а все толку мало… Ну а на Москве-то что?
– Теперь у нас, – сказывал Козлов, у стола сидя, – порядочное правление государством сделалось. Какого никогда и не было! Только бы у верховных господ согласие дружное было.
Шафиров от медовухи покраснел, ударила кровь в голову.
– Об Анне Иоанновне, – злорадствовал, – таково ныне положено: по губам мазнут ее патокой. А коли рыпнется, то с барахлом ейным обратно в Митаву высвистнут. Табакерочки липовой – и той без спроса в казне не возьмет… А чего ты, Петрович ясный, – спросил Исайка, – молчишь, нас, воевод, слушая?
– Ты на мой хвост не оглядывайся, – отвечал Волынский. – За своим хвостом посматривай… Пей, воеводы, да харкай далее!
Исайка Шафиров немало знал. Он был братом младшим барона Шафирова, что дипломатом известным в подканцлерах бывал. Исайка мосол обсосал и браниться начал:
– А по мне, так и никого не надобно! Эвон, читывал я, живут на островах разных дикие, себя кормят, а царей при себе не держат. Кой хрен цари эти? На што они нам? И без них ладно бы…
– Это к чему ты сказал ругательски? – огляделся Волынский.
– А все к тому, – орал хмельной воевода. – В кои веки Руси счастье выпало – не стало царевых наследников, так на што Анну-то курляндскую выбрали? Могли бы и сами справиться…
«Ишь ты… демократы лыковы!» – подумал Артемий Петрович, но сам отмолчался – щипцами слова не вытянешь.
– Хитер ты, Петрович, – обиделись сопитухи. – Не трепля губы, видать, бережешь зубы.
– Непрост я, верно, – согласился Волынский. – Я ныне как тот слепой, что смотрел, как пляшет хромой…
Утром Волынский воеводам своих лошадей дал. Приголубил их. Но мыслей своих так и не выдал. Хотя вино пили наравне, под хмелем крепок Волынский был. Однако же дяде Семену Андреевичу Салтыкову на Москву отписал искренне: мол, говорят, что вы, дяденька, решпект потеряли. А хороша ли Анна – того не ведаю: то у Василия Лукича спрашивать надо… Волынский силен был умом задним: из далека казанского высматривал зорко, чем закончатся дела московские – дела опасные!
* * *
Первый день февраля-бокогрея, вот и солнышко… Ухнув через сугробы, в ворота Кремля вкатился возок, крытый старенькой кожей: это генерал Леонтьев привез из Митавы кондиции, Анной подписанные. А сторожа вытянули из возка Сумарокова, потащили его в застенок. С рук и ног гонца Ягужинского свисали, бряцая, тяжелые курляндские цепи.
Кондиции привезенные князь Дмитрий Голицын целовал при всех:
– Ай да почин! Велик и славен… Зовите персон повестками! Но иноземцев – ни-ни! Дело сугубо российское, их не касаемо…
Степанов (дел правитель) посмотрел на свет перышко:
– Остерман-то немец, но вице-канцлер… Без него-то как?
– Его звать, – рассудил Голицын. – Все едино не приплетется, комедиант старый. И без него хорошо обсудим…
Получив повестку, Остерман показал ее барону Корфу.
– Мы, немцы, – сказал он, – знаем Россию лучше русских. Мы никогда не поступили бы столь опрометчиво. Ну разве можно вызывать русского бумагой? Голицын сам спешит в пропасть…
И правда: русская знать на повестки те косоротилась.
– От верховных тиранов, – говорили родовитые люди, – много ли еще злодейств нам иметь? Прислали вот бумажку… А может, у меня нога вспухла и обуться не могу? Рази можно дворянина бумагой вызвать? Нет, ты человека пришли, да чтобы поклонился он мне. Тогда я подумаю – идти или погодить…
Великий канцлер империи, граф Гаврила Головкин, подкатил цугом к дому Ягужинского, своего зятя.
– Супостат ты, Пашка, – сказал. – Тишком надо, тишком. Рази так дела делаются?.. Сумарокова твоего в железах привезли! Он язык-то распустит – до самой шеи твоей. Да и сама герцогиня, вестимо, не защита тебе. Сейчас осударыня за соломинку хватается – как бы престол обратно не отняли… Выдала она тебя со всеми потрохами и письмами твоими… Ты ныне, Пашка, всего бойся. Самобытство свое оставь – пропадешь, самобытничая!
Ягужинский долго стоял молча. Скреблась в двери кошка, чтобы ее выпустили. Разбежался вдруг Пашка, в ярости ногой поддал, и вылетела кошка вместе с дверями на лестницы.
– Кафтан да шпагу! – закричал челяди. – Со двора отъеду!
* * *
В остериях московских – полным народу: середняки-люди – шляхетство да служивые, гуляки-помещики, что приехали на свадьбу царя; теперь они, до гульбы охочие, вместо свадьбы похорон ждали… Алексей Жолобов (человек на Руси не завалящий) двери остерии бочком толкнул – ему выпить с утра еще хотелось. Оглядел дымный зал, выискивая компанию поумнее. Такую, чтобы не до смерти упиться: человек уже в летах, себя поберечь надобно…
– Петрович! – позвали его из клубов дыма табачного.
– О-о, Никитич! – обрадовался Жолобов; сидели в уголку Татищев – советник Двора монетного, и Генрих Фик – из людей камеральных. Примостился к ним Жолобов, и в согласии душевном умники выкушали для начала полведерка анисовой…
– Чудные дела творятся, – заговорил Жолобов. – Живу и сердцем радуюсь. Верховные хороший блин из-под хвоста своего выложили, Анна-то в него и вляпалась… Давно пора обуздать царей. Теперь нам хорошо будет. Хочу в знак того еще анисовой выкушать!
– И с тем согласую, – поддержал его Фик с носом просивушенным. – Когда я при Петре заводил камералии на Руси, тогда народ о гражданстве еще не рассуждал… А – пора, пора уже!
Татищев трубку пососал, сплюнул меж колен желтой слюной.
– Не путайте гражданство с олигархией, – осерчал сразу. – И тому не бывать, чтобы Анне-душечке, и без того вдовством своим обиженной, в тирании верховной пребывать. Без самодержавия Россия погибнет! А восемь тиранов – не один: на всех не угодишь.
– Можно сменить восемь, – отвечал Фик. – Можно хоть десять раз по восемь. Людей на посты не назначать – избирать надо!
Татищев осатанел от таких слов (он был горяч на гнев):
– А ты моего Ваську-лакея изберешь, нешто ему спину мне гнуть? Нет, господин Фик, лучше уж пинки получать от царей сверху, словно от бога, нежели снизу нас шпынять будут!
Обиделся, кружку взял, повернулся к кавалергардам, которые тоже исправно анисовую кушали.
– Виват, Анна! – провозгласил Татищев.
– Виват гражданство! – заорал Жолобов, противничая.
Подбежал граф Федька Матвеев – дал Жолобову в глаз. А кавалергарды, в поношение заслуг, еще и пивом его облили.
– Я не только вас, шелудяков, – сказал Жолобов, – я самого Бирена топтал на Митаве, и вас тоже топтать стану…
Но тут захлопали двери – вошел Ягужинский, и дочки хозяина остерии выскочили из боковушки, стали приседать чинно.
– Налей! – велел Ягужинский и выпил…
В руке он держал краги громадные, а шляпу – под локтем.
– Шляхетство, – заговорил зычно, – погоди водочку кушать, я скажу вам, что знаю… Верховники Россию под себя подмяли. Долгорукие, сами ведаете, мертвого императора со своей Катькой венчали, чтобы на шею нам посадить…
– В окно ее! – ревели кавалергарды.
– В окно всех! – орал граф Федька Матвеев и плакал.
К бывшему генерал-прокурору подошел старенький капитан. Мундирчик худ, сам беззуб, лицо в оспе, в шрамах, простоват с виду. Дышал капитан чесноком, и Ягужинский тростью его приудержал:
– Не воняй, мерин старый… Ты кто таков будешь?
– Иванов я, капитан, Иван сам, а по батюшке Иваныч. И вышел я, граф, из крепостных мужиков тестя твоего, канцлера Головкина… Кровью своей в чины вышел! Нарву, Полтаву и Нижние походы отломал с честью, теперь, видишь, каков? Приходи, кума, и любуйся!
– Хорош гусь, – загрохотала остерия.
– А ныне, – продолжал капитан, – я ко шляхетству причислен и блевать пакостно на кондиции не позволю. Тебе, граф, окол престолов всегда и сыто и пьяно будет. А нам, служивым?
Татищев рванул старого ветерана за седые космы, поволок его по грязному, заплеванному полу. «Убивай!» – ревели кавалергарды. Со звоном выпали стекла, и ветеран, кувыркаясь, полетел в окно: так и остался, в корчах, умирать на улице… Жолобов вступился было за вояку, но палка Ягужинского разлетелась на два куска – столь сильно он ударил Жолобова. Алексей Петрович тогда графа шибанул об стойку с закусками. И видел краем глаза, как метелят в углу Генриха Фика, камералиста известного. Бьет его Татищев, ученый лупит ученого…
– Виват Анна, – ревела остерия, – самодержавная!
Из-под столов, от дверей, затоптанные, кричали в ответ иное:
– Самодержавству не быть!
Примчался обер-комендант Еропкин, солдаты вязали веревками правых и виноватых. Долее всех не могли Жолобова унять.
– Я вас всех, – грозился, – вместе с Анной вашей, так-растак и разэдак… Я самого Бирена лупил на Митаве! Так и знайте!
* * *
Князь Алексей Михайлович Черкасский двигался и мыслил столь замедлительно, что звали его на Москве черепахой. Потомок султанов египетских, он был вором, и не носил, а – таскал свое имя. Сибирь разворовал лихо: будучи губернатором там, вывозил из Тобольска золото сундуками, отделывал дворцы малахитом и яшмою, обсыпал хрусталь кубков камнями драгоценными. И все делал медленно, не спеша, как и положено черепахе. Воровал и дрожал тройным подбородком: трусости великой был человек!..
Владения князя тянулись, словно курфюршество, от Москвы до Коломны. И гремел в имениях сплошной праздник. Гостей вздымали наверх подъемные машины, плыли по воздуху столы, обставленные яствами, прыскали в парках фонтаны вина… В этой роскоши, отраженной сотнями венецианских зеркал, посреди оранжерей и висячих садов, в зелени померанцев и лавров, растил князь в своем Останкине единую дочь свою – Варвару, и не было тогда на Руси невесты богаче и знатнее, чем княжна Варвара Алексеевна.
Варька тигрицей была – ей в мужья льва надобно. Сама она говорила: «Если не льва, так хотя бы осла золотого». Выбрала же – не пойми что: нищего поэта Антиоха Кантемира… Оттого и неспокойно в подмосковном «курфюршестве» Черкасских. А тут и повестка пришла князю – на Совет явиться…
Нагрянул гость – Семен Андреевич Салтыков, послушал он, как бренчит за стеною арфа, и спросил хозяина:
– Неужто, князь, отдашь Варьку за сего мамалыжника? Правда, говорят, Кантемир вирши поносные пишет. Ярится…
– Э, батюшка, – отвечал Черкасский. – Вирши его – хоть соли, хоть масли, а мою дуру Варьку стихами не прокормишь… Семьдесят тыщ мужиков даю в приданое. Подумать страшно, что молдаванину сему достанутся!
Над головами старцев висела чаша хрустальная, а в ней, сверкая, плавали золотые рыбки, из китайских земель через Сибирь вывезенные. Салтыков не удержался – облизнулся:
– Таких вот еще не едал… Неужто не съедобны?
Черкасского трясти стало. Ходуном ходило брюхо его объемное, в атласы обтянутое, кружевами обвитое.
– Я сам не ел их, – сказал, губу кусая. – Берег все… надеялся! Как бы не пошло все прахом от кондиций тех… А потому, думаю, лучше съедим давай сразу. Завтра в пасть огненну глянем!
Под жареных рыбок пили токай.
– Грозно, страшно, – признался Салтыков. – А без самодержавства нам, придворным людям, не жить. Вся заступа нам, убогим и сирым, едино лишь в тирании самодержавной!
– Кантемир-то, – шепнул Черкасский, – может и полезен быть.
– Чин-то, чин-то его? – спросил Салтыков. – Велик ли?
– По чину Антиох – всего лишь гвардии фендрик.
– Куды нам такого! Покойный Петр Лексеич говаривал, бывало: «Ежели двух фендриков, кои беседуют, увидишь, то разгоняй их сразу палкою, понеже ни о чем путном они говорить не способны».
– А наш фендрик не таков, – отвечал Черкасский. – Эрудитство его и слог приятный даже Феофан чтит… Вот, Семен Андреич, ежели бы нам в едину телегу впрячь Синод да гвардию – ого! Тогда бы самодержавство окрепло вновь.
– А я вот, – сказал Салтыков, – на Татищева глаз вострю: он верховных невзлюбил. Унизили его тем, что в ранг не произвели повыше. А в Сенат просился – тоже отшибли… Татищев да Антиошка Кантемир – люди книгочейные. Законники! Нам того и не знать, что они в книгах вычитали. И лбы у них медные – перешибут темя злодеям верховным… Сочти, сколь конфидентов у нас!
Черкасский стал загибать пальцы – резало Салтыкову глаза от блеска множества бриллиантов на руках русского Креза:
– Канцлер Головкин наш, Ванька Барятинский, на дочке его женатый, тоже наш… Трубецкие давно бесятся! Апраксины тебе, Семен Андреич, родня близкая, а значит, и самой Анне Иоанновне сородичи, – они тоже наши. Волынский, что на Казани сидит…
– Погоди, князь, – остановил Салтыков. – Моего племянника не считай. Он в дому моем воспитание получил, и таково воспитан, что дьявола изворотливей! Пуд соли съешь – его не узнаешь!
Камердинер доложил, что внизу топчется опальный Ушаков.
– А что ему опять? – нахмурился Черкасский. – Сто рублей выплакал, а разве отдаст когда обратно, ворон пытошный?
– Нет, Ушакова ты прими, – надоумил Салтыков князя. – Ты ему еще ста рублей не пожалей. Андрей Иваныч тоже н а ш.
* * *
Всю ночь двигались войска, охватывая Кремль в кольцо, запаливали костры для обогрева, мерцали багинеты – льдяные, в изморози. Шпалерами строились солдаты по лестницам дворцовым. Впереди – день тяжелый, всякого жди. Высоких людей принизят, а низкие поднимутся. В народе простом тоже не тихо: слухи ходят, что укротят гнет крепостной, от рабства мужика отторгнут…
Князь Дмитрий Голицын побелел лицом. Похудел. С ног сбился. Спал на притыке. Сегодня в пятом часу утра встал, шуршал бумагами. Потом стали собираться во дворце приглашенные повестками. Шумели, и Голицын велел Степанову проверить – не затесались ли иноземцы в собрание?
– Не допущены, князь. Но послы иноземные внизу дворца топчутся. Озябли шибко. Особливо испанцев колотит.
– Пусть подымутся для обогрева… А что Ягужинский?
Степанов двери приоткрыл, осторожно глянул в палаты.
– Здесь, – сказал. – Графы сидят и беседы ведут…
Канцлер Головкин неопрятным ртом прошамкал:
– Коли арест моему зятю Пашке, так пущай о том не вы, а сама императрица решает: прав или виноват Пашка?
Вступился честный фельдмаршал Долгорукий:
– Ныне ея величество не у дел! Нам решать – кто прав, кто винен. А печешься ты, Гаврила Иваныч, о Пашке по родству. Но роднею на Москве не удивишь: здесь кошка с мышью жила и мышеловку рожала. Сколь веков стоит Москва, с тех пор все дворяне переспали крест-накрест, словно на острове. И ты, канцлер, более о пользе отечества помышляй, нежели о Пашке заблудшем. – И, сказав, жезлом приударил: – А народ-то гудит, пора идти к нему…
Вышли верховники к собранию, кланялись – и туда, и сюда.
Головкин, на Пашку поглядывая, прокричал натужно:
– В неизреченном милосердии своем императрицы Анны Иоанновны, в заботах неусыпных о своих верноподданных, изъявили божецкую милость полегчить всем сословиям, дабы оградить их животы и честь ихнюю новыми благими законами…
– Но, – закрепил Голицын слова канцлера, – без самовластия самодержицы, без произвола монаршего… Виват Анна!
Осыпая сургуч с печатей, Дмитрий Михайлович извлек письмо императрицы, читал, что она пишет, собранию:
«…по здравом рассуждении, изобрели мы за потребно, для пользы российского государства и ко удовольствованию верных наших подданных, дабы всяк мог видеть горячесть нашу, елико время нас допустило, написали, какими способы мы то правление вести хощем…»
Потом Голицын затряс перед ошалевшим собранием кондициями.
– Вот они, эти способы! – возвещал громогласно. – Вот почин переустройств государственных. И кондиции сии ея величество изволили апробовать на Митаве, а сами уже к нам выехали…
Кто-то свистнул – будто суслик, опасность завидевший. Пошло по сановным рядам шептание. Получалось так, что Анна кондиции зверские сами сочинила – себе же во вред, а самодержавной власти в ущемление. Очевидец пишет: «Шептания некия во множестве оном прошумливали, а с негодованием откликнуться никто не посмел…»
– Тихо! – гаркнул Голицын и стал зачитывать кондиции.
Зароптали военные чины, когда услышали, что «гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета».
– Не вам служим, – бубнили старые бригадиры. – Не вам, а ея величеству принадлежим… На кой хрен вы нам сдались?
Вскочил фельдмаршал князь Иван Юрьевич Трубецкой.
– Это мне-то служить тебе, Митька? – обиделся слезно.
– Сядь, – отвечал Голицын. – Мне от тебя, фельдмаршал, службы не надобно. И не нам! Не нам служить ты станешь…
– Так какому же бесу тогда? – спросил Матвеев.
– Не бесу, а России, – величаво провозгласил Голицын…
И стало тут тихо. Задумались…
– Кондиции те, – раздался вдруг голос Ягужинского, – происхождения совсем не митавского, а московского… И не ведаю я и весьма чуждуся, с чего бы это государыне писать их на себя? Птица божия сама себе не стрижет крыльев!
Из вороха брюссельских кружев, по краям обтрепанных, горя камушком цветным, высунулась смуглая тощая рука Голицына.
– Вот он, холоп, – показал на Ягужинского. – Рабом родился, рабом жил и в скверном рабстве скончаться желает…
Поднялся во весь рост фельдмаршал Долгорукий; жутко и тускло глядело на Ягужинского бельмо российского ветерана.
– В подозренье ты, Павел Иваныч, – сказал Василий Владимирович. – Противу блага отечества на рожон прешься. Знаем мы твои помыслы тайные. Не пострашусь долг свой исполнить на людях…
Из дверей потянуло холодом – это вступил караул.
Ягужинский, беду почуяв, задом-задом в знать затирался:
– Я андреевский кавалер… Меня не тронешь!
Но Долгорукий, длань вытянув, голубую кавалерию сорвал с него:
– Вот и не кавалер ты более! Еще что есть у тебя? – Нашли в кафтане ножницы (отобрали), нашли карандаш богемский (отобрали). – Теперь взять его! – велел фельдмаршал. – Из чинов московских хотел ты, Пашка, митавским клиентом сделаться… Берите его!
Раздался грохот: канцлер империи, граф Гаврила Головкин, без памяти рухнул на пол. То была слабость сердечная, всем известная по родству…
– Не подчинюсь! – отбивался от солдат Ягужинский. – Я был генерал-прокурором империи и слуга не ваш… Исполню волю лишь самодержавную, от бога данную! – Но в кольце штыков понемногу стих, злобно рыдая: – Можете сажать, можете резать… Но, знайте, мы вас еще так ударим, что вы не встанете!
Его увели. Вынесли на руках и обеспамятевшего канцлера.
Голицын ноздри раздувал – порох чуял. Еще чуток, казалось, и взлетит все! Думалось ему: «Не обыкли мы в делах гражданских, забыли вече новгородское, больше блуждаем да деремся…» И, подумав, заговорил он снова:
– В кондициях сих личного прихлебства не ищу! Не о себе пекусь – о благе всеобщем… А посему да будет так: всяк может отныне собственный проект сооружать и вручать писанное нам, министрам Верховного тайного совета!
В приделе Оружейной палаты еще долго толпились изумленные всем содеянным иноземные посланники.
– Мы наблюдаем, – сказал Маньян, посол Людовика XV, – чудесное превращение русской истории. Императрица остается на престоле, но самодержавие в России отныне угасает навеки.
– Наступает олигархия, – буркнул датчанин Вестфален.
Лефорт, посланец саксонско-польский, сказал:
– Что я напишу своему курфюрсту и королю? Россия – это хаос! Сколько голов – столько требований. Не имея понятия о свободе, русские путают ее со своеволием. России грозит время деспотии и безнравственности… Так и напишу в Дрезден!
Послы надевали шляпы, расходясь по каретам. Вздыхали: «Ужасная страна!.. Непонятный мир!.. Загадочный народ!..»
* * *
Анисим Маслов – растерян – появился перед Голицыным:
– Свершилось, князь…
– Что? – поднялся Дмитрий Михайлович.
– Феофан сейчас в Успенском соборе объявил Анну Иоанновну с полною монаршею титлою, провозгласив ее самодержицей!
Голицын уперся лбом в ледяное окошко, студил голову:
– Сколь много развелось преосвященств на Руси, отчего и стало темно на святой Руси!
– А вот «Санкт-Петербурхские ведомости», – сказал Маслов. – Газетеры академические, вдали от дел московских, втихую печатают тоже полною титлою: самодержицей!
– Миних! – выкрикнул Голицын. – Это его рука… Подлая немчура да попы-кистеневщики – вот кто подкопы делает.
Вдребезги разлетелось стекло – это Голицын разбил окно. Он задыхался, держась за сердце, не утерпел, когда откроют. Кулаком его – прочь! И дышал старик. Резало ноздри ему от московского духа – старого, бабушкиного, дедушкиного.
Глава шестая
Итак, Курляндия, прощай навсегда… Обоз новой императрицы России тронулся, долго бежал следом Бирен, навзрыд рыдая. Анна тоже плакала. Рига была окутана дымом, ржали лошади. Командующий здешних мест генерал Петр Петрович Ласси приветствовал царицу салютом. Рижские обыватели, с немецкой добропорядочностью, стоя в шеренгах, кричали по команде – когда велит мудрое начальство.
Изумленная своим превращением из курляндской «светлости» в русское «величество», Анна Иоанновна часто оборачивалась назад. Смотрела, как теряется в лесах дорога. А там, за рубежами, за рекой Аа, остались девятнадцать лет вдовства, случайные утехи с кавалерами, разбитая в куски горячая любовь к Морицу Саксонскому, подгнившие закуски да квашеное бюргерское пиво. Привязанные поводками, бежали среди каретных колес любимые Анной митавские собаки. Усердно вывалили из пастей розовые языки…
На одной из станций Лукич выдержал первую борьбу:
– А сей молодец Кейзерлинг на что с нами едет?
– Никто вкуснее его не сварит мне кофе.
– Ну а вот фон дер Бринкен? Его тоже вам нужно?
– Он в собаках толк понимает, – отвечала Анна Иоанновна.
– А девок-то? Девок курляндских, ваше величество, на что везете? Глупы они, языка русского не знают. Зачем двору люди лишние?..
Анна губы распустила в обидах, и махнул Василий Лукич.
– Гони! – велел, и погнал поезд скорее на Москву.
За Венденом уже стали на полозья, свистел снег. Второго февраля Анна была во Пскове, где встречала день именин своих, четвертого поплыл малиновый перезвон обителей новгородских, и заекало умиленное сердце вдовицы.
– А рыбка-то, – говорила Анна, – какая рыбка у вас водится? Уж вы меня не забудьте: пришлите мне рыбки-то покушать.
И плакала в умилении: станет она теперь рыбку кушать. В дороге все жадно расхватывала Анна Иоанновна. Увидит ли вещь изрядную или гуся жирного, что на дворе бегает, – все ей подай! Ела так, словно с голодного острова ехала. Косточки до блеска обсасывала, мозги до самой тютельки из мосолков выстукивала. А на нее глядя, и немцы хватать стали. Только помельче Анны, только ненасытнее. И начал не на шутку пугаться Лукич: «Ой, не быть бы России обглоданной! Тую ли матку на престол вздымаем?»
Бадью поганую и ту у мужика псковского курляндцы стащили с тына, на котором она сушилась. Теперь каждый раз как в ведре нуждались, строили насмешки над бедным мужиком.
– Хватится он ведра, – радовалась императрица, – а ведра-то уже и нету… Вот, чаю, озлится-то? Смешно-то мне как!
Михайла Голицын все больше мрачнел:
– Лукич, кого везем-то? Цыгане каки-то…
Феофан Прокопович переслал из Москвы в Новгород «предику» (церковное приветствие) к новой императрице. «Вечор водворится плач, – писал Феофан в „предике“, – а заутре радость!» И в ревнивом почитании называл царицу «матерью благоутробной».
Навстречь царскому поезду скакали гонцы – верховные министры посылали запросы разные, а Василий Лукич посредничал.
– Ваше величество, – спрашивал, – где желаете пред Москвою остатнюю станцию для себя иметь?
– Вестимо, где… в родимом Измайлове.
«Эка, махнула! От вороньего гнезда подальше…»
– Но дворец Измайлова, – отвечал Лукич, – от дороги в стороне, да и грязно там… На што вам быть клопами покусанной? Да и буженины запас уже выслан на село Всесвятское.
– Свежа ль буженина? – оживилась Анна. – Ладно, вези во Всесвятское. Дом топить, вина прислать. Да нельзя ли кабанчика мне какого? Очень уж давно я кабанчика не стреляла. Пущай живого доставят. Убью, а потом съедим его.
Ехала императрица, кланялись ей мужики, торчали колодезные журавли, да слепо глядели избяные окошки. Свистел в ушах прохладный ветер, таяли на морозе звончатые переливы валдайских колокольчиков.
«Дин-дон, дин-дон… царь Иван Василич!»
* * *
Особы знатные разбрелись по домам, тужились над писанием проектов – каково ныне Россией управлять, но протокол собрания прошлого лежал не подписан. Стали звать людей порознь: мол, я, такой-сякой, подписался и согласен на ограничение самодержавия. Указ же о титуле Анны Иоанновны, уже провозглашенной самодержицей, пришлось утвердить. Но князь Голицын сукно на столе поднял, да туда, под сукно, указ сей и схоронил: пусть лежит, каши не просит. Дмитрий Михайлович рассуждал теперь словами скользкими, за которые его, как змею, без рукавиц не поймаешь.
– Впредь, – наказывал он, – императрицу Анну Иоанновну именовать, как именовали Екатерину Первую… А как – вспомните!
Намек этот опасный: ведь Екатерину Первую вообще старались никак не титуловать… Между тем, уснащенный мастиками, прежний царь еще лежал в гробу, а для его погребения составили Печальную комиссию, в которую вошел и Татищев. Он жаловался:
– Арки-то? Арки на какие деньги строить? Куды поезду ехать с телом отрока багрянородного?
Но Голицын, экономист опытный, государственную копейку берег: стоял на страже казны, словно Полкан дворовый.
– А… свадебные на что? – отвечал он Татищеву. – Один раз на свадебные арки истратились, и – хватит!
– Не грешно ли, князь, кощунство над царем строить? Он желал на праздник ехать под теми арками, а ты в могилу его везешь.
– Плохо ты меня знаешь, Никитич! – усмехнулся Голицын. – Я под теми арками не только царя почившего провезу до могилы, но у меня и Анна Иоанновна под ними же на Москву въедет…
Вслед за Татищевым пришел в Совет Вельяминов, вице-губернатор московский, с делами о встрече новой императрицы:
– Трухмальные воротца для восшествия осударыни…
– Цыц! – рявкнул Голицын. – Уже есть воротца. Второй дурак приходит сегодня о воротах толковать… Говори лишь дело!
– А каково персону ея величества Анны Иоанновны художникам малевать? С какой кавалерией?
– Раньше-то Анну как малевали? – задумался Голицын.
– Да с красной лентой… сиречь ордена Екатерины! А теперь по чину императорскому надо бы с голубой малевать?
Голубая лента – кавалерия ордена Андрея Первозванного, самого высокого ордена империи. Голицын бровями задвигал, сердясь. Орденский знак на портрете – дело значимое: тут промашки никак нельзя сделать… Мало ли чего императрица захочет?
– Покеда ея величество, – отвечал, – ничего путного еще не свершила для блага российского, повелеваю тебе, вице-губернатор, писать парсуны с ее изображением согласно с последними портретами Анны Иоанновны… Сиречь – с красной кавалерией! Поярче!
Не уступил – и потер руки, довольный.
Дмитрий Михайлович сам же предложил Анну Иоанновну в императрицы, но, когда ее в императрицы избрали, князь делал все, чтобы унизить и стеснить ее – даже в мелочах…
В день 4 февраля верховники тянули непослушных для подписания протокола. Духовенство упрямилось – и Голицын, весь в гневе, велел синодальных доставить в Совет силой. Под конвоем лейб-регимента привели к нему высоких иерархов церкви.
– Ваши преосвященства, – поднялся навстречу Голицын, – почто от дел отлыниваете? Почто штыком принуждать приходится?
Феофан блудливо глазами по сторонам зыркал:
– Мирские дела ваши, не до них нам, старцам смиренным…
– Это вам-то? – прошипел Голицын. – Да вы, словно свиньи в бурде, так и роетесь в делах мирских… Не врите!
Степанов, правитель дел, раскрыл чистую страницу.
– Согласуете, ваше преосвященство? – спросил Феофана.
И вдруг Феофан Прокопович, перстами тряся, заревел:
– Не согласую… По какому праву власть монаршую оскопили? Кондиции есть нож, сладким медом помазанный. И вы тем ножом сладким царей, помазанников божиих, резать желаете!
Голицын чуть было в бороду ему не вцепился:
– Кондиции самой императрицей на Митаве апробованы. Она согласует, а вы не согласуете?
– Обман все, – взъярился Феофан.
Тут фельдмаршал Долгорукий громыхнул жезлом:
– Это чей же обман? Уж не сама ли государыня решила тебя обманывать? Будешь писать или нет?
Феофан щелкнул зубами, словно волк в капкане.
– Не согласую, – сказал твердо. – Но штыка в гузно боюсь получить и потому подписую…
Примчался гонец. Протянул верховникам пакет, который (в знак особой спешности) был пронзен птичьим пером. Вскрыли письмо – от Василия Лукича, с дороги. Головкин-канцлер страдал от страха.
– Что там? – спросил, дрожа мелко. – Не худое ли?
– Беды нет! Ея величество, государыня Анна Иоанновна, просят выслать ей навстречь пять «огоньков» собольих из казны.
Из Сибирского приказа казна выдала пять соболей. И снова поскакал гонец по ухабам, пил водку на редких ямах. Вечером протянул кису в руки императрицы. Пять серебристых полос исчезли в сундуке. Анна Иоанновна ключиком щелкнула, на сундук села.
– Ваше величество, – спросил Лукич, – не рано ли копить стали?
– Да не коплю я, – смутилась Анна. – Девки-то мои митавские обтерханы, мехов попросили. Особо Цеге фон Мантейфель да Тротта фон Трейден Фекла… Ну я и хотела одарить девок. А тут красу такую увидела, и жалко отдавать стало. Ты уж напиши, Лукич, на Москву, чтобы еще пяток «огоньков» выслали. А эти я у себя оставлю…
Опять скачут гонцы, у всех – пакеты, проткнутые птичьим пером для пущей скорости. В письмах тех просьбы царицы: икры ей, соболей, вина, буженины…
* * *
Едут! Валдайские холмы – звоны бубенчатые. Ух да ух – взлетают сани. Кораблем плывет царский шлафваген, сияя зеркальными стеклами… Кейзерлинг под вечер отстал от поезда. Посмотрел, как растаял над лесом дымок из трубы шлафвагена, велел вознице гнать возок обратно – живо, живо, живо!
Бенигна Бирен растолкала задремавшего мужа:
– Эрнст, Эрнст, очнитесь же… Кто-то скачет к нам!
Проснулся и Лейба Либман. Кутаясь в шубы, Бирен затих в углу. Торчал лишь большой нос, а глаза были печальны, как у побитой собаки:
– Боже, когда кончатся мои муки? Что ждет всех нас?
Либман открыл дверцу кареты, выглянул. Из-за редколесья настойчиво и твердо стучали копыта всадника… Вот и он!
– Это скачет Кейзерлинг, бояться нечего. А за ним возок…
– Уф, – передохнул Бирен. – Какая пытка эта русская дорога!
Лейба Либман погладил рысий мех на шубах Бирена:
– К чему отчаиваться? Анна любит ваше семейство и не даст в обиду детей ваших. Кто не знает ее нежного сердца?
Кейзерлинг уже просунул голову в карету:
– Вы неосторожны, друзья. Сказано же вам, чтобы ехать верст на двадцать от поезда. А вы насели уже на хвост Долгорукого, это опасно… – Из возка Кейзерлинг перегрузил к Биренам припасы от стола Анны Иоанновны: соленые языки, ветчину, печения разные. – Нельзя и мне отставать от поезда, – признался он. – Мы все время на подозрении у московских депутатов. А где Карлуша? Анна очень скучает!
Сонного Карлушу Бирена, замотанного в куколь, Либман передал Кейзерлингу, тот сунул младенца под шубу, махнул рукой:
– Итак, до завтра… Рано утром я опять отстану от поезда и верну вам Карла, сытого и веселого!
– Постой, – остановил его Бирен и, разворошив одежды на ребенке, сунул на грудь ему письмо от себя: сугубо личное, любовное, страдальческое – для Анны…
Тем временем Василий Лукич («Дракон мой», – говорила о нем Анна Иоанновна), сидя в шлафвагене на турецких подушках, развлекал императрицу анекдотами, еще смолоду из Версаля вывезенными. Ах, эти дорожные разговоры, сколько их было в жизни дипломата!
– Людовикус, ваше величество, будучи в настроении отменном, изволил спрашивать куртизана своего: «Скажи, любезный, что бы ты делал, ежели королем был?» На что ответствовал ему куртизан тако: «Я ничего не делал бы…» – «Как же так? – воскричал Людовикус. – А кто бы управлял страной моею?» На что получил ответ от куртизана: «Законы, ваше величество!»
– Вольно же им, – хмурилась Анна Иоанновна. – Нет уж, Лукич, ты дьявольским искушением не промышляй… Бес-то силен в законах, а бог силен в помазанниках своих!
– Но законы, мудро составленные, сильнее цесарей.
– Да кто тебе сказал чушь такую?
– Тпрру… – раздалось с высоких козел, и затихли полозья.
– Вот и ям Затверецкий, – сказал Лукич. – Здесь постели и ужин приготовлены. Прошу, ваше величество, откушать и почивать.
Вылезли. Пока Лукич с Голицыным разбирал почту, пока ужинали, глядь – уже и полночь набежала. Дистанцию пути на завтра наметили, курьеров на Москву отослали, пора и самим на перины заваливаться. «Глаз да глаз», – думал Лукич и без стука распахнул двери царицыной опочивальни. Анна Иоанновна раскинула руки, загораживая младенца. Распеленутый, лежал на столе Карлушка Бирен и пускал веселые пузыри, суча ножками.
– Уйди, Лукич! – закричала Анна, побагровев от злобы. – Ступай прочь от греха… Слышишь приказ мой строгий?
– Уйду! Но зачем, ваше величество, Бирена-то за собой тащите? Где он? Или мало его били? Или не вы кондиции подписывали?
Анна испуганно замахала руками, расплакалась:
– Будет, будет ругаться-то нам… Бирен на Митаве остался. А ты не разлучай меня с дитятей. Сердце-то мое нежное ведаешь ли? Люблю я младенца сего… Люблю, Лукич!
Долгорукий в гневе ушел. «Черт с тобой – титькайся».
Кейзерлинг вспрыгнул в седло – поскакал. Велел Биренам двигаться, теперь на целых сто верст отставая от поезда.
Глава седьмая
Поезд Анны Иоанновны, словно метеор, стремительно двигался на Москву – бурлящую, ликующую и негодующую. С тех пор как повелась земля Русская, такого еще не бывало – широко распахнулись ворота Кремля: ежели ты рангом бригадира не ниже, входи и неси проект свой об устройстве государственном. За это тебе голову не снесут, батогами не выдерут, языка не вырвут…
И пошла писать Русь-матушка: кружками собирались дворяне, палили по ночам свечи. Вихлялись русские мысли, в гражданских делах неопытные. Одни – за самовластье царей, большинство же – против: воли нам, воли! Но зато все дружно плевались в сторону князей Долгоруких и Голицыных, засевших в совете Верховном:
– Затворились от нас, фамильные! Придавят… Они о себе пекутся, власть делят. И быть России, видать, на куски рватой. По кускам же тем воссядут верховные, яко герцоги на курфюршествах!
А в богатом доме князя Черкасского приманкой на гвардейскую молодежь – едина дочь, едина наследница, княжна Варвара Алексеевна тонкобровая. Хотя сия тигрица и невеста Кантемирова, но ходят в женихах львы, ревут под окнами золотые ослы. Львы и ослы стихов тигрице не пишут, зато прославлены другими доблестями. А по вечерам в доме князя – не протолкнешься: чадно от свечного угара, дымно от курений восточных. Гвалт, гогот, музыка…
В разгар споров, в сумятицу воплей и жалоб на верховников, вошел голос – прегрубейший, хриплый, пронзающий. Это кряжем поднялся над столом Федор Иванович Соймонов – в ранге шаухтбенахта, сам уже немолод. Плечи адмирала – в сажень, ноги короткие, а шеи нет, будто прямо из плеч растет громадная голова.
И сказал всем Соймонов так:
– Плачетесь вы? Горько вам в сомнениях? Верю. Но вот о мужиках никто не помянул. О своей боли вопляем мы! А от боли мужицкой отворачиваемся, словно от падали худой. Ныне же время пришло таково: коли проекты писать, то и мужикам послабить нужно…
– Погоди о мужиках! – зашумели кавалергарды, а граф Матвеев, от вина красный как рак, на шаухтбенахта наскакивал с речами гиблыми.
– Дай-то бог, – клялся, – о шляхетстве рассудить изрядно. Коли нас не обидят, так и мужикам лучше станется.
Тут вскочил горячий парень Сенька Нарышкин, что состоял гофмейстером при захудалом дворе цесаревны Елизаветы:
– Ты, Федор Иваныч, с Каспия приплыл, двадцать лет в отлучке пребывал флотской, что ты знаешь?.. Мужикам тяжко, истинно! А – нам? Дворянам? Мне покойный Петр Лексеич говаривал: «Лодырь ты, Сенька! Что ты там дома все делаешь? Я, мол, царь, а того не ведаю, чтобы дома сидеть…» А рази же царям вдомек, что нам, дворянам, дел и дома хватает? Придешь, а там, глядь, дрова из лесу не вывезли, кухмистер пьян валяется, девки дворовые рожать перестали… Вот и засучь рукава!
– То дело, – заговорили хмельные дворяне. – Службу надобно сократить… А царям где наши нужды вызнать? Прав ты, Сенька.
Соймонов залпом осушил чару вина, обшлагом хрустящим, в серебре да канифасе, рот вытер и сказал:
– Шел на умное, а пришел на глупое. Василий Никитич! – позвал он Татищева. – Чего умолк? От тебя ждем голоса мудрого… Ну-ка блесни разумом!
– Я уже язык обмолол, по Москве крича: Россия без монарха самовластного погибнет. А все зло – от аристократии!
– У-у-у, – провыл князь Черкасский.
– Не вой, князюшко, истинно говорю! Удельные князья междоусобничали – и пришли татары на Русь. Иоанн Грозный аристократию еретичну огнем спалил – и наступили тишина и согласие…
– На кладбище-то всегда тишина и согласие, – сказал Соймонов.
Татищев – вдохновенен – вскинулся из-за стола:
– Но Россия-то… воссияла!
– Но в венце мученическом! – ответил Соймонов.
Федька Матвеев опять над столом вскинулся:
– Эй, дворяне! Кто флотского сюда зазвал? Он есть конфидент голицынский, он наших рабов отнять из крепости жаждет. А рабы те – от предков наших, яко наследие от бога законное!
Кавалергарды гуртом насели на моряка, стул из-под него выбили. Соймонов взял двух, ближе к краю, поднял, словно кутят, и лбами двинул. Разбросал их по комнате: так и покатились.
– Не тех речей я от тебя ждал, Василий Никитич, – сказал он. – Но уйду я сам. По уставу флот битым от армии быть не может…
Татищев заговорил снова; кулачок его, до синевы сжатый, плясал средь тарелок с яствами, тренькали золотые стаканчики:
– Да, воссияла! И до Бориса Годунова мы, дворяне, меды райские пили, горюшка не ведали. А смутное время откель пришло? Опять же от аристократов…
– Да так ли сие? – поежился князь Черкасский.
– А вспомните Шуйского! – кричал Татищев. – Не тогда ли аристократы взяли у него «запись», похитив у царя всю власть самодержавную?.. Что молчите? Ведь нынешние кондиции, что на Митаву отправлены, это сиречь такая же «запись»… А что последует из того? Крайнее страны разорение и печаль общенародная… Только самодержавие полное спасет мать-Россию!
Когда гости расходились, князь Алексей Михайлович Черкасский удержал Татищева, стал ум его нахваливать, ласкал:
– Голова ты, голова! Не дай бог – срубят такую голову!..
И явилась к старому князю дочь – вся в обидах капризных:
– Папеньки милые! Уж не знаю, как за все заботы благодарить вас. Драгоценностей-то мне даже не счесть… Но сказывала мне мадам Штаден, будто видывали люди у Наташки Лопухиной аграф мой, что из Саксонии вами для меня выписан… Правда ль то?
– Мало ли что говорят люди, дочь моя. Не верь им, не верь!
…Наталья Лопухина украсила шею аграфом саксонским, повертелась перед зеркалом. Велела челяди ставить возок на полозья, жаровню и припасы в него тащить, а муж спросил:
– Опять на блуды собралась, сверло худое?
– Ах вы, изверг окаянный! – отвечала ему Наталья. – Доколе муки терпеть от вас? В чем подозревать меня смеете? Еду я встречать государыню нашу – Анну Иоанновну… Прощайте ж, сударь!
* * *
Князь Дмитрий Голицын имел ум сухой, желчный, иной раз и мелочный – от такого ума никому тепло не было. Крепко обижался он сейчас на прожектеров шляхетских, которые часто писали в проектах своих: мол, согласны мы быть и рабами, но лишь одного тирана!
– Куда волочитесь? – кричал Голицын, людей обижая. – Я ведь вас, сукиных детей, из рабства темного вытягиваю на свет божий. А вы, рабы, в застенок пытошный сами же проситесь…
Пошел слух по Москве, что скоро кровь прольется. Прожектеры некии от слухов таких дома ночевать перестали. По улицам не ходили. Ночью доску из забора выдернут – и бегут задворками да садами, от собак отбиваясь посильно. Стук-стук – в двери:
– Открой, Никитич, это я… Говорил тебе: рано мы взялись проекты писать! По трактирам теперь – всухомятку питаюсь!..
Не успели опомниться, как Анна уже оказалась в Клину – почти под самой Москвой… Императрица спешила и 10 февраля сделала свой последний переезд: одним махом лошади домчали ее поезд из Клина до села Всесвятского.[7] А далее ехать было уже некуда – впереди курилась дымками первопрестольная, в которой еще не был погребен покойный отрок-император…
Прискакал генерал Леонтьев – запаренный, швырнул краги.
– Ух! – сказал он верховникам. – Ея величество желают быть на Москве в воскресенье, числа пятнадцатого. Где соболя на муфты ея величеству? Да торопитесь с похоронами… Ея величество покойников боятся! Погребсти велят поскорея!
Москва заторопилась. Выехали на улицы сказочные герольды и протрубили печальную весть о погребении. Еще накануне в соборе Архангельском потревожили древние могилы казанских царевичей Сафаргиреевичей: два дряхлых гроба выкинули – освободили место под новый гроб.
Покойный царь, лежавший в Лефортове, теперь был лишь помехой. Спешили поскорей от него избавиться. А когда собрались для выноса тела, то невеста царева, Катька Долгорукая, всю спешность поломала. Сама не шла, а гонцов от себя слала: мол, желаю в церемонии погребальной места первого, да чтобы почести при этом оказывали мне, как особе дома императорского…
Князь Алексей Григорьевич чуть в обморок не закатился – шутка ли, в такое время такие требования предъявлять!
– Вот сейчас, – сказал, – домой поеду, косу на руку намотаю, приволоку ее сюды, в чем есть… Хоть в сарафане!
Но траурный кортеж уже тронулся. Он тронулся… без невесты!
Перед самым гробом, неся кавалерию на подушке, плелся князь Иван Долгорукий, фаворит бывый, и два ассистента вели его под руки, чтобы не упал. Волочилась длинная черная епанча, флер на шляпе рвало ветром, без парика – распустил волосы… Страшен!
День был на диво солнечный, ясный, морозный, сверкали панагии иерархов, пели монахи – сладкоголосые… Придворные торопились даже сейчас, в этом скорбном шествии, и мысли вельможные были уже далеки от мертвого царя – порхали во Всесвятском, поближе к милостям нового царствования. Вот и Спасские ворота Кремля… пора въезжать! Но в воротах лошади-то прошли, а катафалк – тыр-пыр! – ни туда, ни сюда, так и врезался в стены…
– Где плотники? Аршин давай… мерить станем!
Барон Габихсталь (тоже член Печальной комиссии) вышел на площадь и всенародно заявил, что он мерил ворота правильно.
– Куды ж правильно, – кричал Татищев, – ежели ворота во каки, а гроб поперек себя шире, и глазом видать простым: не пролезет.
Катафалк застрял прочно. Лошади – в темноте ворот – не желали назад пятиться, вперед тянули царя. Трещали крашеные доски. Рвалась с гроба дорогая парча. Габихсталь заново измерял аршином землю, а из толпы орали ему:
– Да кто ж по земле мерит? По воротам мерь, дурак!
Нашлись умники: вытянули катафалк из ворот Спасских и направили его в ворота Никольские. А когда несли гроб до могилы, небо опоясала вдруг большая радуга, которая и дрожала над Москвой несколько минут. Феофан Прокопович заревел о чуде божием – попадал народ, кликуши забились на камнях:
– Знамение свыше… Крест, крест! Вон, вон…
Креста не было, но была в этот день зимняя радуга над Москвой. Из дворца царевны Имеретинской на селе Всесвятском наблюдала эти странные небесные пожары и сама Анна Иоанновна, когда ей доложили, что из Москвы жалуют к ней первые гости.
– Кто? – спросила она, крестясь с тайным страхом.
– Статс-дамы Натальи Федоровны Лопухины, урожденные фон Балк. Может, изволите помнить: Петр Великий ее силком венчал с Лопухиным Степаном, которого потом к самоеди в острог Кольский сослал?
– Изволю помнить, – сказала Анна Иоанновна. – Так проси…
Императрица стояла возле стола, прислонясь к нему широченным задом. На груди могучей лежали огромные красные руки. Лицо Анны, все в глубоких корявинах оспы, казалось смуглым, как у мумии.
Взвизгнула дверь, застучали каблуки. Боком вспорхнула Наталья Лопухина, шлюха знатная. Греховно и томно глядели на царицу ее медовые глаза; на персиковых щеках чернели клееные мушки. Все шуршало, переливалось, сверкало на ней. «Так вот какова любовница Рейнгольда Левенвольде… Хороша чертовка!»
– Ну, – вскинула руку Анна, – целуй же…
Лопухина подняла свои прекрасные глаза:
– От Остермана я, матушка.
– Так что? – спросила Анна, опять робея.
– При въезде на Москву вы должны объявить себя полковником полка Преображенского и капитаном кавалергардии.
– В уме ль они там? – попятилась Анна (хрустнул под нею стол). – Да меня верховные со света сживут. Лукич, яко дракон, стережет меня. Кондиции-то подписала я. Иль Остерман о том не знает?
– Остерман велел сказать, – зашептала Лопухина, – что кондиций тех не будет. Вы только объявитесь гвардии полковником, а гвардия вас утвердит в самодержавье полном…
Снова взвизгнула дверь – Василий Лукич! Анна схватила Лопухину за голову, помяв ей букли, втиснула в свою грудь лицом: статс-дама задыхалась в объятиях – от пота, молока, румян.
– Иди, иди, Лукич, – сказала Анна. – Хоть в бабьи-то дела не лезь. Дай толковать свободно подругам старым…
* * *
В доме отчем невмоготу стало Наташе Шереметевой: толклись с утра до вечера родичи – Салтыковы, Черкасские, Урусовы, Собакины, Нарышкины, Апраксины и прочие. Уговаривали:
– Душенька, солнышко, не поздно еще. На што тебе князь Иван сдался? Ведаешь ли, что фавора его не стало и быть ему в наветах опасных… Отступись, золотко! Глянь-ка, сколь красавчиков по Москве бегает, так и ширяют под окошком твоим. В омморок их по красе твоей так и кидат, так и кидат!
Наташа вдевала нитку в иглу, топорщила губку:
– Спасибо вам, миленькие, что печетесь. Но высокоумна я! И слово свое выше злата ценю. Нет у меня привычки такой глупой, чтобы сегодня одного любить, а другого завтрева.
С тех пор как сбросил князь Иван Долгорукий золотую придворную сбрую, стал Иван похож на крестьянского парня: лицо круглое, щекастое, губы толстые, нос широкий, глаза с косинкой малозаметной… Простоват стал Ваня!
– Пропали мы с тобой! – говорил. – Принуждать к супружеству не смею: вольна ты, ангел мой, отстать от меня! Небось, сама не малая, чуешь, каково с куртизанами бывает на Руси…
– А вам бы, сударь, – отвечала Наташа, – и постыдиться меня должно. Перед вами боярышня, которая слово дала вам. Быть ей матерью детей ваших, а вы ей гибель злую пророчите…
В санях Ивана поджидал Иоганн Эйхлер:
– Плакал никак, князь?
– Молчи, рыло чухонское, а то по зубам тресну…
Завернули на Мясницкую, где велел Иван остановить лошадей и вытолкал Иогашку прочь из саней, – замигал тот поросячьими белыми ресницами.
– За что меня изгоняешь? – спросил жалобно.
– Иди, поцелуемся напоследки, – ответил ему Долгорукий. – От добра тебя изгоняю. Куртизаны на Руси с господином гибнут. Вот так… А ты куртизан при куртизане! Потому есть тебе каши березовой! Ступай от меня подалее… Пошел!
И рванули кони. С раскрытым ртом, держа флейту под мышкой, остался посреди Мясницкой крестьянский сын из провинции Нарвской. Запахнул он воротник шубы. «Ну, – подумал, – шубу я проем, а что потом есть буду?» Огляделся Эйхлер по сторонам и решил: на Мясницкой не пропадешь. Эвон какие хоромы стоят. Живут себе бояре да шляхетство знатное, щиплют мужиков по деревням и нужды не ведают. А много ли надо Иогашке Эйхлеру?
От церквушки святого Евпла, через Коровью площадку, мимо подворья Рязанского, где под землей пытали раскольников, неустрашимо зашагал Иоганн Эйхлер – забил кулаком в ворота первого же дома, который попался, – дома князей Жировых-Засекиных.
– Не нужен ли вам, – спрашивал, – человек вольный? Умею на флейте играть и за собачками ухаживать. Ранее состоял у господ Долгоруких, и патент на чин имею.
– В шею его! – кричала княгиня. – Гоните прочь со двора…
Следующий дом по Мясницкой. Тут живет касимовский царевич Иван Бекбулатович, пьет чаек с сахарком, глаз большой, выпуклый, как у лошади, царевич этим глазом Иогашку всего оглядел.
– Ты чей? – спросил.
– Я вольный.
– Врешь. Вольных людей на Руси не бывает… Не вор?
– Могу от Долгоруких диплом в честности представить…
– Эй, люди! – обжегся царевич. – Где вы?
Вышибли Эйхлера прочь, и шубенку, какая была, в воротах жадная челядь с него сдернула. Стало зябко Иогашке. Вот еще дом – Милютиных, в сенцах астраханскими осетрами пахнет. Промышленники. Богато рыбой торгуют. Выслушали они степенно, как флейта гудит, на судьбу жалуясь, и сказали основательно:
– Баловство одно… Драть бы тебя, парень!
А из калитки собачонка выскочила – шустрая, все штаны изорвала. Но тут хоть не побили, и на том спасибо. Пошел Иогашка далее – вниз по Мясницкой, улице столбовой, знатной.
– Эй, – кричал, озябнув, – кому человек нужен? На флейте играет, собачек выводит, а сам по себе честен…
Соковнины (пятеро братьев) какое-то зло на Долгоруких имели. «Ах, попался!» – сказали, узнав Эйхлера, и били тяжко. Степан Лопухин ногой его выпихнул; у князей Кольцовых-Масальских дворня нищая отняла шапку у Иогашки, сама же дворня смеялась…
Под вечер ярился морозец, тер Иоганн Эйхлер уши, от холодной флейты озябли пальцы. Кричали от рогаток стражи ему:
– Эй, ходи да мимо проходи… Не то худо тебе сделаем!
Иогашка от холода подпрыгнул, сколько мог, повыше и приударил в бега – по Мясницкой, через Лубянку, да прямо в Неугасимый кабак, где от свечей тепло: рай, а не жизнь. Тут он отогрелся и заиграл снова. Угостили его люди гулящие, себя не помнящие, и до утра играл Иогашка – чухляндский дворянин, чина титулярного, куртизан отставной при фаворите бывшем…
А утром опять пошел по Москве, у домов флейтируя отчаянно.
– Знаю также, – объявлял о себе, – искусство куаферное, пудрить и букли взбивать умею. И фокусы с двумя шариками показываю!
Под вечер, околев от холода и голода, просился скромнее:
– Не надо ли, хозяюшка, дрова поколоть? Пусти погреться…
– Выползок из гузна Долгоруких, ступай ты прочь!
Глава восьмая
Генерал-аншеф Иван Ильич Дмитриев-Мамонов был женат на родной сестре императрицы – Прасковье Волочи Ножку. Теперь же, с восшествием Анны Иоанновны, Иван Ильич в большую силу войти бы должен…
Однако генерал был не увертлив, говорил прямо:
– Я креста бабе целовать не стану, пущай ей бабы и целуют. По мне, так и вобче царей бы не надобно: сами с усами…
Он этих царевен Ивановных уже насмотрелся – издали и вблизи, всяко. «Дин-дон!» – говорил о них, пальцем у виска показывая: мол, не все в порядке у царевен. Иван Ильич был человеком образованным, книгочейным; «Воинский регламент» и «Табель о рангах» составлял; знаток в делах судейских. А самодержавию – противник! Ох, не возрадуется царица такому зятю…
Рано утром дымное вставало солнце. В изморози. В слепоте. Каркали вороны с берез оголенных. Подморозило за ночь крепко. Иван Ильич видел в окне, как сигает босиком по сугробам юродивый из села Измайлова – Тимофей Архипыч; колотятся на нем, бряцая, ржавые погремушки-вериги; велел дворне блаженного к себе звать. Явился тот, бородою тряся, понес ахинею. Но Иван Ильич, опытом умудрен, легонько его по зубам стукнул.
– Проще будь! – велел. – Босиком-то по снегу и я бегать умею. А в святость твою чуждо мне верится… Сядь к печке, погрейся!
Сел Архипыч к печке спиною, вериги на себе оттаял и заговорил исправно, как человек разумный:
– Ныне на меня всё валят. Будто я невестушке вашей корону российску предрек. А я, покеда она еще молода была, другое ей пел: «Дин-дон, дин-дон, царь Иван Василич!..»
Дмитриев-Мамонов в спальню прошел, где с царевною почивал, из-под подушек пучок человеческих волос вынес.
– Твои патлы? – спросил строго. – Меня чаруешь?
– То сударыня ваша, царевна Прасковья, меня, будто овцу, стригла вчера. Вестимо, для волшебства! Потому как понести желает, а я по волосам своим на Москве сдуру святым почитаюсь…
Генерал покрестился на икону письма дивного.
– Вот иконы, – показал, – ты мастер писать. А ворожбою меня не возьмешь. Сударушка моя не понесет, хоть ты всю бороду ей подари. Забери патлы свои обратно… А теперь – брысь!
Пришел из лейб-регимента поручик с рапортом: кому из кавалергардии быть в драбантах на селе Всесвятском. Иван Ильич, по должности своей, подмахнул бумагу обкусанным пером.
– Лошадей держать под вальтрапами, – велел. – Супервесты иметь парадные. Барабаны украсить занавесками. Палашей не отпускать – пущай тупыми побудут: не драться же ими в карауле!
После чего на половину царевны прошел. Через кухни следуя, выпил ковшичек водки царской, закусил пряником мятным. А в гостях у Прасковьи – Феофан Прокопович, на пальце бороду в кольца навинчивает, меж ними часы с амурами, и музыка в часах венские канты играет. Подошел генерал под благословение.
– Занятная редкость, – сказал, дверцу на часах тронув.
– Постой, генерал, – удержал его руку Феофан. – Зачем крышечку трогаешь? Часы – вещь нежная…
– Оно и верно, что нежная, – ответил Дмитриев-Мамонов, уже заметив, что часы изнутри письмами набиты. – На Руси таких не бывает, чтобы письменным заводом часы двигались…
– То не мои, – ответил Феофан, покраснев. – Царевна-голубушка во Всесвятское едет сестрицу навестить, вот и пущай музыка дивная им там играет.
– Сударыня, – сказал генерал, к жене обратясь, – будто бы и не сказывали вы с вечера, что на Всесвятское сбираетесь?
Царевна показала на Феофана:
– Вот владыка упросил, часы отвезть надобно…
– Дин-дон! – сказал генерал и пальцем у виска покрутил, потом к Феофану обратился: – А ты, владыка, тоже дин-дон хороший…
* * *
Кто не знает на Москве Анну Федоровну Юшкову? Все знают, да и как не знать: боярыня знатная… Тихо текли годы в древнем доме, и все как-то за стеной проходило: бунты стрелецкие, петровские ассамблеи, машкерады по случаю викторий. В смирении да постности тянулись годы. Вечерком ляжет Юшкова на печную лежанку, девки ей перышком гусиным пятки ласкают, а странницы чмокают сахарком:
– А то вот, боярыня, был еще такой Феофил-старец. Чуден был в святости! И так от молитв проникался, что плакал. А чтобы недаром плакать, он корчагу под себя ставил. И теи слезки евонные в корчагу капали. Тридцать лет сердешный не пил, не ел – только плакал. И слезки свои копил. Чтобы предъявить их на Страшном суде… Но только, боярыня, на том свете-то слезки его отвергли. А корчагу обратно на землю из рая свергнули!
– Ой, ой, ой, – вздыхала Анна Федоровна Юшкова, переживая.
– Да, милая боярыня, так и шваркнулась корчага на болото. Только лягушки по сторонам – скок-скок! А небесные анделы тут слетелись. Да Феофилу бо-ольшой горшок показали. Куды как больше корчаги евонной… Заблагоухало тут! А в горшке том – слезы, кои Феофил-старец мимо корчаги пролил. Вот так и выплакал он себе царствие небесное!
Анна Федоровна (по родству с Салтыковыми) приходилась родней царевнам Ивановнам, но судьбы своей не ведала. Не стемнело еще над Москвой, как она велела ворота на шкворень заложить, собак с цепи сбросить да сторожей расставить. Только было собралась Юшкова на лежанку завалиться, тут и забарабанили в ворота, выпал шкворень, завизжали собаки, взвыли сторожа…
– Хосподи, не худые ль люди жалуют?
Разбойником ворвался Семен Андреевич Салтыков, сгреб родственницу с лежанки, стал в шубы кутать:
– Облачись скоро, да езжай до Всесвятского… Тебя ея императорское величество с утра до особы своей требуют!
Так и обмерла Анна Федоровна… Неслись над головой яркие звезды, стреляли по бокам деревья. Закидало ее снегом, рвали царские кони в темноту, в ярость, в морозную стынь. Приехали. Даже встать не могла. Видела только из саней дубовый дворец царицы Имеретинской, чернавки Арчиловой, а в сенях приятный «маркиз» Лукич распеленал Юшкову от шуб и платков, подивился:
– Это и есть дура? Ну, так несите наверх ее!
Двое дюжих молодцов, князья Цициановы, подхватили безгрешную девицу под локотки, повели вверх по лестницам. Стучали об ступени белые ноженьки. А в пустых палатах стояла царица престрашного зраку.
Сверху глянула и князьям Цициановым махнула:
– Отпустите дуру. Пущай отойдет…
Понемногу отошла Анна Федоровна, дерзнула и глаза поднять. Тогда Анна Иоанновна спросила ее:
– А что? Неужто я тебе столь грозна кажусь?
Юшкова, чтобы страх доказать, в подпечек головой сунулась.
– Не приведи бог! – отвечала. – Экая святость-то от тебя, государыня, так и прет, так и шибает в меня, будто пар от каменки!
Тут Анне Иоанновне стало так хорошо, так приятно от чужого страха, что она смилостивилась над бедной девицей:
– Ну, встань! Наслышана я, что слава идет на Москве такая, будто никто лучше тебя не умеет ногти стричь. Вот и позвала: отросли у меня ногти в дороге…
Юшкова снова – бух в ноги, умилилась:
– Да недостойна я к тельцу-то твоему прикоснуться!
Разулась Анна Иоанновна, пошевелила большими пальцами:
– Вишь, отросли-то как… мамыньки! Ножни где?
Юшкова подползла к императрице и вдруг – мелко-мелко, словно мышонок, – обкусала все ногти на ногах Анны Иоанновны.
– Ишь ты как, ишь… недаром слава идет! Мастерица…
Юшкова огрызки ногтей в тряпочку собрала:
– Храни, матушка-государыня, не выкидывай.
– Да на што они мне? – хмыкнула Анна Иоанновна.
– Всех нас ждет час господень. Как же ты без ноготочков на Сионскую гору полезешь? В царствие небесное труднехонько залезать… Я и свои ноготки не выкидываю – коплю!
– И много ль их у тебя? – спросила Анна с интересом.
– Да уж скоро полный чулочек наберется.
– Ну ладно. – Анна Иоанновна поднялась. – Повелеваю тебе, дура, всегда при нашей особе состоять. И ногти мои царские стричь и копить. А чтобы не пусто тебе было, получишь кажинный день пива по шесть бутылок да рейнвейну по бутылке…
– Доброта-то! – умилилась Юшкова, снова заползав.
– А по два дни, – расщедрилась Анна, – будешь иметь от стола моего по кружке вина. Да водки гданьской по штофу малому.
– Господи, помоги осилить, – взмолилась Юшкова.
– Да месячно тебе: чаю по фунту с четвертью, да кофию по три фунта, да сахарку кенарского отбавлю еще… Ну, небось рада?
С тех пор Юшкова так и осталась при императрице. Великую взяла она потом силу! Так что вы с Юшковой теперь поосторожнее… Как бы не напакостила чего!
* * *
Наступал день – 12 февраля, Остерман позвал лютеранского пастора, причастился, как перед смертью. Боялся и Феофан этого дня: часы переправил Анне, а в часах тех – планы потаенные. Страшилась и Анна Иоанновна: с утра еще, как с постели встала, ступила на пол ногою правой, правую ногу наперед левой обула, из покоев шагнула ногой правой, чтобы виноватой в сей день не бывать.
Во дворе дома грузинской царевны Арчиловны с утра звенело оружие, ржали кони кавалергардии, бряцали палаши и стремена. В карауле – эскадрон драбантов и батальон преображенцев. Анна Иоанновна, шубейку накинув, спустилась вниз по ступеням крыльца, и гвардия встретила ее «виватами». А следом за Анной молодцы Цициановы катили бочки с вином белым, несли подносы с кусками мяса жареного.
– Родненькие мои! – прослезилась Анна перед гвардией. – Уж не знаю, как отвечать на любовь вашу… Виват, гвардия! – вдруг провозгласила она хрипло. – Виват, драбанты кавалергардии славной! Виват и вы, преображенцы геройские!
Что тут началось: рвались к ней, плакали.
– Полюби нас, матушка! – вопил Ванька Булгаков, секретарь преображенский. – Объяви себя полковницей нашей, как и положено государям российским… Да полюби! Да полюби!
Преображенский майор фон Нейбуш, с протазаном в руке, стал перед Анной салюты вытворять, почести ей оказывая. Анна целовала Нейбуша в замерзшие щеки, сама вино из бочки черпала, куски мяса кидала. А кавалергарды (люди особо знатных фамилий) были в покои званы, где к ручке прикладывались. Тут Анна из своих рюмок их потчевала, и драбанты клялись ей в верности.
– Будь капитаном нашим, – просили. – А мы за тебя головы наши сложим, власть самодержавную не дадим уронить…
Анна Иоанновна осмелела.
– И тако сбудется! – объявила властно…
Первый акт самодержавия (в противность кондициям) был совершен, и Остерман отпустил от себя пастора, начиная «выздоравливать»… Старика Голицына чуть удар не хватил.
– Надобно и нам ехать, – сказал министрам. – Сбирайтесь до Всесвятского. Да кавалерии прихватите, а то как бы она самолично их на себя не надела! Лучше уж из наших рук… Едем, едем!
Приехали. Гуртом тронулись верховные по деревенской улице, лаяли из-под ворот мужицкие кабысдохи, бежали за вельможами мальчишки, дымно курились трубы дворца грузинского. Впереди заплетал ногами, шелком обтянутыми, великий канцлер Головкин, а позади министров выступал Степанов, неся на блюде золотом знаки двух кавалерий – Андрея Первозванного и Александра Невского… Слепило глаза секретарю от величия и блеска звезд орденских.
И мрачно вышагивал князь Дмитрий Голицын, думая: «Охти, господи! Ране парсуну малевать велел с кавалерией красной, а теперь сам, будто лакей, несу ей кавалерию голубую… Плохо стережет Лукич царицу: кто-то мутит ее, надоумливает скверно!» В сенях дворца подбежали к министрам красивые статные молодцы, князья грузинские, голиками быстро обмели депутатам башмаки от снега. Василий Лукич по-хозяйски (пообык уже тут) двери открыл.
– Ея императорское величество, – известил, – ждут…
Дмитрий Михайлович на середину светлицы выступил.
– Благочестивейшая государыня! – заговорил он. – Признавая тебя источником славы и величия России, вручаем мы тебе орден святого Андрея, первейший орден государства нашего, и знаки Александра Невского. Мы тебя избрали на престол прародительский, а ты соблаговолила принять царствование, и мы благодарим тебя, что вернулась ты в отечество, принимая корону из рук наших…
Канцлер Головкин вдруг подхалимскую слезу вытер.
– От бога все… не от нас! – сказал слюняво.
И Анна ему подбородком жирным кивнула, утверждая. Резала ей ухо речь Голицына: от бога-то – вернее (так и Феофан кричал по церквам). Но Голицын круто тащил далее свою мысль – упрямую.
– Благодарим мы тебя, – продолжал, – и за то, матушка, что подписала ты кондиции, кои предложены от имени нашего тебе на славу, а народу российску – во благо! Вот почему, государыня, и явились мы пред тобой, дабы водрузить на твою грудь знаки орденов наизнатнейших…
Степанов шагнул с блюдом вперед. Головкин – по чину канцлера – уже потянулся к Анне, чтобы возложить ордена на нее. Но Анна вдруг сама взяла их с тарелки и отвечала с язвой:
– Спасибо! А то ведь, канцлер, забыла я их надеть…
«Един тут враг – Голицын!» – к нему и повернулась.
– Дмитрий Михайлыч, – сказала, – и вы, прочие… Буду я стараться, – посулила Анна Иоанновна министрам, – чтобы все были мною довольны. Согласно желанию вашему, господа высокие, подписала я кондиции, о коих ты и упомянул сейчас, Дмитрий Михайлыч.
– Подписанное да исполнится, – буркнул Василий Лукич.
Анна глянула в его сторону: «Надоел Лукич, надоел дракон!»
– Вы убеждение имейте, – потупилась императрица, – что кондиции те я свято хранить и соблюдать стану до конца моей жизни. И вы тоже не преступите границ насилия в отношении меня, бедной вдовицы.
Не выдержала – заплакала. Затряслась ее грудь, перетянутая муаром двух кавалерий, андреевской и александровской. Выпятила перед собой Анна ладони, словно клешни.
– Целуйте, – всхлипнула. – А на третий день меня на Москве ждите… Въеду!
Глава девятая
И – въехала… За каретами членов Верховного тайного совета девять богато убранных лошадей катили карету императрицы под арками (то свадебными, то похоронными). Барон Габихсталь, как немец ученый, был взят на подножку кареты, чтобы толковать императрице символы эмблем и афоры древние с латыни на немецкий перетолмачивать.
– Над аркою этой, – рассказывал он, – зрите вы глаз человечий, столь широко распятый, будто разодрали его! Это означает внимание Москвы к вашей особе. А под глазом – писано латински: «Воззрел я на пути дома своего…»
Кортеж покатил под другой аркой. Анна была нарисована тут сидящей на троне под пальмой; вокруг нее кучей лежали знамена, трубы, пушки, компасы, астролябии и перпендикуляры. И рот у Анны пышет облаком, а в облаке том начертаны слова какие-то…
– Это что ж за глагол из меня пышет? – спросила Анна.
– Пусть славятся, – толмачил Габихсталь, – Египет Изидою, а Греция Палладою, Аравия царицей Савскою, а Рим пусть восхваляет Егерию. Но да царствует долее всех их бесподобная Анна, полезная для России…
Улицы от самого Земляного города до Кремля были посыпаны песком и убраны еловыми ветками. Зеленые душистые лапы скрипели под полозьями и под колесами. Громыхали пушки, а под сводами Иверской часовни, словно вороны на снегу, чернели духовные люди. Заливались колокола сорока сороков, и гулко ухал Иван Великий. Анна всплакнула, про замок Вирцау вспомнив.
Возле Успенского собора ее из кареты вывели. Здесь дамы, в робах и самарах, подхватили царицу бережно, повели наверх для молитвы. Ногою в сень собора Анна вступила, и снова трещало все над Москвой: войска палили из ружей – троекратно, огнем боевым, плутонговым…
– Спасибо вам всем, – кланялась Анна. – Всем спасибо мое царское… Эвон вас сколько! Нет одного Остермана, бедного…
– И… Ягужинского, матушка, – подсказал канцлер Головкин.
Помолясь на могилах предков своих в соборе Архангельском, императрица проследовала в кремлевские апартаменты для отдыха. Но едва перешагнула порог, желая в одиночестве побыть, как в сумерках палат разглядела знакомую фигуру «дракона» своего.
– А ты уже здесь, Лукич? До чего ловок ты у меня…
Долгорукий выступил из тени, поклонясь изящно:
– Всегда ваш слуга… Поскольку траур на три дня снят, по случаю въезда вашего, то пришел озаботиться туалетами для вас. Москва ликует – ликуйте же и вы, ваше величество…
* * *
На три дня был снят траур, но Анна Иоанновна и приверженцы самодержавия не ликовали: кондиции припекали их, словно горчичник. Дикая герцогиня, Екатерина Мекленбургская, наседала на свою царственную сестру с советами.
– Раздери ты их! – внушала настырно. – Без кондиций цари жили, никому отчета ни в чем не давали. Хотят – казнят, хотят – милуют. Эвон Феофан-то, владыка синодский, речет нам пророчески: будет нам утеха одна под старость – яблочно драчёно себе натирать. А мы не стары с тобой, сестрица: под сорок лишь кинуло. Тут бы нам и погулять в годы остатние. Повеселиться бы в полную сласть… Раздери, говорю!
Кейзерлинг, таясь задворками, привез на Москву у себя под шубами маленького Бирена. Карлуша служил почтальоном – утром и вечером младенца таскали из дома в дом заговорщики, пихали в сырые пеленки записки, доносы, проекты… Анна читала, читала, читала!
– Голова вспухла! Как быть-то? – сомневалась. – Гудит Москва, в полках тоже за меня… Кого ж мне слушаться?
– Только Остермана, – нашептывал обворожительный Корф. – Без Остермана вам никогда не уничтожить кондиций.
А под окнами дворца ревела пьяная гвардия.
– Наша берет! – орал граф Матвеев, гуляка известный. – Никаким верховным подчина не сделаем. Виват Анна! Виват самодержавная! Матка наша!
Фельдмаршал Долгорукий пришел в Совет, тылом кулака вытер слезившийся глаз.
– Не усмирить, – признался. – Я токмо подполковник в полку, а матка Анна полковником надо мной стала… Как совладать? Не помереть бы всем нам смертью худой, собачьей!..
Анна отполдничала, в окнах сочился серенький московский денек. И понесло ее в мыслях обратно на Митаву, вспомнила леса, через которые ехала. Ах, где-то среди лесов этих, в деревеньке убогой, ждет ее любезный, томясь разлукой. Помазанница она божия, императрица всероссийская, а… что толку? Любая торговка блинами придет домой, а там муж, там дети. И куда как ее, императрицы, счастливей!
В мыслях таких раскалила она себя, озлобила плоть и душу в желаньях самовластных. И тут, совсем некстати, потянуло от дверей сквозняком и духами – это Василий Лукич пришел с перьями.
– Князь Голицын, – сказал, – для разговора важного к вам жалует… Готовы ль вы?
– Когда покой мне дадите? – вспылила Анна.
– Ваше величество, – ответил Лукич, – вы еще и царствовать не начали, а уже о покое заговорили… Что же дале-то станется?
Князь Голицын, в комнаты войдя, заговорил дельно:
– Верховный совет рассудил за благо согласовать суть присяги общенародной, а такоже иноземцев, при дворе нашем обретающихся на службе волонтирной. И вашему величеству сей тестамент высочайше апробовать надобно!
Анна, не мигая, смотрела на огонь, бушевавший в печной утробине; от смолистых поленьев с треском летели искры.
– Говорят, – произнесла с угрозой, тихо, – измыслили вы лукавство противу моей особы? И будто присяга та не имени моему, а вам, верховным, приноситься должна? – Поднялась резко от печи, с кочергою в руках, пошла на Голицына. – Кому еще, – выкрикнула, – кому еще, окромя особы моей, присягать должны православные?
– Отечеству, – сказал Голицын твердо.
Анна Иоанновна исподлобья глянула на сановного старца своим престрашным зраком. Нет, не испугала! А уж каков взгляд тот был – у других спросить надо (даже Бирен его не выдерживал).
– Ну, так ладно, – потухли глаза Анны. – Еще что?
Дмитрий Михайлович положил на стол грамоту из Совета.
– На сих днях, – сказал, – вы самовластно, без ведома нашего, упредив события, себя полковницей гвардии объявили…
– Нешто не по праву? – осерчала Анна.
– Конечно, нет. Вам права не дано. Но мы препозицию вашу рассмотрели, и вот… патент! Но впредь, – напомнил Голицын, – Совет просит вас не забегать вперед. Ибо, – объяснил спокойно, – мы тоже не святые: не каждую препозицию вашу потом можно меморией подкрепить!
Анна Иоанновна кочергой в злости переворошила поленья в печи:
– Все – ложь, ложь, ложь! Закрой двери, князь, ныне ругаться станем… На што ты патент суешь мне? Разве не вольна я сама, своею волей, себя полковником сделать?
– А – кондиции? – спросил Голицын. – Вы их забыли?
– А – гвардия? – в ответ спросила Анна. – Нешто не слышал, как она приветствует меня в своих полковницах?
– Гвардия – еще не Россия, – осадил ее старик. – Это только у турок янычары судьбу Оттоманов решают из казармы зловонной! Мы же, россияне, слава богу, не сатрапные варвары!
Анна Иоанновна смахнула патент со стола:
– Прочь! Мне того не надобно… Содеянное – содеяно, и отмены тому не бывать! Я императрица русская… А коли что, так и знай, князь: на Митаву укачу – быть на Руси тогда смутам и кровопролитию великому… Народ меня призовет обратно!
– Что ж… Езжайте, ваша светлость!
«Светлость, а – не величество?.. Оно и правда: ведь мне еще не присягали!»
С грохотом покатилась на пол кочерга – древняя, кремлевская.
– От бога я! – зарыдала Анна. – Я божьей милостию взошла… Тако и канцлер сказывал: от бога я дана России!
– А вот это – ложь, – злорадно произнес Голицын. – В ночь кончины государя собрались мы в Совете семеро. И мы, семеро, вас на престол избрали. С моего же голоса! А никого восьмого (понеже самого господа бога) меж нами не было.
– Безбожник ты, князь! Бог долго ждет, да больно бьет.
– Нет, не безбожник я, и во всевышние силы горячо верую. Но ханжества и суеверия, разум затмевающего, не терплю… Вы сказали сейчас, что на Митаву съедете? А я сказал: езжайте с богом! Претенденты на престол российский сыщутся. Вот и «кильский ребенок», прямой внук Петра Великого, растет в Голштинии…
– То – чертушка! – воскликнула Анна.
– Но здравствует и цесаревна Елисавет Петровны…
– Потаскуха! – вырвалось у Анны.
– Что ж, – усмехнулся Голицын. – В селе Измайлове пребывает ваша сестрица родная, Екатерина Иоанновна, коя на престол права имеет с вами равные. А в монастыре Вознесенском замаливает грехи наши тяжкие царица вдовая – Евдокия Лопухина!
И, ничего более не сказав, Голицын вышел.
– Не коронована, – простонала, – не коронована ишо…
«В колыбели голштинский чертушка, в слободе Александровой пьет с Шубиным-сержантом Елизавета, на Измайлове сестрица Мекленбургская, а Голицын ушел, бумаги на полу валяются, присяга-то – отечеству, и никто не поможет…» – Анна схватила перо и, не читая бумаг, стала быстро покрывать их своими подписями.
Голицын был еще силен, ссориться с ним опасно…
* * *
– Женщины, – сказал Остерман, подумав. – Ведь самое главное при дворе – женщины. А где пахнет духами, там и наш любезный обольститель Рейнгольд Левенвольде!..
Рейнгольд был назначен обер-гофмаршалом, отныне он приемами при дворе Анны ведал. Не захочет Левенвольде показать тебя государыне, и пойдешь ты от двора домой, слезами умываясь.
Дамский же букет цветок к цветку подбирали, как бы прошибки не вышло. Первой ко двору попала баронесса Остерман (Марфутченок), потом Наталья Федоровна Лопухина, урожденная фон Балк, пройдоха блудодейная; пригрели у двора баб Салтыковых, княгиню Черкасскую (жену Черепахи), Авдотью Чернышеву – сквернословную, дурную…
– Все внимание – на Дикую герцогиню Мекленбургскую, – сказал Остерман Левенвольде. – Пусть она муссирует Анну ежедневно. В этой женщине таится целый легион низких страстей, козней и коварства… Но, – добавил Остерман, – как мы посмели забыть о семье Ягужинского?
Догадливый Левенвольде разлетелся во дворец.
– Ваше величество, – нашептал он Анне, – генерал-прокурор бывший еще томится под арестом, а его супруга… а дочери…
Анна поняла намек с полуслова – в ладоши хлопнула:
– Скорохода сюды! Пущай бежит до Ягужинских: быть матке старой в дамах статских, а дочкам Пашкиным фрейлинство жалую…
«Теперь, – раздумывал Остерман, – надо выдвигать наверх молодых князей Голицыных, воздать почести старикам Голицыным, а Долгоруких уничтожать нещадно. Два семейства, издавна враждебные, в соперничестве сами пожрут одно другое. Но это лучше сделать потом, а сейчас…» Остерман, глянув на Левенвольде, неожиданно сказал:
– Сейчас нам следует выдвигать князя Антиоха Кантемира!
– Пшют, – фыркнул Левенвольде.
– Вы сами пшют, сударь. Два умнейших человека в Москве, Феофан Прокопович и аббат Жюббе-Лакур, почитают его за светлейшую голову в Европе… А, скажите, во что оценивают вашу голову?
Левенвольде вздернул подбородок: вот она, голова курляндского Аполлона (серьга в ухе обер-гофмаршала сверкала алмазом).
– Ваша голова, – добил его Остерман, – стоит ровно столько, сколько вы изливаете на нее духов. И – не более того! Если желаете, – добавил вице-канцлер, – я скажу вам то, в чем вы никогда не признаетесь даже прекрасной Лопухиной в минуту откровения.
– Женщине, барон, всего нельзя доверить!
– Но вы скрываете и от мужчин, что являетесь тайным шпионом королевуса прусского… На посту курляндского посла очень удобно торговать секретами России, не так ли?
Вот теперь Рейнгольд Левенвольде оскорбился не на шутку.
– Любопытно, – сказал, – чем вы торгуете, барон?
– Только своей головой… Вот этой самой, – постучал Остерман себя по лбу, – которая приведет Россию к величию, чтобы сохранить мое славное имя в анналах истории! Ступайте…
А под окнами стрешневского дома вдруг заиграла флейта. Да так сладко и умиленно, что Остерман закрыл глаза ладонью, вспомнил зеленые холмы Вестфалии… Ах, годы, годы, где молодость?
– Розенберг, – позвал он секретаря, – откуда эта музыка?
– Некий чухонский дворянин, Иоганн Эйхлер, просит вас благосклонно обратить внимание на его искусную игру.
– Я желаю его видеть. Пусть войдет…
За эти дни Иогашка Эйхлер износился, по трактирам и харчевням ночуя, в паклю свалялись его белые волосы. А руки, от холода синие, с трудом уже нащупывали клапаны флейты…
– Мне ваше лицо знакомо, – пригляделся Остерман.
– Имел несчастие, барон, служить при доме Долгоруких!
«Ого, – решил Остерман, – этот малый наверняка многое может вспомнить…» И вице-канцлер спросил Эйхлера – наобум:
– Где князья Долгорукие хранят свои сокровища?
– Полны дома их сокровищ несметных. А тайников не знаю…
Из-под козырька смотрели на парня недоверчивые глаза:
– Скажи мне, добрый друг Эйхлер, кому ты еще предлагал свои услуги после служения у Долгоруких?
– Все боятся. Никто не пожелал иметь меня при себе.
Вице-канцлер тихонько рассмеялся:
– Зато Остерман никого не боится… Розенберг, – велел он, – приготовь комнату для этого молодого человека. Постель, белье, таз, горшок. Обед давать ему от моего стола…
Эйхлер разрыдался:
– Боже мой! Как вы добры… Никто не пожелал меня приютить. Гнали, словно чумного. Только вы, барон! Только вы…
Он поймал руку вице-канцлера, стал целовать ее пылко, и Андрей Иванович погладил флейтиста по голове.
– Остерман никого не боится, – повторил. – Живи и флейтируй!
Глава десятая
Алексей Григорьевич князь Долгорукий совсем затих в своих Горенках – боялся. Сыну говорил он:
– Погоди, Ванек… Лукич, дяденька твой, пока на самом верху живет. А пока он наверху, нас жрать не станут…
Василий Лукич жил «наверху», сторожил императрицу («Драконит меня», – говорила о нем Анна). Но двор разрастался, словно гриб худой на помойке, и скоро Лукича из покоев дворцовых вышибли вместе с барахлом его. Левенвольде перед ним извинился. «Фрейлинам государыни, – сказал, – спать негде…» Почуяв близость опалы, Лукич кинулся к верховному министру – Голицыну.
– Дмитрий Михайлыч, – сказал, – время таково приспело, что субтильничать неча! Или на попятный идти, или… Сам понимаешь: пока полки еще наши, арестовать всех смутьянов – да в железа!
– Пекусь о согласье пока, – отвечал ему Голицын. – Вот и мысли мои о том… Погоди, Лукич: дай с присягою разобраться.
День присяжный – день опасный. Москву – в штыки, Кремль – в ружье, на папертях церквей – солдаты. Попробуй не присягни, заартачься – живо штыками до смерти защекочут… Первопрестольная бурлила у подножия собора Успенского, кишмя кишела в четырнадцати церквах – там читались присяжные листы, секретари совали в руки перо для подписа, губами – кисло и слюняво – осторожные дворяне целовали святое Евангелие. А на площади Красной, коленопреклоненные пред знаменами полков, присягали преображенцы и семеновцы – сила грозная, непутевая. Крутились на лошадях фельдмаршалы: князья – Долгорукий, Голицын, Трубецкой…
Над площадью, в сердце Москвы, гремели слова присяги:
…ОТЕЧЕСТВУ МОЕМУ ПОЛЗЫ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ВО ВСЕМ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ИСКАТЬ СТАРАТЦА, И ОНУЮ ПРОИЗВОДИТЬ БЕЗ ВСЯКИХ СТРАСТЕЙ И ЛИЦЕМЕРИЯ, НЕ ИЩА В ТОМ СВОЕЙ ОТНЮДЬ ПАРТИКУЛЯРНОЙ, ТОЛЬКО ОБЩЕЙ ПОЛЗЫ…
А в слободе Немецкой, в лютеранской кирхе, присягали на верность России иноземцы. Здесь же был и Генрих Фик, камералист известный. Пахло от Фика варварской редькой, которую с утра кушал он с маслом подсолнечным. И опустилась в нерешимости рука благонравного пастора.
– Господин де Бонн, – спросил пастор, – как прикажете поступить с господином Фиком? Счесть ли его нам за члена общины нашей или… отослать для присяги к русским?
– Да, именно так, – распорядился генерал де Бонн.
Тогда Генрих Фик заявил дерзко:
– Какую великую честь оказали вы мне… Буду счастлив принадлежать к великому народу – народу русскому!
– Народ в рабстве, непросвещенный, – отвечал ему пастор, – великим быть не может… Ступайте же к рабам, господин Фик.
– Но рабы создали Рим. – И Генрих Фик ушел.
Явился он в русскую церковь Покрова богородицы. В толпе присягателей разглядел его зоркий генерал Матюшкин.
– Стой! – закричал священнику. – Этого жоха погоди мирром святым мазать. Не брать присяги с него: он, видать, спьяна в православные затесался…
– Не я ли коллегии вводил на Руси? Не я ли доходы государства русского на двести тыщ по таможням умножил?
– Ты – не русский: ступай в слободу Немецкую.
– Но там меня прогнали, ибо немцем тоже не считают…
– Эй, солдаты! – велел Матюшкин. – Вывесть его из храма, чтобы мерзким видом своим он благолепия не нарушил…
* * *
А по лесным дорогам, проселкам, где свистит по ночам разбойный люд да ухает леший, скакали сержанты от Сената с присяжными листами. Артемий Петрович Волынский, трезв и сумрачен, приводил к присяге казанских жителей. Потом отозвал в сторонку воевод (свияжского и саранского) Козлова Федора да Исайку Шафирова.
– Робяты, – сказал, – времена, кажись, наступают смутные. Вы языки более не треплите. Всего бойтесь…
Поехали воеводы по службам. Но у последней заставы, где расставаться им, зашли в трактир, где вино пить стали в разлуку.
– Что деется? – говорил Козлов. – Вроде бы и не токмо Анне присягали, а еще и отечеству… Может, отечество не выдаст?
– Ныне, сказывают, – отвечал Исайка, – Семен Андреевич Салтыков, что внизу был, вверх поперся. При царице спит и ест. А он есть дяденька нашему губернатору! И мы его, этого Сеньку, в прошлое винопитие ругательски, как собаку, бранили…
– Волынский-то – вор. Коли его возьмут когда в инквизицию, он нашего брата не пожалеет. Тому же Семену Андреевичу выдаст нас с головой, чтобы самому макиавеллевски выграбстаться…
Под вечер, вином опившихся, поклали воевод по санкам и развезли по службам: Козлова – в Свияжск, а Исайку Шафирова – в Саранск, где они давно и славно воеводствовали.
* * *
Голицын выступил из тьмы, ярко горели старческие глаза его. Блеклые, запалые вглубь, в ободах темных от устали.
– Швеция, – заговорил он, – смутою нашей не побрезгует: Стокгольм уже готовит войска отборные в землях финских и свейских, дабы Питерсбурх в море срыть! Малороссия гетманство имеет, но Сечь бунтует, и Украина, столь близкая России, может отпасть от нас… – И грохнул князь кулаком по столу: – А мы доколе же препираться будем? Не пора ли согласие учинить? Не то быть отечеству рваным! Душевней надо, душевней быть в согласии…
Слушали его сейчас: канцлер Головкин, сверкал золоченым пузом князь Черкасский, злобствовал фельдмаршал князь Иван Трубецкой; да генералы еще были при этом – мурза Абдулла Григорий Юсупов, вояка рубленый, и Михаил Афанасьевич Матюшкин…
– Михайла Афанасьич, – сказал ему Голицын, – ты человек прямой, и проект твой не замыслив лукаво. Желаешь ты на общенародие опираться! На нем же и я виды строю. Чтобы суд был правый и скорый. Чтобы выбирать персон, а не назначать на места упалые… Так зачем же заборы-то меж собой городим?
Черкасский понял, что сейчас и до него доберутся: он тоже (правда, руками Татищева) проект соорудил. А уклониться надобно, ибо времена ненадежны. Черепаха поскорее налил себе вина, выпил спешно, чтобы охмелеть крепче. С пьяного-то – какой спрос?
– Пьян я, – заговорил Черкасский. – Ничего уже не помню…
Голицын шпагу из ножен выхватил. Рубанул по графинам, круша все к черту; летели осколки, звеня; забрызгало скатерти вином.
– Вы пить или говорить пришли сюда? – закричал он злобно.
Князь Юсупов грудью заслонил от шпаги миску свою.
– А мое винишко не тронь! – заявил старик. – Покеда же я тверез – скажу, что знаю… Не в том беда, что на самодержство желаешь ты, Дмитрий Михайлыч, узду надеть. А в том беда, что олигархии надобно пастись нам, ибо она еще не едино государство до добра не доводила. Речь Посполитая нам не в указ, – разумно рассуждал старый татарин. – Они там кричат о свободе более, но кажинный пан за свое корыто держится. То нам, россиянам, не пристало! У нас корыто едино на всех – Россия наша, в него сольем труды наши общие, из него же и благосостояние свое дружно лакать станем…
Голицын повернулся к Головкину:
– Канцлер! За тобой – слово…
– Охти, стар я, ослаб, – простонал Гаврила Иванович. – В переменах коронных не обыкся… На покой мне пора, а на мое место давно пристало Остермана сажать! А на Остерманово место – тебя… тебя, Алексей Михайлович! Быть тебе в вице-канцлерах!
Черкасский поднял голову: его? Вице-канцлером?
– Шутишь ли? – спросил весело, про хмель забыв.
– Таково желание государыни нашей, – отвечал Головкин…
Матюшкин (человек прямой) в угол сплюнул:
– Будет вам стулья-то двигать, – заговорил огорченно. – России не станет легше от того, кто из вас на чье место сядет. Едино нам выгодно: свалить истукана самовластного… Кнут да дыба, языки резаны да ноздри рваны – вот чего России следует устрашаться!
Мерцали узкие лезвия татарских глаз Юсупова.
– А – народ? – спросил он. – Его не избыть. Он тоже вам не дрова какие-нибудь. Он тоже голос имеет…
– Простолюдству нашему, – отвечал Голицын, – слабину дадим. Но сначала рознь надобно потушить среди нас. Не дай-то бог, ежели щука станет жрать щуку. Феофан только и ждет того. А если налетят на Русь немцы с Биреном подлым? Тогда мы, русские, на костях предков своих Руси величие воссоздавшие, в чужом холопстве запресмыкаемся!
Фельдмаршал Трубецкой только отмахнулся:
– С чего бы это? Мы от Гедимина свой корень ведем, и Анне Иоанновне знать о том должно… Неужто нас не оценит?
Голицын задохнулся, рванул жабо на груди:
– Не забывай, Иван Юрьич, что она двадцать лет в Курляндии просидела. Да ей за эти-то годы любой конюх из немцев стал дороже тебя, русского фельдмаршала! Помни, кто согрел ее ложе…
– Верно! – подхватил Матюшкин. – Ты прав, Дмитрий Михайлыч: все мы – дети отечества, все мы плоть от плоти наследники Петрова царствования. Напрасно ты нас попрекал, что мы телегу на старую дорогу заворачиваем. Нет, не за старое мы держимся, в новое войти желаем. И боимся мы старого, видит бог, как боимся его… Оттого-то, может, и дрожит общенародье: как бы вы, господа верховные, не подмяли нас под себя!
– На что мне слава да посты вышние? – душевно спросил его Голицын. – Старик я уже непритворный – помирать мне скоро, потому и спешу самого себя высказать… Идем же все вместе прямо к императрице. Фельдмаршал Иван Юрьич, оставь сердце на меня, не злобься. Следует обще до покоев ея величества!
Трубецкой, губу оттопырив, подумал и вскинулся из-за стола:
– Ах, язви вас всех… умники! Идем, татарин, с нами. Может, и правда – не понял я чего?
* * *
А когда они покинули покои Анны Иоанновны, забегали по палатам Кремля скороходы, всюду спрашивая:
– Обер-гофмаршала Левенвольде… кто видел?
Рейнгольд Левенвольде почуял опасное. Быстрым шагом (глаза – в пол) проследовал до императрицы. Анна была в слезах, и Рейнгольд, оторопев, спросил ее о причине слез.
Императрица отвечала ему – почти зловеще:
– Граф, зачем Остерман меня обманул?
Левенвольде целовал пыльный низ платья Анны:
– Быть не может того, Остерман так предан вам…
– Не вы ли внушали мне, что верховные в раздоре с прочими? Но вот, только что сейчас, были здесь… Все! Без раздора! И постановили жестко: на места упалые по избранию ставить, а мне об иноземцах даже не упоминать. И закон российской не токмо над персонами частными, но и надо мною ставят. Подумай, Рейнгольд: мне, императрице русской, отныне общим законам надлежит подчиняться…
Все постройки, возведенные Остерманом, вдруг затрещали, грозя рухнуть: Голицын заключил мир с авторами шляхетских проектов. Но под обломками погибнет и он – сам Левенвольде.
– Гвардия! – слабо утешил он Анну. – Вы же полковница!
Но рука Анны поднялась и опустилась. Уже безвольная.
– Я устала, – вздохнула она. – Единого покоя желаю. Так и передай Остерману: ничего более мне не надо. И еще скажи ему, супостату коварному, что не токмо за свою особу стерегусь, но и его башка в опасности… Кто может, тот пущай бежит из России как можно далее – в края немецкие!
– А вы? – спросил Левенвольде. – А как же вы?
– А что я? – вдруг успокоилась Анна Иоанновна. – Тридцать тыщ рублев получу в год на довольствие свое, и – ладно! На буженину, чай, хватит! Все не Митава, а… Россия!
За стеною заплакал Карлуша Бирен – вот последний козырь.
– А как же Бирен? – спросил Левенвольде вкрадчиво.
– То дело женское, – отвечала Анна с лицом пасмурным. – А ты, Рейнгольд, в бабьи дела не путайся…
* * *
В стрешневском доме еще ничего не знали. Обложенный подушками, натертый мазями, в духоте комнат катался в колясочке Остерман, благодушный и всепобеждающий. Иногда ему хотелось поболтать интимно и располагающе… Хотя бы с Корфом!
– Осторожнее, милый Корф, тут порог. Вы сейчас везете славу России… Через этот порог переступали послы великих держав. А что им надо от бедного Остермана? Как вы думаете?
– Русских солдат и русского сырья, – догадался Корф.
– Вот именно… Остерман не так уж глуп, как другие вестфальцы, которые ищут славы при дворах Гессенском или Ганноверском, при князьях Цербстских или Сальм-Сальмских… Нет, я бежал из Вестфаля прямо в Россию – страну ужасную, варварскую. А таких стран всегда боятся. И всегда в них заискивают. Теперь через этот порог посланники цесарей ползут на брюхе!
Остерман щедро раскрыл перед Корфом свою табакерку:
– Спасибо вам, что возите меня… Ах, Корф! Сколько у меня завистников! Есть такой человек на Руси, которому я еще не успел сделать ничего дурного… Артемий Волынский! Слышали о нем?
– Это он был послом России в Персии? – спросил Корф.
– Да, это он. А теперь сидит на Казани губернатором… И знаете, что этот обормот клевещет на меня?
Хлопнула дверь: на «великом» пороге выросла фигура жены.
– Марфутченок взволнована, – сразу определил Остерман.
– Да, – ответила жена. – Я не понимаю, что произошло… Матюшкин и Трубецкой, Голицын и Василий Лукич…
– Какое странное соединение имен! – заметил Остерман.
– Враги между собой, они компанией были у императрицы…
– Где Левенвольде? – заторопился Остерман, бледнея.
– Он, как всегда, дежурит во дворце…
Остерман вцепился в руку Корфа:
– Я еще не знаю, что именно произошло во дворце, но что-то произошло. Везите в кабинет меня быстрее… к столу!
Подбитые войлоком, мягко и неслышно крутились колеса.
– Двери! – велел вице-канцлер, и Корф плотно затворил их. – Простите, Корф, но вас я не стесняюсь и буду думать вслух, мне так удобней… Партия князя Черкасского (увы, кажется, партии на Руси появились!) состоит из высокопородных разгильдяев. Зато проект Матюшкина потянул за собой легион мелкого служивого, дворянства… Так! Генералитет строится за ними. Если все эти партии сошлись с мнением верховников, то это значит, что против Остермана – вся Россия… Так? – спросил он Корфа.
– Ваша правда, – почтительно отвечал курляндец.
– А что может сделать один Остерман против всей России?
– Ничего, – поклонился Корф с усмешкою недоброй.
– О, как вы ошибаетесь, бродяга… – Остерман засмеялся вдруг, повеселев. – Садитесь же к столу, пишите! Но прежде я скажу вам то, чего не успел досказать ранее… А именно – об Артемии Волынском. Знаете, что клевещет на меня этот дерзкий, дурно воспитанный человек с замашками лесного разбойника?
– Волынский таков и есть? – ужаснулся Корф.
– Да, он еще страшнее… Этот ужасный человек говорит, что я протекаю темными каналами. И боюсь яркого света… Пишите, Корф, – заторопился вдруг Остерман, – пишите на Митаву! Пусть ваши рыцари Курляндии едут на Москву… Азии самой историей суждено потесниться перед германцами, так пусть это случится на столетие раньше срока.
Корф отбросил перо:
– Нет, барон. Пишите сами. Разве вы не знаете кондиций, которые оговаривают наше пребывание в России? Боюсь, как бы Азия не потеснила нас на столетие раньше срока…
– Трусишка Корф, – сказал Остерман. – Это вы, глупые курляндцы, еще считаете себя государством. На самом же деле вы давно вписаны в пределы русские… Да, да! На правах губернии! Вот и пусть из Митавы (как из столицы губернии) срочно выезжает депутация, дабы поздравить Анну Иоанновну с восшествием на престол. Любой курляндский ландрат имеет на то право… Так чего же вы испугались, Корф?
– Кому писать? – спросил Корф.
– Мне нужен сейчас Густав Левенвольде, который намного умнее своего красивого брата – Рейнгольда, и еще… нужен Бирен, пусть ландраты прихватят его по дороге на Москву!
– Вы играете головой Бирена, – намекнул Корф.
– Играть головами – это моя давняя профессия. Но еще никто не подумал о моей голове… О боги, боги! – закатил глаза Остерман…
И поскакал гонец. Пало под ним восемнадцать лошадей, пока он домчал до Митавы. Загнал их насмерть – так спешил!
* * *
Под вечер явился изнеможенный Рейнгольд Левенвольде.
– Все пропало, – сказал он. – Императрица устала и отказывается от поединка за власть самодержавную.
– Вот и хорошо, – ответил Остерман, почти невозмутимый, а Левенвольде в изумлении вздернул брови. – Очень хорошо, – повторил Остерман, – ибо теперь я знаю точку зрения своей государыни. А теперь – подробности… я жду, Рейнгольд!
Подробности таковы были: Матюшкин дерзко заявил Анне, что пора заняться устройством государства в началах новых; общенародие, шляхетство и генералитет ей поднесут на днях проект, согласованный с кондициями, а ее дело – подписать его; Анне же, как императрице, дается два голоса в Совете – и этим (только этим) она и будет выделяться среди своих подданных…
– Что ответила на это Анна? – зло крикнул Остерман.
– Она… заплакала!
И вдруг случилось небывалое: из вороха подушек, размотав на себе груду косынок, Остерман вскочил на… ноги! Паралича как не бывало. Жив, здоров, бодрехонек. И закричал – исступленно:
– О, какими кровавыми слезами оплачут они свое минутное торжество! О, как я буду счастлив, когда услышу скрипы виселиц!.. Куда ты бежишь, негодяй!
Левенвольде – уже в дверях:
– Я не могу… Увольте меня. Нам, немцам, можно разъезжаться по домам. Мы лишние здесь отныне. Меня можно соблазнить блеском бриллиантов, но только не блеском топора в руках палача… Прощайте. Я отъезжаю на Митаву!
– Ах, так?.. – взъярился Остерман. – Но твой брат Густав скачет на Москву! То-то будет потеха, когда два братца нежно встретятся посреди России… Вернись и сядь. Еще не все потеряно.
Левенвольде сел, и Остерман бесцеремонно распахнул на нем сверкающий кафтан: с шеи обер-гофмаршала свисали на шнурках кожаные кисеты (а в них – бриллианты).
– Так мало? – удивился Остерман. – За все годы, что провели в спальнях, могли бы урожай собрать и больший…
Вице-канцлер присел к столу и начал писать – быстро писал, решительно, почти без помарок, а при этом наказывал:
– Это письмо завтра же вручишь императрице. В нем – все наши планы. Мы восстановим самодержавие России… А сейчас мне нужен раскол среди русских. Вот и пусть царица приблизит к себе князя Черкасского, чтобы он лично ей в руки передал свои прожекты. Пусть он сделает это публично! Остальное решат события, в которых мы бессильны, ибо они – стихия… – Остерман закончил писать и повернулся к Левенвольде. – А теперь иди прямо к фельмаршалу Долгорукому и… предай бедного Остермана!
– Я никогда вас не предам, – вспыхнул Левенвольде.
– И знаешь – почему? – спросил Остерман. – Ты просто побоишься… Ибо не я, а ты (ты!) послал гонца на Митаву, дабы предупредить депутатов с кондициями… Теперь исполни следующее: в месте глухом и ненаезженном надо снять на Москве отдельный дом.
– Для кого, барон? – спросил Левенвольде.
– Конечно, для… Бирена! А гвардии с ее кутилами, я понимаю, немало нужно денег, чтобы шуметь исправно. Я их выручу.
Андрей Иванович раскрыл стол, и Левенвольде ахнул: все ящики бюро были битком набиты тяжелым золотом в червонцах.
– Сколько брать? – спросил Левенвольде, завороженный.
– Сколько сможешь унести… Так не смущайся же, бездельник и счастливчик Левенвольде: скорей суй сюда, в эту роскошь, свою жадную лапу!
* * *
Анна Иоанновна с неудовольствием перечла письмо вице-канцлера. Конъюнктуры, опять конъюнктуры Остермана… А ей-то доколе мучиться? Присяга уже принесена. Не только престолу, который стал теперь простым седалищем, но и – отечеству, что лежит за окнами Кремля, словно навсегда погибнув в метельных заметях…
В эти самые дни придворные услышали от нее слова:
– Хочу обратно – на Митаву!
Глава одиннадцатая
Через щель в заборе, что косо ограждал мужицкие владенья, Эрнст Иоганн Бирен наблюдал таинственную жизнь России… Какая глушь и дичь его в пути застигла! Деревня та звалась – Опостыши, в ней он и застрял безнадежно. Пылили вьюги за околицей, а под вечер из-за лесов ползла такая тьма, такая тоска, страшно! И в убогом поставце дымила, треща, лучина. И пели за стеной бабы – русские… Влажные глаза жены-горбуньи глядели на него.
– Эрнст, – молила она, – пока не поздно, уедем обратно. Я умру здесь, в безмолвии лесов, мне страшно за всех нас…
Быстрее всех освоился Лейба Либман: ходил по деревне, уже начал болтать по-русски, выменивал у мужиков яйца, приносил с прогулок молоко и творог.
– Какое здесь все жирное. Такого масла нет и на Митаве!
Масло было желтое, как янтарь, яйца – с кулак, а молоко – в коричневых топленых пенках. Но кусок застревал в горле.
– Уедем, – скулила Бенигна, – уедем, Эрнст…
– Молчи, ведьма! – орал на нее Бирен. – В Москву нельзя, а на Митаве – разве жизнь? Провидение заслало нас в эту страну, чтобы мы запаслись терпением… Я знаю лучше вас Россию, в ней не только глухие деревни, но и сказочные дворцы!
Он бросал хлеб и снова шел к забору. А там такая щель, что вся деревня – как на ладони. Вот мужик поросенка в мешке несет, бабы на реке порты полощут, катят под гору детишки на козлиных шкурах… Возле этой щели в заборе чего только не передумалось!
Вспомнил, как впервые появился в России. Давно это было, когда царевич Алексей Петрович женился на принцессе Шарлотте Брауншвейг-Вольфенбюттельской, вот к этой принцессе и просился в штат Бирен… Туфли почистить, воды подать и прочее. Так выгнали ведь его: мол, не знаем таких! А потом он снова бывал в России – наездами. Это уже когда познал Анну плотски. Она его и брала в Россию… О боже, страшно вспомнить! Анна по полу ползала, ручки цесаревны целовала, рубли клянчила. А ее шпыняли, кому не лень; его же, Бирена, далее передних не пускали, вместе с лакеями обедал. Так что в Митаве даже лучше было!
И вот он снова в России… На эту вот Россию смотрел Бирен через заборную щелку, и видел он там лес, а туда, в гиблые снежные сумерки, струилась накатанная санками дорога. Но… что это? В страхе Бирен вернулся в избу:
– Спрячемся… кто-то едет! Уж не солдаты ли за нами?
Лейба был куда смелее да умнее.
– Зачем бояться? – сказал, посмотрев в окошко. – Опасность надо ждать от Москвы, а эти экипажи катят на Москву…
Вывалился из возка, весь в мехах волчьих, Густав Левенвольде, схватил Бирена в охапку:
– Здравствуй, Эрнст! Как твоя Бенигна? Ну, собирайся…
– Куда? И как вы оказались здесь?
– Мы едем на Москву ландратами, чтобы новая царица подтвердила лифляндские привилегии. Так было всегда: при восшествии Екатерины, при коронации Петра Второго, так будет и сейчас. Ничего опасного! Готовы пасы и на тебя… Одевайся теплее!
В избу уже ввалились митавские гости: барон Оттомар и граф Крейц (потомки онемеченных славян Поморья – Померании).
– Шнель, шнель! – кричали они, торопя. – Едем сразу, пока не остыли лошади… Лейба, да помоги же госпоже Бирен!
Либман кинулся к сундукам, но Бирен отступил назад – почти на цыпочках, весь настороже, в готовности к прыжку и бегству.
– Я не поеду, – сказал он тихо, округлив глаза.
– Как не поедешь? – обомлел Левенвольде, а Крейц добавил:
– Не ты ли, дружище, любил повторять: Il faut se pousser аu monde?[8] Так подтверди сейчас эту поговорку делом.
– Нет, нет, нет! Бенигна, Лейба, не дайте им увезти меня!
Ландраты из Митавы обступили дрожащего Бирена:
– Послушай, ты, болван! Чего боишься? Мы же едем…
– Вам можно – вы ландраты герцогства. А я – кто? Вас кондиции не касаются, но моя голова уже лежит на плахе…
Густав Левенвольде вытянул Бирена в темные сени.
– Поедешь? – спросил.
– Нет, – сказал Бирен, и оплеуха сразила его наповал.
– Оставь меня хоть ты, Густав! – поднялся Бирен, ожесточенный. – Не толкайте меня на верную гибель. Анна сама связана по рукам и ногам кондициями московскими… Ей не до меня!
Митавские депутаты уже шагали к лошадям, скрипели экипажи, сияло солнце. Бирен нагнал их, крикнул вслед:
– Я буду на Москве… Но лишь тогда, когда Анна станет самодержавной. А без этого мне никак нельзя…
Но в ушах ландратов уже свистел ядреный ветер, и мчали кони.
Анна Иоанновна была очень рада видеть депутатов из Митавы. Теперь немецкие лица казались ей – здесь, на Москве! – особенно родными. И знала по именам лошадей конюшен барона Оттомара, и помнила клички собак из псарен графа Крейца… Но Бирена среди них не было, и Карл Густав Левенвольде намекнул исподтишка:
– Да вы и сами, ваше величество, не пожелаете видеть его тут, пока самодержавная воля не стала для России жестоким законом!
Всю ночь Анна мучилась, плакала. Но это были слезы не императрицы, лишенной монаршей власти. Это были слезы самки, разлученной со своим самцом. Страшные слезы…
* * *
Наутро она сказала себе:
– Хватит! Остерман в своем письме прав… Эй, люди, зовите ко мне князя Алексея Черкасского. Пусть Черепаха тащится скорее…
И князю она внушила, что Головкин, мол, уже дряхл, пора нового канцлера приискивать. А кому быть в мужах высоких? Тебе, Алексей Михайлович, более нет никого разумней. Черкасский на колени перед ней опустился, и видела теперь она с высоты роста своего откляченный в поклоне зад вельможи да жирный затылок его. Вот в этот затылок глядя, Анна Иоанновна и вбила слова – словно гвозди:
– Или разумной меня не считаете, что проекты свои не мне, а в Совет тащите? Чего ждешь-то, князь? Оббеги кого надобно, собери подписей поболее, да проектец тот в мои руки вручи. Я и сама до дел государственных рвусь! Умный-то человек есть ли какой у тебя на примете? Встань…
Встал князь и выложил начистоту:
– Великая государыня, к моей Варваре женишок один приблудился. Из господарей молдаванских – князь Антиошка Кантемиров, вот он и есть умный, государыня! А других умников сейчас не вспомню…
Жарко парило от прокаленных печей, и Анна Иоанновна с треском растворила веер: пых-пых – обмахивалась.
– Что это, – призадумалась, – слава такая об Антиохе идет? Кой раз уже об этом молдаванине слышу отзывы похвальные?
Князь лицом сожмурился – так, словно яблоко спек:
– Кантемир, матушка, беден. Я его кормлю и пою. Мне ведь не жалко: ешь, коли уж так… Не гнать же!
– Оно и ладно! – Щелкнул костяной веер. – Вели Антиоху, чтобы бодрствовал и думал… Озолочу его, так и скажи.
Князь Черкасский позвал потом Кантемира к себе.
– Перемены вижу, – сказал. – Перемены те – добрые… А тебе, миленькой, волею высочайшей велено думать. Думай и бодрствуй!
Всего двадцать два года было Кантемиру. Выступал он учтиво, с достоинством, шагом размеренным, тростью помахивая. Аббат Жюббе, человек проницательный, отписывал в Сорбонну, что Кантемир настоящий ученый человек. «Мудра башка! – хвалил его и Феофан. – Только сидит башка на крыльях бабочки. И бабочка та порхает!» Но бабочка эта опыляла немало цветов. Переносила пыльцу. Скрещивала. Антиох желал, чтобы церковь русская была под началом римским, папежским. Не отсюда ли и похвалы княжеской мудрости, что шли из дома Гваскони?..
Сегодня Кантемир посвящал сатиру Феофану Прокоповичу. А завтра, по внушению герцога де Лириа, переводил на русский язык сочинения иезуитов. И князю Антиоху везде хорошо: преклонить голову на цыганскую бороду Феофана или прильнуть щекой на бархатную грудь аббата. Ему все равно – лишь бы разговор был тонкий, философический… Князю Черкасскому он внушал, что, по его разумению, проектов вообще никаких не надобно:
– Все – зло! России нужна лишь монархия, осиянная светом просвещения. Петр Великий – вот государь идеальный, чту его!
Анна Иоанновна вскоре призвала поэта ко двору.
– Каково мыслишь-то? – спросила его.
– По воле самодержавной, воле просвещенной…
Анна Иоанновна присмотрелась к субтильности поэта:
– Хорошенький-то ты какой у меня, князь! Щечки-то у тебя, щечки! Ах ты, красавчик мой ненаглядный, жалую тебя в камер-юнкеры, быть тебе при особе моей повседневно… Рад ли?
Василий Лукич Долгорукий первым заметил, как на придворном небосклоне взошла новая звезда.
– Дмитрий Михайлыч, – подсказал он Голицыну, – поберечься надо: Кантемир в фавор попер… Эх-ма! А умник-то сей опасен станется, коли язык сатирический распустит.
Голицын скосоротился, брызнул слюной по-стариковски, хрустнули костяшки сухоньких пальцев.
– Что вы его в умники-то произвели? – закричал. – Мелюзга он, ваш Антиошка, как есть мелюзга!.. От Феофана да аббатов папежских – много ль ума наберешься? Русь за эти пять лет прошла путь ужасный, она стоном стонет, бедная… А что он знает-то, чужак инородный? В книжках про то не пишут! И не умиляться надобно самодержством, а ломать его, чтобы трещало все кругом… Сатиры, Лукич, сколько веков уже пишутся, а мир от них лучше не стал. Не глаголы пустозвонкие, а – дело! Дело надобно…
Императрица, казалось, ни во что не мешалась, враги умолкли, только Феофан еще «трубил» по церквам, да вовсю завивался колечками дым над стрешневским домом: это Остерман топил печки, грел кости, сушил свою подагру. Черкасский уже извлек проект Татищева, собирал вокруг мнения самодержавного подписи. Но Голицын как притянул к себе Матюшкина, так и не отпускал от себя более… Вырастал проект примирительный, теперь заставляли под ним подписываться. «Россия – мать еси наша, – убеждал Голицын противников своих, – а родную мать сыновья меж собой не делят!» И подписи собирали жестоко: чуть ли не силком тащили каждого. Даже кавалергардов, уж на что лихи были, и тех заставили подписать. Канцлера Головкина брала оторопь: два его сына подмахнули проект у Черкасского, а ему… что делать? Подписал оба проекта сразу: и вашим и нашим! Так и другие поступали: сбегает к Черкасскому – за самодержавие подпишется, потом бежит к Голицыну – пишется в противниках самодержавия. И начались свары – хоть святых выноси. В семьях, доныне дружных, пошли раздоры – сын противу отца, отец против сына, дрались братья кровные. И всяк вельможа старался челом Анне бить, чтобы вымолить себе прощение на будущее, коли самодержавие вновь воспрянет…
Исподтишка следили за этой сварой иноземцы.
– Мы наблюдаем сейчас, – заметил барон Корф, – удивительный пример азиатского рабства. Народ, в котором дворянство ведет себя столь низко: отец-дворянин пишет донос на дворянина-сына, – таким народом очень легко управлять…
– Нам, – закрепил его речь Левенвольде, – немцам!
Корф повернулся к Кейзерлингу:
– А ты, патриот маленькой Курляндии, что скажешь?
Кейзерлинг сунул руки в муфту, погрел их в пышных мехах.
– Мне смешно! – отвечал. – До чего же были тупы наши пращуры, идя на Русь с мечом и крестом. Позор поражения немцев при Грюнвальде от поляков и на льду озера Чудского от русских – этот позор еще сожигает наши сердца. Но вот же… К чему мечи? Кажется, маленькая Курляндия скоро слопает необъятную Россию. Так разевайте же рты пошире – вы, потомки крестоносцев и меченосцев!
* * *
Василий Лукич облинял, обмяк, постарел. Чуял беду.
– Смута растет, – говорил в Совете, – и не нам унять баламутов. Фельдмаршалы, слово за вами: будем вас слушать!
Фельдмаршал Михайла Михайлович Голицын (старший) сказал:
– Полки армейски, кои из мужиков да мелкотравчатых составлены, те меня «виватом» приветствуют. А гвардия из янычар вельможных злобится, и кричат там за Анну, а меня шпыняют. Особливо семеновцы изгиляются. Обидно мне, старику: забыли семеновцы, как я под Нарвой, когда все бежали постыдно, честь и знамена ихние от поругания воинского спас!
Потом фельдмаршал Василий Владимирович Долгорукий бельмо слезливое вытер кулаком, добавил слова от себя:
– И я чую круговую поруку в полках, адъютанты прихлебствуют пред Трубецкими да Салтыковыми, яко родичами царицы. А те, через других, с Остерманом сносятся тайно…
Правитель дел Степанов подал голос:
– Остерман – вице-канцлер, разве он охульничать станет?
– Молчи, – повернулся к нему фельдмаршал. – Не то зашибем тебя здесь, как мышонка… И мнение мое, – закончил Василий Владимирович, – таково будет: гвардию надобно из Москвы выкинуть, а на полки армейские – простонародные! – опереться.
– Сомнительно то, – отвечал Дмитрий Михайлович. – Искры неча в костре раздувать. Да и пока гвардия, фельдмаршалы, под рукой вашей – бояться стоит ли?.. Не конфиденты Остермановы (верно сие) грызут днище корабля нашего. И в глупости первозданной того не ведают, словно крысы, что корабль вместе с ними потопнет…
Канцлер Головкин молчал упрямо. И тогда Василий Лукич карты свои до конца раскрыл: была не была!
– А бояться надобно, – заявил честно. – Императрица еще не короновалась, а, глядите, сколь много вокруг престола грязи налипло. И всяк наезжий пыжится… Тому не бывать!
– Верно, – кивнул ему Голицын.
– Под замок всех! – сказал фельдмаршал Долгорукий.
Головкин вздрогнул. Закрестился и бывший дядька царя, князь Алексей Григорьевич, а Лукич тихо перечислил, с кого начинать:
– Сеньку Салтыкова – первого в железа, обоих братцев Левенвольде, Степана Лопухина, что от Феофана кал по Москве носит.
– И женку Лопухина – Наташку скверную, – сказал Михайла Михайлович Голицын. – Передатчица она погани разной!
– Черкасского – Черепаху, – добавил Дмитрий Голицын, – чтобы не мучился более, в какую сторону ему ползать.
– Барятинского Ваньку… мерзавца! У него в дому сговор!
– Кого еще? – огляделся Лукич.
И вдруг прорвало нарыв злобы противу духовных у Голицына:
– Феофана трубящего – в Соловки, чтобы не смердил тут…
Фельдмаршалы разом встали.
– А где Бирен? – спросили в голос. – Чуется нам – рядом он!
– Дело женское, – увильнул канцлер. – Нам ли судить?
– Нам! Коли нужда явится, так из постели царской его вытянем и поперек кобылы без порток растянем…
Великий канцлер империи встал, за стол цепляясь. Потом – по стеночке, по стеночке – да к дверям. Затыкался в них, словно кутенок слепой. А в спину ему – Голицыны-братья (верховный министр да фельдмаршал):
– Гаврила Иваныч, – крикнули, – ты куды это?
– Неможется… Стар я, ослабел в переменах коронных.
И взорвало совет Верховный от речей матерных, нехороших:
– Ах, ядри-т твою мать… неможется? Крови боишься? Ты думаешь, кила рязанская, тебя не видать? Насквозь, будто стеклышко! Кондиций ты не держишься… Плетешь, канцлер? Противу кого плетешь-то? Вспомни, как в лаптях на Москве явился, пустых щец был рад похлебать. А теперь зажрался, так уже и неможется? Не знаешь, кому бы выгоднее под хвостом полизать?
От ругани такой обидной очнулся Головкин уже в санях, и стояли сани его посередь двора. Не мог вспомнить – чей двор этот?
– Куда завез меня, нехристь? – спросил возницу.
– Дом стрешневский… сами велели!
– Когда велел?
– Вышли из Кремля и упали. Вези, велели, на двор к Остерману!
Великий канцлер загреб с полсти пушистого снегу, прижал его к лицу. Остыл взмокший лоб. Тут подбежал к нему Иогашка Эйхлер и шустро отстегнул полсть. А Остерманов секретарь Розенберг помог из саней вылезти, чинно сопроводил до покоев…
Андрей Иванович встретил графа Головкина бодрячком:
– Ах, великий канцлер! Ах, душа моя… осчастливили!
Гаврила Иванович повел носом, спросил страстно:
– Ромцу бы… вели принесть! – И, выпив рому, вошел в настроение исповедное: – Затем я здесь, вице-канцлер, чтобы поберечь чистоту престола российского. Хотят его кровью боярской покрыть, да того не желательно…
– Когда? – спросил Остерман спокойно.
– На двадцать пятый день сего месяца фиувралия злодейство назначено. Мало им одного зятя моего, Пашки Ягужинского, еще крови жаждут… Коли ведаешь, где Бирен захоронился, – спрячь еще далее: до головы его охотников тут немало…
По уходе канцлера Остерман тряхнул колоколец:
– Левенвольде ко мне! Да не Рейнгольда, а – Густава…
И когда тот явился, сказал ему так:
– Канцлер сейчас всех предал… Накажите Анне, чтобы Семена Салтыкова от себя не отпускала. Караул во дворце доверить немцам… Майор фон Нейбуш и капитан фон Альбрехт – им доверье трона! Верховники готовят аресты на двадцать пятое. И когда придут за вами, отдайте им свою шпагу…
– Никогда! – вспыхнул Левенвольде, хватаясь за эфес.
– Глупец! – обрезал его Остерман. – Вы тут же получите ее обратно из рук императрицы, но уже обсыпанную бриллиантами…
Левенвольде ударом ладони забил клинок в тесные ножны:
– Как же повернется история именно двадцать пятого?
– Двадцать пятого, – ответил ему Остерман, – Анна Иоанновна станет самодержавной императрицей.
– А что вы, барон, для этого сделаете?
– Ничего, – усмехнулся Остерман. – Все уже сделано, и добавлять что-либо – только портить…
Глава двенадцатая
Решено было «в железа» посадить и генерала князя Барятинского, женатого (как и граф Ягужинский) на дочери канцлера Головкина… Барятинский дураком не был и Юстия Липсия читал. Сорок лет генералу было, быка за рога брал и валил.
Дымно, пьяно, неистово куролесит гвардия в его доме.
– Виват Анна – самодержавная, полновластная!..
Бьются кубки – вдрызг, пропаще. А персидские ковры, из Астрахани хозяином вывезенные, затоптаны, заплеваны…
Эх, жги-жги, прожигай, дожигай да подпаливай.
– Еще вина! – кричат гости. – Мы гуляем…
Много было на Руси пьянок. Но эта – сегодняшняя, в доме князей Барятинских на Моховой улице, – особо памятна. Граф Федька Матвеев глядит кисло, и речи его кислые, похмельные:
– Наши отцы и деды царям служили, а холопами себя не считали. Служить царям – честь, а не холопство. И предки наши были не рабы, а друзья самодержцев, помощники им в делах престольных… Разве не так, дворяне?
– Не в бровь, а в глаз попал, Федька! – кричат пьяницы.
– Чего желают верховные? Чтобы мы им служили? Или народу?.. Вот тогда мы и впрямь станем холопами и обретем бесчестье себе. Но тому не бывать… Наклоняй бочку, подходи, дворяне!
Расчерпали бочку, а пустую – вниз, по лестницам.
– Еще вина! – кричит Барятинский…
Из сеней – топот, гогот, свист, бряцанье шпор. Ввалились граф Алешка Апраксин, братья Соковнины, Бецкой, Гурьев, Херасков да Ванька Булгаков – секретарь полка Преображенского.
– О, – закричали, – и здесь пьют? Вся Москва пьет…
– Откуда вы? – спросили их.
– Мы с Никольской – от князя Черкасского, там тоже дым коромыслом… Что делать-то будем, гвардия?
– Бочку видишь? Так чего, дурак, спрашиваешь? Пей вот…
В самый угар пьянки пришел степенный Лопухин Степан, муж красавицы Натальи. Лопухин был трезв и набожен. Хотел было к лику святых приложиться, да больно высоко иконы висели – не достать их губами. Тогда шпагу вынул, кончик лезвия поцеловал и шпагой той передал поцелуй молитвенный Николе-угоднику.
– Господи, помози… А я, братия, от Феофана! Велел он сказать вам, всех нас двадцать пятого верховные министры станут пороть на Красной площади.
– Пороть? С чего бы это? – затужил Ванька Булгаков.
– А с чего Пашку Ягужинского в железах держут?
– Он императрице услужить хотел…
– Дожили, брат! Уже и царям услужить нельзя!
– Хозяин, еще вина нам…
Степан Лопухин тишины выждал:
– Эй, люди! Старая царица Евдокия плачется: почто смуты пошли? Ей, старухе, того не понять. Духовные особы рангов высоких будут молиться за нас. С нами бог!
А в уголку, подалее от пьющих, пристроились тишком сановитые да пожилые. Тут же и Татищев.
Ванька Барятинский иногда подбегал к сановным с кружкой, горячо и влажно обдавал гостей хмелем винным.
– Чего ждем-то? – шептал. – Нешто кондиции те каменны? Порвем, что шелк… Анна-матка возрадуется! Да возблагодарит нас! Надобно на Никольскую ехать, пущай и там к делу готовятся…
– Кому ехать-то? – И все воззрились на Татищева.
Василий Никитич ломаться не стал:
– Еду! Лошадей дай твоих, князь, чтобы проворнее мне обернуться…
Поехал. В доме Алексея Черкасского народ был не так хмелен. Люди рассудительные, штиля старого. Пьют более для прилику, чтобы не сидеть без дела. Здесь и князь Антиох Кантемир похаживает: парик у него до самого копчика, кружева шуршат, ножку в чулке оранжевом отставит, тростью взмахнет – не хочешь, да на него посмотришь. «Ай да князь! – говорили. – Хорош жених…»
Вот этих-то двух умников, Татищева да Кантемира, и посадили челобитную Анне писать. Мол, пора самому шляхетству, верховных господ не слушаясь, все проекты рассмотреть по справедливости.
Кантемир извлек бумагу из-под кафтана:
– И писать не надобно! Еще загодя сочинил я прошение о восприятии Анной-матушкой самодержавия, каким владели ея предки по праву первородному… Подпишем – и дело с концом!
Татищев с бумагой, призывающей Анну обрести самодержавие, вернулся на Моховую к Барятинским.
– Пишитесь каждый под ней, – сказал. – Дело решающее!
Все подписались. Народу немало – за сотню.
Глянули на часы:
– Батюшки, первый час в ночь перешел… Загулялись!
– Не время часы считать, едем разом на Никольскую…
Шумно падали в санки. Ехали по снежным переулкам, крича:
– Виват Анна… матка наша! Самодержавная!
В доме князя Черкасского увидели бумагу, всю в рукоприкладствах, и пошли гости стрелять перьями.
– Самодержавству быть, – сиял Кантемир, счастливый. – А значит, и просвещению быть тоже…
– Просветим, – ответили ему, – туды-т их всех и всяко!
Черкасский нашептывал заговорщически:
– Гвардию не забудьте! Пущай и она челобитье апробует…
Два человека, столь разных, до утра разъезжали по гвардейским полкам, собирая рукоприкладства. Матвеев вламывался в спящие казармы, тащил семеновцев с полатей. Булгаков нес за графом чернила и водку:
– Эй, Татаринов, подпиши… Или спишь еще? Очухайся, болван. Челобитье тут о принятии самодержавства. Давай пишись скорее…
Кантемир же уговаривал гвардейцев возвышенно, пиитически:
– Вы, драбанты, покрывшие знамена славой непреходящей, неужели вы укрепляли престол для того токмо, чтобы теперь бросить наследие Петра Великого к ногам честолюбивых олигархов?..
Матвеев с Кантемиром спать эту ночь так и не ложились. Даже в Успенский собор завернули, где у могилы Петра Второго стояли кавалергарды в латах. Дали и им подписать челобитную. Было сообща решено: в среду собираться всем во дворец поодиночке.
– А потом – всем скопом! Ринемся и сомнем!
* * *
Угомонилась Москва, только ночные стражи топчутся возле костров, лениво кидают в огонь дровишки краденые, из-под рукавиц поглядывают во тьму.
Кремль… Тихо сейчас в палатах. Посреди постели, душной и неопрятной, сидит Дикая герцогиня Мекленбургская, и жестокие мысли о будущем занимают сейчас ее скудное воображение. Вот она встала. Засупонилась в тугой корсет. Трещал полосатый канифас под сильной рукой герцогини. Локти отставив, туфлями шлепая, прошла Екатерина Иоанновна через комнаты сестрицы своей Прасковьи. В потемках налетела на латы кирасирские, в тишине дворца задребезжало «самоварное» золото доспехов.
– У, дьявол! – заругалась. – Иван Ильич, чего амуницию свою раскидал? Чуть ноги не поломала…
Под образом теплилась лампадка. Две головы на подушке рядом: генерала Дмитриева-Мамонова и сестрицы.
– Чего шумишь, царевна? – строго спросил генерал свояченицу.
– Караулы-то сменили? Не знаешь ли?
– То Салтыкова забота… он наверху!
Екатерина Иоанновна пошла прочь. Ударом ладоней (резкая!) распахнула двери детской опочивальни. А там, затиснутая в ворох засаленных горностаев и соболей, спала девочка – ее дочь. Елизавета Екатерина Христина, по отцу, принцесса Мекленбург-Шверинская, которую вывезла мать в Россию, когда от тумаков мужа из Европы на родину бежала, спасаясь…
Дикая выдернула девочку из постели, и та спросонок – в рев. Екатерина Иоанновна встряхнула ее над собой.
– Не реви, а то размотаю и расшибу об стенку! – сказала по-русски герцогиня-мать принцессе-дочери.
Девочка затихла. Держа ее на руках, прошла Екатерина Иоанновна в покои императрицы. Анна Иоанновна еще не спала, расчесывала длинные и густые волосы.
– А чего не почиваешь, сестрица? – спросила Анна.
Екатерина Иоанновна посадила дочь на колени императрицы.
– Не спим вот… обе! – соврала. – Все о тебе тревожимся. Как быть-то далее? Не знаешь ли – сменили караулы или нет?
– Семен Андреевич спроворит. Чай, мы с ним родня не дальняя. А на кого еще ныне мне положиться? Все продадут меня, а капитан Людвиг Альбрехт – никогда. Говорить-то что будешь, сестрица?
– Буду, – решилась Дикая герцогиня. – Ты на сородичей, Аннушка, не надейся. Эвон у Парашки в постели бугай лежит. Я ему: «Иван Ильич да Иван Ильич», а он рожу воротит… Ведомо ли тебе, что генерал сей тоже кондиции тебе внасильничал? Твои права монаршии, только волю ему дай, он топором обтесать готов!
Анна Иоанновна отвечала сестре – огорченно:
– Тут, на Москве, все плевелы противу самодержавия сеют.
Екатерина Иоанновна на свою дочь показала:
– Ну, решай, сестра: что с этой девкой делать станем? Мала еще, а решать за нее уже сейчас надобно… Все мы не вечны, сестрица! Вот и думай: кому после тебя на престоле русском сидеть? Кто после тебя Русью править будет?..
Анна Иоанновна движением плеч забросила волосы за спину:
– Обсуши язык свой, сестрица! Я сама-то ишо престола под собой не учуяла. А ты мне уже наследников подсовываешь…
Сестры (большие, толстые, черноглазые, конопатые от оспы) сидели в потемках палат, словно сычи. А с ними девочка – Елизавета Екатерина Христина, принцесса Мекленбург-Шверинская…
– С таким-то именем, как у нее, – продолжала Анна Иоанновна, – как посадить ее на престол российский?
– Не мудри, сестра! – отвечала ей Дикая. – Имя лютеранское можно отринуть. А назвать ее – Анной в честь тебя, сестричка. Коли отца ее, изверга моего, Карлом Леопольдом звали, так мы и выберем, что любо: Карловна или Леопольдовна… Пусть она будет у нас Анной Леопольдовной! Петровский же корень на Руси вконец извести надобно, дабы и духу его не стало. Лизку, чтобы с солдатами не блудила, в монастырь запечатать. А кильский чертушка кажинный день, говорят, розгами объедается: голштинцы из него идиота сделают. А быть над Русью нам – от царя Иоанна себя ведущим… То-то оно и хорошо всем нам будет, сестрица!
Императрица руками, словно мельница крыльями, замахала:
– Да погоди, погоди… Не мучь хоть ты меня! Сама не знаю, как на престол сесть. Изнылася…
– Порви, – внушала сестра. – Кондиции возьми как-нибудь да тресни их пополам, да в печку-то кинь…
Громыхнуло что-то от лестниц, залязгали штыки. Сестры стали креститься, радуясь, что Салтыков сменяет караулы во дворце…
В эту ночь Екатерина Иоанновна спать уже не ложилась. Наполнила пузырек чернилами, опустила его в кисет, и тот кисет, вроде табачницы, сбоку платья привесила. Сунула потом за лиф платья горстку перьев, уже заточенных, и грузно плюхнулась в кресла.
Глядела в окно. Там снежило. И полыхали костры.
* * *
Сержант Алексей Шубин разбросал перед собой кости:
– Метнем еще? Али прискучило, Ваня?
Балакирев зевал – широко и протяжно. Темнели во рту впадины: в зубах убыток имел немалый. За шутовство прежнее повыбивали ему передние зубы вельможи. А коренной клык сам его величество Петр Первый высочайше соизволили клещами изъять. Просто так – для интересу (ради науки).
– Ну, мечи, Алешка, – сказал Балакирев. – Один черт! Коли псу делать нечего, так он под хвостом у себя нализывает…
– Стой! – И Шубин ухо навострил. – Кажись, идут сюда.
Дверь выбили. На пороге стоял капитан фон Альбрехт.
– Прочь! – гаркнул.
Взззз… – пропели две шпаги, выхваченные из ножен.
Но за плечом фон Альбрехта мотался длинный парик Салтыкова:
– По приказу ея императорского величества, караул ваш имеет быть сменен… Сложи кости, и – прочь!
Балакирев шпагу – бряк, Шубин – бряк. И – вышли…
В метельных полосах кружился хоровод войск. Шли роты. Сверкали латы кавалергардии, заиндевелые с мороза. Костры едва пробивали мрак, и было жутко в кремлевских дворах.
Анна Иоанновна глазами-жуками пересчитывала солдат. Сбилась со счету и возрадовалась. Капитан Людвиг Альбрехт салют ей учинил палашом. Замер. С мороза оттаяли прикладные усы капитана и упали на пол, – лицо сразу сделалось молодым.
– Вокруг тронной залы людей ставь самых верных мне, – велела ему Анна. – Что ни дверь, то солдат. На переходах да лестницах – по офицеру! И твоя голова в ответе, коли что не так. А завтра… озолочу тебя! – И все это повторила еще по-немецки, чтобы фон Альбрехта проняло сознание долга насквозь, до костей…
И ушла к себе, кутаясь в шубейку. Волочился за нею длинный трен платья. Стреляли из углов дровами неугасимые печи. Среди караула похаживал Семен Андреевич Салтыков, порыкивая:
– Конфузу не бойся! Багинеты примкни! Слушай…
С длинными кочергами носились по теремам, словно дьяволы, царские истопники. Им-то – что? Лишь бы печи не гасли, да царица не мерзла.
А по камням древним, кремлевским – ботфорты цок-цок, цок-цок. Замер солдат. Прямо на него шагал капитан фон Альбрехт. Оглядел издали – каков служивый? Как ему стоится? – И трость капитана из черного эбена ударила солдата по коленям.
– Фронт! Артикул… Фу-фу, швинья…
И снова – цок-цок, цок-цок – ушел во тьму по камням кремлевским. И тут стало понемногу светать над Москвой-рекою…
Наплывал из Сибири новый день на Россию: быть или не быть?
Глава тринадцатая
В сей день Августа наша свергла долг ложный,
Растерзавши на себе хирограф подложный.
Бойся самодержавной, прелестниче Анны…
Феофан ПрокоповичУсловлено было заранее – сходиться поодиночке. Ждать князя Черкасского, а потом – лавиной, прямо к престолу, звать Анну Иоанновну на разговор прямой и открытый… Под плащами офицеров тускло блестели кирасы и панцири: в драке, ежели что случись, это первое от шпаг бережение. В пистолях – пули здоровущие, выстрели – медведя свалишь…
Верховный совет уже заседал спозаранку. Вчера министры свой последний указ подписали: арапу Абраму Ганнибалу быть майором в гарнизе Тобольской (не знали, что Ганнибал давно удрал из Сибири, ныне пригрет в Питере подле Миниха).
Прибыли первые курьеры, и у них Степанов выведал, что на Москве не все в согласии. Правитель дел растерялся:
– Господа высокие министры, дворец окружен, шляхетство, генералитет и гвардия сбираются в аудиенц-каморе. Как понимать тот сбор – не ведаю…
Дмитрий Михайлович глянул на фельдмаршалов.
– Василий Владимирыч, – сказал Долгорукому, – и ты, Миша, – сказал брату своему, – где жезлы-то ваши? Коли что, так бейте крикунов прямо по головам… А там разберемся!
И все поднялись.
– Надо ехать и нам… Явимся с честью! Пошли, Лукич…
Кремлевский дворец был уже переполнен,[9] и блеснул перед фельдмаршалами отточенный палаш капитана Альбрехта.
– Кто тебя ставил в караул, шмерц? – спросил Долгорукий.
Клинок отринулся вниз – плотно прилег к ботфорту:
– Ставлен по приказу Салтыкова!
– Ах, язви вас в душу… Где Салтыков, дышло в рот ему!
Но бестрепетно глядели из-под буклей парика глаза Салтыкова:
– Караул сменен по приказу ея императорского величества. Я исполнил лишь волю монаршую…
Фельдмаршалы разом опустили жезлы, и мутно источилось слезой крупною бельмо петровского ветерана.
– Ну, Мишка, – сказал Голицыну князь Василий Владимирович, – кажись, обшептали нас за ночь… Готовься к смерти отныне. К смерти подлой и худущей! Хорошо, что мы, старики, свое отжили!
* * *
Выбежали два арапа в чалмах и растворили двери высокие. Захрустело вокруг – то трещали роброны жесткого «трухмального» платья. Боками колыхаясь, шла императрица.
– Виват Анна! – кричала гвардия, ее завидев.
Корона на голове – крохотная, с кулачок. В пальцах – платочек черный (траурный, в знак печали по Петру II). А за нею – Дикая герцогиня, гневная и толстомясая. За ними – и статс-дамы двигались чинно: Остерманша, Авдотья Чернышева, Наташка Лопухина и прочие. Стихло все разом, будто покойник объявился, и тут Анна Иоанновна стала кланяться собранию. Но не шибко кланялась – лишь приседала, чтобы корона с головы не скатилась.
– Для блага моих подданных, – начала густейшим басом, – соизволю я ныне трактовать характеры мнений ваших, дабы лучше мне управляться с империей, богом мне врученной по древнему завету предков моих благородных.
Сказала и села. Кантемир отогнул парик над ухом Черкасского – задышал под букли, что-то страстно доказывая. Анна Иоанновна «престрашным зраком» своим подозвала Черепаху к себе.
Но тут князь Дмитрий Голицын велел верховникам:
– Идем и мы… к престолу!
Министры встали по бокам от императрицы. Теперь, с высоты царского места, они видели весь зал. Прямо на них (прямо на Анну!) двигался Черкасский, култыхаясь на толстых ногах. Вот он склонился перед Анной, коснувшись паркета буклями парика.
– Ваше величество, – заговорил от земли, – удостойте нас принятием всеподданнейшей челобитной. Фельдмаршал Трубецкой, чти!
Князь Трубецкой рот разинул и забубнил:
– Все-се-се-се… пре-пре-пре-пре…
Анна Иоанновна величественно кивнула. Догадалась и сама: всемилостивейшая она и пресветлейшая (Трубецкой не мог читать – заикался). Татищев перенял от него челобитную.
«…изволили, – читал он внятно, – представленные от Верховного совета пункты подписать, за которые всенижайше-рабски благодарствуем… Однако же, всемилостивейшая государыня, в некоторых обстоятельствах тех пунктов находятся сумнительства такие, что большая часть народа состоит в страхе предбудущего беспокойства…»
Кто-то из толпы, не выдержав, кинулся к дверям. Но двери тут же громко бухнули с разлету, уже запертые, и блеснули штыки:
– Назад! Ружья заряжены, а выпущать не велено!
Верховники переглянулись: ловушка. Татищев читал – все громче и громче. И гнулась спина его – все ниже и ниже. И поднималась Анна – все выше и выше… Но что это? Опять обман? Она ожидала призыва к полному самодержавию, а вместо этого… затеи какие-то! Татищев кончил чтение и добавил от себя:
– Порадуй же нас, великая государыня, согласием своим.
Опять проекты! Анна чуть не зарыдала в отчаянии.
И вздохнули за ее спиной верховные: пока не страшно.
– Обсудим, – успокоенно сказал Голицын Татищеву. – И кондиции митавские совокупим с проектами московскими… Так и будет!
Растопыренными пальцами Анна закрыла лицо.
И вдруг – из толпы кавалергардов – рвануло воплями:
– Животы верховным затейщикам вспороть!
– Кости переломаем!
– Да здравствует самодержавие!
Были – наперекор – и другие голоса, предерзостные:
– Самодержавью не бывать… Хватит! Попили крови…
– Воли нам, воли… Доколе мучиться?
Фельдмаршалы подняли жезлы, тускло сверкнувшие.
– Тихо! – И с улыбкой вышел вперед Василий Лукич. – С соизволения государыни, мы ныне же, не умытничая, все обсудим…
Но гвардейцы падали ниц перед Анной, мундиры на себе разрывая:
– Хотим по-прежнему… Чтобы как раньше было!
– Тиранствуй над нами, матушка! Казни, мучай…
«Вот подлое рабство где…» – И князь Голицын на Черкасского обрушился с высоты места царского:
– Твои ковы холопьи?..
– В окно их! – ревели залы. – На плаху класть…
И тогда Черкасский взбодрился.
– Не вы ли, – пригрозил он министрам, – уверили государыню, что кондиции ваши скорпионские с общего ведома составлены? Но вы без нашего согласья всучили их на Митаве, воровски и тихо… Никитич, чего рот открыл? Ударь челобитной!..
Татищев тянул челобитную к Анне, а верховники рвали ее к себе. Тогда императрица – хвать бумагу, и все притихло.
Драки у подножия престола не получилось.
– Ваше величество, – надвинулся на Анну «дракон» Василий Лукич, – проследуем в место тихое, дабы все решить сразу…
Анна заколебалась: в кабинетах-то ее обдурят как миленькую. Дадут ей там хлебнуть с шила патоки. А не пойти – как? И вдруг раздался ужасный вой – родной, сестрицын, измайловский:
– Нет! Не время рассуждать ныне… Кончать надо!
Глаза выкатив, Екатерина Мекленбургская забежала перед Анной.
Руку за лиф сунула – вот и перья.
Платье на себе без стыда задрала – вот и чернила.
Зубами выхватила затычку из пузырька, перо обмакнула:
– Пиши, сестрица! Чего ждешь? Пиши немедля… Меня слушай!
Дмитрий Михайлович Голицын хотел отпугнуть ее.
– Без нашего ведома, – сказал, – того не будет…
Но рухнула Мекленбургская перед бывшей Курляндской – две герцогини, сестра перед сестрой – на колени.
– Я в ответе! – орала Дикая. – Пиши-и… Я первая подохну на штыках, пусть… А ты – пиши-и-и… Не бойся!
Брызнув чернилами, перо царапнуло по челобитью. «Учинить по сему», – написала Анна и сразу будто выросла:
– Вовлекли меня в дела бумажные, так расхлебывайте… Никто живым отсюда не выйдет, пока к согласию конечному не придем! Семен Андреевич, – велела Салтыкову, – ты распорядись. Чую, что здесь небезопасна я! Где капитан фон Альбрехт? Охраняйте мою особу строже от покушений. – И с улыбкой царица повернулась к верховным министрам: – Прошу откушать со мною. Время восприять от стола по-божески… Уж не побрезгуйте!
Приглашение к монаршему столу – всегда милость. Но, попав за царский стол, не встанешь. Пока тебя не отпустят – сиди, гость милый. Это был арест верховников, наложенный на них императорской милостью.
Двери приперты. Штыки, пули, латы…
А за спиной Анны – звероподобный Людвиг фон Альбрехт.
* * *
Офицеры шпаг своих в ножны уже не вкладывали.
– Не бывать тому, – волновались, – чтобы Анне законы предписывали. Хотим ее самодержавной, по примеру предков…
И квохтали по углам статс-дамы, ревела Дикая:
– Довольно словоерничать! Пора кончать…
Кого-то уже били на лестницах – тяжко, кроваво, до смерти.
– Долой верховных, а быть Сенату, как при Петре!
В шляхетстве наскоро обминали последние споры:
– Как возблагодарить государыню за все ее милости к нам?
– Вернуть ей то, что похищено верховниками!
Мурза Григорий Юсупов ослабел:
– Самодержавие? Опять куртизаны? Мне уже тяжко унижаться… Я стар! И не затем привел сюда войска…
Похаживал генерал князь Ванька Барятинский, порыгивал:
– Благодарить надо, это верно… Адрес писать бы нам!
Князь Черкасский тянул за собой Кантемира.
– Во, во! – взывал. – У князя Антиоха о восприятии самодержавия челобитная еще загодя писана. А более ничего и не надобно!
Матюшкин руками махал:
– Так зачем пришли сюда? Или кондиции согласовать с проектами? Или опять истукана монаршего себе на спину взваливать?
Его грохнули об стенку:
– Молчи, пока цел. В окно пустим – ногами кверху, а башкой вниз!
И мотало от толпы к толпе графа Матвеева:
– Рви все проекты! Ничего не нужно – только самовластье!
– Доколе болтать-то? – кричала Дикая. – Решайтесь же…
– Потерпи, матушка. Сейчас… пусть только выйдут! Головы ссечем палашами – и делу конец!
Кантемир тряхнул головой, рассыпая по плечам завитые букли, облачком вспылила над ним розовая парижская пудра:
– К чему лютость? В век просвещенный, век осьмнадцатый…
– Кончайте все сразу! – ревела Дикая герцогиня. – Хоть кровью, но – кончайте… Святость всегда кровью омыта!
Пихаясь локтями, из ревущей толпы выдрался Семен Салтыков, выбил ногой двери в обеденные палаты:
– Государыня! Уже порешили. Изволь выйти.
Поднялась из-за стола Анна – встали и верховники.
– Вот и финита, – сказал Голицын, салфетку скомкав.
Анна Иоанновна вышла в аудиенц-камору, ее оглушило криком:
– Будь самодержавной, матушка… будь в радость нам!
И тогда она стала кланяться, а из-под локтя своего высматривала: где верховники? Идут за ней или уже скрылись?
– Поближе ко мне, милые, – говорила, – рядком да ладком… Ныне же, как вы и хотели, все уладим и порешим.
Блестели острые жала шпаг, воздетые перед нею:
– Скажи, государыня, одно слово, и головы злодеев, власть у тебя отнявших, к твоим ногам сейчас сложим!
Кантемир, изящно позируя, уже начал читать свое сочинение:
«…в знак нашего благодарства, просим всемилостивейше принять самодержство таково, каково ваши славные предки достохвальные имели, а присланные к вашему императорскому величеству от Верховного совета пункты уничтожить!»
– Рви, матушка! – призывали. – Раздирай их…
Анна Иоанновна величаво обернулась к министрам.
– Что делать мне? – прищурилась. – Вы слышите?
– Раздери их, сестрица, – вопила Екатерина Иоанновна.
И тогда Анна, силу почуяв, начала актерствовать:
– Ума не приложу, – сказала, по бокам себя хлопнув, – каково быть мне? Народ просит рвать кондиции те. А оне мной уже апробованы… Нешто ж я смею переступить через слово свое высокое – слово государево?
От дверей – над головами шляхетства – уже плыли к ней листы кондиций. За окнами дворца плеснуло солнечно, и Голицын вперед шагнул, подхватил бумаги. «Ради чего жил, надеялся… Прощай!»
– Вот они, ваше величество, – и сам протянул их Анне.
Стало тихо-тихо… медленно сочилось за окнами солнце.
– Василий Лукич, – спросила Анна, – стало быть, ты обманул меня тогда на Митаве? Кондиции те твое мнение, а не народное?
Кто-то навзрыд рыдал – в углу, за печками, избитый…
– Рви! – снова взвизгнула Дикая герцогиня.
Треснула бумага наискосок – и кондиций не стало.
– А буду я вашей матерью! – проорала Анна Иоанновна сипло. – Изолью на Русь и народ свои монаршии милости… – Обернулась к гвардии. – Вам, заступники мои, спасибо царское. Вы мне словно тюрьму отворили: теперича-то я свободна – что хочу, то и делаю!
«А это что? Проект Татищева? Дурак…» – И локтем Анна Иоанновна спихнула все проекты наземь. Спросила:
– Где канцлер?.. Гаврила Иваныч, оповести всех министров иноземных, что я приняла самодержство… Да графа Ягужинского из узилища тайного, яко слугу моего верного, выпустить немедля… Фельдмаршал! – повернулась она к Долгорукому. – Ты арестовал графа, теперь сам и верни ему шпагу.
Хлопнула в ладоши – высоко замер хлопок под сводами:
– Быть иллюминации на Москве, и народу за меня радоваться!
Настежь раскрылись двери. Толпа раздалась. Не в колясочке, не в подушках, а своими ногами – бодренько! – шагал Остерман.
– Великая государыня! – и упал перед престолом.
Анна не выдержала – пустила слезу.
– Великий Остерман! – отвечала с чувством.
* * *
Но толпа расступилась снова, когда пошел прочь князь Голицын.
Уже от лестницы, от дверей, уходя, он сказал слова вещие:
– Пир был готов, но званые гости оказались недостойны его. Я знаю, что стану жертвою этого пира. Так и быть: за отечество пострадаю. Но те, кто заставил меня сейчас плакать, те будут плакать долее моего…
Это был голос сердечный, от слез влажный.
Все промолчали.
И была вечером пышная иллюминация над Москвой, а барон Габихсталь, немец ученый, давал гостям пояснение с латыни:
– Сей потешный пируэт огня означает: Анна схватила скипетр самодержавия, зажгла светильник, повымела чертог свой и обрела драхму мудрости. Теперь, друзья и соседи, поздравляйте ее!
Но к полуночи наполнились небеса зловещим сиянием. Дивные огни закружились над Москвой, и стало страшно. Иллюминация никак не могла победить причудливых сполохов. Полярное сияние, столь редкое в широтах московских, развернулось над Москвою именно в этот день… И кричал Феофан Прокопович о чуде:
– Не бойся, народ. Сама благодать снисходит с небес, воззря на кротость и милосердие государыни Анны Иоанновны…
И напрасно толковал на улицах народу ученый Татищев:
– Сие не знамение свыше, а натура стран полярных – Aurora bolearis! Сияние таково из селитренных восхождений происходит, и в странах нордских его столь часто видят, что никто не боится…
Но русский народ не верил – ни Феофану, ни Татищеву. Ни попам, ни ученым.
Сердце народное – Москва – чуяло беду горькую за всю Россию.
– Беда нам, беда! – волновались на улицах. – Быть крови великой… Выбрали дворяне царицу не нашу, а каку-то курвянскую!
* * *
Рвали кони в пустоту ночи, звонко и безмятежно стыли леса.
Самодержавие победило, и Бирен мчался на Москву.
Рядом съежилась горбунья-жена, да сверкали из глубин возка глаза митавского ростовщика Лейбы Либмана.
– Гони, гони! – торопился Бирен. – Скорей, скорей…
В звоне колоколов наплывала на них утренняя Москва.
Эпилог
А пока вельможи на Москве спорили и бумаги писали —
«В Рязани при воеводе подъячий нерехтец Крякутной фурвин зделал как мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, от него сзделал петлю. Сел в нее, и нечистая сила подняла его выше березы, и после ударила его о колокольню. Но он уцепился за веревку, чем звонят, и остался тако жив. Его выгнали из города, он ушел на Москву, и хотели его закопать живого в землю или сжечь».
Летопись третья «Императрикс»
Да здравствует днесь императрикс Анна,
На престол седша увенчана…
Восприимем с радости полные стаканы,
Восплещем громко и руками,
Заскачем весело ногами
Мы – верные гражданы!
Песнь сочинена в ГамбургеТредиаковским (1730)Глава первая
Только было собрался Иоганн Эйхлер пофлейтировать – тут и начались страхи его. Вперли дюжие мужики бюро дубовое, железом крепленное. Треснули паркеты под тяжелиною.
– На что мне стол? – удивился Эйхлер.
Но вошел следом Розенберг, а за ним кузнец волочил цепь. Покороче той, которою был Эйхлер прикован когда-то к постели лысой старухи графини. Да пошире, да пострашнее!
– Секретов не ведаю, – отбрыкивался Эйхлер. – Я человек свободный, в чине титулярном… Не губите меня!
– Счастье имеет различные пути, – учтиво отвечал ему Розенберг. – Смиритесь, и быть вам после в чине коллежском…
Холодное железо обхватило лодыжку музыканта. Протянулась цепь от Эйхлера к столу: теперь далеко не разгуляешься.
– Зачем в ковы берут? – убивался Иогашка, катаясь по полу. – Не опасен я! Что знал о Долгоруких – все уже выдал. А коли еще вспомню, так донесу обо всем, не таясь…
А кузнец знай себе ухал молотом. Плющилось ржавое железо, в кольце сжалась нога. Задвинули под кровать Эйхлеру парашку, чтобы не имел нужды человек, и Розенберг потрепал несчастного парня по плечу дружелюбно.
– Велено, – объявил, – носить вам еду от стола вице-канцлера. А вина и пива подавать, сколько желательно…
Розенберг доложил Остерману, что Эйхлер сидит на цепи.
– Вот и хорошо, – резво поднялся Остерман. – Поезжайте ныне к имперскому послу, графу Вратиславу, и скажите от моего имени, что у меня все готово… Сегодня же я буду иметь важный разговор с императрицей – о Сенате! О Кабинете!
* * *
Близился день коронации, а к нему – загодя – на колокольне Ивана Великого ставили баки с вином, красным и белым, откуда на Красную площадь трубы протянули к двум фонтанам. С такой страшной высоты напор вина будет силен – забрызжет вино ключом! Анна Иоанновна просила показать короны прежние – не понравились они ей, и князю Одоевскому, хранителю палаты Оружейной, сказала:
– Ты, князь Василь Юрьич, обстарайся… утешь меня, вдовицу горькую! Желательно мне алмазов более, блеску бы! Уж порадуй…
Всего собрали 2579 бриллиантов и 28 громадных самоцветов, – не было короны богаче, чем корона Анны Иоанновны! А на Дворе монетном Татищев начеканил впрок несколько мешков с жетонами памятными – из серебра и золота, дабы одаривать ими верноподданных. До коронации же Анна Иоанновна по такой моде ходила: шлафрок на ней был ярко-голубой или светло-зеленый, а голову она красным платком повязывала, на манер бабы крестьянской. Стирать ничего не давала: коли засалится – выбрасывала (охотники найдутся: подберут живо). В апартаментах были ковры и шкуры на полу разложены. Анна Иоанновна полежит, бывало, помечтает и снова ходит… Двери она перед собой кулаками раскрывала (так удобнее)…
Разлетелись двери во фрейлинскую.
– Ну, девки, – сказала, – молчать вам не след… пойте!
Тоненько завела княжна Черкасская (невеста Кантемира), ладком подхватили чернавки Ягужинские и прочие:
Буду приносить жалобу на тех, Кто меня лишил веселостей тех… Выдали замуж, бедну, за того — Всегда не хотела слышать про него. Было бы с него счастие с того, Ежели б плевати мне всегда на него…Анна Иоанновна похаживала, подбоченясь, табакеркой в руках поигрывая, когда сказали ей, что Остерман внизу топчется.
– Андрея Иваныча допускать до моей особы всегда!
Уже прослышано было, что Бирен ничего черного не любит. Вице-канцлер решил угодить императрице: был он сейчас в кафтане бледно-розовом, скрипела тонкая парча, переливаясь муаром, а кривые ноги Остермана облегали чулки цвета фиолетового.
– Будем говорить душевно, открыто, – начала Анна. – Ведаешь, сколь злодеев противу меня объявилось? И власть монаршую, будто овцу поганую, остричь желали… Что делать-то с ними надо! Кого сначала травить – Долгоруких или Голицыных?
Остерман такого вопроса давно ждал:
– Великая государыня, под Долгорукими яма не нами вырыта, с них и следует начинать. Но вот Голицыных покамест возвысить надобно, дабы, поднимая одно семейство, другое уронить способнее!
– Да в уме ли ты? – всплеснула Анна руками. – Дмитрий-то Голицын есть злодей мой главный. Топор по шее его плачет!
– Время топора не пришло. По коронации вам, государыня, еще милости оказать следует. И сильны Голицыны в общенародье, как люди грамотные, за то их и Петр Великий жаловал, не любя…
– А фамилия Долгоруких шатка, – поразмыслила Анна. – Кажись, спихнуть-то их нам и нетрудно станется?
– Однако, – придержал ее Остерман, – невеста государя покойного, княжна Екатерина Долгорукая, брюхата от царя ходит. Утроба пакостная носит в себе претендента на престол российской…
– Блументросту скажу! – зарычала Анна Иоанновна. – Пусть вытравит из нее семя Петрово, семя охальное… Блудница она!
– Но, – закончил Остерман тихо, – покуда Долгорукая плода не произведет, трогать ее фамилию неудобно… Выждем!
Анна Иоанновна села на постель. Тяжко обдумывала.
– Волю взяли, – заговорила, – бумаги писать. Эвон, все так и кинулись на перья, проектов всех теперь на возу не увезти… С Сенатом-то, – спросила, – как быть? Просило меня шляхетство, чтобы сенаторство в двадцать одну персону иметь… Куды их столько?
– Ваше величество, Сенат непременно надобен.
– А верховных министров – куды деть?
– В Сенат! – отвечал Остерман…
– Ой, не мудри, Андрей Иваныч! Выскажись, как на духу.
Остерман чуточку улыбнулся – с лаской:
– Сенату быть, но лучше бы… не быть! Коллегиальное правление, матушка, тем и невыгодно, что при нем всегда противные и разные мнения бывают. А для власти самодержавной необходимо лишь одно мнение – ваше. Единоличная сатрапия всего удобнее, лишь доверенные персоны должны замыслы монарха своего ведать.
– То дельно говоришь, Андрей Иваныч! А… Сенат?
– Сенат можно создать, как и просило шляхетство. Но дел важных сенаторам не давать, дабы несогласий заранее избегнуть.
– А кто же тогда Россией управлять будет? От чтения бумажного я временами в меланхолию впадаю жестокую, справлюсь ли?
И тогда Остерман, побледнев, разом облокотился на стол:
– Кабинет вашего императорского величества, – сказал он.
Анна с постели соскочила, разрыла пуховые подушки кулаками.
– Думаешь ли? – спросила. – Кабинет сей опять Верховным советом обернется! Опять кондиции каки-либо изобретут в пагубу мне!
– Никогда этого не случится, ежели доверите Кабинет персоне, уже не раз доказавшей вашему величеству свою нижайшую преданность…
Остерман только пальцем на себя не показал, но было ясно, чего он домогается, и царица его желания разгадала…
– И ладно, коли так, – приободрилась Анна. – Дела сами к рукам твоим липнут, Андрей Иваныч… Ты уж не дай мне пропасть. А есть ли у тебя человечишка верный, дабы он канцелярию мою тайную берег, яко глаз свой?
– Ваше величество, – снова кланялся Остерман, переливаясь муаром одежд, – коли человек к делам тайным цепью прикован, то поневоле становится верным. А тайно содеянное – тайно и осудится! Велите лишь – и все исполнится по воле вашей…
– Постой, – спохватилась Анна. – А может, в Кабинет моего величества Ягужинского подсадить? Верен и пострадал за нас!
– Шумлив больно, – поморщился Остерман.
– Тогда его в генерал-прокуроры вывесть, пущай над Сенатом глаз свой острит… Око-то у него зрячее!
– Воля ваша, – ответил Остерман. – Но самобытных людей не жалую и вам советую их беречься. Сами ведаете, государыня, каково некрасиво, ежели полк солдат в ранжире одинаков, а един солдат выше всех на голову… Зачем благообразие нарушать?
Остерман ушел, замолкли за стеной фрейлины, пением утомленные. Анна Иоанновна вышла к ним и отвесила каждой по оплеухе.
Заплакали тут девки ранга фрейлинского:
– Да мы более кантов не знаем… Всю тетрадку вам спели!
Тогда Анна Иоанновна распорядилась:
– Теи песни, в которых про чувствия нежные поется, разучить вам новые. Чтобы пели вы неустанно! Да и рукам вашим работу дать надо. Эй, где Юшкова? Раздать пряжу девкам: пусть поют и прядут, чтобы хлеб мой не даром трескали…
* * *
Верховный тайный совет уничтожили, а Сенат – это маховое колесо империи – со скрипом провернулось…
Секретарем же в Сенате стал Иван Кирилович Кирилов, грамотей и атласов составитель, человек в дальние страны влюбленный, о путях в Индию мечтающий. Водрузил он на столе «Зерцало», и в Грановитой палате воссели (не выбранные, а назначенные) лютейшие враги: бойцы за самодержавие и ярые противники его. Сидели они сейчас, глазами к драке примериваясь, а на них из-под зеленого козырька зорко посматривал Остерман: «Ну-ну! Кто кого?..» Еще и дел не начали, как пошло поминание обид прежних, подковыки да затыки, шпынянье и ругань.
Поднялся канцлер Головкин, долго крестился на киоты:
– Учнем, господа, высокий Сенат, с помощью божией. За первое изволила ея величество указать нам о благочестивом содержании православныя веры и прочая, что касается до церкви святой, и станем мы за то благодарить ея императорское величество…
Старик Дмитрий Михайлович Голицын глаза ладонью закрыл, будто молясь безгласно, а про себя думал: «Вот оно, началось… Усердствуя в делах церковных, желает Анна глаза нам замазать, чтобы мы Бирена не замечали!» Тут канцлер велел Кирилову часы песочные перевернуть, чтобы отсчитать по часам время «для мысли». Голицын смотрел, как тихо и равнодушно сеется песок под стеклом, и думал: «Страну экономически подъять надобно, а дела церковные единым росчерком повершить можно… Неужто мне, мужу зрелому, баловством этим заниматься?» И неожиданно встал.
– Пойду, – сказал. – Домой съеду… неможется мне!
В спину ему дребезжаще прозвучали слова Остермана:
– Не желаешь ты, князь, государыне услужить нашей…
Уехал. Остальные сидели и думали. О делах молитвенных. О возобновлении крестных ходов по губерниям. О том, чтобы за колдовство людишек огнем жечь, и прочее. Прошло полчаса…
– Песок весь! – доложил Кирилов. – Кончай мыслить!
Явилась однажды в Сенат и Анна Иоанновна, ей реестр дел зачитали вслух, а она прослушала. И велела тот реестр к себе «наверх» отнести, и тогда рассмотрит. За что сенаторы с мест своих вставали и благодарили покорнейше. И вдруг Анна Иоанновна воззрилась на Василия Лукича Долгорукого зраком престрашным. Попался, дракон старый! Шагнула вперед, руку вытянула и Лукича за нос схватила (а нос у него большой был!).
– А ну встань, Лукич, – велела Анна, и Лукич встал.
Носа сенатора из руки не выпуская, ея величество высочайше изволила вокруг палаты всей обойти. Потом под портретом древним Ивана Грозного остановилась.
– Небось знаешь, – спросила, – чья парсуна висит тут?
– Ведаю, – заробел Лукич, дрожа. – То парсуна древняя царя всея Руси – Ивана Василича Грозного…
– Ах, Грозного? – усмехнулась Анна. – Ну, так я грознее самого Грозного буду… Хотя я и баба, – продолжала она, – но не ты меня, а я тебя за нос вожу. Вас семеро дураков верховных на мою шею собралось. Но я вас всех провела, как и тебя сейчас… за нос! Уйди, Лукич, теперь. Сиди дома тишайше и моего приказа о службе жди… Я тебе новый пост уготовлю – высоко сядешь!
Были перемены и при дворе. Бенигна Бирен заступила место статс-дамы; сестра ее, девица Фекла Тротта фон Трейден, во фрейлины определилась. Пальцы сестер вдруг засверкали нестерпимо – Анна щедро одарила их бриллиантами. Рейнгольд Левенвольде был обер-гофмаршалом, а Густав Левенвольде, более умный, стал обер-шталмейстером (лошадями и конюшнями двора ведал). Но самое главное место при дворе – место обер-камергера, которое ранее занимал Иван Долгорукий, – оставалось пусто, и шептались люди придворные: «Для кого оно бережется?» Не было еще занято и место генерал-прокурора. «Кто сядет? – волновались вельможи. – Неужто опять горлопан Пашка Ягужинский?.. Ой, беда, беда!»
А по Москве, тряся бородой и звеня веригами, вшивый и грязный, прыгал босыми пятками по сугробам Тимофей Архипыч:
– Дин-дон, дин-дон, царь Иван Василич… Православные, почто хлеб-то жрете? – спрашивал он, во дворец пробираясь. – Рази вам, русским людям, хлеб надобен? Вы же, яко волки, один другого сожираете и тем всегда сыты бываете…
Тимофея Архипыча никто не смел тронуть: он считался блаженненьким, утром раненько прибегал на Москву из села Измайловского, и Анна Иоанновна его чтила, сама – своими руками – бороду ему расчесывала. Вовсю гудели колокола, сверкали ризы, императрица молилась истово… «Дин-дон, дин-дон, царь Иван Василич!»
Но однажды, отмолясь, с колен воспрянула – в рост, гневная.
– Не желаю, – объявила, – корону возлагать на себя, пока в доме моем скверна водится – Долгорукие! Но милосерд – на я, пусть все знают о том: семейство князя Меншикова, от коего столь много зла претерпела я, из ссылки березовской вызволяю!
* * *
Бирен выходил в русский мир осторожно – на цыпочках. Для начала в передних показался. Шагнул в другие комнаты. Уже и до лестниц добрался. Но улиц еще стерегся. Ходили там по морозцу люди совсем непонятные ему – мужики да солдаты… И с разлету хлопали двери, в страхе опять затворенные.
– Я знаю русских, – говорил. – Они ненавидят нас, немцев…
Раскладывал пасьянсы и чистил ногти. Длинные, розовые, острые. А по картам выходило: валетные хлопоты и дама под тузом. Нехорошо! От обидной тоски на царицу пробовал было с женою сойтись. Но не получилось. И тогда разбросал он все карты – в злости и ревности:
– О, женская неверность! Залучила меня в эту страну, где все чужие для меня, а сама другого к себе приблизила…
Да, пока он отсиживался в деревне, Густав Левенвольде снова сблизился с императрицей. Теперь он нагло смеялся над Биреном, говоря ему: «Мы же тебя звали! Надо было ехать…»
Лейба Либман тем временем долги курляндские собирал.
– А когда вы, господин Бирен, мне отдадите? – спрашивал.
– Отстань! Отдам позже… – хмурился Бирен.
– Но, сидя взаперти, с чего разбогатеете?..
И вдруг случилось чудо: приполз сиятельный князь Алексей Черкасский да Бирена за руку сразу – хап, да губами ее – чмок, чмок, чмок… Смотрел снизу, словно собака, ласки отыскивая:
– Высокородный господин Бирен! Зачем света московского прячетесь? Не угодно ли ко мне в четверток на блины пожаловать?
Бирена даже в пот кинуло: ему? На блины? К такому вельможе? Да в Митаве-то фон дер Ховен далее крыльца своего не пускал… И Бирен тоже нагнулся, чтобы руку Черкасского поцеловать, но Черепаха застыдился, руку свою спрятал:
– Что вы, сударь… недостоин! Почту за честь…
А вот беседовать им было не о чем.
– Охоту держите? – спросил Бирен, любезничая. – Слышал я, что псарни у вас богатые.
– Только прикажите, – засуетился Черкасский, – и завтра же в вашу честь охоту устроим!
– Благодарю, князь. Однако после дороги…
– Издержались? – подхватил Черкасский. – Так не угодно ли позаимствовать? Или в презент принять? Буду рад…
Бирен посмотрел на него, как кот глядит на необъятную крынку со сметаной: справлюсь ли в одиночку?
– Я, князь, – ответил, подбородок гордо вздернув, – делами денежными не ведаю. Да… На то у меня есть личный фактор Лейба Либман, которого и прошу вас принять завтра…
После князя Черкасского явился канцлер Головкин. Гаврила Иванович спины не ломал, руки Бирена не искал, но предупредил:
– Известно стало, что был у вас князь Черкасский, спешу предостеречь: наговорщик он и хулы разной распространитель. Да и скаредностью известен. Ежели вы в деньгах охоту иметь будете, прошу вас только ко мне обращаться…
– Хорошо, – сказал Бирен. – А нет ли у вас арапчат побойчее, чтобы не воровали? А для жены моей – калмычку бы почище…
Головкин обещал все исполнить. Потом притащился фельдмаршал заика Трубецкой, и Бирен вдруг почувствовал, что обрел силу:
– Я устал. Пусть фельдмаршал немного обождет…
К мужу вошла горбатая Бенигна, шепнула на ухо:
– Эрнст, соберись с духом. Перемени парик и натяни перчатки. Тебя желает видеть его величество – самоедский король!
– Какой?
– Самоедский…
Раздался треск в дверях, и вошло чудовище… О, ужас! На длинных ногах, обтянутых узкими рейтузами, покоился круглый, как арбуз, живот. А почти над самым животом росла голова. Голова умника: лоб громадный, в шишках, глаза блестят, бородка острая, седая – словно у герцога Ришелье… Это странное чудовище расшаркалось перед дамой, предъявив владетельные грамоты:
– Мое королевство на острове Соммерс, а титул короля заверен императором Петром Великим, кроме того, я – магистр богословия.
Бирен опешил, но с грамот свисали подлинные печати.
– Проследуем же к императрице, – склонился он учтиво…
Анна Иоанновна, увидев «короля», закричала:
– Лакоста! Ах ты старая песошница! Как рада я, что ты явился. А то мне скушно без шутов… Ну-ка распотешь меня!
Бирен растряс в руке душистый платок, зажал им нос:
– Вонючий паук! Как ты смеешь портить воздух в присутствии ея величества? А я, осел, поверил твоим грамотам… Как ты, подлый дурак, попал во дворец?
– Да все через вас, через умников, – отвечал Лакоста, а царица, довольная шутом, хохотала. – Трещать же мне велел великий Блументрост. И можно сдерживать ревность, злость, отчаяние, зависть. Но только не это… Ваше величество, – поклонился шут Анне, – королю за все, что он сделал, полагается достойное!
Бирен возвратился в свои покои. А в узком проходе дворца (не избежать, не разойтись) шагал прямо на него, стенки обтерхивая, Алексей Жолобов… Человек ужасных нравов! Кулаками дрался, стулья из-под Бирена нагло выдергивал. И вот – встретились…
– Хорошо тогда сапоги мне вычинил, – сказал Жолобов Бирену с усладой в голосе. – Опосля тебя долго еще трепал… И верно, что приехал ты, гнида, на Москве сапожники завсегда нужны!
Бирен огляделся: «Какое счастье, что никто не слышит…» И побежал от митавского знакомца прочь. А в спину ему – хохот:
– Зачем спешить-то? У меня и эти сносились… Почини!
Бирен бомбой влетел в гофмаршальские комнаты.
– Дружище, – сказал, – а какое место занимает Жолобов?
Рейнгольд Левенвольде встал и оглядел себя в зеркалах:
– Жолобов – президент статс-конторы… Что тебя взволновало?
– Добрый Рейнгольд, – взмолился Бирен, – не могу я видеть этого негодяя при дворе. В твоей власти запретить ему…
– Ты плохо понимаешь мою власть, – ответил Левенвольде. – Я ныне кое-что да значу… Вот и сегодня, помнится, в Сенате искали человека на иркутское губернаторство? Могу услужить тебе: Жолобова не будет не только при дворе, но даже в Европе…
Вечером Бирен уже зевал, пресыщенный, когда вбежал в покои Лейба Либман с лицом, искаженным в растерянности:
– Боже! Мы совсем забыли о фельдмаршале Трубецком!
– Как? – подскочил Бирен. – Он еще не ушел?
Горбатая Бенигна послушала полночный бой часов:
– Хоть он и фельдмаршал, но разве можно быть таким настойчивым? Не пускай его сюда, я уже раздета…
Бирен открыл двери, и спина русского фельдмаршала согнулась в потемках перед ним надвое, переломленная в поклоне.
– Ну, сударь, – спросил Бирен, – что вам угодно?
– Явился почтение свое вашей особе свидетельствовать…
– А-а-а, – загордился Бирен. – Это очень хорошо. Только те, кто желал оказать почтение, еще раньше вас пришли…
И двери захлопнул. Трубецкой сыскал Лейбу Либмана, просил выручить. Митавский ростовщик был догадлив.
– Вы опоздали, – пожалел он боярина. – А теперь, видите, какая скопилась очередь к моему господину?
И показал фельдмаршалу список долгов, собранных им с курляндцев. Трубецкой по-немецки, да еще без очков, ничего не понимал. Разглядел только – цифры, цифры, цифры…
– Запишите и меня в сей брульон, – попросил, вытягивая кошелек с золотом. – А вас я не обижу… Сколько дать?
Глава вторая
Первого апреля государева невеста, княжна Екатерина Долгорукая, родила в Горенках дочку. Взяла она подушку, на младенца навалилась и держала его так, под спудом, пока не посинел он.
Алексей Григорьевич от страха зашатался:
– Что наделала ты, ведьма? Цареву поросль придушила… Ведь пропадет фамилия наша теперича – без щита сего!
– Нет, тятенька! – ответила ему дочка. – Мне в монастыре век свой кончать желания нету. И вы дитем моим не загородитесь! А я отныне девица свободная. И не была я брюхата, и не рожала николи. Так и объявите по Москве, что я – девственна…
* * *
– А чего бояться-то? – сказала Наташа Шереметева. – Сфера небесная пусть обернется инако, а я докажу свету, что верна слову. «Ах, как она счастлива!» – кричали мне люди. А где они, эти люди?
«Ах, как несчастна она!» – кричали люди теперь, когда возок увозил Наташу в Горенки (там она и венчалась с Иваном). И не было уже толпы под окнами, лишь две убогие старушки, в чаянии подарков, рискнули на свадьбе мамками быть… За столом невеселым горько рыдал временщик, из фавора царского выбитый:
– Был я обер-камергер, и место мое по сю пору еще не занято. Нешто же немцу отдадут ключи мои золотые?
– Ах, сударь мой, – отвечала Наташа. – На что вам ключи камергерские, коли теми ключами и амбара не отворить?..
Привез Иван Алексеевич молодицу в свой дом. А там свара такая, что все родичи волосами переплелись. Каждый бранится, один другого судит, все высчитывают: кто более других виноват?
Невеста государева (Катька подлая) щипнула Наташу:
– Ишь, птичка шереметевская! Залетела на хлеба наши?
Наташа на подушки шелковые упала – заплакала:
– Боженька милостивый, куда ж это я попала?
А в этот вой, в эту свару, в этот дележ добра – вдруг клином вошел секретарь Василий Степанов и сказал Долгоруким:
– Тиха-а! По указу ея императорского величества велено всем вам, не чинясь и не умытничая, ехать в три дни до деревень касимовских. И тамо – ждать, не шумствуя, указов дальнейших…
Наташа вздохнула и князю Ивану поклонилась:
– Ну вот, князь Иванушко, получай конфекты на свадьбу…
Решили молодые наспех визиты прощальные на Москве сделать.
Василий Лукич им двери дома своего открыл.
– Сенатские были у вас? – спросил испуганно. – У меня тоже… Велят ехать. Дают мне пост губенатора в Сибири, но чую, для прилику по губам мажут. Сошлют куда – не знаю…
Фельдмаршал Василий Владимирович тоже молодых принял.
– Бедные вы мои, – сказал старик и заплакал…
А другие – так: в окно мажордома высунут:
– Господа уехали, – скажет тот, и окна задернут…
Шестнадцать лет было Наташе о ту самую пору. Но глянул на нее князь Иван и не узнал: сидела жена, строгая, румянец пропал, шептали губы ее…
– Чего шепчешь-то? – спросил. – Иль молишься, ангел мой?
– Какое там! – отвечала Наташа. – Мои слова сейчас нехорошие, слова матерные. Я эти слова от мужиков да солдат слышала, а теперь дарю их боярам московским… Псы трусливые, я плачу, но им тоже впереди плакать! От царицы нынешней – добра не видится!
– Молчи. – И князь Иван ей рот захлопнул. – Кучер услышит…
Повернулась к ним с козел мужицкая борода:
– Эх, князь, рта правде не заткнешь… А только, ежели вам, боярам, худо будет, то каково же нам, мужикам? То-то, князь!..
Вернулись новобрачные в Горенки, а там уже собираются. Свекровь и золовки бриллианты на себя вешают, швы порют на платьях, туда камни зашивают. Да галантерею прячут, рвут одна у другой кружева, ленты всякие и нитки жемчужные… Наташа четыреста рублей для себя отсчитала, а остальные шестьсот брату Пете Шереметеву на Москву отправила. А все, что было у нее дорогого, вплоть до чулок, в один большой куколь завернула.
– На Москве и оставлю, – решила. – Мне и так ладно будет…
Взяла только тулуп для князя Ивана, а себе шубу. По случаю траура, как была в черном, так и тронулась в черном судьбе навстречу. От Москвы еще недалеко отъехали, как тесть Наташин князь Алексей Григорьевич объявил сыну:
– Ну и дурак же ты, Ванька! Да и ты, невестушка, тоже дура. Нешто вы думаете, что я вас, эких мордатых, на своем коште держать стану? Тому не бывать: сами кормитесь…
Громыхали по ухабам телеги, плыли в разливах апрельских луж княжеские возки. Статные кони, из царских конюшен краденные, выступали гарцующе, приплясывая. Солнышко припекало. Благодать!
– Бог с ними, с боярами, – стала улыбаться Наташа. – В деревне-то еще и лучше. Заживем мы на славу, Иванушко…
А в провинцию как въехали – нагнал их капитан Петр Воейков и велел кавалерии поснимать. Так были запуганы Долгорукие, что даже рады от орденов отказаться. Только бы фамилию не трогали!
Ну и кучера же попались – еще городские, по Москве возили господ с форейторами. А тут, на приволье лесов, дороги не могли выбрать. Плутал обоз долгоруковский по болотам да по корчагам. В деревнях у мужиков часто выпытывали:
– Эй, где тут на Касимов заворачивать?
Приходилось Наташе и в лесу ночевать. Место посуше Алексею Григорьевичу со свекровью отводили. Потом царская невеста – Катерина шатер свой разбивала. Отдельно жила! Вокруг остальные княжата: Николашка, Алексей, Санька и Алена с Анькой. А на кочках мужиков с возницами расположат, там и князя Ивана с Наташей держат. Сами-то князья припасы московские подъедают, а Наташа часто голодной спать ляжет, к груди Ивана прижмется, он ее приласкает, она и спит до зари, счастливая…
Сколько было ласк этих – в разлив весенний, в шестнадцать лет, на сеновалах мужицких, среди колес тележных, в сенцах, где тараканы шуршат, да на подталой земле! И ничего больше не надо: пускай они там – эти «фамильные» – едят куриц, стекает жир, льется вино из погребов еще царских… Ей, Наташе, и так хорошо.
Одна лишь свекровь Прасковья Юрьевна Долгорукая (сама из рода князей Хилковых) жалела молодую невестку свою.
– За што вы ее шпыняете? – детям своим выговаривала. – В радости вашей не была вам участницей, а в горести стала товарищем. Уважение к Наталье Борисовне возымейте, скорпионы вы лютые! Как это моя утробушка не лопнула, вас, злыдней бессовестных, выносив? О, горе нам, Долгоруким, горе…
* * *
«Это мне очень памятно, что весь луг был зеленой, травы не было, как только чеснок полевой, и такой был дух тяжелый, что у всех головы болели. И когда ужинали, то видели, что два месяца взошло, ардинарный большой, а другой, подле него, поменьше. И мы долго на них смотрели, и так их оставили – спать пошли…
Приехали мы ночевать в одну маленькую деревню, которая на самом берегу реки, а река преширокая; только расположились, идут к нам множество мужиков, вся деревня, валются в ноги, плачут, просят: «Спасите нас! Сегодня к нам подкинули письмо: разбойники хотят к нам приехать, нас всех побить до смерти, а деревню сжечь… У нас, кроме топоров, ничего нет. Здесь воровское место!» Всю ночь не спали, пули лили, ружья заряжали, и так готовились на драку…
Только что мы отобедали, – в эвтом селе был дом господской, и окна были на большую дорогу, – взглянула я в окно, вижу пыль великую на дороге, видно издалека, что очень много едут и очень скоро бегут… В коляске офицер гвардии, а по телегам солдаты: двадцать четыре человека…»
(Из памятных записок княгини Н. Б. Долгорукой, писанных ею для внуков в печальной старости.)* * *
Солдаты еще не подъехали, а Наташа вцепилась в Ивана.
– Не отдам, – кричала, – ты мой… только мой ты!
Вошел капитан-поручик Артемий Макшеев, человек хороший и жалостливый. Да что он мог поделать? И, волю царскую объявляя, сам плакал при всех, не стыдясь.
– Буду везти вас и далее, – говорил. – А куда именно повезу – о том сказывать не велено. Покоритесь мне…
Под утро Наташа улучила миг, когда Макшеев один остался, и протянула к нему в мольбе свои маленькие детские ладони:
– Все я оставила – и честь, и богатство, и сродников знатных. Стражду с мужем опальным, скитаюсь. Причина тому – любовь моя, которой не постыжусь перед целым светом выказать. Для меня он родился, а я для него родилась, и нам жить отдельно не можно…
– Сударыня! – понурился Макшеев. – К чему вы это?
– А к тому, – отвечала Наташа, – что ежели вы честный человек, то скажите, не таясь: куда везти нас приказано?
– На место Меншиковых… в Березов!
От города Касимова, что зарос крапивою и лопухами, отплыли уже водой – Окою. Красота-то какая по берегам! Воля вольная, леса душистые, цветы печальные, к воде склоненные. Холмы владимирские, чащобы муромские, говорок волжский… Мимо Нижнего – уже Волгою – на Казань выплыли: пошли места вятские, загорелись во тьме костры чудские, сомкнулись над Камой сосны чердынские… И завелся друг у Наташи – большой серебряный осетр, весь в колючках. Купила она его у бурлаков за копейку, да пожалела варить рыбину. На бечевке так и плыл за нею.
– Плыви, милый, – говорила Наташа, на корме сидючи, – доплывем с тобой до Березова, там я выпушу тебя на волю…
Но солдаты ночью того осетра отвязали и съели:
– Не сердись, боярышня: за Солями Камскими река кончится, и повезем вас телегами через Камень Уральский…
О господи! С камня на камень, с горы на гору, да все под дождем; кожи колясок намокли, каплет. Трясет обоз через Урал, расстается душа с телом. У старой свекрови Прасковьи Юрьевны отнялись руки и ноги, ее по нужде лакеи в лес носили. А каждые сорок верст – станок поставлен в лесу (хижина, без окна, без дверей). Наташа вечером как-то в станок вошла, да в потемках не разглядела матицу – так лбом и врезалась, полегла у порога замертво. Солдаты ее отходили, а потом сказали:
– Эх, боярышня, горда, видать: не любишь ты кланяться!
– То верно, – отвечала Наташа, опамятовавшись, – меня еще тятенька мой, фельдмаршал, учил, чтобы всегда прямо ходила…
Тобольск – пупок сибирский. Стал тут Макшеев прощаться.
– Здесь вам стража худая будет, – горевал капитан. – Они привыкли с катами жить. А на острову Березовом вода кругом, ездят на собаках, избы кедровые, оконца льдяные. И ни фруктажу, ни капустки не родится. Калачика не купить, а сахарок пуд в десть с полтиной, и того не достанешь… Прощайте же!
Поджидал ссыльных на берегу новый чин – в епанче солдатской да гамаши на босую ногу. Назвал себя капитаном Шарыниным, всему имуществу Долгоруких опись учинил. Тут солдаты набежали, будто дикие, стали тащить девок на берег, спрашивали – кто такие? Наташа мучилась – все географию вспоминала, да отшибло ей память, никак было не вспомнить – что за река течет?
– Дяденька, – спросила капитана, – какая река это?
Шарынин как заорет на княгиню:
– А тебе для ча знать? Река она секретная, по ней злодеев возим туды, куды Макар телят не гонял… Тебе скажи, как река прозывается, так потом греха не оберешься. Или ты «слова и дела» не слыхивала? Что о реке-то задумалась?.. Плыви вот!
И поплыла Наташа по этой реке – долго плыла и вспомнила:
– Господи, да это ж – Иртыш-река, а затем Обью потечемся…
Шарынин-капитан отозвал ее однажды в сторонку.
– Книги-то, – спросил, – какие-либо имеешь ли?
– Нет, сударь, все книги на Москве остались.
– Оно и лучше, – шепнул капитан. – У меня тоже была книжка одна. Про святых разных и чудеса ихние… Так я не стал беды ждать: до первой печки донес и сжег, чтобы никто не видел!
– Зачем же? – спросила Наташа, смеясь.
– А так уж… – приосанился капитан, берега оглядывая. – Ныне и без книг время гиблое. Бойся, молодица, слова устного, но трепещи слова писаного…
Так они и приплыли – с большим страхом. Провели их в дом. Хорошо срубленный, кедровый. Катька (невеста порушенная) воздуха талые понюхала, плесенью они пахли, и сказала:
– Лучшие комнаты мне будут… А кто здесь до меня жил?
И присела в ужасе, когда ответили ей:
– Проживала в этих комнатах государева невеста, княжна Марья Меншикова… А могилка ее вот тут, недалече. Видите, крест на бережку покосился? Там-то и легла навеки царская невеста!
* * *
Вот уж кто давно не ждал от судьбы милостей – так это Густав Бирен, младший брат фаворита царицы. Еще в Митаве приобрел он себе «гобой любви» и дул в него с утра до позднего вечера…
В польской Саксонии затерялся на постое гордый полк ляхов-панцирников, а в полку этом совсем пропал бедный Густав. От голода и безначалия разбежались солдаты – некого мунстровать стало. Ходил Бирен по улицам, наблюдая – как едят люди. Разно ели. Один индюшку, другой полбу, а иные жарят что-то. Нет, никто не угостит Бирена, еще и собаку на него спустят – гав, гав, гав!
Постирав в реке лосины свои и латы мелом начистив, бедственно размышлял Густав Бирен о системе польских налогов (дело в том, что сейм Речи Посполитой был ему много должен): «Вот если соберут доходы поголовные, можно будет в трактир сходить. С дыма расплатятся – куплю себе зубочистку, какая у пана Твардовского! Ну а если и с жидов соскребет сейм деньги – тогда…»
Бах в дверь: явился в регимент пан Твардовский в жупане атласном. Бросил на стол перчатку, и стукнула она (железная). Потом пошевелил пальцами (тонкими, душистыми) и спросил:
– Ты, вонючий босяк, кажется, и есть Бирен?
Сознаться было опасно: а вдруг бить станут? Но все же курляндский волонтир сознался… да, он – Бирен.
– Как? – воскликнул пан Твардовский. – И ты, немецкая скотина, еще находишься здесь?
– А разве панцирный полк выступил в поход без меня? Неужели, играя на «гобое любви», я прослушал трубу регимента?
– Впервые вижу такого олуха, – сказал Твардовский, просовывая пальцы в железо боевой перчатки. – Ну сейчас я тебя спрошу, мерзавец: кто был твой родитель… Отвечай!
– Он служил конюхом у герцога Иакова, а потом герцог Иаков доверил ему собирание шишек в лесу для каминов своего замка… И этим мой отец достиг признательности!
– Братья твои… кто? – потребовал ответа Твардовский.
– Старший мой брат Карл служил в армии русских и сдался в плен королю Швеции. Но из Швеции он бежал куда-то дальше, и где он ныне – того роду Биренов неизвестно…
– Еще есть у тебя братья? – поморщился пан Твардовский.
– У меня есть брат средний… Эрнст Иоганн Бирен, он служит при Курляндской герцогине Анне Иоанновне, которая…
Пан Твардовский – словно и ждал этого! Схватил он мокрые лосины, ногой поддал в сверкающий самовар панциря. И выбросил их за двери. Бедный Густав не успел опомниться, как вслед за латами уже и сам вылетел на улицу.
– Польский сейм, – сказал Твардовский, – не намерен и далее сорить деньгами на таких паршивцев! Убирайся…
– Вельможный пан региментарь, – разревелся Бирен. – Разве я могу отвечать за своих братьев? Но вы не спросили меня о матери. А моя мать – знатного рода, урожденная фон дер Рааб!
– О да! – загрохотал пан Твардовский. – Не она ли помогала твоему отцу собирать в лесу еловые шишки? Уходи прочь. Польский сейм не знает, как ему прокормить истинных Пястов…
– Куда же я денусь, добрый пан региментарь? – хныкал Бирен. – Вы бы знали, как я люблю наш славный панцирный полк!
– Выводи свою лошадь, – велел Твардовский грозно.
– Моя лошадь заложена в корчме…
– Что ж, – отвечал региментарь, – тогда уходи пешком!
В одну руку – лосины (еще мокрые), в другую – латы (с утра наяренные), и Бирена выставили из регимента. Он зашагал в Россию, играя себе на унылом «гобое любви». Бирен уходил, оставляя свое жалованье польскому сейму – деньги «поголовные», деньги «дымные», деньги «жидовские» и прочие.
«Все равно, – думал, – в полку некого было мунстровать!»
…На коронацию Анны Иоанновны бедный Густав запоздал: он получил все милости отдельно от других – гораздо позже.
* * *
Но еще до раздачи милостей Анна Иоанновна часто совещалась с Остерманом… Оба они, настороженные, прислушивались.
– Кажется, не ропщут и никто по Долгоруким не плачет.
Главным в Комиссии о винах Долгоруких был Остерман (описи имущества составлял, на цепи сидя, Иогашка Эйхлер). Не было Остерману отбоя от Бирена – сначала робко, потом настойчивей он требовал крови Василия Лукича Долгорукого…
– Анхен, – рыдал он и перед Анной, – доколе же осужден я страдать от жгучей ревности?
– Уймись, – отвечала Анна Иоанновна, – с Лукичом амуры – то дело прошлое, а Густав Левенвольде умен и ко мне доверителен…
Тихо и печально было в доме фельдмаршала Долгорукого, когда в покои ветерана вошел почтительный Егорка Столетов:
– До вас братцы, Михайлы Владимировичи, прибыли…
Скрипнули двери за спиной – это брат вошел.
– Вот, Миша, – сказал ему фельдмаршал. – Нас вроде бы не трогают, а Григорьевичей по кускам рвать стали. Говорил я тогда – не след фальшу писать. А они нас не слушались – писали.
– Про письма фальшивые при дворе не ведают, догадки строят, – ответил Михаил Владимирович. – Зато мы с тобой, брат, кондиции начертывали. А ныне это дело облыжное, не помилуют!
– Да и Лукич писал, – задумался фельдмаршал. – Тут вся Москва в чернилах по уши плавала: всяк сверчок на свой лад трещал. Знать, время Руси пришло – о гражданстве своем печься…
Замолкли старики братья (обоим 130 лет).
– А я вот, – тихонько сообщил Михаил Владимирович, – пришел прощаться, братец… Посылают меня в Астрахань на губернаторство. Боюсь – свидимся ли когда еще? Не убили б в дороге!
– Эх, брат, близки мы к порогу смертному… И чудится мне, что русским людям более в вождях не бывать. Бирен царицу подомнет, Остерман в политиках властен, Миниха в дела воинские вопрягут, а при дворе всем роскошам паскудным Левенвольде потакать станет… Куды нам деться? Лай не лай, а хвостом виляй!
– Хвостатых у нас много, – без улыбки отвечал брату фельдмаршал. – Вилять умеем… Прихлебателей придворных не счесть, низкопоклонны вельможи наши, и с того мне весьма горестно, Васенька!
Хотели старики Лукича навестить, но дома его уже не застали: отбыл по слякоти до Тобольска, ни с кем не простясь… Уже не «маркизом» сиятельным, а странником-горемыкой ехал Василий Лукич Долгорукий управлять сибирскими просторами. Мучился дипломат, изнывая в обидах: «Ведь прилег я, прилег к ней! Неужто и любовно не милует? Мне ли в Тобольске дни проводить?…»
До самого Переславля-Залесского проезжал Лукич, словно король, – путь лежал через владения, ему же принадлежавшие: в своих деревнях усадьбах дневал, обедал и ночевал. Путь до Тобольска далек… Но вот по ростепельной жиже в сельце Неклюдове нагнал Лукича подпоручик Степан Медведев.
– Велено заворачивать! – сказал. – Да кавалерию снять…
Василий Лукич не спорил, но хитер он был. Перстень, какому цены не было, с пальца стянул – офицеру на мизинец продел:
– А теперь, братец, скажи – что знаешь?
Мизинец гордо отпятив, отвечал подпоручик:
– Всех Долгоруких разогнали уже. Кого и на воеводство ставили по указам сенатским, всех расшвыряли по углам. Даже в матросы на моря персицкие! А баб ваших стригут насильно в монастырях с уставами жестокими…
– Владимировичей-то… тронули? – притих Лукич.
– Михайлу-князя, что в Астрахань был послан, уже завернули с дороги в ссылку. Остался на Москве лишь фельдмаршал Василий Долгорукий, да адъютант его – Юрка Долгорукий… Езжай и ты!
Поехал Лукич под конвоем, и привезли его в деревню Знаменскую. Бумаги и чернил лишили, даже в церковь не пускали, бриться не давали. Забородател Лукич. Как мужик стал, а борода уже седая… Однажды ночью разбудили его – охти, горе! Понаехали с факелами солдаты, велели одеться теплее. Все, что было при нем, забрали. А на дворе уже возок стоит – весь из кожи.
Посветили Лукичу факелом: «Садись и забудь себя!» А офицер иглу цыганскую взял с ниткой суровой, дегтем смазанной, и сказал так:
– Две дырки для тебя остались, князь: одна – для еды, а другая понизу, куда нужду в дороге справишь… Ну, прощай, князь!
И стали заживо его зашивать в кожаном том возке. В одну из дырок, в нижнюю, долго видел Лукич, как стелется под ним дорога. Сначала – с травкой зеленой, потом – снег, снег, снег… Наконец и этих дырок не стало: закрыли их снаружи. Здорово качало тогда Лукича и плескались волны… «Куда везут? Не утопят ли?»
И вот вспороли ножом толстую кожу:
– Вылезай, раб божий.
– Где я, люди? – спросил Лукич.
– Ходи в двери, – отвечали ему монахи.
Но дверей не было, а была в земле яма. Колодец!
– Прыгай, родненький, с богом… Бог тебе судья.
Перекрестился Лукич и прыгнул: нет, не колодец это, а «мешок» каменный. Таким ознобом вдруг ударило от земли, что затрясся князь от лютого холода. И дрожал так – год за годом…
Это была тюрьма Соловецкого монастыря в Белом море!
* * *
А дворы иноземные, сообразуясь с реляциями прошлыми, запоздалыми, все слали и слали на Москву подарки князьям Долгоруким! Тут их быстро растаскивали фавориты новые – братья Левенвольде, Бирен со своей горбуньей, Ягужинский и Марфа Остерман. Все, что было примечательного, забирала в свои покои сама императрица. Подарками из Вены особенно довольная, в частной аудиенции с послом германским, Анна Иоанновна заявила графу Вратиславу:
– Уж больно мне собаками Вена угодила, век не забуду… От Остермана извещена я, будто королевус ваш хлопочет о войске русском для нужд великогерманских! И то я помню, цесаря вашего в печали не оставлю: коли война разразится, Россия свой долг дружбы исполнит… Пришлем корпус с оружием наилучшим!
Себя вдовица тоже не забывала. Все земли и всех мужиков, кои ранее за Долгорукими были, она на себя перевела, и стала русская императрица самой богатой помещицей в России.[10]
– От врагов моих, – сказала, – мне же и прибыль великая!
Глава третья
Вот уж когда поела она буженинки – всласть! Ломти, такие сочные, бело-розовые, были посыпаны тертым оленьим рогом.
– На Митаве-то, – говорила, радуясь, – такой не едала. Ну и буженина… Хороша! Девки, а вы что там умолкли? Пойте мне песни…
Фрейлины запели, и Анна Иоанновна запила буженину венгерским – тем, серебристым, что из Вены привезено (спасибо королевусу Карлусу!). Близился день коронации – день милостей. Отовсюду по весенней травке сползались на Москву нищие – мутноглазые от голода, в рубищах, босые, язвенные, оспенные, паршой покрытые, с кровавым колтуном в волосах… Шли и шли – прямо на Красную площадь, и разлегались на земле – чаялись милостей. Фонтаны с вином еще не прыскали, зато от кухонь кремлевских уже пахло мясом жареным… Поесть бы мясца! Вот и стекались нищие.
Очень уж хотелось Анне Иоанновне, чтобы на коронации почтил ее князь Кантемир одою славной, даже намекала Антиоху:
– Больно уж твои рифмы хвалят, князь. Сложил бы что для меня, а я бы – послушала. Тебе в честь, мне в радость!
Галантный камер-юнкер изощрялся в ретирадах:
– Брался я за перо, государыня, но Фебус перехватил руку мою, воскликнув при этом: «На что дерзаешь, безумный? Нешто же мощен ты, презренный, восхвалить столь великую Анну?..»
Анна Иоанновна подбадривала Кантемира:
– А ты гони этого Фебуса в шею! Чай, своя голова на плечах имеется… Коли желаешь меня восхвалять – так и восхвали!
Но хитрый Кантемир уже скользил по паркетам к дверям:
– Боюсь, что и великий Буало пред тобой, государыня, впал бы в похвалы грубейшие, штиль высокий свой растеряв. Так не лучше ли мне молчати, нежели похвалы одни писати? Да и перо мое, государыня, более язвы светские ковырять привыкло…
Спасибо Феофану Прокоповичу – тот, как всегда, не уклоняясь, выручил – воспел ее вдовство:
Прочь, уступай прочь Ты, печальная ночь! Коликий у нас был мрак и ужас! Солнце – Анна – воссияла, Светлый день нам даровала. Богом венчанна, Августа – Анна, Ты – наш ясный светик, Ты – красный цветик. Ты – красота, Ты – доброта, Ты – веселие велие… Да вознесет бог Силы твоей рог!Очень хорошо читал Феофан – старался, плакал и ногу царицы лобызал с трепетом. За это ему Анна Иоанновна перстенек (в двенадцать тысяч рублей) подарила:
– Умилил ты меня, владыка, стихами! Век того не забуду…
– А с просвещением-то каково, матушка, станется?
– Будет, владыка. Всем будет просвещение, – обещала Анна. – Засветимся мы с тобой разумом… Погоди вот только малость: дай время злодеев всех извести со свету! Да милости оказать…
Москва ожидала милостей от царицы, когда она корону на себя возложит. И вот – 28 апреля – грохнула пушка над столицей, призывая знать ко двору, и заблаговестили колокола. А когда Анна Иоанновна из-под сени собора Успенского выехала, то на всем пути своем к могилам предков бросала она в народ жетоны, а два кавалера – Бирен и Левенвольде – состояли при ея величестве, на мешках с жетонами сидючи…
– Гей! Гей! Гей! – кричала Анна нищим. – За меня радуйтесь!
На верху колокольни Ивана Великого отворили инженеры баки винные. Со страшной высоты поднебесной ринулось вино по трубам, взметнулись фонтаны посреди Красной площади. А на рундуках, сукном обтянутых, уже возложили быков жареных, начиненных дичью. Нищие тут воспряли от земли сырой – кинулись, словно бешеные, вмиг растерзали быков в куски мелкие, горячее мясо жгло им руки, бежали к фонтанам, ладони под струи вина подставляя…
Начинались милости. Первым под эти милости Остерман угодил: из барона сделался он графом; Семена Салтыкова не знала, куда и посадить: возомнил старик, даже в Сенат не пожелал, тогда его Анна подполковником гвардии определила; Черкасскому – голубую ленту дала; Трубецкого-заику – в кавалеры андреевские; князя Ваньку Барятинского – в генерал-лейтенанты; Татищев не только чин, и тысячу мужицких душ получил; Антиох Кантемир – сразу четыре тысячи душ… Ух, как душно было во дворце!
Теснились, шептались, топтались – и все разом гадали:
– А место-то обер-камергерско… Кому быть на месте том?
Бирен, преклонив колено, стоял возле престола – ждал.
Анна Иоанновна волновалась, в сторону Голицына поглядывая.
Стихло все… Даже платья дам не шуршали.
– Особливо нам любезный, – начала Анна басом, – Яган Эрнст фон Бирен, чрез многие годы будучи при комнатах наших, столь похвально к нам поступал, что его квалитеты и поступки редкостные были нам радостны… – Перевела дух, снова на Голицына глянув. – За что и жалуем его в свои обер-камергеры!
И вспыхнула в руках Анны красная лента. Муар так и струился, так и стекал меж толстых пальцев. И через левое плечо Бирена она ту кавалерию перекинула… Поднялся Бирен с колен, и все разом задвигались, заскребло тут многих, больших и малых мира сего. Засвербило русские сердца, даже Трубецкой скуксился. Шутка ли! Бирен уже кавалер ордена Александра Невского и обер-камергер: теперь, по чину придворному, вставал Бирен в ранге одном с российскими фельдмаршалами…
Москва вечерняя – вся в сверкающих огнях. Взлетали над дворцами фейерверки, бились, плеща свежо и пьяно, винные фонтаны у домов посольств иноземных. И только испанский посол фонтана у себя не завел, чем сильно разобидел императрицу. Даже Мардефельд, скупердяй вечно голодный, посол прусский, и тот винишком Москву побрызгал. Что это дука скупится? Рейнгольд Левенвольде отыскал в толпе гостей герцога де Лириа, выразил ему неудовольствие Анны. В ответ на это герцог склонился, и долго качался на груди иезуита тяжелый туассон «золотого тельца».
– Передайте ея величеству, – отвечал де Лириа, – что мой король не скряга! И вина для простонародья русского ему не жаль. Но моему королю неизвестно, сколь ужасно изобилие нищих на Руси, и потому я, своей волей, от фонтана отказался, дабы нищих ваших посильно милостыней одарить…
Анну Иоанновну обожгло таким ответом, велела она указом всех нищих разом устроить: «…усмотрели мы, что нищие прямые без всякого призрения по улицам валяются, а иные бродят… повелеваем немедленно тунеядцев из богоделен выслать или определить в работу, а прямых нищих в богодельни ввесть!» Согласно указу, одних нищих из богаделен вывели. А других нищих с улицы в богадельни ввели. И долго потом удивлялись, что не стало нищих меньше – даже больше их развелось…
Только единожды, среди празднеств шумных, вспомнила Анна Иоанновна и о мужиках:
– Бейте в барабан указ мой: разрешаю крестьянству российскому рыбкою торговать свободно…
На этом «милости» и прекратились. Но зато уже больше никогда не прекращался праздник при дворе. И длился он, этот праздник, все долгие десять лет!
* * *
Третьего мая обедала она в Грановитой палате за столом-циркулем, посреди коего стояли две статуи из серебра, извергая воду чистую. Для того были бассейны устроены, а в тех лоханях, изнутри золоченных, плавали разные диковинные рыбы. Несли к столу кабаньи головы, варенные в рейнвейне; изогнув длинные шеи, лежали на блюдах жареные лебеди…
Анна Иоанновна, в ладошку рыгнув, спросила у Остермана:
– Чур, не пужай меня, граф, но шепни на ушко по секрету и честно: есть ли у меня деньги?
– Пока еще есть… Пока! – отвечал Остерман шепотом.
Из-за спины Анны нагнулся к ней блистательный Бирен с приятной улыбкой на красных выпуклых губах.
– Анхен, – шепнул умилительно, будто в самое сердце голосом проникая, – мы совсем забыли о Лейбе Либмане, а его ведь можно при деньгах определить, ибо этот маклер толк в них понимает.
– Придумай чин ему сам, – сказала Анна…
Бирен вечером утешил Лейбу Либмана:
– Маклерство твое при дворе одобрено, и отныне ты будешь обер-гоф-комиссаром при мне и при царице… Целуй же руку!
Бирена навестил недовольный и злой барон Корф, с бранью швырнул на стол золотой ключ камергера:
– Я не затем сюда приехал… Бессовестные обманщики! За все, что я сделал для тебя и для герцогини, вы могли бы расплатиться достойно… Я не дурачок, чтобы баловаться вашим ключиком!
Бирен куснул ноготь, придвинул свечу: опять заусеницы.
– Милый Корф, – засмеялся он. – Не надо было тебе соваться в постель, которая не для тебя нагрета.
Корф был человек независимый и отомстил Бирену ужасно.
– Ах, вот ты о чем?.. – сказал он. – Но я думал, что где спят двое мужчин, там всегда найдется место и третьему!
– Чего ты хочешь? – обозлился Бирен, вскакивая.
– Не ты ли, – спросил его Корф, – хвалил меня за ум еще на Митаве? А Блументрост хотя и президент Академии наук, но совсем пропал в селе Измайловском, и кресло его в Академии, считай, не занято… Поверь, я сумею навести порядок в делах научных!
– На кресло президента Академии найдутся и умней тебя!
– Например, я! – раздался голос от дверей, и вошел Кейзерлинг, все слышавший, учтиво поклонился Бирену…
– Да, – подхватил Бирен. – Кейзерлинг не глупее тебя, Корф.
– К тому же, – добавил Кейзерлинг, смеясь лукаво, – я не слыву таким безбожником, как ты, негодяй Корф…
Корф в бешенстве схватил со стола ключ своего камергерства:
– Черт с вами! Но этот ключ послужит мне еще отмычкой, чтобы открыть ворота в чистилище. И тогда все силы ада…
– Тише, тише! Ты погубишь себя кощунством.
Корф ушел, а Кейзерлинг сообщил Бирену:
– Там пришел к Левенвольде один русский… Сумароков! Просит аудиенции. А на руках и ногах его – следы от кандалов. Пройди же, Эрнст, узнай, что надо ему от нас…
Анна Иоанновна встретила Бирена – растерянная.
– Подумай! – заговорила. – Сумароков явился за своей долей. Милостями-то своими обошла я его, совсем запамятовав.
– Но Сумароков, – напомнил Бирен, – камер-юнкер двора Голштинского… Он в услуженье у «ребенка кильского».
– Чертушка! – вырвалось у Анны. – Я видеть не желаю никого из этих людей… Но он же посрамление за меня принял!
– В чем дело? Откупитесь, – посоветовал Бирен…
Анна Иоанновна открыла шкатулку: плотно-плотно, словно поросятки, лежали там сытенькие мешочки с золотом.
– Вот ровно тысяча, отдай ему – на лошадей.
Бирен половину золота отсыпал в свой карман.
– Лейба, – сказал он Либману, – я не хочу встречаться с этим человеком… Отдай ему – на апельсины.
Лейба отсыпал и себе – золотой «поросенок» сильно отощал.
– Вот тебе… на пудру! – сказал он Сумарокову.
* * *
Петр Спиридонович Сумароков те сто рублей («на пудру») прогулял и пошел в караул на заставу. Ботфортов не сняв, лежал на кровати, смотрел, как клоп из щели выползает. «Ягужинский-то, – размышлял с похмелья, – тоже клоп хороший… О сватовстве и не заикается более. Конешно, ему теперича другого зятя надобно – плетьми не дранного! Человек-то он самобытный, в генерал-прокуроры – вон куды опять залетает…»
Вечерело над Москвою, и все реже скрипели шлагбаумы, приезжих в город пропуская. Пришел капрал в мятом картузе, раскурил у камелька трубочку турецкую:
– Чего маешься, Спиридоныч? Дело твое дворянское, привольное. Сходил бы до кабачка – проезжих не станет к ночи.
– И то дело! – Сумароков скинул ботфорты с кровати, пальцем клопа раздавил и шляпу надел. – Коли кто проедет на Москву, так задержи его до меня: сам в книгу не вписывай… Я скоро!
В трактире органные вздохи послушал, винца выкушал, и так стало скушно, хоть беги. Клопа к чему-то вспомнил: «Ну и вонютный же!» И остатками вина руки себе сполоснул… А фартина – не приведи бог: окраинный кабак, позадворный, кого тут только нету! Девы блудные, солдаты да служивые, сошка мелкая, строка приказная. Тяжело хмелел над кружкою Сумароков…
По соседству с ним пили да горланили всякое:
– Ныне волю немец забрал. А куды нам, православным?
– То гвардия, то бояры… Изводу на них нету!
– Они, подлые, под немца Русь подвели…
Пальцы солдат – в корявинах. Черные от земли и железа. Лица – синие. Порохом жженные, морозами луженные. Усы мокрые, зубы с желтизной. А у подьячего люда – скулы подбитые, пальцы чернильные, волос на затылке ершистый. Иные, кто побогаче, те косы в кожаные кошельки прячут, и трясутся кошельки на загривках…
– И тое зло, – кричали пьяницы, – нам не искоренить! Немец, будто уголье из печи дырявой, так и сыплет на Русь, так и шуршит. Нешто мы, русские, в своем дому не хозяева?..
Два молодца свистнули, руками дым табачный развели:
– Ты болтаешь словесе мятежные? А ну – пошли…
И рвали за руки от стола, пролили пиво. И плакал при всех человек приказный, всеми битый сызмала, в чернильных пятнах.
– То правда! – кричал. – А ты одежонку мою не раздирай. То правда, что власть чужая идет… Так отпусти меня – русского!
Сумароков шпагу выхватил да по лампе, да по другой…
Темно стало в кабаке – свист и грохот, визжали бабы. И тем сыщикам царицы он шпагою колотье немалое учинил. Бил не до смерти, а так – чтобы проняло: воткнет шпагу и быстро выдернет.
– То правда! – кричал, ярясь, тоже. – И ты людишек за правду не рви… А то, побойся, я свистеть стану: живыми не выйдете…
Приказного не стало – уплыл до дому, счастливый, что с крючка сорвался. Сумароков на заставу ушел, качаясь и заборы ветхие обтирая. А на заставе – проезжий (записи в книгу ждет). Сам в чине непонятном. Не человек, а – обрубок от человека. Весь шрамами разрисован, такого даже не придумать. Глаз один вытек, левое ухо отсутствует – только дырка. На руках в пальцах большая нехватка. А изо рта дым клубами валит – инвалид этот курит.
– Карл Бирен, – себя назвал, а паспорта не показывал: видать, бумаг не имеет… (Человек явно подозрительный!)
Сумароков в книгу приезжих заглянул, сказал:
– Не самозванец ли ты? Что-то много вас, Биренов, по России тут шляться стало. Вчера вот еще один проехал, по имени Густав из войска ляхов-панцирников… А ты – что за птица?
И стал его молотить. Так лупил – аж самому сладко было. И того Бирена (истинного или самозваного) он с заставы выкинул. Инвалид из лужи грязной восстал и пошел куда-то. Петр Спиридонович – со зла! – даже в книгу его не вписал.
Но это был и впрямь Бирен – старший брат фаворита царицы. Тот самый, который служил в армии Петра, сдался в плен шведам и долго пропадал в таинственных нетях. Теперь объявился! Долго еще ждал Сумароков беды от доношения – от немцев. Но Карл Бирен был скотиною упрощенной жизни. Казарменный выкормыш, он доносов не признавал. И к побоям так приучил себя, что даже не замечал их. И никак не мог понять – почему их замечают другие…
– Одним ухом больше, – говорил он, – одним ухом меньше. Какая разница? Важен сам натуралий!
Карл Бирен, как и младший брат его Густав, тоже опоздал к раздаче высоких милостей. Они достались им позже – в избытке.
* * *
Остерман ужасно боялся – как бы Ягужинский не стал вновь генерал-прокурором. Бирен же, напротив, возжаждал иметь человека, который бы обломал клыки этому «вестфальскому оборотню».
– Это же так просто! – убеждал Либман обер-камергера. – Вы сажаете Ягужинского повыше, они там, наверху, расшибут себе лбы. Не будет ни Остермана, ни Ягужинского, а останетесь в России только вы, изящный господин мой.
– Но я вперед не лезу, – отвечал Бирен. – Мне замечательно и в тени престола моей повелительницы.
– А мне чудесно за вашей спиной… Я тоже, как и вы, обожаю прохладную тень. Только одни дураки жарятся на солнцепеке!
В одну из ночей, майских, душных, долго не мог уснуть Бирен.
– Чего маешься, друг мой? – спросила императрица.
– Пора… в Петербург, – сумрачно ответил Бирен.
– Эва! – смеялась Анна Иоанновна, ласкаясь к нему. – Да вить комаров там много и дух гнилой… На што тебе?
– Не мне, а – вам… Петербург – крепость. Там хорошая тюрьма. Там флот. Там Миних, который не даст нам погибнуть.
– Да там и дворца-то для меня нету, – зевнула Анна.
– Зато там нет и… Москвы! – вздрогнул Бирен.
С этого дня Анна Иоанновна стала поговаривать о переезде.
Глава четвертая
Саранск – городишко дохлый, лежит в песках на отшибе губернии под началом Казани, приписан к провинции пензенской. На берегу желтой Саранки-реки – башни да частоколы гниют, еще от времен смутных (ныне тут выпас свиной). Великое разорение Саранск испытал в приход ватаги Стеньки Разина – с тех пор многое осталось порушенным. Округ города мордва жила – по лесам темным она прилежно у диких пчел бортничала…
Воеводствовал на Саранске Исайка Шафиров, к людям он прост бывал, и саранчане за это сами его медом мазали. «А по мне, так и живите! – добродушничал воевода. – Чего с вас взять-то? Чучела вы… А за медок благодарствую!..» В погожий день поехал как-то Исайка Шафиров на пригород Шишкеев одну бабу за блуд пристыдить, да левая пристяжная вдруг засбоила – глядь: подкова напрочь… туды-т ее в гвоздь!
– Тпрру-у, нелегкая… Эва, кузня рядом, заворачивай.
Завернули. А у кузницы знакомца встретил – Ивана Лебедева, что был камерир-фискалом: он по чину в народе лишние деньги сыскивал и в казну отбирал их. А потому как лишних денег в народе никогда не бывало, то рвал их кровно – после него пусто бывало… Тут же у кузни и сын саранского попа был – Кононов (тоже Ванька).
Камерира никто не подначивал – сам начал жалобы петь.
– Вот, – говорил Лебедев, – фискалов коли за штат задвинут, так что будет? Худо будет… Кто доносы писать станет?
– Была бы шея, – мигнул кузнец Шафирову, – а чирей вскочит! Донесут и без тебя, камерир, в лужу не уронят небось.
А попович Кононов в крапиве сидел – на солнышке.
– На што, – сказал, – простолюдству сыск ваш? В чинах, счетовод, ходишь, а того не знаешь, что в народе бормочут…
– А что бормочут-то? – навострился фискал Лебедев.
– Да воры вы, татарва поганая! – сказал попович. – Курица ишо не снеслась, а вы уже картуз под хвост ейный пихаете. Яйцо то в казну царскую ловите. Вот, к слову, и присяга опять же…
– Берегись, дурни! – ухнул кузнец молотом.
– Сначала отечеству сягали, – молол попович, – потом Анне-матке сягать стали… В конце ж всего – кто встал над Русью?
– Бирен встал! – ляпнул кузнец грубо. – Молчи, сын поповский, так тебя растак, коли умней тебя люди, и – помалкивают!
Шафирова в беседу, словно порося в лужу, так и повело.
– В огонь бы все эти присяги! – заговорил воевода открыто. – Прынцесса митавская натаскала на Русь сволочей, никому не ведомых. Теперь бароны немецки, мать-размать, станут шкодить…
Кузнец грохнул молотом в железо – брызнула окалина жарко.
– Берегись – ожгешься! – снова гаркнул кузнец.
– Дойдет дело, – говорил попович, – что и Бирену сягать нас заставят. Жаль, что здесь Саранск, а не Москва… Запалить бы их всех там, будто тараканов, чтоб забегали…
Подкову приладив, кузнец потом в сторонке шепнул Шафирову:
– Эх, и глуп же ты, воевода! Сколько раз я кричал «берегись», а тебе все нипочем. Ведь его дело – фискальное, доносное!
– А мое – праведное, – отвечал Исайка, на козлы взбираясь.
– Воевода, воевода… – пожалел его мужик. – Ныне правда-то по канату ходит и милостыню собирает…
* * *
Дни над Казанью тоже стояли погожие, но Волынский сердцем обуглился: жена его помирала, дети сиротами оставались. И врачей на Казани нету – беда, беда, беда! Кубанцу он сознавался:
– Зачерствел я… то верно, Базиль! А вот детишек малых люблю и греюсь возле их душенек чистых… С чего бы так? Ведь, как подумаю, небось и эти гнидами будут?
Артемий Петрович голопузых любил, правда. И не только своих – чужаков примечал тоже. Бывало, солдатское дите встретит на улице, рубашку ему задерет от пупка, да – к носу приставит:
– Ну, – скажет, – дуй сильнее… сейчас все зеленухи выбьем!
И, нос дитяти опустошив, пойдет грозный губернатор далее…
Волга протекала вширь, и сверху (от Нижнего Новгорода) плыли по самотеку плоты. А на плотах тех были сделаны крестовины из бревен, и, продетые крючьями под самые ребра, качались над водой разбойные люди – гулящая вольница. И так месяцами, пока не ударит ледостав, плыли они до самой Астрахани – в Гилянь, в самую-то соль, в самую-то бурю каспийскую… Иные из гулящих еще долго на крючьях жили; насупротив Казани всегда орать начинали, от жажды мучаясь («…посредь великой воды они той малую толику себе просили…»).
Артемий Петрович с утра в Адмиралтейство уехал – на верфи: там сегодня новый гортгоут спускали. Особое суденышко, чтобы на нем за разбоем волжским следить, а кораблик тот – с пушечкой. Канат рубанули, гортгоут плюхнулся в воду, матросы «ура» крикнули. Казанские подьячие вдруг набежали из кустов – и все с ведрами. Давай со слипов сало снимать. А сало то, по которому корабль на воду съехал, всегда – по закону, – в матросский котел шло. Флотский народ от обиды такой в драку ринулся. Волынский – туда же (с дубиной). В драке не разобрались, и губернатору здорово нос расквасили…
– Да я же за вас! – кричал Волынский, досадуя. – За вас я…
– За нас, – воодушевились подьячие с ведрами.
– Врешь – за нас! – бились насмерть матросы…
И, пока дрались, все сало стекло в землю; Волынский сплюнул. «Ну и дураки!» – сказал и домой поехал… А дома его камерир-фискал Лебедев уже поджидал – с доносом.
– Так. – Волынский доношение принял. – А на кого кричишь?
– Кричу на воеводу Исайку Шафирова и поповского сына Ивашку Кононова, а в чем они винны, тому изъяснение мною учинено…
Волынский бровями поиграл, пальцы в замок выгнул.
– А ежели врешь? – спросил. – Тогда как?
– Мне завсегда поверят, – не уступал Лебедев. – Потому как человек я фискальный, в доносах тех руку набил себе. Еще при Петре Алексеиче, царствие ему небесное…
– Да ведь царствие-то небесное, – намекнул Волынский, – по суседству с адом лежит… Иль не знаешь? Фискал ты бывый, да будет нос сливой! Нешто тебе, человечек, людишек не жалко?
– А куды деться? – обомлел Лебедев. – Фискальное дело похерят вскорости. А взамен, сказывают, снова Тайную канцелярию подымать станут… На жисть-то где взять? Может, и меня, по опытности, к делам пытошным определят. Вот оно и славно получится!
Волынский подлость фискальную на стол положил:
– Посиди, праведник… Да повремени: может, у меня на Саранск дела до воеводства станется, ты и оказию мне сделаешь…
И – вышел. Кубанца поймал, в угол его затолкнул.
– Наследили мы тут, – шепнул горячо. – Теперь подтереть надобно. Ты, Базиль, и подотри все, когда стемнеет… Чуешь ли?
Лебедева губернатор с темнотой от себя отпустил. Вышел камерир-фискал, а за ним – тенью неслышной, поступью дикой – Кубанец покрался. Топор в руках перевернул да обушком сзади – тюк!
Вернулся калмык, топор осмотрел – чисто, ни пушинки.
– Дело сделано, – сказал Базиль, – а слова не осталось.
Тогда Волынский донос взял, сунул бумагу в пламя свечи, извел подлость в прах. И прах тот в окно выкинул – на ветер.
– Тело-то? – спросил. – Убрал? Или так оставил?
– Собаки его к утру съедят. Или божедомы уберут…
* * *
Божедомы были и на Москве – мужики видом страхолюдные!
Днем отсыпались на печках, а чуть свечереет – глядь, они уже выползают. На животе у каждого – передник из дерюжинки. В руке – по крючку железному. Божедомы этим крючком мертвеца с дороги уберут, собаку забьют и шкуру снимут, не мешкая. А коли ты загулял, не успев еще одежонку свою пропить, так они и тебя могут ковырнуть по башке железкой. Винить ли их за это? Не надо: всяк человек чем может, тем и кормится… Таковы-то дела ночные – дела божедомные!
А безвестных мертвяков, на Москве собранных, свозили под утро за Яузу в «гошпиталь». Там целый городок выстроен: аптека, бурсы для студиозов, бани, дома для слуг, «приспешные» да изба особая, в которой для Николаса Бидлоо пиво варили… Всех покойников божедомы тащили прямо на столы.
– Сорок сороков! – скажут и шлепнут на доски…
Это ради «трупоразодрания» (сиречь анатомии). Николас Бидлоо – Быдло – для русской армии хирургов готовил и за каждого выученика по сто рублей с головы получал. Деньги-то какие, подумать страшно, – бешеные…
– Сорок сороков! – кувырк и шлеп на доски…
В пять утра (еще затемно) вставали русские студиозы, шли в самый смрад, на гноище. Голодные. Нищие. Босые. «О наука! О матка!» Бидлоо недаром Быдлом прозывали: он плетьми отроков стегал, в карцерах их мучил, лицом в разъятые трупы пихал…
– О наука! О матка – жесточайшая ты!
По сто рублей за каждого получал. А щи ребятам сварят, так он, сволочь поганая, с женою да любовницами придет на кухни и весь жир сверху котла себе в миску сольет. Мол, и так сожрут, а мне, ученому, жиру больше надобно…
– Сорок сороков! – закончили свою работу божедомы.
И тут все услышали тихое журчание: это текло из-под мертвого тела. Сквозь доски. На пол… Студенты заволновались:
– Господин Бидлоо, мертвое тело испускает урину!
Тростью помахивая, подошел Николас Бидлоо – прислушался.
– В натуре, – растолковал он научно, – нередки подобные казусы! Иной раз мертвое тело изливает из себя не только пошлую урину, но и святые слезы раскаяния в содеянных грехах!
Только он это сказал, как вдруг «тело» перевернулось на другой бок. Легло поудобнее. И кулак под щеку себе подсунуло.
– О! – воскликнул Бидлоо. – Это тело мне хорошо знакомо. С этим телом однажды я даже пил водкус… Генрих Фик, камералист известный. Коммерц-коллегии вице-президент… встаньте же!
Не встал. Опившегося Фика на телеге вывезли за Яузу – как раз напротив «гошпиталя» раскинулась Немецкая слобода. Был вызван караул и пастор для опознания. «Тело» господина Фика изволило крепко спать. Майор фон Альбрехт, служака аккуратный, велел составить опись вещам, кои при «теле» обнаружатся. Набор мужской галантности был таков: два шарика от бильярда, надкусанный пряник с изюмом и… кондиции, о которых теперь (как о бумагах преступных) даже упоминать было нельзя.
Анна Иоанновна, узнав об этом, так повелела:
– Злодея сего Фика, чтобы ядом конституций не брызгал, сослать подалее. А суда над ним не учинять, яко над человеком иноземным, в Европах известным… Не нужен ли он графу Остерману?
– Бедный Генрих! – отвечал Остерман. – Как давно он, огрубев душою, не посещал нашей кирхи… Ну разве можно немцу соваться в русские дела? Нет, – заключил Остерман, – Фик мне не нужен!
– А тогда, – распорядилась Анна, – допрос ему сделать. Но без пристрастия…
Сие значило – без огня, без плетей, без дыбы. Генрих Фик пробудился и увидел над собой генерала Ушакова.
– Для какого злоумышления, – спросил его Андрей Иванович, – ты приберег сии кондиции ужасные? И показывал ли кому? А кому – назови мне того, не запираясь.
– Ежели ея величество, – отвечал Фик, – в радости первобытной кондиции те одобрила на Митаве, то и греха не вижу в том, чтобы на Москве их прятать. А показывать их не показывал…
– Имел ли ты их в бережении секретном? И покеда в пьянственных заблуждениях пребывал, не читал ли кто у тебя кондиций, а потом, прочитав, не вкладывал ли тебе под кафтан обратно?
Генрих Фик кафтан свой прощупал.
– Увы, – отвечал, – деньги все сперли… Из чего и следует, что кондициями воры пренебрегли, как вещью бесприбыльной… Еще какие вопросы будут?
Генрих Фик, знаток конституций и правлений коллегиальных, был сослан без суда над ним. А майор фон Альбрехт за проворство свое получил от Анны в награду богатое село Котлы[11] в Ижорских землях. В этих Котлах были мужики, там были бабы, телята, гуси, много ягод, сметаны и рыбы… Котлы так понравились Альбрехту, что он теперь так и зыркал глазами: не валяются ли где еще кондиции?
Но чья-то могучая длань вдруг обрушила его на землю.
Это свалил его граф Павел Иванович Ягужинский.
– Скнипа! – сказал. – Самобытную душу сгубил ты… В тех самых Котлах тебя, мерзописца, и сварим, как рака!
* * *
Иван Ильич Дмитриев-Мамонов, зять царицы, был противником самодержавия, и Анна Иоанновна об этом знала. Знала, но зятя своего не отшибешь, и коли ехала куда, то правую дверцу кареты доверяла сторожить Ивану Ильичу. Так и сегодня было: тронулись – вереницей, Анна ехала навестить Дикую герцогиню… Слева скакал на пегой кобыле граф Федька Матвеев, справа на тяжелом коне – Дмитриев-Мамонов в седле мчался. Спереди и сзади карету с царицей охраняли кавалергарды в латах…
– Пади! Пади! – кричали дворяне-форейторы.
И тоненько свиристели в лесах золотистые горлинки.
Дмитриев-Мамонов вдруг в седле выпрямился, в стремена ботфортами врос, шляпу свою далеко в кусты отбросил и загоготал:
– Ого-го-го-го… Вот так ладно!
Носом вперед он полетел через голову коня. Кавалькада остановилась. Густав Левенвольде подал Анне руку и сказал:
– Смерть скоропостижна, но… она загадочна!
Анна Иоанновна посмотрела, как лежит на земле зять ее, течет в пыль кровь из носа, а над мертвым телом, шумно вздыхая, стоит конь боевой – под вальтрапом, волочатся поводья в блестках.
– Никак, отравили? – вскрикнула Анна.
– Безусловно, ваше величество, ибо, садясь в седло, ваш зять был величав и бодр, как всегда… Это – злой умысел!
– Небось они и меня не оставят – изведут!
– Злодеи эти, – продолжал Левенвольде, – конечно, из прожекторов конституционных, и мстят они пока не вам, а людям, которые близки сердцу вашему по родству…
Анна Иоанновна захлопнула дверцы кареты.
– Поворачивай – на Москву!
День был проведен в смятении, за стенкой выла овдовевшая сестрица Параша, билась над мертвым генералом:
– Господи, так и не понесла я… не понесла!
Велели доставить во дворец Тимофея Архиповича.
– Поворожи мне, блаженненький, – попросила его Анна.
Юродивый глаголы подбирал иносказительно.
– Движется, движется, движется, – заскакал он по комнатам, под кровати заглядывая. – Креста-то божьего нет, а все черно… И все не нашенское. Мышку-то белую кличь, Аннушка, кличь… И пришли хлебца юродивому, от коего сама в пятницу укусила! Я твой кус к своему кусу примерю… Ай, обида-то какая: мои зубы на твои не лягут. В колокола погоди звонить, звони в бубны!
Ничего не поняла Анна Иоанновна, только еще больше стала бояться. Всего – двора, бояр, мужиков… всей России! Явился к ней Бирен, целовал колени, а речь странной была:
– Отпустите меня, ваше величество. Меня не любят здесь, и беда неминуема! Если не пощадили русского генерала, то… Вот! (Бирен держал в пальцах тонкое, как игла, стекло.) Вот, ваше величество, стекло это выловили сейчас из тарелки нашего маленького Карла!
Анне принесли ужин, но она смахнула его со стола:
– Прочь! Не стану есть. Отрава мне чудится…
Рейнгольд Левенвольде быстро сообразил, что надо делать.
– Прикажите позвать моего брата? – спросил вкрадчиво.
– Зови…
Быстрый и ловкий, явился Густав Левенвольде.
– Нет, не было и не будет двора в Европе, – заговорил, – где бы не береглись от крамол и яда! Но я уже распорядился: отныне пищу вам готовить будет кухмистер Фельтен, из образованных гастрономов Германии, и… – Левенвольде пальцами пощелкал (из-под манжеты вдруг веером рассыпалась колода карт).
– Говори, – разрешила Анна. – Все говори, что мыслишь.
– Пора подумать вам о защите престола своего! Великое государство не может не иметь тайного розыска…
Анна Иоанновна побагровела, задышала часто.
– Кого? – спросила, на рассыпанные карты глядя. – Кого назначить? Ромодановский-то волею божией помре в тягостях…
Левенвольде нагнулся и цепко подобрал карты с полу. С треском он перебрал колоду в пальцах. И сунул за обшлаг обратно.
– Мы, – сказал, – ваши старые митавские друзья, никак не согласны мешаться в русские дела. Во главе сыска надобно ставить обязательно русского! И чтобы он был предан вам! И чтобы знал Россию вдоль и поперек! И чтобы вид крови его не устрашил…
– Ушаков, – догадалась Анна. – Ушакова не устрашишь.
– Вот именно, – просветлел Левенвольде. – Персона эта закалена и в счастии и в бедах. Ушаков ел на золоте, но умеет носить и лапти. Он знает мужика и солдата одинаково хорошо, как и вельмож России… Окажите же ему доверье, как церберу престола!
Анна Иоанновна задумалась. Ушаков – ласковый такой, шустрый. Коли фрейлина платок обронит, так он подскочит ловчее камер-юнкера. И спина гнется – хоть куда! Крепенький старичок. Говорят, акафисты поет умилительно. Ко всенощной исправно ходит. А сон его короток бывает, как у монашенки старой…
И велела императрица звать Андрея Ивановича до себя.
– По матерному благоутробию к своим верноподданным, – сказала она, – защищу народ свой от плевелосеятелей… А ты, енерал, псом моим верным желаешь ли быть?
Ушаков так и ляпнулся перед нею – словно лепешка сырая:
– Изволь, матушка… стану. И на людишек излаюсь!
– Тайную канцелярию, – нашептала ему Анна, – погодя оснуем по всем строгостям. А пока ты возле мены – бди!
И вышел из дверей царских Ушаков в парике громадном, пудрой обсыпанном, и сказал – для сведения всеобщего:
– Ныне народ русский стыдлив стал: доносить в подлость себе почитает. А донос – дело государево, и служба за царями не пропадает! Так велено объявить крепчайше Сенату и Коллегиям, по кораблям и полкам, по кабакам и площадям, чтобы отныне всякой, кто ведает зло потаенное, пусть кричит, не таясь: «Слово и дело!»
Глава пятая
Митава зашевелилась: слухи из Москвы достигали ушей бюргеров и рыцарей, обнадеживая их ласково. Как всегда, более других волновался фон Кишкель (старший) за сына фон Кишкеля (младшего):
– Ого! Мой Ганс недаром восемь лет учился клеить конверты, теперь быть ему в России тайным советником…
А вскоре до Митавы дошла весть, что Бирен стал рейхсграфом Священной Римской империи. В дипломе на титул графа Бирен впервые (по оплошности или умышленно) был назван «БирОном», а Бироны – очень знатная во Франции фамилия…
– Но это еще не все! – бушевал в ратуше фон дер Ховен. – Император Германии дал Бирену мешки с гульденами, чтобы тот купил для себя замок Вартенберг в землях Силезии. И прислал ему в дар портрет свой, усыпанный бриллиантами… Нам, честным и благородным рыцарям, и не снился тот блеск, что ныне исходит от груди человека низкого, коварного и презренного, как лакей. Эй, паж, я не могу говорить, когда кружка моя пуста… (Тягуче булькая, текло черное пиво.) Знаете ли вы? – вопросил фон дер Ховен.
– Еще не знаем, барон! – отвечали доблестные рыцари.
– Тогда наберитесь мужества, чтобы знать… Анна Иоанновна подарила Бирену, а за что – вы знаете, надеюсь…
– Знаем, знаем! – отвечали рыцари.
– …город Венден[12] со всей скотиной, домами и жителями. А это страшно: сегодня – Венден, а завтра – Митаву?
Фон Кишкель (старший) пихнул в спину своего сына:
– Выступи и скажи, что Речь Посполитая постоит за нас…
Ганс фон Кишкель (младший) слабо пискнул:
– Речь Посполитая постоит за нас…
– Как бы не так! – громыхнул в ответ фон дер Ховен. – Поляки сами не успевают стирать свое изношенное белье. Саксонцы едят их, словно вши, и полякам не до наших желтых штандартов!
– Как темно грядущее Курляндии, – раздался голос из глубин ратуши. – И мрачно на дорогах лесных и бурно на путях в море… Так не лучше ли всем нам выбежать с факелами и заранее осветить дорогу сиятельному графу Бирену?
– О-о-о, – простонал фон дер Ховен, – я узнаю этот голос… Это голос ландмаршала фон Браккеля, подлеца известного! Я покидаю вертеп, в котором слишится голос ехидны… Прощайте все!
Ландмаршал (и подлец) фон Браккель протиснулся вперед.
– В самом деле, – захохотал он нагло, – бывают ли анекдоты более забавные? Судите сами: Бирен стал рейхсграфом Римской империи гораздо раньше, нежели дворянином Курляндии. Но это мы сейчас исправим. Эй, паж! Вытяни руки передо мною… вот так! – Брискорн показал ему свои розовые ладони. – Они чисты у тебя, – присмотрелся Браккель, – но ты вымой их еще раз. Священные матрикулы курляндского рыцарства никогда еще не имели пятен!
Под сводами блуждало эхо, – там, на высоте, стиснутой камнем, еще блуждал гневный рык ушедшего фон дер Ховена. Дворяне сняли шляпы, когда раскрылся переплет из свиной шкуры.
– Да будет воля твоя, – взмолился фон Браккель и вписал имя Бирена в матрикулы рыцарства. – Кто повезет в Москву патент? – спросил потом, перо отбросив. – Я знаю, никто из вас не согласился на бесчестье… Тут нужен подлец! А кто у нас подлец?
– Ты подлец, – отвечали ему из зала. – Вот ты и вези…
– Благодарю за доверие, – ответил фон Браккель. – Я отвезу патент. Но, клянусь, это был последний день в моей жизни, когда меня назвали подлецом…
Устами подлеца глаголила истина: Браккель привез патент имматрикуляции, и Бирен дал ему поцеловать руку.
– Ну, раскрывай шкатулку! Интересно, какая жаба выпрыгнет оттуда?
Щелкнул ключик: на дне лежал свиток рыцарской грамоты.
– Как жаль, что ты не фон дер Ховен! – сказал Бирен, сияя. – Позволь в лице твоем поблагодарить все курляндское дворянство. – И, так сказав, он врезал Браккелю хорошую оплеуху. – А раньше, – спросил, – почему вы этого не сделали?.. Бедняжка, ты ведь ехал сюда за сладким. Ну, встань… (Браккель встал.) Чтобы враги мои подохли на Митаве от зависти, так и быть, ландмаршал: отныне ты – в чине действительного тайного советника…
– Я думал, – отвечал фон Браккель, – что вы, граф, способны на большее. Или слухи о вашем всемогуществе несправедливы?
– О, подлец! Как ты ловко умеешь набивать себе цену…
Бирен прошел в аудиенц-камору, оглядел придворных. Стоял средь них принц Людвиг Гессен-Гомбургский – холуй, что генералом был на службе русской. Бирен подошел к нему и снял с груди его ленту ордена. «Потом верну», – сказал и кавалерию ту передал фон Браккелю.
– Нет, – сказал, – слухи обо мне справедливы… Так и передай на Митаве, что отныне Бирен может все. Носи! Только не спутай в пьяном виде эту кавалерию с платком для носа…
На московских заставах неустанно скрипели шлагбаумы: ехали немцы. Так и сыпали горохом… Прибыли на Москву и два фон Кишкеля – старший и младший.
– Я восемь лет учился клеить конверты. Доложите обо мне Остерману: нужен ему чиновник грамотный или не нужен?
Оба фон Кишкеля (отец и сын) попали в Канцелярию конюшенного ведомства, которым стал руководить Карл Густав Левенвольде.
* * *
Жолобов на сторону сплюнул – в уголок:
– Ну, господа шляхетство, мой черед вас бить… Каково же ныне вам икается без кондиций? Чего грустите? Ась?
Степан Лопухин шлепнул краги на стол.
– Не дразни нас, – сказал. – Государыня законная, и самодержавство ее наследное…
– Не болтай, – ответил Жолобов. – У тебя вон жена Наташка законная, да под Левенвольде легла.
Иван Михайлович Булгаков, секретарь полка Преображенского, стал кручиниться шибко:
– Что делать, дворяне? Ныне гнида люба и та в порося растет. Эвон, Альбрехт! Да я в рожу его бил, а теперь он – майор. Мужиками обрастать стал. И то нам обидно в полку славном: за что честь ему? За что немцам раздают мужиков наших?
Князь Юрка Долгорукий на двери посматривал:
– Вы тише, ребятки! Боюсь я ныне… Моих-то всех уже догрызли. Как бы и мне с фельдмаршалом не пропасть!
Князь Михайла Белосельский, что в Измайловском селе хахальничал, тот головою качал, смеялся безмятежно:
– Мне пока ништо… Герцогиня Катерина Мекленбургская наш дом жалует. Вчерась мне тышшу рублев дала! «На, говорит, Мишель, иль так проешь, или скрои себе мундир новый…»
Степан Лопухин (тугодумен) сказал себе в оправдание:
– Я корень Петров не люблю, ибо Петр свою жену, а мою сестрицу Евдокию Федоровну, замучил. Потому и пошел я за Анной…
Булгаков вскочил с лавки, на кошку наступив.
– Меня тоже судить нельзя, – оправдывался. – Я от верховных министров через Анну самодержавну спасался! Знатные люди, им что стоит такого секлетаря, как я, слопать?
Братья Соковнины (люди уже драные) уклонялись от беседы.
– Перемелется, – махали руками. – Мука и будет…
Юрка Долгорукий не усидел – испугался речей опасных.
– Пойду, – сказал. – Да и в сон клонит… Бог с вами.
А в дверях столкнулся с Юсуповым-князем; старый сенатор щетинкой оброс, худ и небрит.
– Почто замолкли? – спросил. – Я чиниться не стану…
– Предков твоих, мурза мурзаныч, – снова кричал Жолобов бранчливо, – мы на поле Куликовом уже стебали. А сказывай, где же ныне станут немца бить? Туда и пойдем. Без шапок, с рукавицами!
– На Москве место лобное всегда сыщется, – отвечал татарин с умом. – То площадь Красная, вот туда и ступай… Ори!
Степан Лопухин кошку на колени себе усадил.
– Будет собачиться, – сказал. – Эка кисанька… хорошенька, гладенька!
Жолобов был пьян, настырен – его не унять.
– Слышь, князь, – снова налип на Юсупова, – на месте лобном, случись только перемена знатная, не только немцам, но и всем нашим головы рубить будем. И всех, кто орал тут за самодержавие, изведем под корень. С тебя и начнем! Такой лес на Руси повалим, что голо-пусто останется…
Из узких щелок старика татарина потекли слезы мутные.
– Погоди, Алешка, топором махаться, – ответил сенатор. – Что за жисть такая проклятая? Куды ни придешь, везде топором машут. Эвон, Татищев! Знаешь ли? Если б не Анна, верховные ему давно голову отрубили…
– Это он сам на себя клепает, – вступился Булгаков. – Чтобы милостей у двора загрести поболе. Под топор-то этот он тышши дворов заимел… Одначе немцы его не жалуют!
– Верно, не жалуют! Почему бы? Да он их до монетного дела не допущает, хоть кол ему на голове теши. Воровать одному всегда удобнее, нежели в компании…
Грохнули двери с разлету, и вскочили все разом. Старые и молодые. Качнулись свечи в шандалах. А в растворе дверей – пьяная – стояла цесаревна Елизавета Петровна, а за нею две головы еще торчали – Жано Лестока и сержанта Шубина, тоже веселы были!
– По-за углам прячетесь? – взвизгнула Елизавета, качнувшись от притолоки. – Храбры все стали… Жаль, что не меня на престол посадили. Я бы немецкий навоз поганой лопатой за рубежи выгребла. Еще пожалеете, что не меня…
Тут Степан Лопухин (на правах сородича) подскочил. Ладонью грубо рот цесаревне захлопнул. И повалил Елизавету назад – на руки друзей ее.
– Везите! – велел. – В слободу Александрову. И по Москве не болтайтесь… Смутно стало.
Повернулся к гостям. От страха даже вспотел:
– А мы разве что слышали? Нет… Расходись по домам.
* * *
Домой придя, Юсупов ботфорты скинул, босиком прошел к себе. Пол чистый, прохладный – хорошо ногам, как в степи утренней… Вина налил в чашку и, свечу придвинув, долго вилкою ковырял он печатку перстня. Еще фамильного – еще от хана Едигея!
Но ковырять сослепу надоело, бросил перстень в вино – и так растворится. Сыновей перед вечной разлукой будить не желал, только дочь покликал.
– Сюйда пусть придет, – сказал старик по-татарски…
И вошла Сюйда (во крещении княжна Прасковья Григорьевна). Сама она в шальварах, блестел от пота голый живот. Поверх девичьих плеч супервест накинут. На волосах черных – чепец голландский. Тонкая, худая, злющая! А глаза из-под сабель-бровей глядят на отца – вдумчивые, проницательные…
– Сыновья мои, – сказал Юсупов, – те – как трава: нагни и лягут. А ты, Сюйда, словно ногайка, – тебя не сломать!
– К чему это, отец мой? – спросила княжна по-французски.
– А так… – Пальцем, корявым и скрюченным, помешал старик вино в чашке. – Меня, – сказал потом, – глупым татарином князья русские называли. Оно, может, и правда, что глуп старый Абдулка. Но я стар, бит, я заслужен! А сколь угодничать приходилось мне, и был я рад кондициям тем, потому как не надо временщикам дороги давать. А теперь все кончилось… Вождей нет – одни временщики! Но бесчестия мне уже не стерпеть… Ой, как страшно ошибся я в Анне, царице нашей!
Бедром вильнув, княжна подтянула шальвары.
– А перстень ваш, – спросила, – где?
– Вот он… тут! – ответил отец и, встав, проглотил отраву единым махом, а перстень дочери протянул: – Возьми, Сюйда… на память неизбытную! Сейчас я поскачу на восход…
Вышел из-за стола, пошел прямо на печку:
– Ай, кони мои… стой! – Ударился головой в лиловые изразцы, постоял, лоб студя, и ноги обмякли – рухнул замертво…
В опочивальне своей колдовала Сюйда в тишине. Странно и пылко звучали ее заклинания. Кружилась в бесноватом танце, дикая, гибкая, страшная. Потом парсуну Анны Иоанновны ставила перед зеркалами, капал воск… И двоилось, троилось лицо царицы. Алмазным перстнем, тихо воя, резала княжна по стеклу. Зазвенел алмаз, полоснув по глазам, по губам. Старинный тот алмаз, фамильный, юсуповский – еще от Едигея!
Грянул на дворе выстрел. Сюйда застрелила медведя, что жил в любимцах у старого генерала. И печень медведя кривым ножом вырезала, долго сушила ее в печке. Еще дольше толкла печень в ступе – в порошок (мелкий и пахучий). А на рассвете тонконогий конь вынес княжну Юсупову за ворота – в спящие улицы Москвы.
По кривоулкам процокали копыта. По-татарски раскинув ноги в зеленых струистых шальварах, щекою смуглой к холке коня прильнув, скакала Сюйда (Прасковья, Парашка, Пашка)… Вот и дом Биренов – глухие окна. Между пальцев княжны просеялся в дорожную пыль колдовской порошок. Перед подъездом, перед конюшнями. И рвался конь Сюйды от этого места, дрожал от страха гладкою шкурой, косил на сторону его большой кровяной глаз.
– Бысть, бысть, бысть! – гнала его княжна дальше.
Вот и дом братьев Левенвольде – полной пригоршней Сюйда швырнула в ворота этого дома свой порошок.
– Бысть, бысть… бысть!
Вернулась домой, провела коня в стойло. Поднялась на цыпочки и язык свой всунула коню прямо в ухо. Скатился с языка Сюйды в ухо жеребца крохотный желтый шарик. Это был воск, а в нем – жало змеиное. Конь, всхрапнув, рухнул на землю, выстелил ноги и откинул голову, словно мертвый.
– Отдыхай, миляга! – сказала ему Прасковья по-русски; это был старинный способ ногаев: теперь коня никто не возьмет, никто не скрадет, и братья не будут сегодня хвастать в полку красавцем…
Утром Анна Иоанновна, узнав о смерти Юсупова, сказала Салтыкову раздумчиво:
– Абдулка старый в пьянстве живот свой окончил. Место на Сенате после него упалое. Кого взамен ставить-то будем? Покличь, Семен Андреич, скорохода бойчее: пущай до графа Бирена сбегает, да Остермана звать… Коллегиально и порешим!
Бирен не явился на зов. В воротах дома кони уперлись, бились в упряжи, на губах висли клочья пены. Молотя копытами, не шли… Их били, били, били, – нет, не шли!
Бирен, ошалев от ужаса, выскочил из кареты:
– Бегите к Левенвольдам… Скорее!
Но Густав Левенвольде дальше своих ворот не уехал тоже. Шестерка цугом – будто врезалась в землю. Уперлись кони, мотая гривами… Ржали в бешенстве – не шли!
Прослышав об этом, Анна укрылась в покои дальние. Забилась в угол. Бормотала молитвы страстные. Потом вспомнила:
– Ружья-то! Зарядить фузейки… Никого не пускать! Двери на запор! Гвардию сюды – на защиту особы моей святой…
Остерман тоже от дома своего не отъехал. К полудню все немцы, которые были в рангах высоких, застряли дома, как в осаде. Но нашлось одно недреманное око – видели утром Юсупову, доложили Анне, и она схватилась за грудь.
– Ой! – сказала. – Да я ж еще с вечера тую мерзавку видела. Во сне она мне являлась. В штанах своих бусурманских, будто гадюка, она через порог ползла, и вот сюды, прямо в титьку, меня жалила…
Нагрянули с обыском. Нашли зеркала в надрезах таинственных. А на портрете царицы глаза были вырваны. И в полоске губ ее, в узкой прорези, торчал червонец – гнутый и расплющенный. Прасковью Григорьевну Юсупову предали скорому суду.
– Желала ли ты извести ея величество? – спрашивали.
И получили честный ответ честной девицы:
– Да… желала! Предвижу горести и беды от царствования звероподобной матки, алчной, низкой и любострастной!
– Ведомо ли тебе, что за чародейство колдовское имеешь ты быть сожжена заживо на огне лютом?
– Жгите! – отвечала Сюйда…
– На костер ее! – решила Анна Иоанновна.
– Помилуйте, – вступился Бирен. – Губить такую красоту в расцвете юности и… как? Огнем? Что скажут в Европах?
Княжну Юсупову (по совету Бирена) сослали в Введенский монастырь, что на реке Тихвинке. Там она такую войну начала с властями духовными, что не раз солдат вызывали – усмирять ее.
* * *
Прасковья Юсупова оставила после себя легенды и очень мало документов. Не сохранилось даже портрета ее. Только в Третьяковской галерее висит картина Неврева «Княжна Прасковья Юсупова перед пострижением». Люди проходят мимо картины, не зная, что на ней очень точно изображен грозный Ушаков, не зная, какая трагедия разыгрывается здесь. Во мраке пытошного застенка чистым белым пятном светится фигура княжны. Ей жаль своей загубленной юности, но она не покорилась. Это не трава, которая гнется под ветром, – это ногайка, которую как ни сгибай, все равно выпрямится… Через восемь лет «несчастную измученную женщину по соображениям высшей политики нашли необходимым вновь подвергнуть истязаниям и тяжко избили шелепами. Никому не приходило в голову спросить себя, для чего нужно это бездонное море крови и слез, да и некогда было: много танцевали, пили, ели и мелькали в вихре флирта…»
Глава шестая
Феофан окреп здорово, даже в тело вошел. Выпирал животик – признак зрелости мужа духовного. Борода лоснилась, завиваясь колечками. А в глазах текло масло радости и довольства. Микроскоп он с Библии снял теперь и водрузил поверх книг ученых плетку-семихвостку. С крючками малыми на концах – такие плети были: как стебанешь попа – так мясо, бывало, кусками летит.
Расправясь с противниками, Феофан главным в Синоде остался, торчал над всеми клобуками, «аки кедр ливанский». И на просвещении Руси стоял твердо. Императрице проходу не давал: мол, когда же, матка, просвещать станем? Пора, мол, уже… Анна Иоанновна за всю жизнь только одного ученого видела: астролога Бухера, который в Митаве по звездам ей судьбу разгадывал. И в просвещении сильно сомневалась царица.
– А нужна ли та Академия невская? Гляди, сколь хлопотно и денежно… Да и мужи ученые, будто пауки в банке, один другого так и едят, так и едят!
– Матушка! – убедительно отвечал Феофан. – Воззри на дворянство благородное… Разве можешь ты дворянина узреть, чтобы свора борзых и гончих не окружала его?
– Да таковых не видывала, владыка.
– То-то! А каково же монархине не быть окруженной науками, подобно дворянину стаей собачьей?.. В свите девяти безгрешных муз дивных явись пред православными!
Но иначе звучали речи Феофана в Синоде.
– Ах, бедненькие! – говорил он пастырям, что сидели перед ним «яко ослики, уши повесив». – Никак вы порешили, что я и далее словесе на вас тратить буду? Нет, пасомые! Все полемикусы ныне переношу я в застенок пытошный. Тамо вас спрашивать стану, а вы из-под плетки мне истину сказывать будете… Да чего это вы в глаза мне прямо не глядите? Или худое замыслили?..
Страхи ночные дневных хуже. Мучился Феофан: мельтешат на Москве памфлеты тайные, читают их даже с амвонов церквей. В тех памфлетах Феофана врагом православия выставляют. Но и политики в тех памфлетах зловредных немало: о скудости народной и недородах хлебных, о том, что войско российское в слабости обретается, о том, что мелкой монеты нету, а рублевики для вельмож чеканят, и об Анне Иоанновне пишут – зачем она богатства русские в Курляндию вывозит?..
Сильвестр Холмский, архиепископ казанский, после того как Волынский стихарь у него украл, на Москве обретался в поисках правды на белом свете. И на чай к Феофану владыка давно просился – нижайше и подобострастно.
– Ну, садись, – сказал ему Феофан. – Буду тебя чаем поить… Говорят, будто смел ты стал: челобитные на имя высочайшее при всем народе раздираешь и велишь на свое имя писать?
– В изветах я, – согласился Сильвестр. – А почему? То Волынский власть духовную со светской властью мешает. И меня во грех ввел… Теперь хошь не хошь, а доносы писать надобно!
– Ты пиши, – сказал Феофан. – Ежели донос правдив, то честь тебе и слава. Волынского я знаю: он тиранствовать обожает.
Служка разлил владыкам китайскую травку по чашкам.
– Пей, – мигнул Феофан. – Да говори…
– Чего говорить-то мне?
– Разное говори… Вот, к примеру, когда блоха тебя укусит, ты, владыче казанский, что с ней делаешь?
– Ищу! А коль изловлю, то кручу в пальцах. Кручу, пока у ней башка не завертится. Потом блоху в обмороке – на ноготь. И давлю!
– Вишь ты хитрый-то какой! – погладил бороду Феофан. – А я вот не так действую. Блоху терплю, когда меня кусает. Терплю, да еще вот, видишь сам, блоху эту чаем пою…
Сильвестр поперхнулся травкой, бухнулся в ноги:
– Не погуби, родима-ай!
– Не погуби? – рявкнул Феофан. – Это вы сейчас ласковы стали ко мне, шулята бараньи! А ну-ка вас – ране?
Взял он Сильвестра за бороду, к полу пригнул и на бороду ему наступил. Казанский владыка (умудрен прежним опытом) изловчился и стал при этом сапог преосвященного целовать.
– Ловок ты! – похвалил его Феофан, усмирясь. – Давай сюда доношение свое. Мы Волынского, яко вора и взяткобравца, таково закрутим: в обморок его – и на ноготь, вроде блохи! Да и граф Ягужинский, коли войдет в прокурорскую власть, даст ему по шее!
Донос Сильвестра килой тянулся. Длинный, длинный, длинный…
Тридцать восемь пунктов – по справедливости!
* * *
Артемий Петрович и сам знал, что справедлив донос. Да огрызнуться-то было некогда. Сильвестр его врагом церкви выставил. Вором! Погубителем! «Ай, не до тебя мне ныне…» Болярыня Александра Львовна Волынская, из роду Нарышкиных, отошла с миром на Казани в день святого Артамония, когда все змеи по лесам да вертепам прячутся. У женина гроба горько рыдал Волынский:
– Господи! Сыщу ли я в лихолетье сие вертеп надежный?
Трое на руках осталось: Анька, Машутка да Петруша-волчок (в сыне – вся жизнь, это рода Волынских початок и семя на будущее). Теперь, во вдовстве, Артемий Петрович самолично пихал в сыночка каши с маслом обильным, а нянек всех разогнал:
– Кыш, кыш, дуры старые!..
Было Волынскому о ту пору сорок один год. Мужчина в соку. Богат и знатен. Ума занимать не надобно. Московские дела страшные пересидел на Волге тихой мышкою: попрекнуть в замыслах крамольных никто не сможет. Казалось бы, тут и начинай карьер свой. Гони кораблик судьбы между Сциллой и Харибдой… выше парус, выше! По ночам хаживал губернатор по комнатам, стучал башмаками. Да все пальцами похрустывал. Кубанца часто будил среди ночи:
– Базиль! Все ли мы спрятали, ежели за мной придут?..
Да, награблено было немало. «Что стихарь? – думал. – Стихарь тот в один пункт уместится. А как на остатние отлаяться?»
Разослал курьеров с письмами. Искал заручки в милостивцах. Лошадей гнал в подарок на Москву: Черепаха – Черкасский принял (жаден). Даже Ягужинскому писал, а уж как не хотелось писать ему!.. Семен Андреевич Салтыков выручил: через Бирена прошение Волынского попало в руки самой императрицы. Читали его вслух! При всем дворе… Потом, говорят, Анна Иоанновна у Ягужинского выпытывала:
– Павел Иваныч, скажи мне праведно о Волынском: таков ли уж он супостат, как я о нем наслышана?
– По правде, – отвечал Ягужинский, – проживи Петр Великий еще годочек, и быть бы голове Волынского на плахе…
Салтыков этот разговор подслушал и на Казань отписал так:
«И тое твое прошеньице ея величество апробовать не соизволили. А тебе, милый племянник, един спас есть: наискоряйше свадьбу устроить с какой из девок Салтыковых, что ея величеству, нашей благочестивейшей государыне, в родстве близком приводятся…»
В дни сыска одному лишь Кубанцу доверял Волынский.
– Жениться бы мне и можно, – говорил. – Детей одному не поднять, коли старшей моей всего осьмой годик пошел… С семьей на руках как совладать мужу одинокому?
– Женитесь, сударь, – советовал Кубанец. – Родством с царствующей особой вы любой пункт доноса за пояс заткнете!
– Оно бы и так, – мечтал Волынский, на диванах турецких валяясь. – Да супружние дела криводушья не терпят. Без любовного жару как можно от жены, сердцу нелюбезной, почать?..
И на Москву отвечал Салтыкову письменно такими словами:
«Невесты ваши затем досидели до сорока лет, что никто не берет. А мне, по мнению моему, душа и честь милее… Для того и желаю не бессовестно помереть! Каково же мне с немилой жить в доме одном, да еще и спать с ней на одной постели?..»
Волынский решил клин вышибать клином. Для поклепа на духовных особ он дела тайные изыщет. И вот ночью, когда заснула Казань, вся в душистом цвету яблонь, нагрянул Волынский прямо в архиерейский приказ. Замки взломали. Бумаги опечатали. Все по мешкам увязали. И на телегах увезли. А с постели подняли сонного канцеляриста – Тимоху Плетеневца, даже штаны помогали ему надеть, ибо от страха перед губернатором ослабел человек.
И – прямо в застенок, на Кабаны! Вывалили на землю бумаги. Волынский полистал их: ого, вот они, грехи-то духовные! Того и надобно было, чтобы клин клином вышибить.
– Начинай! – велел Волынский…
Но палач был пьян и дело испоганил сразу. Как только Тимоху Плетеневца на дыбу подняли (чтобы с голоса подтвердил воровство Сильвестра), так сразу он с потолка и сорвался. Да бревном ему обе ноги сразу – хрясть! Только кости хрустнули.
Душно стало в застенке от воя: насмерть погубили невинного человека… Артемий Петрович и сам испугался:
– Господи, простишь ли грешного? Одно мне осталось: просить суда над собой правого и скорого. Да Ягужинского сократи во гневе его, господи, не дай пропасть мне…
* * *
Кабинет императрицы еще не был создан. Но в преисподне стрешневского дома флейтировал по ночам бедный Иоганн Эйхлер. Сидя на цепи, словно пес, строчил по дням: секретно, по-остермановски. Кабинет пока был затаен в подполье империи, но слухи о нем уже ползли.
Конъюнктуры были сбивчивы: Остерману мешал Ягужинский, это был видный козырь – на него многие ставили.
Быть или не быть ему в генерал-прокурорах? От этого многое зависело: Пашка человек самобытный, таких взять трудно, такие люди зубами узлы развязывают… И вдруг Остерман тот «козырь» с а м перевернул.
«А ежели не вязать? – задумался. – И не мешать ему карьер делать? Тогда он начнет шумствовать? И кулаками махать? Кого сшибет? Бирен думает, что Пашка меня сшибет… Так ли это?»
Помешал развитию конъюнктур приход Вратислава. Остерман потянулся к козырьку, чтобы опустить забрало, как перед боем.
– Вена, – улыбнулся он входящему послу, – очевидно, опять встревожена: отдам ли я ей старый должок в русских солдатах?
– Не только это. Вена озабочена и долгим вдовством русской государыни. Кондиций, запрещающих ей брак, уже не существует!
Вице-канцлер потянул на себя теплое одеяло. «Анна, – думал, – и в замужестве будучи, меня при себе сохранит. Но коли муж у Анны объявится, потеха будет с графом Биреном!..»
– Кого же Вена сватает для России? – спросил спокойненько.
– Русский царь будет молод, храбр и красив…
«Хорошо бы еще и глуп», – сразу решил Остерман.
– И… глуп! – утешил его Вратислав, расхохотавшись.
Остерман двинул морщинами лба, и козырек упал ему на глаза. Бой так бой! По всем правилам турнира…
– Опять эти гнойные fluxion a los ofos, – пожаловался он на зрение. – Однако, – добавил, морщась, – если Вена предлагает в русские цари немца, то хочу предупредить: русский народ еще не успел оценить превосходства немцев!
– Вена учла и это, – отвечал Вратислав. – Древний дом Габсбургов – не только немцы. И русский царь… Ха-ха! Вот уж, граф, никогда не догадаетесь – как его зовут?
– Не знаю, – сознался Остерман.
– Дон Мануэль, инфант Португальский… Каково, граф?
Остерман вынул из-под одеяла руку и прищелкнул пальцами:
– Германии не стоит торопиться в этом вопросе, когда дело касается династических осложнений в России, и без того запутанных еще со времен Петра Первого…
Вратислав откланялся, а Остерман, подумав, велел Розенбергу пригласить на дом врача Николаса Бидлоо:
– Я, кажется, опять… умираю.
Скоро примчался курьер от рижского губернатора: в Риге высадился некий принц, который назвать себя отказался. И ныне принц гонит лошадей прямо на Москву. Таинственный принц ехал налегке, без свиты. Наперехват ему были посланы генерал-адъютанты. Принц себя по-прежнему не называл и рвался далее…
– Пуф! Это пуф! – притворно удивлялся Вратислав. – Нас просто дурачат!
Но сказочный принц уже велел доложить о себе.
– Не забудьте напомнить ея величеству, – сказал он, – что, в случае брака с русской императрицей, я получаю в наследство два острова – Минорку и Майорку, из которых мы любовно образуем отдельное райское королевство…
Анна Иоанновна и не знала, что такие острова существуют. Бог с ними! Но женишок-то – вот красавчик! Ну до чего же мил… В селе Измайловском девки глаза на него просмотрели: «Петушок ты наш, лапушка-то какой… Охти тошно мне!»
– Германской империи, – язвил герцог де Лириа, – мало иметь одного лакея в России – Остермана, теперь немцы решили въехать в Россию на брачной постели…
Дон Мануэль Португальский огляделся: вокруг немцы. И язык немецкий. И трости в руках австрийские. Тогда инфант ляпнул свою первую глупость.
– Я тоже не испанец, – признался он. – Я тоже немец…
Вина он стерегся, не табашничал. Но зато играл в карты. Денег у него не было. Расплачивался за инфанта, конечно, Вратислав. А все внимание инфанта было устремлено на русский престол. Там сидела Иоанновна – матка! Красный платок она скинула, брови намазала, щеки нарумянила… Сорок лет для женщины – возраст самый опасный, можно ждать победы инфанта! Безумный возраст!
Между тем дон Мануэль повсюду не переставал хвастать:
– Мы образуем особое королевство на Минорке и Майорке! А это значит: апельсины в России сразу подешевеют…
Апельсины – его приданое. Габсбурги скупы и расчетливы: им хотелось приложить гигантскую Россию к двум крохотным островкам Балеарского архипелага. Бирен и Левенвольде, два соперника, сошлись в ревнивом комплоте, чтобы сообща избавиться от третьего. Бирен ругал Остермана:
– Эта вестфальская скотина плохо кончит! Неужели он, по слабости ума своего, думает, что мы хотим занять его место?
– Смешно! – горячился Густав Левенвольде. – Зачем нам с тобой быть вице-канцлерами? Разве нам плохо и так?
– Да! – злился Бирен. – Нам и так совсем неплохо…
Надо было спасать Россию от инфанта. Но… как? Сами не могли придумать и позвали барона Иоганна Альбрехта Корфа.
– Безбожник Корф, – сказали ему, – ты был самый умный на Митаве… Можешь призвать все силы ада, только помоги нам!
– Вылезайте сами! – ответил Корф в ударе. – В прошлый раз вы передали должность умника остолопу Кейзерлингу!..
Соперники позвали на совет и барона Кейзерлинга:
– Послушай, Герман! Мы тебя знаем, как самого умного на Митаве… Ну-ка докажи это! Как избавить Россию от инфанта?
– О, великий боже, – закатил глаза к небу Кейзерлинг. – Но это же так просто! Один только разок покажите инфанту цесаревну Елизавету Петровну, и, уверяю вас, завтра вся Португалия переедет в слободу Александрову…
Инфант был доставлен в Александрово. Выпив деревенского пива, цесаревна целый день качалась с инфантом на качелях. Вверх – вниз, вниз – вверх, а столбы – скрип-скрип, а в ушах ветер – свисть-ввысь!.. Устоять перед красотой Елизаветы было невозможно, и дон Мануэль забыл про царицу. Целыми днями теперь пропадал он в деревне. Но эти амуры обернулись ему боком. Анна Иоанновна, как женщина и царица, была глубоко оскорблена. Как? Блудящую с солдатами Лизку предпочли ей, императрице… Она отменила все ассамблеи, парадное платье закинула в сундук и опять надела красный бабий платок.
– В монастырь! – закричала. – Заточу Лизку там на веки вечные, а всех любовников ее изведу… Пущай едет! Куда глаза глядят!
Анна Иоанновна подарила инфанту на прощание драгоценную саблю, и дон Мануэль понял, что все кончено…
– Минорка и Майорка, – пролепетал он в ужасе.
Но перед ним уже склонился изящный Левенвольде:
– Лошадей для вас мы заложили, принц!
Остерман тут же выздоровел, и его снова навестил Вратислав.
– Русский двор, – сказал он обиженно, – совсем не приучен к тонкой политике. Императрицу нам осчастливить не удалось. Но Вена помнит, что у нее есть племянница, дочь Екатерины – герцогини Мекленбургской, и ей уже пошел тринадцатый год…
– Опять инфант? – испугался Остерман.
– Нет, – возразил Вратислав. – На этот раз самый настоящий немец. В вопросах альковных мы больше не станем церемониться!
* * *
Колеса кареты выкатили инфанта прочь за рубежи русские, и тогда Бирен перевел дух:
– Фу… фу! Как он напугал нас, этот петух… Остерману я этого не прощу. Ягужинский все-таки станет генерал-прокурором, и я буду счастлив видеть, как полетит пух от Остермана…
Павел Иванович граф Ягужинский был сделан генерал-прокурором. Зорко осмотрелся он в рядах чиновных: кого бы привлечь в помощь себе? И вытянул наружу секретаря Анисима Маслова.
– Ты да я, – сказал Ягужинский, целуя Анисима Александровича в лоб, – мы толщи боярской поубавим. Весь Сенат отныне под рукой моею. Я генерал-прокурор, а тебе быть, Анисим, при особе моей в обер-прокурорах… Чуешь ли? Я, как и прежде, – толковал Ягужинский с жаром душевным, – буду на Руси «оком Петровым». А ты, друг Анисим, станешь зрачком ока моего… Поглядывай! Где что не так, ты не жди, а сразу – реви! вопи! кричи! вой!
Глава седьмая
Москву навещали пожары, в дымном зареве носились голуби, розовые от пламени. А на далекой Неве задыхался в горящих мхах Санкт-Петербург, отставной «парадиз»: плыли в Балтику огненные дома, как корабли после баталии флотской… Подумать только: пять лет прошло со смерти Петра Первого! Что бы сказал он, из гроба вставши? «Где дубина моя? Та самая…»
При государственном обережении дубины Петра I состоял ныне на жалованье Данила Шумахер – секретарь Российской Академии наук. На берегу Невы хранились в Кунсткамере диковины мира. Рука младенца, вся в кружевах тонких, держала яйцо черепахи, и яйцо это было уже оплодотворено (то знаменитый Рюйш делал – мейстер!). С потолков свисали сушеные змеи и рыбы, удивительные. А в «винном духе» плавали монстры-уроды, и сосуды с ними Шумахер выстроил на полках, вроде органных труб. Стоял тут же скелет Буржуа – гиганта ростом, а рядом с ним – карличий. Колыхались в банках две головы, обе красоты невозможной: девки Гамильтон и Виллима Монса (девку Петр I жаловал, а Монса Екатерина I крепко возлюбила). Головы те отрубили, чтобы соблазна не было.
Среди монстров и склянок, бычьими пузырями крытых, похаживал сам секретарь Академии Данила Шумахер. И – посмеивался. А в углу, руки усталые уронив и голову запрокинув, сидел… Петр Первый. Все эти раритеты он собрал для науки, и теперь сам сидел среди вещей, словно в е щ ь. То была восковая персона, что граф Расстреллий из воска вылепил и змеиной кровью на веки веков закрепил для потомства. И дубина Петра тоже здесь находилась – в уголочке, совсем неприметная. Ее туда запихнул Шумахер, потому что многие видеть ее не желали. И говорили так:
– Мебель сию ужасную лучше бы от глаз держать подалее, дабы более она по спинам нашим не плясала…
Дубина находилась в почетной отставке. И покой ее оберегал Данила Шумахер, получавший за то бережение по 1200 рублей в год. А великий математик Леонард Эйлер тому Шумахеру подчинялся (и получал 400 рублей). В гневе праведном на недоучку Шумахера иногда вскипал Эйлер:
– Будь вы прокляты! Можете ли вы служить делу науки?
На что получал вежливый ответ невоспитанного человека:
– Я не делу служу – я служу персонам…
А по Москве хаживал долговязый парень-растяпа и ноздрями широкими дым пожаров тревожно обонял. Время его дубины еще не пришло, а звали растяпу – Михайла Ломоносов…
* * *
Густав Бирен (тля в панцире) крепко спал на холостой постели. Приученный к нищете, радовался он теплу и сытости. Столь крепко спал – аж слюну пустил… Вошел, куря трубку, старший брат его – Карл, хромая на перебитую в драке ногу. Гноился вытекший глаз, что вышибли в Кракове ему бильярдным кием. Ухо ему откусили в праздности дней его, а кто откусил – того нам не упомнить. Не долго думая, Карл Бирен выколотил трубку в рот спящему братцу. Густав Бирен вскочил и заорал от боли, плюясь раскаленным пеплом…
– Ничего! – сказал ему Карл. – Зато теперь будешь спать, держа все дырки закрытыми. Веселые шутки всегда надо понимать…
Густав сунул голенастые ноги в ботфоры, а Карл мимоходом вырвал у него из головы прядь волос.
– Ты в каком ныне характере? – спросил он Густава.
– Я… капитан, – приврал брат, морщась от боли.
– А я – генерал-аншеф…
– Хватит врать! – засмеялся Густав Бирен. – Ты был еще солдатом недавно. И что-то я не помню тебя в офицерах.
– Но я – генерал-аншеф! – упрямо повторил Карл и так треснул младшего брата, что тот закатился в угол…
На шум явился средний брат – граф и обер-камергер:
– Карл! Ты известный грубиян… Пожалей младшего брата!
– Почему все ему? – хныкал Густав. – Почему он уже генерал-аншеф? А я… я только капитан!
Граф Бирен закатил, на всякий случай, оплеуху Карлу:
– Негодяй! Кто присвоил тебе генерал-аншефство?
– Ты посмотри, как я изранен, – отвечал урод. – На мне нет живого места. Хочешь, я покажу тебе свою задницу? Поверь, от нее остались одни лохмотья…
Граф оглядел брата-калеку и пожалел его:
– Не спеши, Карл! Пока с тебя хватит и генерал-майора!
Тогда Густав Бирен (тля в панцире) захныкал еще громче:
– Мне так было чудесно в панцирном полку ляхов, меня все так любили. Польский сейм присвоил мне титул барона… А пани Твардовская была без ума от меня!
– Остолоп ты, – ответил граф Бирен. – Имей ума никому не болтать об этом. Но если тебе так уж хочется быть бароном, то называй себя им… Русским плевать на твои титулы!..
Бирен вошел к царице, и лицо его было печально.
– Кто посмел обидеть тебя? – спросила Анна грозно.
– Ах, – отвечал он ей, – право, я не знаю, что делать с братьями? Молодые дворяне рвутся услужить вашему величеству.
– Погоди, – утешила Анна его. – Россия большая: всем место сыщется. Но сейчас уходи от меня. Остерман говорить хочет, а я слушать его стану государственно… Ступай же!
Бирен стянул с шеи перевязь портрета, даренного германским императором. Отцепил от пояса ключ обер-камергера. Сдернул с пальцев все двенадцать перстней. Все это кучей свалил на стол перед Анной, и она зажмурилась от ядовитого блеска.
– Благодарю вас, государыня, за все милости, которыми меня вы осыпали. Но… прошу выдать пас! На меня и на мое семейство.
– В уме ли ты? – растерялась Анна.
– Я, – продолжал Бирен, – не могу оставаться далее при вашей высокой особе, не имея опыта доверенности! Остерман пожелал говорить с вами – и вы меня изгоняете, словно лакея.
– Дела те скучные, государственные. Помилуй…
– Ваше величество, – стройно выпрямился Бирен, – я прошу сказать Остерману, чтобы мне выписали пас до Гамбурга.
– Не дури! – закричала Анна. – О детях-то хоть подумай!
– Мои дети – в ваших руках. А я с разбитым сердцем оставляю здесь свое неземное волшебное счастье…
– Чего еще ты хочешь от меня?
– Только вашей доверенности, – отвечал ей Бирен.
Анна Иоанновна ладонью подгребла к нему груду добра обратно:
– Возьми это все. И не дури! Доверенность хочешь? Так и ступай за ширмы слушать Остермана. Помни: ты всех дороже для меня! Я никого, даже Морица Саксонского, так не любила…
Прослезясь, она дернула сонетку звонка:
– Зовите Остермана! Пусть войдет…
* * *
Но вице-канцлер не вошел, а – въехал. Остерман готовил себе триумф и катил навстречу ему на своей колеснице. Скрип колес затих, и Бирен услышал его голос:
– Ваше величество, прошу не судить меня строго, если я выражу вам свое неудовольствие…
– В чем провинилась я? – засмеялась Анна Иоанновна.
– Вы слишком… добры, – сказал Остерман (и громко прошуршало платье императрицы). – Русский народ не приучен к доброте, и ныне положение империи опасно. Надобно ждать смуты…
– А на что гвардия? – спросила Анна. – Семеновцы да преображенцы из моих ручек водку пьют и мясо едят.
– О-о, как вы заблуждаетесь, – тихо ответил Остерман. – Гвардия суть янычары русской армии. Они могут возводить на престол, но они могут и…
– А – кавалергарды? – не уступала Анна. – Да скажи едино словечко им, и они любого раздерут мне на радость!
Голос Остермана совсем стишал, и Бирен, стоя за ширмами, отогнул букли парика, освобождая большое ухо.
– Кавалергардию, – сказал вице-канцлер, – надобно уничтожить совсем, пока не поздно. Драбанты подают дурной пример войскам!
Вот тут-то Анна Иоанновна вконец растерялась:
– А кто меня на престол возвел? Драбанты те ж!
– Возведение на престол, – четко пояснил Остерман, – занятие рискованное, но дающее впоследствии большие выгоды. И оттого оно может войти в привычку! Сегодня возвели ваше величество, обретя от вас милости, а завтра, в чаянии милостей новых, могут возвести кого-либо другого… Как же вы оградите престол от покушений?
Бирен не дышал за ширмами: Остерман, конечно же, прав.
– Противу старой гвардии, оставшейся нам от Петра, – продолжил вице-канцлер, – надобно выставить свою гвардию. Именно ей вы и поручите защиту своего престола…
– Да ведь дебошаны-то везде одинаковы.
– В новый регимент следует набрать людей, которые не имели бы связи с Россией! Этим преторианцам будут безразличны русские распри внутри страны, и они целиком отдадут себя единой благородной цели – защите особы вашего императорского величества.
– А кто учить их станет? – спросила Анна, соглашаясь.
– Прусский король не откажет вам в учителях! За добрых великанов он вам пришлет опытных офицеров… А теперь соблаговолите, ваше величество, выслушать меня и далее!
Бирен услышал скрип колес: Остерман подъехал ближе к императрице, и – через шелк ширм – Бирен разглядел его профиль. Вице-канцлер заговорил и стал похож на крысу – нюхающую:
– Старый друг вашего величества, я советую вам покинуть Москву… Петербург стоит на болотах, но Москва на смутах! Чем дальше от Москвы, где рождены кондиции проклятые, тем дальше вы от опасности. Петропавловская крепость на Неве – не сильна, но вы заложите в ней бастионы новые… Поверьте мне: в Европе до сих пор недоумевают – как вы можете рисковать далее, живя в Москве!
Остерман вдруг громко заплакал, весь содрогаясь в коляске.
– О чем ты плачешь, Андрей Иваныч? – спросила Анна.
– Разгоните, – бормотал Остерман, – разгоните всех…
– Не плачь… Кого мне гнать-то?
– О, знали б вы, как много у вас врагов!
– Да я же разогнала всех… Кого еще? Вот только Жолобов еще на Москве, так завтра же в Сибирь его!
– А – Татищев? А – Кантемир? – спросил Остерман.
С грохотом затрещала роба царицы, Бирен невольно присел за ширмами.
– В уме ли ты? – заорала Анна Иоанновна. – Татищев да Кантемир других более и помогли мне кондиции разодрать!
– И тем они опасны, – ответил Остерман.
– Побойся бога ты, Андрей Иваныч!
– Боясь судию вышнего, повторяю величеству вашему, что опасны не только авторы кондиций, но и противники этих кондиций, ибо люди эти уже тем выше других на голову, что осмелились противничать! А того, – сказал Остерман, – быть не должно, чтобы кто-то посмел выделять себя… Нет, нет! Не нужно их ссылать, – закончил граф. – Можно дать посты в отдалении. Или… за границей. Вы разрешите, и Кантемир очутится в Англии – послом России!
– Правда, – согласилась Анна, – я умных не люблю, от них всегда безбожие исходит…
И сухонькие ручки Остермана сложились плоско для молитвы:
– О, ваша мудрость!.. Но вы никогда не станете самодержавной, пока вокруг престола что-то будет выступать наружу и расти. Королевские сады в Версале затем и подстригают ровно, чтобы ничто не беспокоило взора наследников божиих! Отныне над Россией должна возвышаться только одна голова – ваша, с короной наверху! Все остальное надо выкосить, как сорную траву…
Коляска Остермана укатилась прочь, и Бирен вышел из-за ширм:
– Не пора ли мне посветить Остерману? С больными-то глазами он, бедный, плывет каналами дьявола… Нет, он неглуп. Но он коварен! Я слышал – будет Кабинет, и в нем, конечно, Остерман?
– Молчи пока про Кабинет, – ответила Анна. – Сначала пусть привыкнут к слухам о нем. А когда смирятся, тогда и Кабинет воссоздадим. Молчи – пока! Подумай сам, что скажут в Сенате, ежели узнают, к т о правит Россией без него…
* * *
Капитан Елизар Апухтин вернулся из полка домой, прислонил в уголку офицерскую алебарду. Рассупонил амуницию – узкую, всю на штрипках и крючках. Парик смахнул, усы накладные с губы сорвал и стал моложе. Седой ежик волос, кое-как обхватанных ножницами, топорщился на крупной голове капитана гвардии.
Прошел в светлые покои. Жену свою позвал:
– Улита! Свиньи-то ревут. Кормили их али нет сей день?
Вошла босая девка с деревянной мисой щей. Брякнула на стол две ложки. Выпятив живот, взрезала каравай хлеба тупым ножом.
– Гляди, крошки-то мимо сыплешь! – гаркнул на нее Апухтин.
Капитанша Улита Демьяновна села насупротив мужа, дворянская чета долго хлебала щи. Апухтин ремень раздернул, спросил:
– Ну ладно, щи. А ишо что будет? С утра в полку не жрамши…
Улита Демьяновна обстукала куриные яйца.
– Рази ж то яйца? – обозлился капитан. – Эх, исхудала Русь, во всем на изъян пошла. А ты чего это губы надула? Гляди, Улита, я тя вот за хвост возьму, так ты губарей своих показывать не станешь…
Капитанша яйцом ему в лоб – тресь (баба смелая):
– Ишо он мне хвосты трепать будет! А жалованье твое иде? Восемь лет уже, почитай, по полкам разным скоблишься, а… Вот вынь да положь мне!
– Глупая ты баба, – увещал ее капитан. – Тамо и не такие орлы, как я, по десять лет за одно спасибо служат… Чего распахнулась-то? Дай ты мне хоть дома покою.
– С мужиков ныне не проживешь, – наступала жена. – Эвон у них солома и та с крыш свеялась. У нас хоть не бегут, а у Кикиных, слыхал небось, вчера вся деревня Подлипцы снялась ночью и ушла от барина… Господи, – завыла капитанша, – на што мне мука така? У всех мужья как мужья. А ты своего же, кровного, у казны царской вырвать не можешь.
– Отстань от меня, скважина! – заругался капитан. – Говорю же тебе, как на духу: восемь лет от казны копейки не видывал. И весь полк наш тако же… Куды нам жалиться?
– Да матушка-то наша государыня эвон сколько милостей оказала! Кого в князья, кого в графья, кого в деньги, кого в ленты орденские… А ты разве не заслужил? Ногу-то свою вздень на параде! Да покажи им ногу! В гноище ранетое ткни их носом…
– Дура ты, – вздохнул Апухтин. – По тебе, так все просто: ногу им покажу, и мне денег дадут… – Со вздохом взялся капитан за раздавленное яйцо: – Сольца-то где у нас? – спросил жену тихо, подавленно.
– А ты не князь Голицын, чтобы с солью едать яички! И так слопаешь! Сольца-то нынеча на базарах кусаться стала.
Апухтин яичко без соли сжевал, и стало ему себя жалко:
– Петра Лексеич все сулил полку – не дал! Катька евонная царствие проплясала – отнекалась! Петра Вторый взошел – не пожертвовал! Мы всем полком противу кондиций орали. Думали: ну матка Анна влезет на гору да жалованье-то нам сверху скинет… Хрен всем нам, а не жалованье! И выходит, что те «виваты» Анне мы напрасно орали.
Капитанша лакея кликнула, велела мешок взять и пошла по деревне оброчить. Где порося велит резать, где гусю шею свернет, где медку прикажет надоить в анкерок. Затихали после помещицы убогие избы, выли бабы, концами платков рты безгубые закрывая.
Капитан уже на печи лежал, голову свесив.
– Эй, мать! – спросил. – Ты куды собралась?
– До нашей государыни. Нет такого указу, чтобы восемь лет служить и жалованья не получать.
– Да кто тебя пустит до царицы? Там у каждой двери по немцу!
– Анна Федоровна Юшкова, – отвечала жена, – мне сродни приходится. Поклонюсь медком – представит пред очи царские…
Поехала. Но еще на заставе гусей отдала, чтобы пропустили. Ворот дворцовых не перешла, как и меду отбыло. Пока до Юшковой добралась, одни «кокурки» печеные остались. Анну Федоровну Юшкову теперь не узнать было: дама важная, одних юбок-то на ней сколько! Так и топырятся во все стороны, так и шуршат…
Похвастала Юшкова капитанше по простоте сердечной:
– А на што мне теперь кокурки твои? Я как утречком встала, так с ея величеством кофию отпила с ложечки золотой… Ныне я царских ноготочков лейб-стригунья! И в классе состою. Сами генералы мне ручку целуют. Захочу сахарку – несут. Ленточку каку пригляну – тоже никто не откажет…
Научила Юшкова капитаншу, как перед Анной Иоанновной челобитьем вернее ударить. Сад показала, где царица гулять будет. Апухтина за кустом присела. Зыркала – как бы не прошлепать! Это муж ее хотя и ветеран, а своего вырвать не может…
– Ннно-но! – послышалось издалека.
Это ехала царица. Коляска садовая на манер шарабана, вся в позолоте. Низенькая, широкая, тяжкая. По дорожке скрипят окатыши колес. И прут шарабан не лошади, а пять мужиков-садовников.
– Но! – говорит им Анна, будто лошадям, и они катают императрицу по садам Анненгофа (то моцион по рецепту Блументроста).
Тут капитанша Апухтина выскочила из-за куста:
– Матушка-государыня, смилуйся… Муж-то мой, капитан Елизар Апухтин, из дворян Верха Бежецкого, пять кумпаний сделал, огнем был ранет, из ноги ево и ныне гной вытекает… И така уж мука нам: восемь годков – ни копеечки, сколь ни просил!
– Тпррру-у-у… – сказала Анна Иоанновна.
Палец подняла, и тем пальцем – дерг-дерг: подзывала к себе.
– Великая государыня, – тараторила Апухтина, – прикажи в рентерею казенну, чтобы мужу моему бесперечь достоинство денежное выдали…
И спросила ее Анна – утробно, словно из бочки:
– А сколь там налегло на твово мужа? Много ль?
– С четыреста рублев налегло… Чай, не чужое прошу!
Анна Иоанновна губы бантиком сложила да как свистнет.
– Ведаешь ли, – спросила, – что мне бить челом заказано? На то коллегии есть немалые, а в них люди сидят, кои по инстанции порядочной любое дело к концу приводят.
– Не ведаю, матушка… Где уж мне! Да коллегии теи восемь лет только пишут. Да сулят. Уж ты прости мне…
На свист царицын набежали солдаты с ружьями.
– Хорошо, – отвечала Анна. – Четыреста рублев ты от меня получишь… Эй, солдаты! Ведите ее на Красную площадь да плетьми выстебайте… За испуг мой! А потом, – велела царица, – когда она в чувствие явится, везите ее в рентерею. И моим именем накажите жалованье то ей выдать…
Нукнула, и повезли ее в шарабане далее моцион делать. А солдаты поволокли бедную бабу на площадь. Народу там – полнехонько: площадь ведь, да еще Красная! Улита Демьяновна, ко двору идучи, сверху-то прифрантилась, а снизу себя не трогала. Заголяться стыдно – исподнее латано-перелатано… И заплакала капитанша:
– Отпустите меня, родненькие! Не чините поругания… Я жена дворянская… Верха буду из Бежецкого… позор-то мой!
– За что бьете? – спрашивал народ площадной (любопытный).
– Наше дело служивое, – огрызались солдаты. – Изволили гулять ея величество, так она вот скакнула на нее. Испуг чинила! «Дай, просит, рублев четыреста!»
– Ну а государыня-то что? Дала?
– Дала. Конешно… Она вить добрая! Да еще и поддала…
– Лупи! Лупи ее, служивый, – сказал старичок-боровичок. – Эдак-то и любой из нас скакнет за четыреста рублев.
– Что четыреста! – галдел народ. – И за полтину прыгнем…
Апухтина юбки поддернула и побежала. Солдаты – за ней:
– Стой, стой! В рентерею везти велено… за деньгами!
Утекла жена дворянская. И денег не пожелала. Так и Анне доложено было: мол, от жалованья капитанша Апухтина отказалась.
– Ништо ей, – рассмеялась императрица. – Видать, нужды нет. Баловство одно. Все на мои кровные летят, словно вороны, и каждому дай?.. А где мне взять-то на всех?
Генерал-прокурор Ягужинский, однако, за капитаншу эту вступился: мол, госпожа сия по закону требовала. «Не токмо мужики, – говорил Павел Иванович, – но и шляхетство обедняло изрядно…» Анна Иоанновна рукава поддернула: вот-вот в глаз кулаком даст.
– А разве я их беднила? Я и года еще не царствую. То допрежь меня еще разворовали. А мне за них – расплачивайся?
– Воруют тоже ведь причинно, – на своем стоял Ягужинский. – Коли жрать неча, так и поневоле скрадешь.
– Руки по самый локоть рубить стану! – зарычала Анна Иоанновна. – Россия – это мой карман, а значит, у меня крадут… у самой императрицы всероссийской! А тому не бывать…
– Верно, – вроде бы согласился Ягужинский. – А вот есть люди, кои грабят беспричинно, единого корыстолюбия ради!
Анна Иоанновна призадумалась: «Не намек ли?..»
– Слышала я, – насупилась, – что и Татищев нечист на руку. От дел Двора монетного его бы отставить надобно…
– Волынский, матушка, – вот вор главный!
Анна Иоанновна веер раскрыла – обмахнулась небрежно.
– От губернии Казанской, – повелела, – его отринуть! И более на провинцию не сажать. В полки Низовые выслать, и пусть его там персы на кол сажают. Пора учинить инквизицию над ним строгую!
– И – учиним! – обрадовался Ягужинский…
Начинались тягости для Артемия Петровича.
Глава восьмая
А врач-философ Кристодемус по-прежнему жил в Риге, помогал бедным, провожал до могилы умерших и собирал древние монеты. Книги писал он! О достойных людях в России, которые говорить умеют и пером благородно владеют…
– Кто там стучит? Двери философа не закрываются!
На пороге дома Кристодемуса стоял подлец фон Браккель.
– Проездом из Москвы, – сказал он, – я прибыл к вам от графа Бирена… Надеюсь, знаете такого?
– Еще бы! У него челюсть словно кувалда. И в углу носа бородавка, что есть признак успеха в делах…
– Да, он счастливчик, этот Бирен! Ему известно, что у вас целый сундук монет старинных, которые – увы – нельзя истратить. Их Бирен купит все и золотом расплатится за этот хлам!
– Никогда! Бирен – невежа и нахал…
Фон Браккель в удивлении пожал плечами:
– А вам-то, сударь, не все ли равно, от кого иметь пользу? А денег у Бирена теперь мешки… Ну, называйте цену!
– Отсюда прочь и дверь закройте! – крикнул Кристодемус…
Судьбы своей мудрец не знал. И жил, как раньше, размышляя.
Впереди была еще одна встреча – последняя!
* * *
Что ни день – то праздник: ассамблеи, машкерады, потехи огненные и водяные, действа парадные. Золотой дождь осыпал плечи царицы, смуглые и потные. Вот когда хорошо ей стало! Из палат древнего благочестия тащила Анна Иоанновна все, что приглянется: вазы и кубки, горки для курений ароматных, серебро, парчу и хрустали дивные. По вечерам двор играл. В банк, фараон, квинтич. Рейнгольд Левенвольде продул однажды 20 000 за один присест.
– И – кому? – негодовал он в ярости. – Этому подлому шулеру, принцу Гессен-Гомбургскому… Говорили мне: не садись с ним!
Анна Иоанновна решила выручить Рейнгольда Левенвольде:
– Садись со мной, обер-гофмаршал… Сбрось карту!
Между царицей и Левенвольде поставили тарелку, полную бриллиантов, а в бриллианты эти, словно в варенье, воткнули ложечку. Анна Иоанновна сразу промашку нарочитую в игре сделала.
– Ох, в картах не везет, – сказала. – Черпни!
Рейнгольд взял ложечку и бриллиантов себе зачерпнул.
– Опять я в битых… Черпни да утешься в марьяже, друг!
Через час в тарелке только ложечка осталась. Счастливый Рейнгольд Левенвольде принца Гессенского за ухо потрепал.
– О, мизерабль! – сказал надменно. – Если еще раз сплутуешь, то в России тебе не бывать… Вышвырнем обратно за рубежи, и будешь в Гессене своем картофель чистить свинский!
Начинались танцы… Послы иноземные жались в сторонке (их по одежде темной принимали за лакеев). Анна Иоанновна строгий запрет наложила на все одежды цвета печального: Бирена устрашал цвет черный, как признак смерти… Послы шептались тихо.
– Какой пышный тур у ея величества, – сказал барон Мардефельд, посланник прусский.
– Зато у нее узкий лобик, – отвечал Маньян, агент Версаля, и, стесняясь, вытянул наружу кружева: ах, пусть они кажутся богаче и пушистей (Версаль не давал ни денег, ни… инструкций).
Мардефельд проследил за танцующей императрицей:
– Мой король, как всегда, отменно скромен: ему бы только продавать в Россию сукно. Сукно добротное и дешевое!
«Сукно?..» – И все посмотрели на английского консула Клавдия Рондо. Розовощекий, с медной серьгою в ухе, как матрос, в ладных башмаках с дешевыми стразами на пряжках. Он даже не шевельнулся, когда услышал это слово, всегда волнующее дипломатов мира, – сукно… Серые глаза британца видели сейчас далеко (дальше всех). За этим блеском парчи, за брызгами фонтанов, через узоры померанцев Клавдий Рондо уже намечал транзит через Персию… Караваны! Горные тропы! Слоны! Верблюды! А там и Волга. И – тюки, тюки, тюки… «Шелковая дорога» проляжет от Архангельска до Испагани, и Клавдий Рондо верил в это, и потому он с презрением оглядел барона Мардефельда:
– Кто вам сказал, что прусское сукно добротно и дешево?
– Это мнение его величества – короля Пруссии!
– Ах, как жаль… – вздохнул Рондо. – Скоро мне предстоит разочаровать вашего короля в его высочайшем убеждении…
А в первой паре с императрицей шел Остерман, весь в бледно-розовом, палевом и сиреневом. И вдруг музыка смолкла.
– Гей! Гей! – закричала Анна князю Одоевскому…
Василий Юрьевич князь Одоевский, хранитель сокровищ государства Российского, приблизился к императрице. Склонился…
– Помню я, – сказала Анна, – что и на прошлом куртаге ты в эфтом же кафтане был… Не стыдно тебе, черт ты старый?
Рюрикович молчал, пристыженный. Но тут в руку князя легла чья-то рука, и он узнал ее – это была рука жены-старухи.
– Уйдем от греха, – шепнула Марья Алексеевна.
Анна Иоанновна высилась – как истукан победный.
– Эва и жонишка твоя, – показала на княгиню. – Кажись, из роду князей Лыковых? Так что же ты пришла сама чуть ли не лыковая? Или не желаешь меня порадовать платьем новым?
– Проелись мы, государыня, – заплакала старуха. – Мужики в бегах… увольте нас, ваше величество.
– И уволю! Ступайте прочь оба. Да впредь в надеванном платье у двора моего не бывать… Эвон другие-то как! – показала она на Остермана. – Рады преданность свою выказать, оно и видно…
Расступилась толпа придворных, и старики (рука в руку) прошли через сиятельную толпу. В надеванном! А того нельзя… Домой едучи, горько плакала старая княгиня, а Василий Юрьевич утешал как мог:
– Не плачь, Марьюшка, что делать? Село Удойное продать надобно. Да и оброк крепче возложить… Иначе не справимся!
Рано утречком князь на службу отправился. Холодало уже к осени – князь в карете озяб. Руки погрел об печку, паричок к голове приладил удобнее. Прошел в палату Оружейную – мимо карет старых, мимо сидений тронных и богатств русских.
«Чу, – замер, – никак воры?..»
Бродил понизу свет. То свечи колебались.
Выглянул князь Одоевский из-за угла, страхи немалые претерпя.
Со щипцами в руках (платок на голове красный) расхаживала среди драгоценностей сама императрица с утра пораньше. Тут же был придворный ювелир Граверо, а подмастерье Позье держал в каждой руке по свечке, императрице светя.
Анна Иоанновна вцепилась клещами в старинный окладень.
Раздался хруст, и она вытянула камень… Брызнуло алмазами!
– Ваше величество! – закричал Одоевский, на колени падая. – Караван из Китая уже вышел… везет вам камней всяких! На что палату-то раздергиваете? Русь-то… Русь! Простит ли мне?
Щипцы в руке Анны придвинулись к ноздрям Одоевского:
– Ой, князь! Коли войду во гнев, так быть тебе рвану… Не мешай величеству моему радость иметь.
И после этого дня крепко запил князь Одоевский.
* * *
Громом грянула весть, что казна пуста: нет денег!
Анна Иоанновна рухнула перед иконами:
– Боженька милостивый! За что наказанье мне придумал? Или грешна уж я так?.. Куды деньги подевались, ежели годочка ишо не отцарствовала я? Господи, вразуми ты меня, вдовицу бедную! – Вскинулась с колен. – Андрея Иваныча ко мне… живо!
Тот же миг предстал перед нею Ушаков.
– Да не тебя звала я… Другого Андрея Иваныча надобно!
И явился другой Андрей Иваныч – Остерман. Он быстро нашел козла отпущения, на которого всю беду свалили:
– Великая государыня! Позволь, и на инородцев подлых еще по сорок копеек в подать ихнюю лишку накинем?
– Накинь! – велела Анна. – Да человек нужен при финансах моих. Чтобы служил столь верно мне, как фактор Либман графу Бирену служит. Ведаешь ли – кому финансы можно доверить?
– Желательно, – задумался Остерман, – чтобы лишней хулы не стало, определить к финансам природного русского. Да чтобы, обиды прежние претерпя, он особливую доверенность к вам имел. И такой человек есть… Румянцев Александр!
– Зови его. К себе приближу и в милость допущу. Молиться буду, дабы не помереть мне в нищете унизительной… Вот уж не думала, с Митавы отъезжая, что на Москве бедствовать стану!
Пылкие молитвы Анны Иоанновны дошли и до покоев Бирена.
– В самом деле, – рассуждал обер-камергер, – куда делись все русские деньги? Неужели богатство России – это сказочный миф? Не может быть, чтобы Россия не могла прокормить… двор! Тут что-то не так. А вот что не так – это мы сейчас выясним.
– Прелестнейший господин, – сказал Лейба Либман, – все деньги лежат на кладбище. Русские хоронят деньги, доверяя их лишь земле.
– Черт бы их побрал! Для денег существуют карманы…
Кейзерлинг тоже был искренне возмущен:
– Русские запустили свою страну. Я всегда говорил, что России нужен хозяин. Образованный и твердый!
– Зовите сюда обер-гофмаршала Левенвольде, – распорядился Бирен. – Этот малый давно живет в России, он, надеюсь, ответит…
Рейнгольд Левенвольде вырос на хлебах русских.
– Могу! – согласился он. – Могу пояснить… Полтора миллиона мужиков русских куда-то провалились к черту! Они обозначены на бумаге, как существующее население империи. Но их нигде не разыскать! Они бежали, и с них уже ни копейки не получишь…
– Глупости, – хмуро отозвался Кейзерлинг. – Надо просто заставить русских отдать недоимки. За себя и за бежавшего!
Обер-гофмаршал Левенвольде взмахнул широкополой шляпой:
– К тому не мог приучить русских и Петр Первый с дубиною.
– А мы приучим, – ответил Бирен. – Вот твоя шляпа, Рейнгольд! Видишь? Французы столь долго загибали поля своих шляп, что получилась треуголка. Так и русские: лет десять посгибаются, а потом их уже не разогнешь! Только для этого надобны не коллегии с болтунами-президентами, а – экзекуторы! И не одна дубина Петра, а целый лес дубин… Русские – ужасные скопидомы, они любят копить. Банков не знают, а прячут все в землю!
– Я их тоже понимаю, – вздохнул Либман. – Отдавать накопленное всегда жалко… Разве не так?
Барон Корф сказал в завершение разговора:
– Послушайте! Кто вы такие? В том числе и я? Почему мы вершим здесь дела русские? Согласен – мы служим при дворе… Россия же – не двор! Так стоит ли залезать в дела народные? Я пригляделся и вижу теперь, что русский человек умен и здрав, он благороден и смышлен… Не хуже нас! Да я с улицы приведу вам Гракхов новых и Сенек! Не плюйте в душу русскую… Ох, как это может жестоко обернуться для нас!
– Ну, ты безбожник известный, – отвечали ему…
С докладом к Анне Иоанновне явился Анисим Маслов.
– Наслышан я, – сказал обер-прокурор, – что вы о финансах печетесь? То можно исправить, и человек в империи для того сыщется… Верховник бывый, князь Голицын Дмитрий Михайлович!
Анна Иоанновна велела звать из Архангельского князя. Явился он, и царица о нуждах своих ему долго рассказывала, на судьбу жалуясь. Голицын усмехался – кривенько.
– Сказывали мне, что болен ты, князь, потому и в Сенате тебя не видают… Правда ль то?
Дмитрий Михайлович протянул к ней скрюченные пальцы.
– Хирагра у меня, – сказал. – Болезнь неизлечима…
– Усмешка-то твоя к чему? Иль дурой я тебе кажусь?
– Усмешка оттого, что вспоминаю я… Верховный тайный совет, который вы уничтожили, восстановите снова! На един лишь день! В составе осьмиличном! Да придите и послушайте нас…
– Чего мне слушать? – отвечала Анна. – Как вы, разбойники, кондиции на мою пагубу изобретать станете?
– Не только кондиции, матушка. Собирались мы, словно купцы. О чем не говорили! О дорогах, о монет чеканке, о парусах для кораблей, о сукнах и ботфортах, о разведении промыслов и мануфактур промышленных…
– Меня финансы заботят!
– Так это и есть финансы… Экономия – вот суть устройства государства. Я жадных не люблю. Широких же безумцами считаю. Богатство зачинается с малой толики. Растет под ногами кустик махонький, а рвать нельзя: сей кустик деревом станется. Не о себе помышлять надобно, а о внуках наших: для нас он куст, а потомству российску деревом обернется.
– Они и срубят, выгоду имея… не мне же! – сказала Анна.
– А вам рубить не надо, – отвечал Голицын. – Прежде чем дерево рубить, надо подумать. Нельзя ли инако извернуться? Глядь, дерево-то и пригодилось – благодатную тень дало! Тако же и люди… Они – главный капитал в государстве. Коли башку срубил, обратно не приставишь. Как и дерево ко пню не приладишь! В указах ваших пишется мудро: заботы о верноподданных выставляются миру на удивление. А между тем людей с головами безголовыми делают. А те, что безголовы от природы, те чинами украшаются…
– Меня финансы заботят! – повторила Анна Иоанновна.
– А я о чем вам толкую? Токмо о финансах… Ведь умные головы людские казне прибыль дают. В землю коль лягут головы – и прибыли не стало. Иной час можно и шумы простить. Мало ли человеку что взбредет? Пущай шумит и вредно власть поносит. А отшумясь, к столу присядет и дельное сочинит. Ведь знали мы, что Татищев – вор! Но головы ему не сняли. Потому что умен он и от него прибыль государству имеется… Иногда послабление дать людям, матушка, – словно рубли под ногами найти!
– Уйди, – велела Анна. – Опять крамольны твои речи.
Голицын глянул на свои распухшие скрюченные пальцы:
– Зачем и звать было больного?.. Но правда там, где правды стерегутся, всегда крамолой называется!
Свершилось: Анна Иоанновна подписала именной указ, чтобы «тот подушный сбор положить на полковников с офицеры». А это значило: дать офицерам палку, и пусть эта палка вернет недоимки с народа. Россия снова возвращалась к системе «вечных квартир», уничтоженных недавно Верховным тайным советом…
– А коли не сберут казне положенное, – добавила императрица, – то быть в ответе воеводам.
– И тем же офицерам! – уточнил Остерман.
– Тогда уж – и помещикам, – добавил Бирен…
Захлестнуло петлю: народ, губернаторы, офицеры, помещики – все виноваты… Вот только один двор безгрешен!
* * *
Иван Кирилов, секретарь сенатский, был красен не службой, а досугом своим. Имел он завод красок в уезде Копорском, на мельницах его для Москвы доски пилили. А все прибыли (от красок или от досок) он в атласы вкладывал. В приходе Козьмы и Дамиана, что близ переулка Денежного, под звон колоколов печатал Кирилов логарифмы научные и ландкарты первых факел-лоций для флота. На секретаря тогда как на чудо-юдо смотрели: в «Санкт-Петербургских ведомостях» он сочинения свои печатал (за это его «газетером» звали). В чине советника статского, Иван Кирилович Кирилов о себе рассуждал так.
– Палю, – говорил, – свечку жизни моей с двух концов сразу. Один конец ее, секретарский, коптит более. Но с другого конца, досужего, пламенем ясным она сгорает… Отсель вот, от Козьмы и Дамиана, вижу тракт я до стран Индийских, и дорога та лежит через степи калмыцкие, и там я буду, прежде чем помирать стану.
Скушно было Кирилову в Сенате… Притащатся утром двое – Сукин и Новосильцев, закусочки истребуют. А тут, глядишь, час сенатский на извод пошел, начался час адмиральский. Пора чарку приять по-божески да обедать по домам ехать. Сенат, заново возрожденный при Анне, на корню гнил! И князь Дмитрий Голицын нащупал язву опасную – Кабинет царицы (пока что учреждение тайное). Но силу Кабинет уже имеет, и все важные дела текут мимо сенаторства: не в рот, а по усам…
Однажды князь сказал Остерману:
– Пока власть была в руках совета Верховного и тайного, забыли мы, Андрей Иванович, одно дело свершить…
– О чем же забыли мы? – спросил его Остерман.
– А надо было нам башку твою на столе Совета положить и отрезать ее ножиком тупым!
– Дмитрий Михайлыч, – отвечал на это Остерман с улыбкой, – того уже не придется сделать. А я вот еще не теряю надежды, что скоро буду иметь наслаждение до вашей шеи добраться…
Голицын уехал к себе и повесток от Кирилова не принимал.
– Я ныне в бренности пребываю, – говорил он.
Выпал в Архангельском первый снежок – мяконький, словно пух. И стреляли меж дерев следки (это зайцы ночью сигали). Поддерживаемый сыном Сергеем, выходил старый верховник в запущенный сад.
– Сын мой, – говорил Голицын, – посочувствуй хоть ты мне. Укрепи меня, сыне! Впереди ничего не вижу – мрак и беззаконие, а позади меня Русь лежит боярская… Куды же нам следовать?
– Ах, батюшка, – отвечал молодой князь. – На что вам души самоуязвление? Лихолетья злые не раз на Русь приходили, а Русь все едино стоит и хорошеть еще будет…
Однажды под вечер, пригнув в дверях голову, вошел в светелку отставного верховника враг его – граф Пашка Ягужинский.
– Дмитрий Михайлыч, – сказал, не чинясь, – я человек таков: ты меня в узилище тюремное вверг, а я, вишь, молодец какой – к тебе же с поклоном иду. Хочу разумно советоваться… О мужикам вспоможении, о юношества просвещении! Ныне время пристало, чтобы юношество для подвигов доморощенно образовать. Через корпусы кадетские, кои я в Берлине выведал. Через тот корпус, князь, великая прибыль видится! Посуди сам: молодой человек языки разные будет знать, в риторике и географии знатным скажется, рисовать и мыслить научится, на шпагах биться, вольтижировать станет на лошадях и с дамами обращаться легко приучится. Понеже, кто к наукам воинским не склонен, того можно из корпуса в чины гражданские выпускать… Двойная выгода: офицеры и чиновники будут грамотны. Того нам, русским, и надобно.
– Поздно, – ответил ему Голицын. – Пятками назад далеко вперед не ускачешь… – И Ягужинского от себя отвадил (напрасно!).
Генерал-прокурор империи ходил ныне приплясывая. И пальцами любил прищелкивать. Не дай бог ему винца нюхнуть – тогда он сгоряча бился.
Остерман недаром его боялся – чуть что, сразу в драку! А коли разойдется, бывало, то вприсядку пляшет перед престолом. «Мне то не обидно, – говорил, – коли Ришелье тоже плясал перед королевой!» И в пляске волчком кружил, хохотала Анна:
– Весел мой генерал-прокурор, весел! За то и жалую его…
А вот обер-прокурор Анисим Маслов был человек раздумчивый. Скромен и тих, себе на уме, он вперед не лез.
Жене своей Дуньке, рябой и умной, признавался:
– На костях людских плохи пляски. У меня вот ныне душа вся черная, как ночь египетская! Горечь в себе изжить не могу. Русь-то хилеет, ибо мужика мы губим поборами ужасными…
Не знал Маслов, что граф Бирен нарочито его выдвигал. И решил честности Маслова всемерно потворствовать. Чтобы стало тошно Остерману от этой честности.
– Маслов не знатен и не скареден, – внушал графу Лейба Либман. – Такого человека вам и надобно. Необходима особа при дворе, которой вы должны покровительствовать. Это придаст лишний блеск вашей великолепной славе…
Однажды при дворе Бирен громогласно объявил:
– Господин Маслов! Я не раз уже был извещен о благородстве вашем. И прошу вас впредь, по должности своей прокурорской, правды никогда не таить, высказываясь прямо… Я верю вам, как не верю здесь никому!
У графа Остермана даже уши посерели, будто их пеплом посыпали. «Что за новые конъюнктуры? Ага, – догадался он, – Маслов есть клеотур Ягужинского, а сам Ягужинский… Что ж, – решил Остерман, – пришло время сломать шею Ягужинскому!»
Обер-прокурор Сената, Анисим Александрович Маслов, вскоре занял при дворе особое положение. Даже генерал-прокурор Ягужинский не скажет того, что приходилось вельможам слышать от его помощника – Маслова…
А время-то каково было – подумать страшно.
Чуть что, и ноги – в ремень, плечи – в хомут…
Дыба!
Но зато у Маслова был страх иной, и того страха ему не изжить, вином не залить, не закричать. Когда спрашивали его о корени, то отвечал Анисим Александрович так: «Фамилии я старой и благородной, но корени своего за выморочностью сродственников не ведаю…» И это была – ложь!
Ведал он свой «корень», еще как ведал. Даже сны ему иногда снились – детские. Вот он сам, пастушонком малым, в ночном коней стережет. Вот и матка его квашню месит, а бабушка Лукерья прядет очески льняные. Потом хватит внучка, ткнет головой в колени себе, и так приятно Аниське, так хорошо ищется в голове его родимая бабушка… Одного не вспомнить Маслову – где это было? Вставали в памяти равнины, поросшие ольшаником, да речка узкая, в которой пескари жили да голавли. И – раки. А что за речка, а что за равнины? – места урождения своего не знал Маслов.
Вот это и был его корень – корень мужицкий. Вышел он из крепостных, от земли оторвался, выбился из «сказок» ревизских в люди на дорогу шляхетскую – дорогу служивую. Знал об этом, да молчал, и Дунька его (рябая умница) тоже помалкивала: сама-то она была из дворянок!
– Посуди сама, Дуняшка, – признавался ей Маслов, – каково же мне, империи обер-прокурору, в происхожденье подлом сказаться? От дел отринут… А кто, кроме меня, мужика защитит?
И, плоским носом в подушки зарывшись, тихонько выла жена-умница. Единая на свете – любимая и рябая.
Анисим Александрович понимал: страшно бабе!
– Горбатого, – говорил он ей, – меня токмо одна могила исправит…
И засыпал – в тревогах. Вскрикивал, зубами скреготал.
«О, ночи, ночи вы мои! Ночи обер-прокурорские…»
Глава девятая
Когда до Берлина дошла весть, что Анна Иоанновна разодрала кондиции и вновь обрела самодержавие, король был счастлив:
– Теперь-то у меня руки развязаны, и я не стану бояться Польши. Курляндию мы приладим к Пруссии, а крон-принца я женю на племяннице русской царицы… Велите же от моего имени завтра в богадельнях Берлина приготовить беднякам подливку из лука. Пусть и они порадуются вместе с королем!
А сегодня – день будний. Пять гамбургских селедок и кружка пива – завтрак Soldaten-Konig’a. Бранденбургского курфюрста и короля прусского – Фридриха Вильгельма, дай бог ему здоровья!
Год был у короля неудачным: сын Фриц хотел бежать из Пруссии к этим противным французам. Отрезать ему нос и уши, конечно, неудобно. Фриц заключен в крепость Кюстрина, а товарищу его отрубили голову… Вот к чему приводит игра на флейте и чтение парижских журналов! Мысли короля из Кюстрина перенеслись в цейхгаузы Берлина: там немало сукна, которое давно уже сгнило… Неужели у проклятых англичан сукно лучше? Весь мир должен знать: нет товаров лучше, чем прусские товары!
«Может, – задумался король, – съесть еще одну селедку? Нет, – остановил он себя, – нужна разумная экономия… Пруссия и Бранденбург небогаты!»
Пришел советник и доложил, что из России в подарок от Анны Иоанновны прибыли восемьдесят длинных парней:
– Вот их длина от пяток до макушки, ваше величество!
Фридрих Вильгельм глянул в реестр: «Ого, богатыри…»
– Сколько Анна просит за каждую голову?
– Она их дарит, вам платить не надо.
– Тогда, – решил король, – надо придумать, как отблагодарить Анну за этих мунстров. Россия заводит кирасирские полки, для этого нужны тяжелые лошади. Но лошадей пусть покупают у голштинцев… Я думаю о Людольфе Бисмарке – он добрый малый! Не послать ли его в Россию инструктором – в обмен на этих длинных парней?
Лицо советника изображало глубокую скорбь верноподданного:
– Ваше королевское величество, полковник фон Бисмарк вчера нечаянно схватил шпагу и насквозь проколол своего лакея, а теперь ждет вашего высочайшего милосердия.
Фридрих Вильгельм торопливо обернулся:
– Он ждет, конечно, за этой дверью? Так позови его…
Вошел фон Бисмарк – детина хоть куда. Правофланговый!
– Негодяй! – сказал король. – Отвечай по чести: за что ты убил моего исправного налогоплательщика?
– Ваше величество, – отвечал Бисмарк без тени трусости, – не было глупее человека на белом свете…
– Ты ошибаешься! – сказал король. – Весь свет таков!
– Но это был дурак особый… Вчера после плацмунстра я попросил его подать мне ботфорты.
– Он их не подал?
– Подал! Но оба были с правой ноги.
– Дурак, конечно, – согласился король. – Но у тебя же две пары ботфортов, Бисмарк?
– Ваше величество, этот болван принес мне и другую пару. Но эти ботфорты, естественно, были оба с левой ноги… Тут я не выдержал, а шпага как раз была в руке. Бац! – и готово.
– Но я не вижу законного повода для казни, Бисмарк.
– Ах, ваше величество… У вас было уже столько поводов наградить меня раньше, но вы этого не сделали, так наградите же меня теперь своим высочайшим помилованием!
Король дал Бисмарку пощечину и нежно поцеловал:
– Ступай же в крепость! И сиди там тихо. Если ты когда-нибудь придешь мне на память, то я тебя, может быть, и выпущу.
– Ваше величество, я исполню приказ. Но что мне делать, чтобы вы вспомнили меня поскорее?
– Примерное поведение, Бисмарк, есть как раз именно то, на что я обращаю свое частое внимание… Ступай! Марш!
Король-солдат отправился на прогулку. Внимание, господа берлинцы, внимание… Если вы успеете, то лучше спрячьтесь! Пора уже знать всем добрым немцам, что Берлин – не Афины, а Спарта; порядок и ранжир солдатской казармы куда как величественнее афоризмов Лейбница. Его величество едет на плац. Прогулка для короля – для народа ревизия. А трость короля – непогрешимый закон. Око короля Пруссии недреманно, как у беркута:
«Вон тот чиновник, показавшийся в окне, с утра дует пиво. С чего он так расточителен? Может, налоги чиновникам повысить?.. Женщины чинно идут на базар, – похвальное усердие! Собачка гадит на улице. Нехорошо. Надо ввести налог на собак… О-о-о, стоит малый на улице и ничего не делает… Какая наглость!»
Король пулей вылетел из коляски:
– Ты кто таков?
– Я стекольщик…
– Мерзавец, кто догадается об этом? Почему ты не работаешь?
– Увы, мой король! Сегодня нет работы. Все стекла в Берлине целы…
Король тростью переколотил стекла в соседних домах.
– Трудись! – сказал. – Нельзя быть праздным, ибо праздность развращает немца… – И он поехал далее, на Потсдам.
Улицы ровные. Деревья замерли в строю. Плац. Красота.
Посреди плаца в Потсдаме – голые – стоят русские великаны. Вологодские, ярославские, рязанские. Капралы ходят с аршинами – ранжируют. Как же отблагодарить Анну Иоанновну за ее подарок? «Жаль Бисмарка! – подумал король. – Добрый он малый, и как бы теперь не избаловался, сидя в крепости, а не в казарме…»
Король вышел на середину. Плац подметен. («Чисто ли?..»)
– Забудьте, что вы русские, – сказал король, – отныне вы мои верноподданные… В ремесле прусского солдата заключен для вас единственный путь к славе. Оцените свое превосходство над распущенной статской сволочью… Эй, кто там? Переведите олухам!
Русский толмач-раскольник перевел.
– Порядок, экономия и симметрия, – добавил король. – Сейчас вы получите в знак прусского гостеприимства по кружке доброго немецкого пива. Однако не советую обольщаться. Вторую кружку вы получите от щедрот королевства, когда я уволю вас в отставку – за ранами и болезнями…
Раскольник перетолмачил, и король закончил:
– За любое нарушение дисциплины – пытка и отрезание носа! За побег из моей армии, что есть измена Пруссии, – смертная казнь!
Внимание, господа берлинцы, внимание: король возвращается из Потсдама! Ревизия – закон, а закон – ревизия. Кто-нибудь спорит? Нет, все берлинцы согласны с королем. И сын-кронпринц сидит в крепости, а полковник Бисмарк шагает в крепость…
Чистенькие небеса Бранденбургского курфюршества.
А над лесами и болотами Пруссии волокнами лежит туман.
– Хайль, кёниг! Хох, зольдатен!
Русские великаны допивают пиво из фаянсовых кружек.
К вечеру из восьмидесяти осталось семьдесят шесть.
Четверо удрали. Не зная языка. Но сразу же – прямо с плаца…
– Убыток, – опечалился король. – Опять убыток! Пусть только посмеют теперь в России не купить наше замечательное сукно…
Над королевством Пруссии и курфюршеством Бранденбургским царила, как говорил об этом сам Фридрих Вильгельм:
– Непостижимая тайна государственности…
* * *
– Пруссия, – сказал Остерман, табачку нюхнув, – может служить для нас образцом просвещенной монархии…
– Какой же образец, – спросила Анна Иоанновна, – ежели король всех ученых из Берлина разогнал? Я-то своих не разгоняю!
– Ваше величество, – резко отвечал Остерман, – просвещение это еще не значит – грамотность! Немцы просвещены потому, что любят своего короля и от уплаты налогов не уклоняются, как это мы наблюдаем в России непросвещенной… Пароль Пруссии таков: будь солдатом, плати налоги и держи язык за зубами!
– Вот бы и нам так, – с завистью вздохнула Анна, грезя.
– Король же прусский, – продолжал Остерман усыпляюще, – издавна благосклонен к Рейнгольду Левенвольде.[13] И, ваше величество, при создании нового славного регимента вам следует обратить внимание и на его шефа…
Задумано было так: собрать под новые знамена курляндцев и немцев и – однодворцев, нищих и злых, которые были потомками казненных стрельцов. Старая же гвардия (семеновцы и преображенцы) были потомками петровских «потешных» и тем стрельцам – исконные враги.
Разгон гвардии начали с кавалергардов. Лейб-регимент больше других орал, когда надо было кондиции рвать. А теперь-то они помалкивали. Пьяное «виват Анна» и трезвое «покорнейше благодарим». А им – в шею, да кого в армию, да кого в провинцию.
Преторианцев нового полка одели в зеленые кафтаны до колена. На шею офицерам повязали (бантом назад) полотняные галстуки. Ботфорты звякали медными шпорами. На шляпах сделали плюмажи из белых и красных перьев. Портупеи лосиновые, темляки из цветной шерсти, ножны черненые, шпаги – в аршин длиною, землю царапали. Под конец офицерству выдали по протазану и поставили всех в строй.
Полк был готов, и принц Людвиг Гессен-Гомбургский умильно глядел в лицо императрицы.
– Ваше величество, – намекал, – имею немалый воинский опыт. И желал бы развить его для пущей славы вашей в полку новом…
Но Бирен грубо принца того отшиб и командиров подсказывал:
– Годятся: Вейссбах… де Бонн… Ласси…
Анна Иоанновна имела иные намерения. Боясь, как бы Бирен не стал более просить паса, она все реже делила свое ложе с Густавом Левенвольде. А чтобы задобрить фаворита в любовном абшиде, Анна Иоанновна решила откупиться – широко, по-царски:
– Родилась я в селе Измайловском, и тому полку приказывают называться Измайловским тож! А тебе, Густав, – повелела Анна, – быть при нем полковником… Мунструй и верь: благосклонна я!
Густав Левенвольде мунстрования не жаловал. Спонтировать бы – вот это дело! Приятное и благородное. Сунул он за обшлаг мундира четыре колоды карт и долго выражал свое неудовольствие таким назначением. «Ну, до мунстра-то охотники сыщутся… Вот и барон Густав Бирен, тля, выпавшая из польского панциря! Его можно в майоры. А кого же – в подполковники измайловские?..»
– Господа, – спросил Левенвольде, – кто знает достойного?
– Гампф! Гампф! Гампф! – пролаяли дружно.
– Но я майора Гампфа плохо знаю, – сказал Левенвольде. – А вот шотландца Хакоба Кейта король прусский хваливает. Кейт тридцати шести лет и подвижен. Команды выговаривает чисто…
Кейта и назначили (в подполковники). После чего регимент был выведен за Яузу – в лагерный компанент. Перед мунстром решено было осмотреться. Выпустили первый приказ по полку: «На квартирах стоять тихо, обывателям обид не чинить, от огня иметь шибкое опасение…»
– Когда солдат ногу тянет гуськом на шаге, – опечалился Густав Бирен, – то не получается линии отменно ровной и четкой… Нас засмеют в образованных странах, если мы этой линии от солдат не добьемся!
– Но стоят-то они хорошо, – зевнул Левенвольде.
Кейт подошел сбоку строя – глянул вдоль линии.
– Вот тут, – показал себе на грудь. – Тут что-то еще не в порядке. Они не научились еще дышать…
В журнале полка появилась первая запись – вот она:
«Понеделок. – Имелась солдатская эксеръциция Леибъгвардии Измайловского полку при присудствии Ея Императорьскаго Величества йптом трактованы штап иобер афицеры вхоромах, аундер афицеры и солдаты налугу…»
Густав Левенвольде перебрал карты в гибких пальцах.
– Время спонтировать, – сказал. – Я пойду, молодчага Кейт, а вы мунструйте их, пожалуйста, по образцу прусскому…
Сел в карету и укатил. Когда осела пыль на дороге, молодчага Кейт со скрипом натянул узкую перчатку и сказал:
– Молодчага Бирен! Я поеду обедать, а вы… линию в носке выпрямляйте. И вот тут, – Кейт показал себе на грудь, – дыхание у них исправьте, чтобы над нами потом не смеялись…
Больше ни Левенвольде, ни Кейта в полку никогда не бывало.
Майор Густав Бирен, младший брат фаворита царицы, остался в Измайловском компаненте полным хозяином. Первым делом загнал он весь полк в баню, чтобы в кипятке солдаты распарили кости. Ногу каждого заставлял вытягивать, и от носка до колена проверял – ровно ли? Слава богу, «гусек» уже получался!
Но Густав Бирен был добрый малый и свои ноги в кипятке тоже выдержал. Великое искусство фрунта наполнено терниями… На обваренных кипятком ногах вышел полк на плацы.
– Мунстр! – ликовал майор Бирен. – Темпы отбивать с промежутком, в коем бы трижды счесть можно было… Айн, цвай, драй!
Бирен писал по-немецки, кричал по-немецки, все тут же быстро переводилось на русский. Полковые палачи-профосы стояли с фухтелями наготове. К вечеру избитых людей уносили на руках. Сами уже не шли. Но какие это были вдохновенные дни для Бирена!..
Среди ночи он проснулся, весь в холодном поту:
– А что, если два темпа с левой ноги отбить – короткие? А третий – длинный? И – линия… Вот здорово!
Так был создан для России Измайловский полк.
– Имею для сего полка особое намерение, – призналась Анна Иоанновна. – Походами Измайловский регимент не отягщать, а быть ему постоянно при охране моей высокой особы… Да зовите Ушакова ко мне: пусть скажет – какая эха идет на Москве?
Эхо было таково: на Москве недовольны, злобятся…
– Ништо им! – сказала Анна. – Кругом меня одни злодеи!
Измайлово – село русское, древнее. Измайловский же полк – войско сбродное, новое. Это уже не гвардия – защита отечества!
Это лейб-гвардия – защита самодержавия!
* * *
Николас Бидлоо – Быдло щупал отвислый живот Анны Иоанновны.
– Дистракция отлична! – утешил он императрицу. – Меланхолии же в кишках ваших не наблюдаю… Но исключите из своего меню декокт, прописанный вам Лаврентием Блументростом. А так же, ваше величество, не препятствуйте выходу газов наружу…
Бидлоо очень завидовал славе врача Блументроста, которого уважали на Москве русские люди, и говорил про старого ученого, что верить этому разбойнику нельзя.
«Нет ли тут злого умысла?» – задумалась Анна Иоанновна, и Лаврентия Лаврентьевича призвали ко двору.
И сказала царица Блументросту слова подозрительные:
– Что же ты, архиятер, рецепт от себя худо пишешь? Гляди-ка сам, что получается… Дядю моего, Петра Первого, лечил – он опочить соизволил; Екатерину Алексеевну ты лечить взялся – тоже духу не удержала; теперь и племянника моего, Петра Второго, говорят, уморил ты…
Низко поклонился ей старый Блументрост – Академии наук президент и лейб-архиятер их императорских величеств и высочеств.
– Напрасно изволите гневаться, – ответил он, выпрямляясь. – Великий дядя ваш, сами ведаете, отчего помер… Екатерина же Первыя, кроме вина, ничего больше не пили. Петр же Вторый, племянник ваш, был охотами истощен и в науках любовных искушен сызмальства… А врачи ведь – не боги!
Анна Иоанновна обозлилась, пошла рукава поддергивать.
– А коли так, – сказала, пыхтя, – то можно ли врачам доверять здоровье богов земных? (И при этом на себя указала.) Каково же сестрице моей, Екатерине Иоанновне, кою ты ныне лечишь?
Дикая герцогиня Мекленбургская Блументроста жаловала: он ей тайные аборты производил, и Анна, конечно, знала о том.
– Ваше величество, – опять склонился старый врач перед царицей. – Эскулапам, как и цезарям, положено быть честными. И потому скажу вам честно: кончина вашей сестры тоже не будет в благоуханье святости. Ибо никакое чрево того не выдержит, что утроба герцогини Мекленбургской ежемесячно выносит… А – вино? Вы знаете, сколько пьет вина ваша сестрица?
Громадная рука Анны Иоанновны обрушилась сверху. Удар! – и старик покатился по полу.
– От Академии моей тебя отрину! – заревела Анна. – Словечко одно скажу, и быть тебе в окно из дворца брошену! Смеешь ли ты рассуждать о нас – о помазанниках божиих! – яко о тварях земных?
Блументрост уехал в Измайлово и – притих. Академией он уже давно не занимался: Лаврентий Лаврентьевич был опытный врач, но никакой не ученый. Теперь место его было упалое, и при дворе снова заволновались.
– Академия свободна, – говорили. – Президент нужен!
– А – кого? Вон барон Корф, он книжки читает…
– Друзья, Кейзерлинг умнее Корфа!
– Ну это еще не выяснено, кто из них умнее…
Блументрост упал. Да столь крепко упал, что в Петербурге еще выше подскочил секретарь Данила Шумахер, хорек удивительный (после него долго Академию «де-сиянс» проветривали). И говорил теперь Шумахер речи деликатные. Вот так он говорил:
– Что ж, я согласен: пусть Россия – господину Бирену, но уж русскую Академию, извините, я не уступлю. Она – моя! Меня еще Петр Великий высочайше изволили жаловать. Да и жена у меня – дочь лейбкухмистера Фельтена, который варит супы ея величеству…
Данила Шумахер тоже науками занимался – по цвету корешков расставлял книги. «Академия игр забавных», «Сатиры галантные и амурные», «Развлечение с тенями». Ровно выстроил он книги. Синенькие на одну полку. Красненькие – на другую. Получалось красиво! Всяк Шумахера за то похвалит…
Наивно думать, будто тогдашняя Академия наук приютила под свою сень одни светила разума и благочиния. Увы, читатель, немало здесь собралось и проходимцев от науки – Буксбаумы, Гроссы, Крафты, все в париках, тевтоногрозные, завистливые к чужим успехам, жадные до казенных дровишек. Не раз уже их усмиряли через полицию за кабацкие драки, за дебоши в храмах божиих. Среди этих «ученых» были герои первых на Руси судебных процессов по выселению из квартиры «за невозможностью совместного проживания»…
От нечего делать собирались они в трактире. Устраивали свалку. Бились насмерть мебелью и посудой. Проливали кровь драгоценную… Но иные академики (экие недоумки!) о науках пеклись. Желали они принесть пользу России и народу русскому. О таких дураках Шумахер просто рапортовал в Москву: «Соскучаясь от многих их глупых вопросов, я раскланялся и ушел». Академики тоже разбредались. Отплывали обратно – в Европу…
Леонард Эйлер нагрянул в Адмиралтейство с просьбой: пусть его определят на флот русский.
– Может, на палубах галер я окажу более пользы. Ибо служба на флоте есть дело чести, а где честь – там нет Шумахера!
– По чину в науках, – отвечали ему, – вы давно уже в адмиралах ходите. Каким же рангом определить вас флотски?
– Согласен… мичманом, – скромно сказал великий Эйлер.
– Будьте лейтенантом! При вашей учености, Леонард Павлович, вы скоро станете президентом Адмиралтейств-коллегии…
Русский флот поставил паруса, задвигал веслами и, ощетинясь пушками, грудью встал на защиту ученого… Таковы были перемены. Плохие то были перемены.
А при дворе царицы еще долго спорили:
– Так вот, я и спрашиваю вас: кто же самый умный на Митаве? Пора уже решить этот спор – Кейзерлинг или Корф умнее?
* * *
В метельную ночь в деревне, под Москвой, умирал фельдмаршал России – князь Михаил Михайлович Голицын-старший. Пальцы старого воина уже «обирались», но вдруг глаза прояснели:
– Жезл-то мой… жезл? Кому? Кто подымет из рук моих?
Были при нем в час последний братья его – Дмитрий Голицын (министр верховный) да генерал Михаил Голицын-младший. Знавший одни победы, фельдмаршал вовремя ушел от поражения.
Умер питомец громких побед, герой Нотебурга и Нарвы, Гангута и Гренгама; кровь его пролита в Полтаве и под Выборгом; вождь армий победоносных, он донес русские знамена до льдяных пустынь туманной Лапландии… Теперь всего этого не стало, только остались в полках гвардии петровской славные стяги, пробитые пулями и картечью. Душа фельдмаршала погрузилась в потемки вечности.
К выпавшему жезлу протянулись сразу две руки – принца Людвига Гессен-Гомбургского и Миниха, сидевшего в Петербурге.
– Я более принца того достоин, – честно заявлял Миних.
Глава десятая
Деревенька Гнилые Мякиши по-над самой речкой. Из сугробов, под берегом, торчат жесткие перья камышей. Присели в снегу избенки мужичьи. Потихоньку светает…
Бабушка Федосья первой встала, огонек вздула. Лучину в зубах зажала и на двор вышла. Крикнул встречь петушок-умница: мол, пора и день начинать, слезай с печи, люд православный! По улице бабы зашастали: у кого огонька не было (затух за ночь), те к соседкам бегали. И на бегу в уголек дули, чтобы не загас. Совали его в печи, соломкой уголек окружали, вспыхнул огонь – сразу повеселели избенки.
Закурились тут Гнилые Мякиши дымом, запахло всяко…
А на горушке – дом господский (такая же изба, только шире, в оконцах не лед, а стекла вставлены). Мирон Аггеевич Тыртов, барин старый, флота мичман отставной, велел из подпола достать полосу мыла. От той полосы кусочек себе отрезал и помылся. Обмылочек же, чтобы дворня не пользовала, в сенцах за матицу спрятал.
На костыль опираясь, прошел Тыртов в горницу. Три вдовые невестки обхаживали свекра, желанья его угадывая. Того подать или этого?.. Старик в красном углу сидел, а под иконою – кортик. А за иконою тараканы жили, они там шуршат себе и шуршат.
– Хорошо, – сказал Мирон Аггеевич. – У других-то хуже…
Только было огурчик из рассола вынул, как хорошее-то и кувырнулось. Влетел на двор Тыртовых малый соседский – от господ Паниных. Без шапки, босой, ноги вразброс на спине лошадиной:
– Барин! Меня к тебе господа прислали… Коли что есть, так спрячь. Да ревизскую сказку сверь – нет ли лишних? Беда, беда! Недоимки за все годы прошлые берут, жгут и порют!
Старик огурчик дожевал и – к себе. Там у него счеты имелись самодельные: на веревочках были желуди лесные навязаны. И стал Мирон Аггеевич на желудях тех считать – чего казне недоплачено?
Вышел к невесткам потом – с бедой в глазах.
– Водки! – сказал. – Да стол накройте загодя. Может, еще и откупимся? Дети-то, сыночки мои… – заплакал старик. – Одна буря архангельская всех в един час забрала. А меня-то вы с бабами своими оставили… без внуков! О господи…
В полдень вошли в Гнилые Мякиши солдаты. На крылечко дома дворян Тыртовых поднялся офицер:
– По указу государыни нашей матушки…
– Уже то ведомо, – ответил старый мичман, а невестки его раскраснелись. – Извольте к столу, сударь, жаловать…
За столом руку офицера нащупал, положил туда для начала.
– Все едино не поможет, – сказал ему офицер, взятку приняв охотно. – Коли с вас не взыщут, так с меня взыщут… Лучше уж вы, сударь, своей властью, властью помещичьей, с мужиков требуйте. А на то я указ имею строгий… времена ныне не жалостливы!
Мирон Аггеевич, невесток не стыдясь, браниться стал.
– Вор ты, вор! – говорил, губы кусая. – Я ж тебе сей миг остатнее свое сунул. А мужики догола выщипаны допрежь тебя… Что взять, коли нечего дать? Боженька-то – эвон! – показал старик на икону, – боженька все видит…
– Тогда… правеж! – ответил офицер и есть не стал.
Из-за стола скинулся – убрел по сугробам вниз, где чернели, словно размокшие снопы, мужицкие избы. А помещик сидел долго. Под любимой иконой – кортик флотский, а на кортике том – слова громкие, слова победные: «Виватъ Россiа».
Снизу дворня прибежала, стали рассказывать ему:
– Мужиков да баб усех на двор выгнали. Иные-то босы, барин. Надеть неча! Мерзнут… А живинку уже забрали в казну царскую. Бабка-то Федосья в уме повредилась. Так и воет, так и воет: у ей, барин, телка остатня, уж така ласкова… Взяли телку ту!
Мирон Аггеевич посмотрел на оконце: там зябко светило солнышко и сверкал снег. Махнул рукой, слезы пряча.
– У кого что есть – сымай! – велел дворне. – Да вниз бегите, отдайте. Не стоять же им босым на снегу. Погибнут, чай…
Отдал подушные недоимки только один мужик – Захар Шустров: он долго в бегах находился, наторговал или разбойничал – того никто не ведал. Но он – отдал! А больше никто!
Когда скотину забрали, сусеки подмели, холсты домотканые смерили, офицер считать стал. И, подсчитав, сказал:
– Не журись, Мякиши! С ваших тягл ишо сорок шесть рублев с гривнами… Отдай и не греши! А то бить вас стану…
Завыли бабы, вся деревня упала ему в ноги:
– Миленькой… родненькой, за что немилость така?
– Воры вы! – кричал офицер, озябнув, валенками стуча. – На вас недоимки старые налегли. И быть вам за беглых в ответе. И за них тож сыщем! Оттого што казне государыни убыток терпеть не след… Волю дай, так вы все разбежитесь, а кто государыню кормить станет? Подати – дело божеское…
А стоял здесь же дедушка Карп, мутноглазый. Сколько лет жил – сам не помнил. Чего-то все, коли бражки выпьет, про царя Михаила молол. То дела очень давние, как и сам дед… Вот к нему офицер и прицепился сдуру:
– Тебя почто в сказке не указано? Ты откель таков?
– Да его забыли, – вступились мужики. – Он старичок тиха-ай. Когда сказку ту писали, он тиха-а сидел. Его и обошли люди письменные. Дедушка тиха-ай…
Тут офицер палку взял и пошел всех по спинам молотить:
– Долго мне тут мерзнуть с вами? Или вы беглых кроете? А может, тихого-то того уже давно ищут?
И улыбался дедушка Карп – беззубый, глухой и тихий.
Захар Шустров (богатей) плечом вперед подался.
– Погоди бить-то! – закричал офицеру. – И пошто старичка убогого тронул? Говорим тебе: нашенский он, тыртовский…
Взяли солдаты трех бобылей-мужиков. Для начала поздоровее выбрали. Привязали к тыну, заголили им спины белые.
– Начинай править, – сказал офицер и отошел…
Мирон Аггеевич велел хрену из погреба принести и стал хрен тот нюхать. Он крики людей слышал, и ему худо было. Тыртов знал наперед, что сколь ни правь, а взять с мужиков его нечего.
Невесткам своим, что притихли, сказал дельно:
– Несите мне «Вертоград Прохладный», я честь буду…
Принесли книгу, свечой закапанную, «Вертоград Прохладный» называемую (в той книге были «врачевские вещи, ко здравию человечества полезные»). Мирон Аггеевич, под крики правежа, листал затерханные страницы. Прочел, как молитву, – с плачем:
«Аще кого биют на правеже с утра или весь день, той да приемлет борец-траву сушеную и парит его в щах кислых, и в тую ночь места битые теми щами кислыми с борцом-травою на себя кладет изрядно».
Отбросил помещик книжицу, велел невесткам:
– Чего воете-то? Иль не знаете, что делать вам? Варите щец тех поболее, всяк рваный будет ныне…
Завечерело уже, и Захар Шустров сказал в ухо дедушке Карпу:
– Ступай домой, старче! На тебя глаз вострят…
– Чо? – спросил старик.
– Ступай до дому и спрячься. Ты – лишний!
– Лишний?.. Ну-ну! – И тихо-тихо убрел куда-то.
Тут мужики, от боя ослабев, привели жеребят спрятанных. Офицер оценил их и крикнул:
– Того мало! Ради бедности вашей два рубля скину, а с вас ишо будет сорок четыре с гривнами… То недоимочно!
Снова взлетели палки:
– Во имя отца и святого духа…
– Аминь! – стонала деревня Гнилые Мякиши.
И падала в ноги уже не офицеру, а – Захару Шустрову:
– Родненький, у тебя ж скоплено. Пострадай за обчество. Ведь забьют бобылей… Смягчи сердце-то!
Богатей рвал от баб полы своей шубенки:
– Бог с вами, земляки! Откеда у меня?
Офицер вытер рукавицей усы от инея, послушал ругань.
– Крепче бей, – сказал. – Кажись, до завтрева выправим здеся да в другие деревни пойдем, где посытнее…
И ползла деревня вслед за богатеем:
– Што хошь проси потом с нас… А сей день выручи!
Жалко было Захару расставаться с деньгами. Но все же он решил спасти земляков. Бойко застрелял лапотками по снегу куда-то на задворки деревни и там – пропал… Испугались тут мужики – не сгинет ли совсем? Но Захар Шустров уже выскочил, словно черт, посередь улицы самой. Трахнул перед офицером горшок старый, из земли выкопанный:
– Сколь лет содержал… Все прахом! А меня лихом не поминайте, мужики и бабы… сбегу! И снова на Низы в гулящие люди подамся…
Древком протазана треснул офицер в горшок, звонкий с мороза. В куски распался он, и покатились по снегу деньги. Озябшими синими руками офицер пересчитал их, после чего сказал:
– А, мать вас всех… опять мало! С ваших тягл ишо осталось рубль с полтиной. Одначе так, мужики: темно уже стало, чего не доправили сей день, то завтра править станем. А солдат моих по дворам разведите и кормить их обязаны…
Сам же он из деревни в гору поднялся, понюхал в сенцах:
– Кажись, щами пахнет? Дадите ль похлебать?..
Потом и спать легли. И крепко спали, только Мирон Аггеевич ворочался. А утром глянули – тишина в деревне. Не дымит она, почернела. За околицу же следы тянутся – санные. Завыл тут помещик, в ярости офицера за грудь хватая:
– Разоритель ты мой! Убегли все… Чем жить-то я стану? Сыночки на службе морской пропали, один я с бабами, старый…
Но офицеру было не легче: его ждал суд, скорый и свирепый, ибо деревня Гнилые Мякиши ушла с его солдатами вместе.
– Где мужики мои? – плакал старый барин.
– Солдаты-то… иде же они? – убивался офицер.
Скинулись вниз, толкали двери избенок:
– Пусто… пусто. Ай-ай!
Висели над порогом черные пятки. То остался на родине дедушка Карп – тот, что был лишний. И в сказку ревизскую не вписан. Но дед лишним не пожелал быть. И повис над порогом избы своей.
Он был очень-очень старый – еще царя Михаила помнил. А при царе Михаиле тоже правежи были…
Теперь правнучке его, императрице Анне Иоанновне, нужны были деньги для праздника вечного, и так она собирала с народа недоимки. А все это и называлось – правеж…
«Гнилые Мякиши, где же вы?»
«Мы на тихой речке когда-то стояли…»
* * *
Карьеру делать по-разному можно. И способов к тому – не счесть! Михайла князь Белосельский на селе Измайлове, среди прочих кобелей, тешил Дикую герцогиню. А за бойкость любовную она ему подарки разные делала. Деньгами, а чаще припасами для дома. Вот и сегодня сбирался князь бойкость свою выказать.
Сыскал он на Плющихе колдунью и полтину ей дал.
– Желаю я, ведьма, – сказал, – перед некоей дамой жар мужской проявить особо… Ты секрета к тому не ведаешь ли?
Колдунья опоясала князя Белосельского лыком мочальным, башкой его в подпечек засунула и заговорила слова опасные:
– Слову мудрому ключ, замок! А поставит она тело в тело, и будет жила твоя мужеская да тайная тверже любого железа, каленого и простого, и всякого камени, морского и земного и подземного. И не падать жиле твоей во веки веков… Слово сказано, а язык мой ключ, замок! – И лыко с князя отпоясала…
Ушел Белосельский от нее. Но, будучи человеком просвещенным, лошадей своих на Маросейке, близ улицы Покровки, задержал. Тут, по соседству с домом Блументроста, обреталась аптека московская. Среди банок порцеленовых похаживал, пузом вперед, и сам аптекарь – господин Соульс (в просторечии – Соус). Князь его шепотком спросил, подмигивая зазорно:
– А нет ли у вас, господин Соус, лекарствица такого, чтобы перед дамами особливую страсть выявить?
– Кантариды для здравия опасны, – отвечал аптекарь, на банки свои поглядывая. – И по указу царскому надобно иметь письменное заявление от той дамы, которая недовольна вами в утехах своих бывает… А без записки от дамы сердца – никак не могу!
Вздохнул Белосельский: ладно, мол. И поехал далее, на одну лишь колдунью полагаясь. Но только с Никитской он завернул, тут и поперли мимо него – наперерез – кареты немалые.
Нырял меж сугробов возок золоченый, царский. А в стекле мелькнуло лицо – лицо Анны Иоанновны: ехала она по дороге на Измайловское. Выходит, напрасно тратился. Не бывать сегодня князю там, и бойкость некому выказать…
…Анна Иоанновна сидела на диванах, простеганных червленым бархатом. Чтобы порошу обминать, перед царским выездом пустили наперед возок с девками. А девки те – вовсю пели:
Покинь, Купидо, стрелы: Уже мы все не целы, Но сладко уязвленны Любовною стрелою Твоею золотою; Все любви покорены…Насупротив Анны сидела лейб-стригунья Юшкова.
– А что, дура, – спросила ее Анна, – не стара ль я еще?
– Ой, матушка, – замахала Юшкова ручкой. – Не гневи ты боженьку: эка сласть-то в тебе, уж така ты пышна, уж така масляна! Куды-ы другим погодкам до величества твово!
– А погодки-то каково кажутся?
– Да уже давно сгрыбились… Эвон у Черкасской-то пузо мешком виснет. Да облысели все. А у тебя, гляди, красота кака – волосики твои, быдто веничек маховой, банный!
– Ну и ладно, – успокоилась Анна Иоанновна, довольная…
С криками и свистом бичей миновали село Черкизово – вдали уже и крыши теремов Измайлова завиднелись. Ехали скоро, так и рвали лошади царский поезд. И вдруг…
Грохот, пыль, визг! Ни возка, ни девок!
Разверзлась земля: посреди дороги – яма громадная, провал. Вздыбились бревна оттуда, хитро уложенные, как в капкане…
– А-а-а-а!.. – рев животный, нечеловечий, то кричала сама императрица. – Убивают меня… у-убива-а-а-а…
В провал, стуча по крыше возка, сыпались здоровенные камни. Трещало дерево с хрустом. Дрыгали ногами лошади, разрывая в бешенстве упряжь. Осела снежная пыль, и все стихло…
Из седла выскочил Левенвольде, рванул дверцу кареты.
– Счастье ваше и всей империи, – сказал он, – что возок с девками вы пустили впереди себя… Едем! Обратно! На Москву!
Примчалась во дворец и кинулась к Ушакову:
– Андрей Иваныч, узнай злодеев… Спаси!
Ушаков, по набожности своей, весь пытошный застенок образками да иконками завешал. Оглядел он лики святых угодников, и —
– Введите пациента первого! – велел…
Первый «пациент» взвился на дыбу свечкой. Вздрогнули камни от страшного воя. Тогда Андрей Иванович на колени встал и голоском тихим, дрожащим запел акафист Иисусу сладчайшему…
Но ни дыба, ни железо раскаленное, ни молитвы – ничто не помогло открыть людей, которые устроили покушение на императрицу. Вокруг Черкизова да Измайлова чернели избы мужиков, шумели там гиблые – по колено в снегу – леса, да изредка мерцали над угорьями речек тусклые огни лучин…
* * *
– День – как день (таких дней на Москве много).
На кольях торчали головы, и глазами блеклыми, веки дремлюще опустив, встречали пасмурный рассвет над Яузой.
Загудел Иван Великий… Поначалу ухнул басом Успенский колокол – в четыре тысячи пудов, потом – Ревун, этот был поменьше. А за ними пошли сыпать прочие: Медведь – Татарин – Лебедь – Голодарь – Корсунь и двадцать семь еще разных.
Пришли сторожа, люди бывалые. Они головы с кольев сорвали. И в мешок их поклали. А из другого мешка свежие головы вынули. Только вчера еще рубленные. И водрузили их – на страх народу, чтобы люди русские себя не забывали.
У этих еще веки не опустились: рассвет над Яузой сочился в мутных зрачках, смотрели они на Москву – тускло и совсем не гневно… И тысячи пудов звонкой меди гремели над ними!
Собирался народ. Выходили из фартин люди гулящие, себя не помнящие. Около бань, синяки румянами замазав, блудные девы в тулупах козлиных похаживали. Коли копеечка лишняя у тебя имеется, так согреши с девой! Заодно в баньке попаришься.
Запахло рыбою жареной. Прели под тряпками, для тепла укрытые, коровьи сычуги с гречневой кашей. Из харчевен лез дым через окошки – не пожар, а просто так (грелись там).
Пронес мужик скамью преизрядную, и на той скамье товары раскладывал. Дело скорняцкое, хорошее дело! На саночках везли бабы квасные кади – на квас всегда спрос охотный (это прибыльно).
Из цирюльни вышли воры – ребята хоть куда! Они сразу в толкучку затерлись, пошли народ щупать. Скорняка увидели, скамью опрокинули. Мужик был не промах: на снег лег и, что было у него (юфть там и голицы-рукавицы), все под себя зажал. И не встал, покуда воры не отошли.
Потом от земли воспрянул весело – снова торг учинил!
И смотрели на людскую суету головы.
Вчера рубленные. Свежие…
Прошел, бородой тряся, юродивый Тимофей Архипыч.
– Уважь, – кричали ему. – Окрести нас или облай…
– Ой, люди! Очами не видите, ушми не слышите… Анна-манна, гол шелков, да и был я таков… Сократи и сосмири кобеля царского! И крестьянского и монастырского… Вняли ли?
– Вняли, – отозвался народ площадной.
– Чтобы стался он слеп и глуп, как теля мокрое. Чтоб связались ему челюсти, а в челюстях – язык его. И чтобы не слышать нам лая дикого, не нашего… Вняли ли?
Вскочил на бочку парень, шапку свою рванул пополам.
– Спасибо, Архипыч, что надоумил меня, – кричал в толпу. – Как не внять тебе? Мы того кобеля знаем… То Бирен поганый!
Сверкнул протазан над толпою. Бежали солдаты.
– Стой! – орали. – Хватай его, хватай… Вали с ног.
Но парень уже летел по улице. А за ним – солдаты:
– Куда-т тебя туда-т понесло?.. Стой, а то стрелим!
Ох, и шибко бежал парень. Сам он русский, улица русская, солдаты русские – власть чужая. И кричал он на бегу затейно, словом особым, которого все боялись:
– Когда мас на хас, то и дульяс погас!
То значило: «Не трогай меня, а то ножика получишь». Влетел парень в кабак Неугасимый, бухнула за ним дверь.
А солдаты уже тут, и прется офицер с протазаном:
– Эй, питухи, погоди пить… Сказывай, где тот человек, что вошел сюды-тко вот только што?
Отвечали ему вина пьяницы, табаков курильщики да в зернь игральщики – словами извечными, что наизусть помнили:
– Знать того не знаем, ведать того не ведаем…
И ушел офицер обратно – в сумбур криков да сговоров московских. А воры гладкобритые все похаживали. Да все посматривали. Средь бела дня, не стыдясь честного народа, стали раздевать они купчину из Китай-города. Раздевали, приговаривая с улыбочкой:
– Шасть на кабак, дома ли чумак? Веришь ли на деньги? Иль в долг даешь? А каково с бабушкой живешь?
Молчал купец. Только знай поворачивался. И снимали с него в самый аккурат, все по порядку:
кушак яицкой —
рукавицы козловые —
сапоги и шапку —
шубу нагольную —
кафтан-смурострой —
фуфайку-китайчатую —
штаны лазоревые —
исподнее полотняное.
А более снимать было нечего, и тогда купец завопил:
– Кара-у-у-ул… гррра-а-абят!
Народ безмолвствовал. И крутился вдали протазан офицера.
И покрикивали люди гулящие, себя не помнящие:
– Когда мас на хас, то и дульяс погас!
* * *
В этот обычный день, каких много, въехал на Москву бывший губернатор земель Казанских – Артемий Петрович Волынский.
Въехал тишком, в каретке малой, чтобы глаза пышностью не мозолить. И остановился в доме Нарышкиных (по родству). Только было детишек от платков и шубеек раскутали, тут и вошли в покои солдаты. Офицер же, явясь, сказал Волынскому:
– От имени государыни-матушки было указано вашей милости до самого Низу ехать – под команду генерала Левашева. А заместо Гилянских провинций вы, сударь, самовольно, в нарушение указа царского, на Москве объявились дерзко. И в том ответ дайте!
– Тебе, балде, ответа не дам, – сказал Волынский. – А врагам моим отвечу: зубы мои… во, гляди! Такими зубами до кишок можно добраться! Смекнул?
Офицер был глуп и смотрел на зубы. В самом деле, у вельможи Волынского не зубы, а – перлы. Один к одному, белые, чистые, крупные. Такой, вестимо, любого волка разорвет! Но возле дверей уже качнулись штыки.
– А это зачем? – крикнул Волынский.
– Велено держать вашу милость под арестом и никуды не выпущать. И грозит вам ныне строгая инквизиция!
– У-у-у, – завыл Волынский и покатился по полу…
Глава одиннадцатая
Шаги – бум-бум-бум… А шпоры – лязг-дзень-трень…
Анна Иоанновна привстала… Прямо на нее шагал громадный детина. В руке его взлетал чуть не до потолка толстый команд-штап, сверкали ботфорты в заплатках старых. Парик-аллонж спадал с плеч до пояса, и взметалась над буклями рыжая пудра.
Это шел генерал Александр Румянцев (из денщиков Петра):
– Звала ты меня, матушка, и вот приехал я…
Анна Иоанновна дала ему руку для поцелуя приветного:
– Милый друг, Ляксандра Иваныч, рады мы видеть тебя у престола нашева. Бывал обижен ты от людей временных, куртизанов подлых… Нонеча то время ужасное миновало! Быть тебе в чести великой: для начала в сенаторы наши жалуем…
– Благодарствую покорно, пресветлая государыня наша!
Анна Иоанновна и дальше – лисичкой к нему:
– Будто и невесел ты, енерал мой? Видать, долгов накошелял изрядно? Так я тебя не оставлю: вот шкатулка, а в ней, дома сочтешь, ровнехонько двадцать тыщ золотом… Рад ли ты?
– Эх, матушка! Кто деньгам не рад? Удружила ты…
– И в подполковники гвардии тебя, – расщедрилась Анна. – Ну, целуй руку мне да кланяйся. Станешь ты другом моим верным!
– Матушка! – растерялся генерал. – Ничего путного содеять я не успел, как ты меня одарила милостями… Говори же – что надо, все исполню ради тебя!
Анна Иоанновна гостя усадила, сама печалилась:
– В великом тужении финансы мои обретаются. Не знаю уж я: сразу мне с котомкой идти по миру? Или подождать малость? Нечестивые люди казну мою изнутри всю выжрали. А тебя, яко человека честного, у двора моего фавора никогда не искавшего, желаю я к финансам твердо определить…
– Постой, постой, матушка, – заговорил Румянцев. – С чего ты взяла, что у нас финансы имеются? У нас – подати, налоги, правеж и грабеж, поборы разные… Да еще вот! – Достал генерал рубль, куснул его и протянул Анне: там все восемь зубов отпечатались. – Одна фальшь, матушка, и никаких прибытков не предвидится.
Анна Иоанновна платок бабий на голове поправила.
– Миленько-ой, – пропела басом, – про то нам ведомо…
– Коли воры округ, матушка, так карман свой держи дальше: как бы не сперли. Ты вот, во дворце сидючи, нищей сумою грозишься? Я ведь прямо из саней – всю Россию от Персии проехал. Ты с котомкою и не суйся: никто тебе, государыня, сухарика не подаст. Потому как сухарики все съедены без тебя… Лучше уж, матушка, ты меня в драку определи. Я солдат и до драки охочь бываю!
– Да погоди о драке-то! Ныне дела таковы, что без денег и в войну не сунешься. Сначала карман набей, а потом уж и дерись…
– Не! – мотнул Румянцев париком (и долго оседала рыжая пыль). – Без денег драться еще способнее: злее будешь! И ты, великая государыня, коли уж позвала меня из Персии, то говори дельно.
Анна Иоанновна обиделась, покраснели на лице ее корявины:
– А я тебе разве пустое болтаю?
– Ты меня, матушка, без ножа резать возжаждала, коли в эти финансы свои пихаешь… С чего взяла ты, не пойму, будто Румянцев дурак такой, что согласится дырки чужие залатывать? Сама продырявилась – сама и штопай, матушка… А меня – избавь!
Анна Иоанновна в гневе рукава заподдергивала.
– Ну, – заговорила она, – не ожидала я от тебя такой холодности… Мы к тебе по-божески: деньгами ссудили, в сенаторы вывели, по гвардии произвели. А за все заботы ты целый короб мусора у престола нашего вывернул. Уж и я по тебе плоха, и дела-то мои никудышны… Да я-то, чай, не глупее тебя!
– Матушка, глупая ты или мудрая – мне все едино. Позвала ты меня, и я предстал… Прикажи повеситься – Румянцев повесится!
– Да на што ты мне сдался повешанный-то? Финансы мне чрез тебя выправить надобно, болван ты этакий!
Тогда Румянцев поднялся в рост и взмахнул команд-штапом:
– Так чем же я тебе их выправлю? Вот этой палкой, што ли? Финансы едино лишь разумною экономией выправляются. Да и то – не через солдат вроде меня, а через людей образованных…
Анна Иоанновна кулаками двери раскинула:
– Уйди, а то поругаемся. Решение мое крепкое: тебе при финансах состоять. Шкатулочку-то прихвати и поди, да – подумай…
Шкатулку под локтем зажав, команд-штапом размахивая, уходил прочь генерал Румянцев – будет он теперь думать…
* * *
Скушно Артемию Петровичу, не приведи бог как скушно ему!
К полудню расселся Волынский возле окон. В тоске непоправимой лютейшим взором улицы оглядывал. А день-то ядреный выпал. Подморозило. Течет дух густой, некопотный. Как раз насупротив дома Нарышкиных – мастера-каменщики стали полдничать, сбитень прихлебывая. С ними и архитект-офицер в чине полковника, реял на ветру его жиденький шарфик в серебре…
– Базиль, – зевнул Волынский судорожно, – того архитекта залучи ко мне обращеньем вежливым. Скажи, отпотчевать вместе с ним Волынский желает…
Офицер явился на зов. Телом крепок, румян. Дышал с морозца в большие красные кулаки. Назвался Еропкиным, Петром Михайловичем. Роду он был знатного – боярского, науки в Италии проходил, ныне же – гофбауинтендант при царице (строеньями ведает).
– А про меня знаешь? – тряхнул головою Волынский.
– Вся Москва знает, что ты, Петрович, под строгою инквизицией состоишь и принимать гостей тебе не след… Опасен ты!
– А коли так, чего заплелся ко мне? Видать, не робок…
За столом они разговорились.
– Ныне мы, архитекты, – рассказывал Еропкин, – люди нужнейшие. Русь впусте стоит, храмов божиих много, а партикулярных зданий нехватка… Строить нам Русь в камне! Кривизну же нашу улочную изъять из побыта зодческого! От нее, этой кривизны азиатской, путаница в городах русских. Кольца не нужны, чтобы крепости охватывать улицами. Ныне время крепостей отпало. Прямо надобно строить! Прямая першпектива, стрелой летяща к зданиям в городе главным, – вот она близка сердцу моему…
Волынский про инквизицию все помнил.
– Вот, – заговорил о себе, – сижу… А для чего сижу? Сказывают, будто не прав я! А где они, эти праведники, на Руси право обнаружили? Ох, немало поклепщиков я имею… Но, человек нраву гордого, я им, мучителям моим, не поклонюсь!
– Твои поклоны миру известны, – отвечал Еропкин ему.
– Ежели и поклонюсь, – озлился Волынский, – так с пола-то золотой подберу. Вот и выходит – не в убыток кланялся.
Еропкин открыто глядел на вельможу знатного.
– Народец грабить не пристало, – заявил честно и чарочкой в утверждение пристукнул. – Народ и без того граблен. Хоть ты семь пядей в голове имей, как муж государственный, но коли ты народу своему разорение приносишь, то… грош тебе цена, Петрович!
Волынский даже скулами побелел, зубы оскалил:
– А не больно ли ты смел за чужим столом? С чего бы это?
– От разумности, видать.
– Эва как! Нешто меня ты разумнее?
– Ай глупее показался? – прищурился Еропкин…
Тут они рассмеялись, и Волынский сказал, от гнева отходя:
– Ты мне люб кажешься. Таких жалую. А графин сей об голову твою разбить умыслил напрасно я… Лучше я его наклоню (двинь-ка чарочку ближе), и мы с тобой государя Петра Лексеича помянем… Он меня однажды до смерти измочалил мебелью своей. И потом велел в море Каспийское кинуть. Страху-то натерпелся, господи!
– За что же бил тебя государь жестоко?
– За то самое, за что и сейчас под штыком сиживаю…
Тут он откровенным стал. От стола в покои провел, где книгами хвалился, как иные бояре посудой сдуру бахвалятся, – пыжно! Гостя в «минц-кабинет» залучил: держал там Волынский наборы редкостные монет древних, камней удивительных, зубы мамонта и кости какие-то – превеликие кости, вроде ребер…
– Вишь, – показывал, – мосталыга-то кака огромна? Татищева я спрашивал – он не знает, чья эта… Хочу вот ученых найти, дабы на поле Куликовом они землю копали. Мне самому то делать немочно. Для того я школьных регул не ведаю. А на поле Куликовом (поле бранной чести нашей!) нужно землю подъять научно. Чтобы ни един шлем, ни едино копье мимо серости нашей не прошло… А паче того, – загордился вдруг Волынский, подбородок вздернув, – мой пращур, князь Боброк-Волынский, что на сестре Дмитрия Донского женат был, прославил себя в битве на поле Куликовом!..
Но про инквизицию опять вспомнил – и махнул рукой.
– Повесят меня, – сказал. – Судей своих знаю (сам я таков!). Навещай меня, Петр Михалыч, а то ведь скушно мне. Ой, как скушно мне… Ты где бываешь по вечерам?
– Бываю в гостях у шаухтбенахта флота нашего Федора Ивановича Соймонова… Извещен ли о разумности человека сего?
Волынский глаза ладонью закрыл. Между пальцев его растопыренных, на которых перстни алмазные горели, глядел на Еропкина один глаз:
– Враг он мне, приятель твой. Еще с Гиляни враг! Меж нами один мичман насмердил, да две собаки виснут… Однако ты навещай Соймонова, навещай: умен человек… ах, как умен!
* * *
За Калужскими воротами, против монастыря Донского, над самым берегом Москвы-реки – двор невелик. По правой стороне его изба с сенями, при коих – людская с чуланами и сушилами, где запасы хранятся. Под снежком стоят тонконогие яблоньки, на высоких голубятнях воркуют голуби. Впрочем, коли в избе живет дворянин, то это уже не изба, а – палаты господские…
Федор Иванович Соймонов два десятка лет пребывал в дальних отлучках. Умирали родичи его и рождались новые, вздымались хлеба на родине и падали под серпом, гремели грозы над холмами, а он далек был, очень далек… Вернулся недавно на Москву – и никто не узнал его. Уходил серпуховским увальнем, медвежатником, в лаптях, русоволосый, смешливый, а вернулся – голова уже побелела, на бурых щеках складки раздумий жестоких… Вот и ветеран!
Женился по сердцу. Супругу выбирал не спеша, деловито, чтобы по всем статьям его уважила. Чтобы не худа и не толста. Чтобы забот женских не боялась. Чтобы его капризами не сердила. Чтобы с лица была пригожа. И такую нашел… Чисто вымыты половицы. Скрипят под шагом тяжелым. Свиристит щегол в клетке. А за окном морозным – Москва в снегу, стены монастыря Донского… Не верится! Уж не сон ли? Где вы, звезды адриатические, девки веселые флоренские, рыцари мальтийские, на галерах высоких мечами бренчащие? А где ты, соль гилянская, россыпь звезд, будто по шелку, на небесах персидских, штормы в свисте ужасном, лотов в пучину бросание?.. Ах, жизнь, жизнь… До чего же скоротечна ты!
Главное, черт побери, чтобы с пользой прожить – без этого нет истинного сына отечества. Добро, а не зло оставлять после себя надо. Деревья высокие после тебя, книги разумные, а дети славные пусть останутся. Чтобы глаза в смерти смежая, увидеть в последний миг слезы сожаления по себе, а не смех слышать торжествующий.
В особом почтении на столе адмирала – готовальни чертежные и кисти разные. Составлял он атлас моря Каспийского из восьми карт. Пусть плавают моряки, мелей не боясь. Труды свои научные печатал Федор Иванович при журнале академическом. Он и в языках был мастак: от латыни до голландского! Чужие слова выговаривал добротно, со вкусом, без изъянов. Никого сам никогда не бил и себя в обиду не давал. Так – небитым – и служил: в науке и в чести…
Навещал его Иван Кирилов – сосед (неподалеку от Соймонова сенатский секретарь дом имел загородный). Тогда во всю ширь раскладывали они карты. А на картах тех – еще пустоты, разводья пятен белых, загадочных. Кирилов, глаза полузакрыв, произносит слова неувядающие:
– Кардамон, гвоздика, мушкатель, инбирь, лавры…
Индия, страна чудес, к ней-то и прилежит сердце секретаря сенатского. А путь туда – через степи южные, через горы…
– Ныне, – говорит Кирилов, – мечта жизни моей сбыться может. Ханы казахские вновь подданства российска желать стали. Оттого нам прибыток политический видится: сколь степь та просторна, большие города в ней заложить мочно. От городов тамошних дороги пролягут, шляхи немалые… прямо в Индию, а?
– Сбыточно ль то? – сомневался Соймонов. – Более меня сейчас дела северные заботят. Никак в толк не возьму, за какие доблести командора Витуса Беринга во главе экспедиций ставили? Человек он характера робостного, движения его нескоры, слова русские не выговаривает, спать да жрать любит… Ныне вот с Чириковым он возвратился. А что сделал? Да ничего! Неужто и во второй поход вновь Беринга головой дела поставят? Чирикова надо ставить, Иван Кирилыч! Молод, упрям, настырен…
– У него болезнь чахоточная, как и у меня: мы с Чириковым не жильцы долгие… А на восток идти, – размышлял Кирилов, – надобно обстоятельно. С коровами, с лошадьми, с мастерами, с кузницами! А коли просто так шляться, за мехами да за чинами, оттого России толку не видится. Маета одна да убытки. А ведь от тех стран полуночных опять же в Индию попасть можно – по водам окиянским!
– Далась тебе, Иван Кирилыч, эта Индия… До Индии еще Бухара кровавая, коли степью пойдешь. Попался живьем, так с тебя шкуру полосками снимут, а куски мяса твоего собакам бросят.
– Потому и говорю, – убеждал Кирилов, – что поначалу в степях надо опастись крепостями малыми.
– Али я спорю? То истинно так, – отвечал Соймонов…
Тихо отряхают в саду снежок с ветвей белые яблоньки. Поет щегол – птица ученая. Войдет Дарья Ивановна, из роду Отяевых, жена строгая, за модами не гонявшаяся, – в сарафане русском, в кокошнике, который, будто ясный месяц, над головой сверкает.
– Милости прошу, – скажет, – к столу жаловать…
Федор Иванович, до стола следуя, косит глазом на живот жены своей – выпуклый: «Никак второй скоро забегает?..» В эту-то тишину жизни ладной, в этот уют избы, в эту благодать – бомбой ворвался указ из Сената: быть Соймонову в прокурорах Адмиралтейств-коллегии и для того, в сборах недолгих, до Петербурга следовать… Радоваться или огорчаться?
– Иван Кирилыч, уж ты объясни мне, как секретарь: по-что же меня, навигатора, вдруг на должность прокурора выдвинули?
– Видать, человека честного искали…
Пришел проститься с Соймоновым архитектор Еропкин.
– А что это вы, – спросил, между прочим, – с Волынским зубатитесь? Враг он вам, кажись?
– А я ему, кровососу, тоже враг, – отвечал Соймонов. – Волынский в Астрахани мичмана моего, князя Егорку Мещерского, на лед в море голым задом сажал. Потом на кобылу бешену вязал. А на каждой ноге по дохлой собаке ему вешал… И при этом – бил! Скажи, Петр Михайлыч: разве можно зверем быть ненасытным?
Еропкин очень огорчился, переживать стал:
– Человек-то здравый… говорить с ним приятно.
– Мужик неглупый, – согласился Соймонов, – но говорить о нем не желаю. Я, братец мой, тиранов не люблю…
Скоро собрался и отъехал семейно. По всей Руси дают ямщикам на водку, чтобы ехали поскорее. По всей, но только не на этом оживленном тракте: Москва – Санкт-Петербург, здесь гонят лошадей сломя голову. И путник, боясь за свою жизнь, дает ямщикам на водку, чтобы ехали потише. Соймонов тоже просил:
– Тише вы, черти! У меня вон в кульке один малый лежит, да второй внутрях у жены крутится… Еще вывернете в сугроб!
Ну, вот и Петербург, приехали. Сани со свистом съехали с берега Невы, кони легко бежали через реку – на остров Васильевский. Острым зрением высмотрел Соймонов фрегат «Митау».
– Дарьюшка, – жене сказал, – езжай до дому. А я командира фрегата навещу, дружили мы с ним по описи Каспийской…
Из трубы кают-компании фрегата тихо вился дымок. Палуба заснежена, такелаж провис. Люк откинул Соймонов и, как был, в шубе дорожной, башлыком татарским укутан, спрыгнул в камору.
– День добрый, – сказал. – Петруша, где ты?
Темнели клавесины в углу, а возле жаровни стояла гречанка красоты небывалой. Профиль тонкий, сама – как былинка, и ножом широким блины переворачивала на сковородке.
– Сударыня, – сказал Соймонов, – кто вы такая?
– Я дочь капитана флота галерного Андрея Диопера, невеста мичмана Харитона Лаптева, что на этом фрегате грот-мачтой командует… Живу неподалеку, на седьмой линии острова, по приязни сердечной здесь я!
– Оно и ладно, – сказал Соймонов. – Батюшку вашего, капитана галерного, я знаю: он моряк добрый. От суеверий далек я: женского духу на флоте не пугаюсь. Но все же скажи Харитошке своему, чтобы амуры свои на берегу кроил, а не на палубах флотских…
Мундиры поспешно застегивая, явились офицеры «Митау»: командир фрегата Петруша де Фремери (и Соймонов его поцеловал), два лейтенанта – Чихачев с князем Вяземским и мичманы – Харитон Лаптев с Войниковым (командиры мачтовые).
– Живете неплохо, – сказал им Соймонов. – Блины вот едите, да и кухарка у вас добрая… Ныне я прокурором флота сделался, увидел фрегат ваш, командира вашего вспомнил да и пожаловал…
Вышли на палубу. Топенант лежал, в бухту свернутый.
– Когда топенант из Адмиралтейства получали? – спросил и канат из бухты развернул (а канат был толстый, почти в руку его).
Натужился Соймонов, сбычил шею и… треснул канат.
– Разве же это… флот? – сказал Соймонов, сопя сердито, и концы рваного топенанта от себя отбросил. – Вот ежели бы канаты у нас столь хороши были, как и казнокрады наши… Тогда бы, смею заверить вас, износу им не было б!
* * *
«Бум-бум-бум» (ботфорты). «Лязг-дзень-трень» (шпоры).
– Явился я, матушка! – снова предстал Румянцев.
– Ну-к поведай нам теперь, каковы измышления твои о моих финансах. В чем убытки, а в чем прибытки ты чуешь?
– Прибытков не чую, матушка. Зато убытков много видится!
– Эка! Утешил… Шумлив ты стал, – поморщилась Анна Иоанновна. – Давно ли на Москве, а Биренов, братьев обер-камергера моего, уже побил палкой. И – где? На лестницах дворца моего, когда уходил от меня в прошлый раз. И – чем? Палкой своей побил… Скажи: за што хоть бил ты их, сирот несчастных?
– Сироты те, матушка, над заплатками моими гнусно смеялись.
– Так и верно, что смеялись, – рассудила Анна Иоанновна. – На што тебе ботфорты в заплатках?
– Экономия, матушка! Тебе об этом помнить бы надо!
Анна Иоанновна глубоко дышала (через нос, в гневе):
– Уж ты прости меня, Ляксандра Иваныч, но в подполковники гвардии рано произвела я тебя. Много воли завзял ты! Нерадив ты к моей особе высокой…
– Может, и нерадив, – отвечал ей Румянцев. – Я тебе не Рейнгольд Левенвольде, который потому и радивым считается, что роскошам твоим потакает…
– А в сенаторах моих тебе тож не бывать!
– Да я Сената твоего и не разглядел, – брякнул Румянцев, разгорячась. – Не в детском возрасте мы с тобой пребываем, матушка, чтобы чинами да заслугами играться! Изволишь слушать – изволь: убыток вижу огромный в дворе твоем. Разгони всех по закутам – вот и будет прибыток тебе! А покуда ты сволочь темную и низкую на коште государства содержать станешь, до тех пор прозябать будет народ российский…
Анна Иоанновна (по алчности своей) корону, державу и скипетр всегда в спальне держала, казне не доверяя. И сейчас до постелей добежала, скипетр схватила, стала им размахивать:
– Это ты мне говорить смеешь? Гей, гей, гей!
И стала Ушакова звать. А пока он не явился, вцепилась она в ленту кавалерии Александра Невского на груди полководца.
– Отдай! – кричала. – Недостоин ты в кавалерстве быть… Эй, люди! Берите его… вяжите его! Рвите его на куски… Вот хулы на меня клепатель! В Сенат его сразу… тащите в Сенат Румянцева! Судить… сразу… на плаху!
Сенат вынес приговор: на плаху и – под топор.
– Господи, – заплакала Анна. – Про деньги-то забыла я… Двадцать тыщ разбойнику подарила… Гей, гей, гей! Бегите до дому Румянцева: верните шкатулку. Может, не успел пропить окаянный?
Сенат с поклоном раболепным внес в кабинет к Анне Иоанновне приговор смертный. В длинном халате, опоясанный золотой цепью, пришел мрачный Бирен. Постучал по столу ногтями (не в духе граф), взял указ о казни Румянцева и порвал его, а клочья указа разбросал по комнате.
– Нельзя же так… Анхен! – резко произнес он в багровое лицо императрицы. – Одного на плаху, другого на плаху… Скоро все там побывают, а кто останется?
Румянцева сослали в казанские деревни – в убожество.
* * *
Миних через «Ведомости» дал публикацию об открытии Ладожского канала. Теперь, обещал он, Санкт-Петербург получит провизии водою сколько желательно, и провизия будет продаваться с открытием канала уже дешевле… Анне Иоанновне трудно было расставаться с Москвой: она отстроила здесь Анненгоф (желая затмить славу чухонского Петергофа), она украсила дворцы московские, кричали павлины в зверинцах Измайлова…
– Гадалки какие, пророчицы есть ли? – спрашивала. – Пущай наворожат судьбу мне… Да Тимофея Архипыча покликайте!
Тимофей Архипыч, тряся бородой, грозно рыкал на Анну:
– Не ездий, матка, в Питер… ох, не ездий! Помрешь с куликом на болоте. Станется тебе внизу живота стеснение неудобное. Будет из тебя кровь хрястать… Ох, не ездий, матка!
Тимофей Архипыч (юродивый, художник, иконописец) был человеком умным, хитрым. Но сейчас за его уговорами стояла московская старобоярская Москва, которая не желала переезжать в Петербург, где все дорого, где все отсырело.
Глава двенадцатая
Архипыч не угодил царице своим жестоким пророчеством, и по совету графа Бирена из Митавы доставили на Москву опухшего от пьянства астролога Бухера…
– Кольца Сатурна переместились, а Сириус весь в дьявольских пятнах, – сказал Бухер и потребовал хорошего пива.
Лейба Либман тоже стал глядеть в трубу на звезды.
– О жалкое невежество! – воскликнул Бухер. – Что ты можешь видеть там, кроме кошки, гуляющей по крышам?
– Напротив, – отвечал Либман, – я все отлично вижу. Например, я вижу Петербург, а там – счастливое царствование нашей Анны…
Из села Измайловского приехала навестить сестру Дикая герцогиня Мекленбургская, Екатерина Иоанновна, и взяла с собой дочку – маленькую принцессу.
– Анюта, миленькая, – говорила она, – не волнуют ли тя дела престольные? Гляди-ка, моя дочь, а твоя племянница… растет!
Бирен об этом еще раньше думал. Своего старшего сына Петра выводил за руку, конфетами выманивал из покоев принцессу.
– Ну, принцесса, – говорил он, – поцелуйте мальчика…
Забитая девочка тянула губы к Петру Бирену.
– А теперь ты поцелуй принцессу, – говорил граф.
И дети целовались. Бирен следил за их детскими поцелуями и грыз ногти, мрачно размышляя. «А почему бы и нет? Мекленбургские тоже ведь – не Габсбурги! Им ли Биренами брезговать?..»
– Анхен, – подластился он однажды к императрице, – скажи, душа моя Анхен, а разве наш Петр не может быть мужем маленькой принцессы Мекленбургской?
– Опомнись! – отвечала Анна по-русски. – Да ведь, чай, не чужие оне… А, знать, они выходят двоюродные… Первородный грех – тяжкий грех! О том и в книгах сказано. Да и Петруша-то наш на пять лет принцессы Мекленбургской моложе… Куда ему?
– Однако, – не уступал Бирен, – Остерман же составил проект, чтобы женить покойного Петра Второго на цесаревне Елизавете Петровне. А ведь она ему – тетка была родная!
– Остерман – немец, и уставов церкви нашей не знает…
Так дело пока и заглохло. Но мыслишка эта – возвести на престол России своего сына – уже засела в голове Бирена, который смотрел, как целуются дети, и думал: «Сейчас не время… надобно выждать!» Печальный, он замкнулся на конюшнях. Все уже знали, где искать его, и несли челобитные прямо в манеж.
– Я не стану учиться русскому языку основательно, – сказал Бирен однажды, – чтобы не быть нечестным от чтения доносов, жалоб и прошений… Ты, Лейба, – велел он Либману, – читай их, если хочешь, но мне – ни слова!
Обер-гофкомиссар двора читал челобитные и – выгодные – оставлял при себе. А такие, по которым выгоды ему не предвиделось, Лейба отдавал генерал-прокурору Ягужинскому.
– Анисим, – говорил тот Маслову, – чти и экстракты пиши. Что дельное, то в Сенат на разбор пустим. И доглядим, и разоблачим. Слабого защитим, а сильного накажем!
Анисим Александрович читал мужицкие и дворянские стоны, слезой и кровью писались челобитные. И пахли они потом. Лошадиным потом (долго валялись прошения на конюшнях у Бирена).
– Павел Иваныч, – доложил в эти дни Маслов Ягужинскому, – смотри сам: Волынский уже на Москве под караулом сидит, а из Казани досель еще жалобы на него сыплются.
Генерал-прокурор отвечал обер-прокурору:
– Не успокоюсь, пока не сгублю Волынского…
Вот когда стало плохо. Ботфорт не снимая, лежал Артемий Петрович на диванах турецких, и было шее его некоторое стеснение. Петлю он чуял – Ягужинский горазд силен ныне: одно слово скажет в Сенате – и висеть Волынскому… «А то неудобно мне, – раздумывал, – и роду моему посрамление. Висеть будет неприятно!» На дом к племяннику заскочил Семен Андреевич Салтыков, ругаться стал:
– Валяешься? Ах ты клоп персицкой… Вони-то от персоны твоей, будто от козла худого! Сколько же ты наворовал?
Скинул Волынский ботфорты с диванов на пол. Зевнул:
– Брешут то на меня, дядечка…
А в глазах – муть, тоска. Зубы уже не показывал – берег (как бы не выбили). Стал на поклепы жаловаться.
– А ты сам клепай зловредно, – посоветовал ему дядя. – Ты, родимый, не первой день на свете живешь…
– На кого клепать? – спросил Волынский.
– Ты меня, мудрого, слушай, – сказал дядя. – Помнится мне, ишо до разодрания кондиций антихристовых, ты беседы вел с воеводами. Свияжским да саранским, кажется… Как их зовут-то?
– Козлов-то, дядечка, с Исайкой Шафировым?
– Во, во! – обрадовался Салтыков. – И они говорили тебе о самодержавцах кляузно. Словами непотребными! А кондиции те демократичные восхваляли… Помнишь ли?
– Ну, помню, – сказал Волынский. – Восхваляли… верно! Так что с того? Кому что нравится, дядечка.
– Вот ты на них и клепай! – надоумил его опытный Салтыков. – Государыня наша к доносам приветлива. Услуги твоей не забудет. И ты, племяшек мой родимый, из гузна да прямо в милость царскую так и выскокнешь!
Подбородок у Волынского задрожал, а губы – в нитку.
– Ну, нет! – отвечал. – Ни дед мой, ни отец в доводчиках и кляузниках не бывали. Я свой век в петле скончаю (пущай так), но токмо не в пакости. Путь человеку, кой мешает мне, загородить я способен, но… доносить? Нет, дядечка! Не тем аршином вы меня мерили! Я – потомок Боброка-Волынского, я от Дмитрия Донского свой корень благородный веду…
Салтыков за трость взялся.
– Дурак ты! – сказал. – Коли ты донесть не хочешь, так я донесу… И ты руки целуй мне: ради деток твоих тако сделаю.
– Не сметь воевод моих трогать! – гаркнул Волынский.
Но дядя уже дверьми хлопнул, а солдатам сказал:
– Стерегите его, сукина сына! Да – построже…
И пошел куда надо. А с таким делом высоко идти надобно. Дело-то – государево. Вот и донес Салтыков на воевод губернии Казанской, будто они слова матерные (слова непотребные, слова кабацкие) противу помазанников божиих свободно употребляли. И демократию антихристову Козлов с Шафировым тужились восхвалять.
Анна Иоанновна теперь сама не своя была: только бы злодеев всех извести, только бы ущучить кого да головою в петлю их!
– Андрей Иваныч! – завопила. – Где ты, спаситель мой? Дело есть до тебя… Слово и дело государево!
* * *
Волынский в одиночку вино пил. И столь шибко, что душа больше не приняла – вывернуло его. Так он и свалился на диваны. В ботфортах, при шпаге и в кафтане!
Среди ночи кто-то хватил его за плечо. Разлепил Артемий Петрович глаза… Матушки! Держа в руке свечечку церковную, стоял над ним, будто привиденье лихое, сам великий инквизитор – Ушаков.
– Как перед богом, – закрестился Волынский. – Спрашивай, не томи… Мне врать нечего! Государыня мою верность знает…
Андрей Иванович тавлинку берестяную достал, погрузил в табак короткие пальцы («Может, убить его?» – тоскливо думал Волынский).
– Ведомо стало, – заговорил Ушаков, – будто воеводы Козлов и Шафиров, по злодейству своему, хулу на власть божию изрыгали не однажды. И тое свидетельски и очно доказать можно… А тому первый свидетель есть ты, Артемий Петрович!
Волынский пришел в зевоту нарочитую.
– С чего взяли сие? – спросил, зубы показывая. – Тех людей я знаю… Как же! Они под началом моим состояли. Да пустое все: мужчины они глупые, жития пьянственного. При мне остолопы сии и слова молвить боялись… Я Исайке Шафирову два ребра поломал, кажется. Может, тут от худых людей поклеп на меня?
– Семен Андреевич Салтыков, дядя твой… худ ли?
– Эва! – гоготнул Волынский. – Откуда знать-то ему?
– Не далее, как вчера, Артемий Петрович, ты самолично ему в том сознался, – утвердил Ушаков.
«Та-ак. Вот это здорово меня подцепили…»
– Вчера-то? – захохотал Волынский и стал диваны от стенок отодвигать. – Верно… верно! Вчера он как раз был у меня. И даже памятку мне оставил. Гляди, дорогой Андрей Иваныч, коли сам не сблюешь…
И свой грех на Салтыкова свалил.
– Задвинь! – сказал Ушаков. – Смотреть страшно…
Волынский с грохотом задвинул диваны обратно.
– Видал? – спросил. – Хорош дядечка у меня… Сначала здесь полживота вывернул, потом к тебе блевать пошел. А я – ответ держи? Ну уж хрена вам всем! С меня как с гуся вода… Эва!
Артемий Петрович врал хорошо. Честно врал. С глазами ясными. Не блуждал взором по полу. На потолки не глядел. Слово скажет – так за это слово всегда держится. И от того вранья он в силу входить стал, сам себя во вранье убеждая…
– А ты, старче, – разозлился Волынский на Ушакова, – ходишь тут по ночам и людей трясешь! Мне и без тебя тошно! Иди, клоп, ползи к старухе своей да глаза сомкни. Я тебя не боюсь…
Окаянный Ушаков умен был: вранье слушая, даже не шелохнулся. Все посматривал да вздыхал. Потом на свечку дунул – и просветлело тут: ночь на исход пошла.
– А ведь все ты врешь, Артемий Петрович! И тебе верить нельзя… Сознайся про воевод, что они ругательски о самодержавии говорили, и тогда (ей-ей) скостим тебе грехов половину… Пойми: живым останешься! Ты мужчина с головой. Год-два пройдут незаметно, и опять в градусы высокие взойдешь…
«Ага, купить меня хотите… покупщики чертовы!»
– Ну, ладно, – схитрил вдруг. – Грехи, видать, на мне сыщутся. Коли ты говоришь, что есть – ну, бес с ыми: кто из нас бабке не внук? Но… рассуди сам, Андрей Иваныч: на кой ляд мне воевод сих беречь? Что они мне, кумовья? Люди они плевые, стал бы я их жалеть? Да то поклеп на меня, а не на воевод…
Ушаков поднялся. Огарочек свечной, с которым пришел, с собой забрал (инквизитор бережлив был).
– Ты в изветах опасных, – сказал на прощание. – Не я коли, так Ягужинский тебя не оставит… Козлова с Шафировым ты затаил, судя по всему. Ну, ладно. Себя-то самого человеку затаить труднее. Не сейчас, так позже – расслабнешь! И не такие еще, как ты, падали!
Такими словами даром не бросаются. Ушаков убрался прочь, а Волынский стал мрачен, как сатана. Ясно, что двух человек он сегодня от казни спас. Теперь надобно о себе помыслить… Продумав все и вся, он кликнул до себя верного калмыка.
– Базиль, – сказал Кубанцу, – я сейчас из-под караула неприметно утеку, а ты сторожей моих развлекай.
– Далече ли бежать решили, мой господине?
– Да нет… сбегаю до манежа и обратно.
* * *
Бирен мечтал въехать в этот мир не на простой кобыле, а чтобы высекал под ним искры Буцефал! Ныне же, успеха в фаворе достигнув, он особо возлюбил лошадей. И разговаривал с ними чутко – как с людьми. А с людьми говорил – как с лошадьми (грубо).
В один из дней Бухер доложил графу, что течение звезд установилось в счастливом порядке. И эфемериды тайные Бирену показал.
– Завтра утром, – напророчил Бухер, – меланхолия на небе исчезнет до июня. Юпитер не станет более препятствовать свершению ремесел тайных. Отчего и полагаю я: актерам и палачам, коновалам и фальшивомонетчикам завтра большие удачи предстоят…
Бирен еще раз осмотрел перед случкой кобылу, свою любимую. Кобылу и… быка! От связи той должен был родиться Буцефал – статью конь, а головою бык. Кобыла красавица была. С глазами чувственными, масти изабелловой, хвост ее в особом кошельке хранился. Бирен поцеловал кобылу в розовую губу (с чувством, как царицу) и хлопнул по крупу:
– Ну, ступай, милая моя…
И ревел за перегородкой бык. Рыл землю под собой в ярости. Бирен шагал следом за кобылой, поддерживая бережно кошелек ее хвоста, когда вдруг раздался чей-то дерзкий голос:
– Аргамачку-то сию я знаю: она внучкой моему Кологриву приходится… Дрянь кобылка, красива – да, но мосолок худ и в бабках слаба! Под шлею бы ее – не более того!
Бирен замер от такой наглости. Непревзойденной.
Стоял перед ним человек, по виду – знатен. Смотрел же легко, без боязни. А челюсть у него чуть-чуть поменьше, чем у Бирена. Подбородок – с ямочкой, и весь дрожит от смеха затаенного…
Как наказать дерзкого?.. Бирен дернул за шнурок кошелька, сразу распался по земле шелковый холеный хвост длиною в семь аршин, это не шутка – в семь аршин.
– Невежа! – отвечал Бирен. – Вы где-нибудь видели подобное? Я вас, сударь, не знаю… Но кобыла-то моя – из Ломбардии!
– Кто вам сказал такую чушь, что она из Ломбардии? Обыкновенная кобыла… туркменчакская! Седлиста вот она стала. И слабоуха что-то… А ныне с кем же вы ее скрестить собрались?
Снова взревел бык за оградой, и Бирен рявкнул:
– Кто вас пустил сюда? Эй, отвечайте!
Незнакомец свистнул, и в ворота манежа вбежал такой красавец барбар, что Бирен хлыст опустил и ахнул.
– Неужели… корсьери? – крикнул он.
– Нет, сударь. Это – дженетти!
А масти был жеребец моренкопфовой. Сам чалый, а голова черная. И умница: лоб, как у человека, строгий.
– Сколько хотите за него? – ошалел Бирен.
– У меня таких…
– Два? – спросил Бирен в надежде.
– Десять! А один из них – в а ш…
Вот теперь Бирен посмотрел на незнакомца внимательно:
– Послушайте, кто вы такой? Назовитесь!
– Я – Волынский, бывший губернатор земель Казанских…
Бирен глянул в зубы дареному жеребцу-дженетти.
– А я, – сказал, – так много слышал о злодействах ваших… И вы, насколько мне известно, находитесь под стражей?
– Да, – отвечал Волынский. – Меня очень строго охраняет инквизиция. Но, чтобы видеть ваших лошадей, я… сбежал!
– Как? Из-под стражи?
– А вы, граф? Разве никогда не бегали из-под стражи?
– Ха-ха-ха-ха… – И граф щелкнул хлыстом. – Черт возьми, а вы смелый человек, Волынский! Если бы вы еще были честным… Вам бы цены в России не было!
– В базарный день и такой сойду, – ответил ему Волынский.
Бирен русского языка не знал. Но понимал – когда другие говорят. Волынский же немецкого не ведал, но в разговоре тоже понимал его. Так они и беседовали: на языках разных, каждый на своем.
– Штутмейстер! – позвал граф Бирен. – Распахните манеж, пусть мой приятный гость осмотрит лошадей…
Сразу затрещали ружья, забили барабаны и заиграла музыка – то лошадям для войны и турниров полезно. Выбежали конюхи и стали махать перед лошадьми цветными флагами. Зажигались в манеже фонари, сыпались под копыта фейерверки. В огне и грохоте, вздымая клубы мелкого песка, гарцевали сытые биренские кони…
Артемий Петрович (с умом и знанием) кого хвалил, кого бранил.
– Доппель-клеппер у вас хорош… А вон ту чубарую, – говорил он, – овсом более не кормите: она щекаста горазд! Гишпанка сия под седлом слаба станет, вы ее в упряжь лучше ставьте…
Бирен хлопнул бичом – музыка и пальба сразу смолкли.
– А вы мне нравитесь, Волынский, – сказал доверчиво. – Неужели правда все то, что о вас говорят люди злые?
– Ах, сиятельный граф! – отвечал Волынский. – Про кого не говорят на Руси? Вас тоже судят. И, наверно, даже более меня!
Бирен усмехнулся уголком рта – торжествующий.
– Желаю вам, господин Волынский, – сказал учтиво, – поскорее из дел инквизиции выпутаться. И надеюсь, – руку протянул, – мы будем друзьями. Человек, разумно говорящий о лошадях, не может быть плохим человеком… Верно ведь?
Артемий Петрович вернулся домой, уже не таясь.
– Базиль, – сказал шепотком Волынский, – из места заветного отсчитай золотом… тыщ тридесять!
– Ой! Куда же эку прорвищу денег?
– Ша! Дело секретное. И теи деньги ты отнесешь в Лефортово, сыщи там графского жида Либманова… Отдай ему и накажи в словах таких: мол, для некоего господина…
– Бирену? – догадался верный раб.
– Помалкивай. Либман знает. И не мешкай…
Бирен взятку в 30 000 от Волынского принял и говорил при дворе царицы теперь так:
– Эта каналья Волынский – дельный малый! Мне все в нем нравится. Жаль только, что он… русский.
– Да он же – вор! – отвечала Анна Иоанновна.
Бирен оглядывал ряды вельможные, низко согнутые:
– Что делать! Все русские таковы… Приходится выбирать!
* * *
Ягужинский притянул к себе Маслова:
– Ой, Анисим, дела наши плохи… Обер-камергер Волынского открыто хвалит. И то мне ведомо, что сей вор казанский тридесять тыщ ему через Лейбу сунул.
Это верно: Бирен советовал теперь Волынскому написать Анне Иоанновне письмо жалостливое, покаянное. Мол, ты напиши, а далее пусть тебя ничто не касается: я сам слово за тебя замолвлю.
Остерман не спал всю ночь – думал. Конъюнктуры придворные были столь осложнены, что голова Волынского сейчас ложилась на плаху рядом с головой Ягужинского… Надо быть сущим простофилей, чтобы столь выгодной конъюнктурой не воспользоваться!
Наутро во дворце раздался скрипучий голос Остермана:
– Честность! Пора приучать Россию к честности, пора отучить ее от взяткобрания…
Ягужинский сразу воспрянул: уж коли Остерман на его стороне, так чего же бояться? Прямо на генерал-прокурора ехала триумфальная колесница вице-канцлера империи. Гибко и ловко Остерман строил свою ужасную конъюнктуру.
– Павел Иванович, – сказал он, – пора уже… Вся власть в ваших руках. Потворство покаянным письмам гибельно есть для отечества российского…
Ягужинский, козней не разгадав, разлетелся к Анне Иоанновне, в углах рта генерал-прокурора кипела пена неуемного бешенства.
– Доколе же, матушка, – орал он, – Россию по кускам рвать будут? Не верь слезам сатрапа казанского – он, Волынский, плакать не хуже Остермана умеет…
От Анны Иоанновны выскочил Ягужинский в анти-камору.
А там, в этой анти-каморе, и Бирен был, и Кейзерлинг был. Вдоль стеночки покатывал себя в коляске скромница Остерман.
Генерал-прокурор сразу шумы стал делать.
– Знаю, – кричал, – я все знаю! Но тому не быть… Взяткобравство, словно ржа, Русь точит и точить будет. Лучше нам самим сразу вот здесь, с места не сходя, тридесять тыщ из казны истратить, и мы от того выиграем токмо!
Скользнуло по окнам солнце, и Остерман опустил козырек.
– Какой яркий свет… – сказал. – А ты, Павел Иваныч, о каких тридесяти тыщах судишь? Отвечай нам прямо, как положено генерал-прокурору: кто дал и кто взял?
Только сейчас Бирен разгадал суть конъюнктур Остермановых. Обер-камергер сильно покраснел и – лататы задал. Но возле дверей графа настиг неистовый голос генерал-прокурора империи:
– Вот пущай обер-камергер скажет, что это за тридесять тыщ. Волынский есть негодяй, и червонцев тех не стоит его голова!
Бирен, споткнувшись о порог, остановился.
– На что вы смеете намекать? – спросил надменно. – Это правда: я желал бы спасти Волынского от злоречий ваших. Но только по сердечной склонности… Так при чем здесь червонцы?
Ягужинский хватанул воздух полным ртом:
– Ах, маковку твою… Подлец!
Бирен сказал ответное:
– Послушай, Ягужинский… ты с ума сошел?
Со звоном вылетела, холодно мерцая, шпага из ножен:
– Защищайся, курва митавская!
Бирен двинул кувалдой-челюстью. И – побежал…
Переливался на спине его муаровый атлас, скользко блестели сиреневые чулки… По лестнице – та-та-та башмаками!
Ягужинский – за ним, еще быстрее…
Двери! Бирен вылетел на мороз, в снег.
– Защитите меня! – взывал обер-камергер…
Глянул через плечо: нет, генерал-прокурор бежал. А в руке – клинок…
– Карау-у-ул!.. – кричал Бирен.
– Именем закона! – вопил сзади генерал-прокурор.
Нет, Бирену было сейчас не до закона…
Косо взлетели вороны с сугроба…
Впереди обер-камергер, его высокое сиятельство, на груди Бирена, словно маятники, мечутся два бриллиантовых портрета: Анны Иоанновны и цесаря римского.
Позади – генерал-прокурор, «око Петрово» и кавалер орденов разных двора российского и чужих дворов тоже.
– Стой, крыса! – И шпага прокурора взлетела…
Фьють! Клинок вспорол муар на спине: Бирен упал на снег, брызнула кровь поверх его кафтана.
– Анна-а… – взмолился Бирен, не вставая.
«Лежачего не бить» – таков устав.
А над ним, ноги расставив, возвышался со шпагой в руке генерал-прокурор Российской империи.
Это был человек самобытный – не чета прочим!
* * *
Ягужинского тут же, заковав в железа, арестовали.
Остерман велел лакеям нести себя в сани и поехал домой.
– Это была конъюнктура гения! – похвалил он себя.
Эпилог
Когда было уже невмоготу, русский мужик бежал… Бежали разно – за пояс Каменный, в леса Керженские, за рубежи польские, в степи башкирские, в земли литовские, донские и таманские. По ночам снимались деревни с мест, насиженных предками, дотла оголялись волости, провинции, губернии – и шли: ради воли и хлеба насущного… Как раз в это время указом по всей России Анна Иоанновна объявила, что все желаемое русским народом уже достигнуто через ее «полезные старания».
«…всем известно, – писала она, – какие мы имеем неусыпные труды о всяком благополучии и ползе, что всякому видеть и чувствовать возможно, за что по совести всяк добрый и верный подданный наш должен благодарение богу создавать, а нам верным и благодарным быть!»
Так – сверху! – было объявлено, что народ уже благополучен, а благодарить за это он должен именно Анну Иоанновну – самодержавную. Коли власть объявила, что ты счастлив, то быть несчастным уже не имеешь права. И не спорь, а то тебе худо будет! Подтянут тебя на дыбу: «Слово и дело».
– Просвещенному деспотизму быть! – кликушествовал Феофан.
Но остался один деспотизм – без просвещения.
Летопись четвертая Гордецы и подлецы
Пороки Аннибала, пороки Александра видим мы без их великих дарований… Утомил бы я твое вниманье и перо мое, ежели б все описывать, что скорбь делает усердному сыну Отечества!
Расширяй свое воображенье от сих пунктов: сколь ни дашь воли, никогда не превзойдешь меру…
Из частной переписки XVIII столетияГлава первая
Сядем на землю и будем рассказывать
странные истории о королях…
ШекспирВ блистательной Вене – столице Священной Римской империи – Римом и не пахнет… На венских улицах и плацах узелком стянута пуповина империи Германской (или попросту – Австрии). Здесь царствует последний Габсбург – император Карл VI, на голове которого уместились сразу несколько корон: Римская, Германская, Венгерская, Богемская, Чешская… Просторы владений его чудовищны: под великогерманским прессом сочится кровь покоренных народов Италии, Венгрии, Богемии, Словении, Трансильвании, Чехии, Силезии, Моравии, Далмации, Лотарингии, Бельгии, Мантуи, Пьяченцы, Триеста, Сицилии, Милана, Неаполя и Пармы… Что же делает сам император?
Ничего! Впрочем, у него есть три тяжелые обязанности: молитвы, охота и аудиенции. Вена кишмя кишит дипломатами. Каждый курфюрст, герцог, рейхсграф, вольные города, монастыри со святыми мощами – любая козявка Европы имеет при дворе Карла послов и посланников. Одних только придворных в Вене – 40 000 человек, чтобы обслужить последнего Габсбурга… Увы, последнего! Ибо никакие врачи не способны свершить чуда: у Карла VI нет мужского потомства, рождаются только дочери, и он глубоко несчастен: «Кому достанется этот пестрый кафтан, скроенный из лоскутьев всей Европы?» А пока все свои силы, всю свою бесчувственную страсть император вкладывает в соблюдение придворного этикета. Пять столетий подряд Габсбурги оттачивали это виртуозное совершенство. Обычно штабы бывают при армиях. Но при дворе Карла VI работают целых шесть штабов, ведающих приемами, кухнями, погребами, танцами, конюшнями и охотами. Немецкий этикет – не французский. Когда однажды дикий вепрь повалил императора на землю, подскочил юный паж и убил вепря. Этим он нарушил этикет охоты и был казнен…
Громадный зал, а в нем – за пустым столом! – одинокий Карл VI обедает под роскошным балдахином. В этот час все на местах; вельможи не смеют сесть – они стоят. Император вкушает земную пищу в шляпе, в батистовых перчатках; головы придворных тоже покрыты шляпами. Сто восемнадцатое по счету блюдо спешит к столу императора. Это не беда, что оно достигнет рта Карла уже остывшим, – важно, чтобы тарелка прошла через сорок три руки. Впрочем, когда Карл обедает на половине императрицы, тогда блюдо проходит лишь через двадцать четыре руки (кабалистика этих цифр загадочна и учету истории не поддается)… Но вот Карл потянулся к бокалу с вином, – шеи многотысячной толпы вытягиваются: «Ах, как бы нам не прохлопать этот момент!»
– Император пьет! – И тысячи шляп слетают с голов.
– Император выпил! – И шляпы опять садятся на парики…
Вена – продажна: здесь каждый живет взятками и грабежом. Вена поет, Вена пляшет, Вена играет в карты, Вена болтает, Вена воюет (всегда чужими руками)… Очень много денег нужно в этом германском Вавилоне! А потому, когда денег не хватает, дипломаты выдумывают конфликты. Они собираются за круглым столом, пишут «дедукции», «трактаменты», «рефлекции» и «промемории». Когда же взятка получена, конфликт считается разрешен, а бумаги (в которых сам черт ногу сломает) сдаются в архив.
Очень много таких бумаг в Вене! Там есть и туманные бумаги из России – они подписаны Остерманом и графом Франциском Вратиславом, который живет в Москве – послом от последнего Габсбурга… Ах, боже мой, неужели последнего?
Увы, это так: престол придется передать дочерям, и этот случай, весьма прискорбный для Габсбургов, оформлен особым актом – Прагматической санкцией… Россия эту санкцию признала: заодно, еще при Екатерине Первой, Остерман посулил Вене дать русских солдат, чтобы защитить бедных немцев, если кто-либо в мире не будет согласен с этой санкцией… Вопрос о санкции – очень и очень важный! Пока что император Карл VI обладает железным здоровьем капуцина: он простаивает в церкви по сто часов кряду. Вокруг него падают в обморок послы России и Франции, выносят обомлевших дам, но император – тверд, как ландскнехт: он стоит, моля бога о признании миром его Прагматической санкции. Отныне эта санкция будет надолго определять политику Австрии. Но политика Австрии часто будет определять и политику самой России, ибо никто так не верит германскому болвану, как граф Остерман – голова всей русской дипломатии. Остерман состоял на жалованье у Австрии, получая от Вены больше, нежели от России; он смотрел на Россию глазами Вены, слышал стоны России только немецкими ушами. Иначе говоря, он ничего не хотел слышать, кроме звона золота и приказов из Вены!
* * *
Германскому миру в Европе противостоял – Версаль!..
Когда мальчик с нежными льняными волосами, спадавшими до плеч, подрос – его повезли в Булонский лес, где показали, как надо убивать кроликов. Потом он сам убил свою любимую козочку в тот момент, когда она щипала травку из его королевских рук. Людовику были подарены лук и стрелы, он поскакал в Фонтенбло, чтобы застрелить серну. Тетива натянута – раз! – и стрела срывается с лука, летя прямо в живот королевскому пажу. Тогда придворные сказали дружно: «Его величество пора женить…»
Для Людовика XV был составлен список из 99 невест. Среди них значились и две русские – загадочные «Петровки»: Мария Петровка (какой, кстати, никогда не существовало) и Анна Петровка; но их быстро из списка изъяли, ибо они «странное имели воспитание и обычаи». И, наконец, гордый Версаль вычеркнул всех! Остался лишь последний № 99 – Мария Лещинская, против имени которой стояло существенное примечание: «Ничего нельзя сказать в пользу этого семейства».
Грохот Полтавской битвы отозвался на берегах Вислы; король Станислав Лещинский, посаженный шведским королем Карлом XII на престол в Кракове, бежал из Польши, уступая трон саксонскому курфюрсту Августу Сильному. И долго скитался. И бедствовал. И тосковал. Мужчина умный и любезный, с приятной улыбкой на пухлых губах. Франция приютила экс-короля в своих Эльзасских землях на самой границе, где Лещинский и жил, очень скудно и тихо, изредка грезя о былом…
Дочь Мария в шесть утра, как правило, просыпалась, чтобы взяться за вязание и чтение книг по географии. Однажды в этот час отец, Станислав Лещинский, ворвался к ней с криком:
– На колени, дочь моя! Будем молиться всевышнему!
– Разве вас призвали обратно на престол Польши?
– Небо к нам еще благосклоннее: ты – королева Франции, и Версаль требует от тебя три вещи: башмак, перчатку и платье…
Платье и перчатку (для шитья гардероба) нашли. Башмак был рваным – так и послали его… Этим рваным башмаком Франция вдруг ступила к берегам Вислы, к самым границам России; вопрос престижа очень важный: нельзя, чтобы Людовик был женат на дочери бывшего короля, надо, чтобы экс-король снова стал королем. Но этому мешал саксонский курфюрст Август, сидевший на двух престолах сразу – в Кракове и Дрездене… Впрочем, Версаль не отчаивался: Август Сильный не вечен; говорят, он болен!
Брак Людовика с Марией Лещинской разрывал отношения Версаля с Россией – и без того слабые. Кабинет Версаля словно не верил, что Россия уже вошла в Европу, а Восток давно озарен ее светом. Версаль упрямо не признавал за русскими самодержцами титула императорского, и Анну Иоанновну во Франции называли по-старому – царицей… Самый выносливый курьер, часто меняя лошадей, проезжал от берегов Невы до Версаля дней двадцать пять (иногда и весь месяц ехал). Но эти курьеры теперь скакали очень редко. И они не спешили, ибо Францию менее всего волновали русские дела.
Версаль подозревал Россию, Версаль не доверял России, Версаль не хотел и слышать о России.
* * *
А вот и Дрезден! – столица Саксонского курфюршества, дивный кубок Европы, наполненный драгоценностями… Любой саксонский дворянин может обедать на порцеленовой посуде, ибо в подземельях курфюрста Августа Сильного «китайский секрет» уже раскрыт (изобретен мейсенский фарфор). Мало того, богатых покойников в Дрездене уже хоронят в фарфоровых гробах… Даже китайцы не могут своим мандаринам позволить такой неслыханной роскоши!
Под окнами дворца курфюрста течет мутная Эльба; роскошные яхты флотилии, венецианские гондолы в позолоте, матросы в синем и черном одеянии, на шляпе каждого – перо цапли. Самые красивые вещи – в Дрездене, самые прекрасные женщины – в Дрездене, самые беспечные люди – в Дрездене; Дрезден – это веселая Флоренция германского мира в Европе…
Август II, курфюрст саксонский и король польский, недаром прозывался Сильным: шутя он ломал подковы, плющил кубки и тарелки, свертывал в пальцах, словно бумагу, крепкие прусские талеры. А сколько дуэлей, сколько интриг, сколько турниров, и всегда – победитель! Под старость он развратил свою же дочь. Эта дочка ездила верхом, как татарин, курила трубку, как потсдамский гвардеец, и любила выпить не хуже беспутного папеньки… Август был отцом 354 детей и мужем 700 жен. Впрочем, законным у него был только один сын – тоже Август; сын не пошел в отца. Он занимался убийством собак и вырезанием ножницами из бумаги разных забавных фигурок.
– Ах, выродок! – не раз попрекал его отец. – В твои-то годы я садился за стол на рассвете, чтобы встать из-за него только к ночи. Знаешь ли ты, сколько было тостов произнесено при этом?.. Молчи – тебе не дано знать: их было три тысячи! Но это еще не все, сын мой: впереди была ночь, в которую я должен был посетить пятерых любовниц. С трепетом они ждали меня – короля… И, поверь, сын мой, ни одну из них я не оставил обиженной. Вот какие должны быть короли, а на тебя мне противно смотреть…
Август Сильный был блестящим королем Польши, но ради этого блеска он догола ощипал своих саксонцев. «Когда поляки танцуют, Саксония должна платить за музыку!» – говорил Август. Он щедро платил за музыку, понимая, что корона древних Ягеллонов сидит на его парике шатко… Кому она достанется, когда Август Сильный ляжет в гроб из мейсенского фарфора?
Страх смерти и угасающий разврат – вот суть последних лет жизни этого короля. На одну любовницу Август тратил столько, во сколько обходилось ему содержание целой армии. Саксония давно была сверкающей трухой, обильно крытой сусальным золотом!
Смерть начиналась, как это ни странно, с большого пальца левой ноги. Врачи на коленях клялись Августу, что этот палец уготован самому господу богу… Отрезали! С дамами король разговаривал уже сидя. В подземельях Дрездена (где когда-то трудились над созданием фарфора) теперь засели узники-алхимики: они должны были создать Августу Сильному эликсир бессмертия.
– В самом деле, – говорил курфюрст-король. – Жизнь столь хороша, так почему бы не попробовать продлить ее? А своим бессмертием я здорово накажу поляков! Чего они еще хотят от меня? Я всегда исправно платил за музыку…
Европа пристально следила за тем, как от большого пальца левой ноги Августа Сильного расходилась немочь по телу короля. Когда король умрет, начнется война: Франция будет сажать на престол польский Станислава Лещинского, Австрия (с помощью России) будет стоять за своего кандидата… Пока что наследник Августа (тоже Август) убивал собак и портил ножницами бумагу.
Но было неизвестно, как поведет себя при этом Берлин!
* * *
Берлин! Здесь царствует «кайзер-зольдат» Вильгельм Фридрих I, курфюрст Бранденбургский и король прусский; владения этого Гогенцоллерна состоят из курфюршества и королевства; Берлин – столица Бранденбурга, а Кенигсберг – столица Пруссии…
Сегодня королева жалобным голосом опять попросила у короля денег для кухни. Король со стоном раскрыл свой кошелек.
– Фикхен, – сказал он жене, глубоко страдая, – нельзя так много тратить на еду. Пора приучить себя доедать вчерашний суп… Помните, Фикхен, что бережливость – главная добродетель женщины!
Чтобы не тратить денег, король старается обедать у своих подданных. Королю страшно подумать, во что обходится одна бутылка рейнского. Черт побери! Вырвать картошку на Шпрее и рассадить виноградники, как на Рейне… Ему доложили, что прусское вино не пенится. Плевать на то, что оно не пенится, зато свое… Жандармы срывали с женщин на улицах Берлина ситцевые платья. Ситец – из Англии, а немкам следует носить одежды из прусского материала. По Берлину ходили чиновники с позорными ошейниками, вина их была ужасной: в халатах у этих негодяев был обнаружен чужестранный хлопок.
– Порядок – бережливость – симметрия! – утверждал король.
Дома строились по линейке. Ничего лишнего. Коробки из камня, в которых пробиты дырки, а в них гляделись обыватели… Красота! Шесть человек за столом: четыре слева, два справа. «Пересесть!» – приказывает король. Теперь три слева и три справа, вот так и надо сидеть. Четверо курят, а пятый не курит. Непорядок. «Дайте этому болвану трубку!» – говорит король…
Но была одна страсть, ради которой король не жалел никаких денег. Это – великаны-солдаты Потсдамской гвардии. Вербовщики короля рыскали по всей Европе, выискивая людей, имевших несчастие родиться рослыми. Никто в Европе (даже монахи!) не был спасен от ужаса Потсдамской казармы. Вышел крестьянин утром пахать в поле – вечером не вернулся. Семья больше никогда не увидит его за своим столом: теперь до самой смерти он осужден выкидывать в Потсдаме мудреные артикулы.
Поэты и философы считались в Пруссии преступниками: их изгоняли прочь из королевства. Была образована «Табачная Академия». Собирались по вечерам пьяницы и курильщики, читали газеты (далее чтения газет ученость не простиралась). Великий Лейбниц для этого дела не годился – президентом наук избрали Грундлинга, посиневшего от пива, и когда он спился, его всей «Академией» хоронили в пивной бочке. Это называлось: «добрый немецкий юмор». Принцы прусские зубрили уставы, упражнялись в мунстре; капельмейстер Пепуш исполнял «Свинскую симфонию», в которой фаготы хрюкали, словно поросята в свинарнике… Любимая музыка короля!
Король-солдат слыл королем-анекдотом… Но… Так ли это?
Пока Европа хохотала над ним, как над придурком, Вильгельм Фридрих делал свое королевское дело. Тишком, экономя на супах и пиве, он сколотил армию-машину, двигаемую в бой палками капралов. Он возводил крепости, приучал народ к экономии, он доверил финансы еврейским банкирам. Франция и Зальцбург изгоняли инаковерующих, а король Пруссии принимал их у себя: беженцы находили у него приют, они оживляли пустоши рубежных лесов и холмов, осушали болота, сеяли хлеб и своим трудом делали Пруссию богаче…
Со скорбным чувством взирал король на Курляндию, которая лежала рядом, бесхозная. Вроде бы подвластна Польше, но там уже гуляют, как дома, русские. Польша же подвластна Саксонии, и все в этом мире запутано… «Черт побери! – говорил король. – Какие лакомые куски валяются у меня под ногами…» Пока же он никуда не лез со своими «монстрами» из Потсдама; сын его Фриц тихо сидел в крепости, но король скоро его выпустит… Европа еще ахнет, увидев, как незаметно вырос хищный зверь, и этот зверь станет легко ломать решетки ветхозаветных рубежей!
* * *
Испагань – столица Персии – вот уже какой год под властью афганцев. Законный шах Тахмасп изнемогал в борьбе, не имея даже крыши над головой. Среди гор и руин, среди роз и болотных камышей бродили остатки его разбитой армии. А турки, почуяв легкую добычу, рвали Персию с другой стороны.
Персия – сердцевина всех путей с Запада на Восток; здесь еще в древности пролегли дороги для купцов, полководцев и разбойников. Хлеб войскам шаха Тахмаспа пекли до сих пор в печах, строенных когда-то для железных легионов Александра Македонского.
– У шумного водоема, – вздыхал Тахмасп, – всегда разбивается много драгоценных кувшинов… Да будет воля аллаха!
Вот тогда-то и пришел к шаху страшный разбойник по имени Надир (что значит – Раб Чудес) и сказал своему шаху:
– Светлый шах, зачем искать дохлого осла, чтобы снять с него подковы? Лягушку все равно не научишь читать стихи, а я и моя славная шайка давно готовы к твоим услугам…
– Не спеши на минарет раньше муллы, – отвечал ему шах. – Я уже давно, Раб Чудес, мечтаю отрубить тебе голову.
– О, мой повелитель! – захохотал разбойник Надир. – Рубить голову можно тому, у кого шайка меньше твоей армии, шах. У меня же шайка давным-давно намного больше твоей армии, шах.
– Я потушил огонь гнева в сердце моем и не стану более играть золою прежней обиды. Забудем прошлое, мой Раб Чудес…
Надир встал во главе персидской армии, разбив войска афганские, которые считались непобедимыми. Надир освободил Хоросан, вернул шаху Астербад и Мазандаран, а народ приветствовал Надира и помогал ему в этой борьбе. Ибо эта борьба была борьбой освободительной, борьбой справедливой… За воинские доблести шах Тахмасп дал Надиру новое имя – Тахмасп-кули-хан (что значит хан-раб самого Тахмаспа). И стал шах завидовать разбойнику. Решил он сам, без помощи Надира, победить турок, но был разбит и подписал унизительный мир. Персия уступала туркам Тифлис, Ереван, Шемаху, всю Грузию и Армению до светлого журчащего Аракса… И турки сказали шаху Тахмаспу:
– Видишь ли ты эту веревку, свитую из нежных шелковинок? Вот этой шелковой петлей от нашего султана Ахмеда (да продлит аллах его дни!) мы тебя, шах, удавим, как кошку, если ты не станешь отныне изгонять русские войска с Гиляни…
Продвижение турок задержал опять-таки доблестный разбойник Надир – и победитель снова предстал перед своим шахом.
– Всякая шкура, – сказал он, – все равно, рано или поздно, попадет в дубильню… Где же награда для меня, шах?
Шах Тахмасп отдал Надиру четыре лучшие области Персии.
– Бери, – отвечал, – с Хоросаном вместе… Что делать! Лучший виноград всегда достается шакалу.
– Ты – как мельница, шах! – поклонился ему Надир. – Берешь жесткое, а возвращаешь мягкое… Так вели же теперь отчеканить монеты своего царства с моим портретом!
И шах велел отчеканить монеты с профилем разбойника.
– Хвала молоку, которым ты вскормлен! – похвалил он Надира. – Но скажи, чего еще ты хочешь от меня?
Тогда Надир поднялся к престолу и сказал шаху так:
– А теперь… подвинься, дай и мне посидеть!
Престол – седалище, на котором двум усидеть невозможно, и Надир спихнул шаха прочь. И возвел в шахи сына Тахмаспа – грудного младенца Аббаса… Ребенок, когда его опоясывали мечом, наделал под себя и поднял в мечети рев. Тогда Надир обнажил саблю и сказал громко:
– О доблестный шах Аббас! Я разгадал причину слез твоих… Ты плачешь по тем провинциям, что заняты русскими. Но я поганой метлой вымету русских с Гиляни! Ты плачешь по тем землям, что отняты у нас турками. Но я поведу тебя к берегам солнечного Босфора, и обрезание тебе мы сделаем в мечети Омара…
Нет на Востоке человека более уважаемого, нежели разбойник.
Почти все династии стран Восточных начинают свое пышное родословное древо от пыльного кустика с большой дороги.
* * *
«Зорко охраняемый Стамбул!» – так именовали столицу Турции ее дипломаты. На осколках Византийской империи, перевалив за Балканы, заплеснув моря пиратскими кораблями, жирно и зловонно ворочалась, в крови и стонах, великая империя османлисов. Из колчана Крымского ханства летели стрелы турецкие в далекую Россию, достигая сердца ее – Москвы…
Сераль султана – турецкий Сенат; кызляр-агасы (начальник всех евнухов) – это канцлер; жены султана – это министры; а сам султан Ахмед III – покорный исполнитель их повелений. Хорошо жилось султану в гареме; славился Ахмед шитьем по шелкам изречений из Корана; воспитывал он соловьев и разводил нежные тюльпаны. Но едва брался султан за что-либо другое, более важное, как тут же раздавались голоса придворных: «Исланим Изюльме» (что в переводе значит: «О мой лев! Не причиняй себе забот…»)
Сейчас над сералем султана реял хвост черной кобылы – символ войны, которую ведет Турция с персами. Закончится война, и хвост уберут. Но это случается очень редко: над империей Османов почти все время реет хвост боевой кобылы… Безмятежно Ахмед султанствовал. Кого ему бояться? По закону братья его, дядья и племянники заточены в узилища. Он – один («Исланим Изюльме!»). Вытирает султан руки багдадскими платками, кутает одалисок в шали измирские, верные придворные поливают ему бороду розовым маслом, возлежит он в сладострастье на шелках алеппских.
Но вдруг янычары вытащили на Эйтмайдан свои котлы из казармы и били в них, били, били, били… Это значит: они недовольны своим султаном. Теперь Ахмед мог спастись лишь в том случае, если сумел бы добежать живым до Эйтмайдана и спрятаться в гудящем от боя котле янычар. Восстание охватило весь Стамбул, и янычар Патрона Халиль отключил воду от сераля. Сразу высохли бассейны, в которых купались одалиски. Ахмед III, спасая себя, отрезал голову своему визирю и показал ее через окошко народу. Но Патрона Халиль (дерзкий торговец старьем) потребовал отворить темницы, где сидели братья и племянники Ахмеда.
– Мы выберем достойного! – кричала толпа.
Выбрали Махмуда, синего лицом от долгого сидения в тюрьме. Поспешно замотал он голову султанской чалмой, а дядю его, Ахмеда III, повели в темницу. Только тогда янычары растащили котлы обратно по казармам. Новый султан первым делом шагнул в прохладу гарема своего дяди, оглядел женщин узкими от бешенства глазами.
– Девственниц оставьте, – велел он кызляр-агасы. – А всех остальных зашейте в мешки и бросьте ночью в Босфор… – Потом он вышел к восставшим, подозвал к себе Патрона Халиля. – Я никогда не забуду, что ты сделал для меня. Пройди же ко мне через ворота Рая, и я расплачусь с тобой, как султан с близким другом…
Босой янычар ступил в сень дворца, и лезвия кривых ятаганов искромсали его в куски. Махмуд спросил у народа – чего он хочет и ради чего бунтует?
– Добычи от побед и никаких податей! – отвечала толпа.
– Хорошо, я исполню вашу просьбу, – обещал Махмуд…
И велел вырезать всех, кто доставил ему престол. По кривым улочкам Стамбула, стуча по ступеням, катились искаженные ужасом головы. Три дня без отдыха шла резня. Наконец затихли голоса людские – только из янычарских казарм еще долго выли собаки.
– Собака – не человек: ее жалеть надо! – повелел Махмуд.
Ему принесли мешки с хлебом. Султан натирал этим хлебом свое желтое тело и волосы, и потом тем хлебом кормили собак. По лучезарному Босфору плыли трупы янычар. Расталкивая их, двигались по Босфору корабли, наполненные янычарскими собаками. Их отправляли на Принцевы острова – в почетную ссылку… Так начиналось новое султанство – Махмуда II.
В один из дней явился паша-капысы, ведавший политикой Турции, с низким поклоном:
– О тень аллаха на земле! Могут ли кусок глины или пылинка подняться к солнцу, которое с тобою сравнивают? Но теплота и жар притягивают их… Возможно ли и мне достигнуть тебя, чтобы весть принести ничтожную?
– Говори, – разрешил Махмуд паше-капысы.
– Пришел к тебе нищий, оборванный, грязный посол неверных из России и, подыхая с голоду, жалобно просит впустить его.
– Пусть войдет, но прежде накормите его и оденьте!
Так всегда докладывали о приходе послов из стран христианских.
И вот предстал перед султаном посол русский – Иван Иванович Неплюев, сразу повел речь о делах персидских, но…
– Вот моя плетка! – перебил его Махмуд. – Я пошлю ее в дар крымскому хану Каплан-Гирею, и он прибьет ее на воротах Санкт-Петербурга, если ваша царица не уберется из Персии.
А на коврах, разложенных перед султаном, возлежал человек, еще молодой, с лицом тонким и матовым, а глаза его – как две маслины. Это и был Каплан-Гирей, хан крымский, и он со смехом отнял плетку из рук султана… Раздалось – прежнее:
– Исланим Изюльме (О мой лев! Не причиняй себе забот). Я уже здесь, и мои татары готовы седлать коней…
Неплюев отписывал Остерману:
«Чему верить здесь – не знаю, за хана же (Крымского) ручаться тоже нельзя, понеже и он того же ехиднина порождения сын…»
* * *
Примерно такова была политическая карта Европы, когда русское самодержавие, в лице Анны Иоанновны, укрепляло себя указами: крамолу жечь на огне, чистоту дворянства оберегать от людей подлых, «слово и дело» каленым железом отыскивать, женам от мужей не уходить, быть всем престолу верными, никаких помыслов о вольностях не иметь под страхом наикрепчайшего наказания.
Сейчас шли сборы: из Москвы в Петербург.
Глава вторая
Так-то оно так, да как бы не так?.. Охо-хо-хо-хо!
С этим вставали утром, с этим ложились вечером. И чуть что – сразу в угол, на икону: «Господи, не выдай!» А выдавать господу богу было что: много воровали и непотребствовали в доме московского компанейщика Петра Дмитриевича Филатьева.
Сам-то хозяин – купец, да жена у него – дворянка. Потому-то он крепостных своих на жену писал. Жил Филатьев богато: дом высокий, амбары вокруг, в саду вишенье и сморода. А на привязи – для забавы – медведя лютого содержал. Детей Филатьевы не имели.
И вот однажды, разговоров дворянских послушав, вызвал хозяин к себе на половину конюха – Потапа Сурядова. Парень вымахал под самый потолок. Лицом бел и румян. Тоже был на жену-дворянку в «крепость» записан. И сказал конюху Филатьев так:
– Слушай! Я тебе свои мысли выскажу… о розгодрании и протчем нужном товаре. Перьво-наперьво, сначалу установи точно день, когда драть надобно. Скажем, провинился в доме кто-либо в понеделок, а день наказанный ты ко среде исправно готовь.
– Ладно, – поклонился ему Сурядов, парень тихий.
– Постой, – продолжал Филатьев. – Еще не все сказал. Дело – за розгой… Избери! Чтобы гибка была и певуча в полете. И клади ее в рассол. И пусть мается в соли. И так-то пройдет вторный день…
– Ладно, – потупился Потап.
– Ну а коли близок час, тогда ты розгу тую из рассола выньми и суй ее… Куда совать – ведаешь ли?
– На что мне? – ответил Сурядов.
– А ты суй ее в хлебное тесто. В самую опару. И… в печь! Понял? И там-то она, в опаре, дойдет… Теперича можно сечь исправно.
– Ладно…
– Заладил ты свое: ладно да ладно… Я для науки все: отныне, слышь-ка, людишек моих сечь ты будешь. А чтобы сечь умел, я тебя во субботу на урок пошлю. К самому прынцу Людвигу Петровичу Гессен-Гомбургскому, прынц сей всех гениусов превзошел. Саморучно челядь свою посекает. Да столь крепко и знающе, что лучше и не придумаешь… Прынц школу посеканскую на Москве открыл!
В субботу с запиской от барыни был отправлен Сурядов на двор к принцу Гессен-Гомбургскому и все видел. Принц сам сек. Насмерть. Урок тот был бесплатный – просто принц хотел услужить госпоже Филатьевой. Спасибо принцу – Потап все хорошо запомнил…
Прислали как раз в дворню на Москву недоросля крестьянского Ивана, по отцу – Осипова. Ну, дело вестимое, все колотушки ему и достались. Для навыку! А жрать дворне плохо давали у Филатьевых. От голодухи или еще от чего, только Ванька согрешил противу Христовой заповеди. Что бы вы думали? Забрался в погреб, стервец, там его и застукали, когда он грибки из кадушки лопал. Груздочки! Дело ясное: драть Ваньку, чтобы себя не забывал. И был зван Потап Сурядов с розгами…
Вошел Сурядов, как велено. Лежал перед ним на лавке недоросль. Без рубахи. И от страха спиной вздрагивал.
– Ну, милок, – сказал Филатьев, при сем присутствуя, – введи Ваньку в самую натуральную диспозицию… Посеканции учини, значит!
– А ведь я силы бычьей, силы непомерной, – ответил Сурядов барину. – И коль ударю, знать, до кости пробью мясо… Рассуди сам. Не стану я палачествовать, не!
– Ладно, – вроде не обиделся Филатьев и захихикал…
Ванька сын Осипов с лавки вскочил и убежал. Он в дворницкой возле бабушки Агафьи, слепой вещуньи, обретался. Хорошо там тараканы шуршали, клонило в сон от напевов бабушки:
Не ходи, мой сын, во царев кабак, ты не пей, мой сын, зелена вина, не водись, мой сын, со ярыгами — со кабацкими… Потерять тебе буйну голову!Под ночь Ванька на двор по нужде выскочил и все-все видел.
Вошли солдаты, с лавки оторвали Потапа Сурядова и, ноги в цепи замкнув, а руки – в путы, увели конюха прочь со двора.
Ванька влетел обратно в дворницкую и – к бабушке:
– Баушка, баушка! Гляди-кось, куда Потапа нашева уволокли?
– Видать, в солдаты, – задумалась бабушка Агафья. – Давно войны не было. Знать, скоро учнется. Барабанчики-то – бах-бах! Ружьеца-то – стрель-стрель! Во страх-то где… И про солдат я тебе, сынок родима-ай, тоже песни знаю… Вот послушь-ка меня, старую:
Расхороша наша барыня, что Арина-то Ивановна: разорила она село теплое Плаутино — раздала всех мужиков во солдатушки…Забился Ванька в уголок на печи. Слушал и помалкивал. А когда дом весь уснул, он снова в погреб проник. Пил меды, ел груздочки.
С тех пор и повелось: стал он легок на руку – все брал!
* * *
Вот слова – первые, которые запомнил Потап Сурядов:
– Коли кто сбежит – сыщем, поймаем, кнутом душу выбьем, уши отрежем и отправим в Пернов или в Рогервик на каторжные работы до скончания веку… Где лекарь? Пущай смотрит.
С подворья Феофана Прокоповича пришел лекарь Георг Стеллер. Он по-русски мало что понимал, за него фельдшеры работали. Он больше писал… Раздели всех догола. И тряпье забрали. Стыдно было Потапу голым стоять, да что поделаешь? А рядом – парень, тоже голый, и морда лакейская, гладкобритая.
– Золотого нет? – спрашивает.
– Откеда? – удивился Потап. – И во сне не видывал.
– А у меня… во, гляди! – Распахнул пасть, а там золотой так и сверкает. – Во как надо…
Тут золоторотого к столу вызвали. Он перед фельдшером пасть раскрыл, а там золотой, и фельдшеры сразу руками махать стали:
– Куда его нам такого, всего хворого! Зубов не хватает и тонкокост… Ну-кась, – говорили, – харкни нам в руку. Небось и мокрота твоя худа больно… Плюй смелее, болезный!
Парень харкнул лекарям в руку золотым червончиком, и его тут же отпустили, яко негодного к службе царской. Вот и Потапа очередь подошла, с робостью к столу приблизился…
– Око! – называл от стола Стеллер, и стали Потапу глаза выворачивать, белки разглядывая. – Годен! – кричали.
– Кости! – говорил Стеллер, и Потапу ноги и руки прощупали: нет ли переломов и вывихов. – Годен!
По спине потом хлопнули, за дверь выставили: хорош солдат будет. Дали мундирчик ношеный и поставили для начала капусту для полка рубить. Рубил – день, рубил – два, даже руки отвисли. Сказали – хватит! Тут подошел к Потапу дряхлый старик, капрал Каратыгин, и разговорился душевно.
– Дай, – сказал, – старичку пятачок на виносогрешение, и я тебя научу, как от службы царской бежать!
– Вот закавыка, дедушка… Нет пятачка у меня.
– Прямо беда! – пригорюнился старый капрал. – У кого ни спрошу, у всех нету… Ладно! Так и быть: обучу тебя наукам всем бескорыстно… Вникни! Когда-сь в компанент на учебу выведут, сиречь – в строй лагерный, ты кричи за собой «слово и дело» государево.
– Эва! – сказал Потап. – Да за «слово и дело» мне кнутом три шкуры спустят. Да еще язык вырежут. Потому как кричать «слово и дело» надо, что-то зная, а коли так, спуста, – плохо!
– Дурак ты, – отвечал ему капрал. – Ну три шкуры… ну и восемь шкур. Да зато ведь кнутом битых в службе держать не велено. Вот ты и стал человеком вольным!
– Нет, дедушка, – почесался Потап. – Мне твоя наука не пришлась по сердцу. Лучше уж я солдатом буду, стану служить, как положено, может, ишо и в офицерство иройством выбьюсь!..
Вывели рекрут в компанент – стали учить строю. Экзерцировали изрядно – до осьмого поту. Шаг был гусиный, стрелять велено не целясь. Лупи в белый свет – как в копеечку. Лишь бы грохоту поболее, дабы врага напужать зверски! Тягот в полку фузилерном было немало. Потап слово «залф» – понимал (более понаслышке, конечно). А вот когда офицеры кричали: «…нидерфален!.. поутонг!.. рейс!» – тогда путался.
И его отводили в сторону. Велели ни к чему не касаться и стоять так недвижимо. А потом побьют через профоса и снова в строй гонят. Слава богу, учили – не жалели. Был рот полный зубов, а теперь просвечивало. Убыток, кругом убыток! Но шагал хорошо…
Потом, обучив, зачислили в Выборгский полк фузилерный, – топай, сказали. Выборг – город скушный. И били здесь больнее. С тоски Потап однажды, сильно на профосов обиженный, решил утопиться. Прыгнул он в море, а там мелко. Конфуз один… моря-то Потап никогда не видел. Сказывали люди бывалые, будто глубь страшенная! Побежал далее прочь от берега – от полка, от батогов, от профосов. Бежал, бежал, ногами воду расталкивая, устал бежать. А воды всего по пояс ему хватило.
– Ладно, – сказал Потап, обратно к берегу поворачивая. – Может, оно и не все так… Может, ишо война будет. Так я выслужусь…
Перевели его вскоре в полк Углицкий и погнали сначала в дивизию генерала Виллима Фермора, что стояла под Шлиссельбургом, а оттуда завернули, Петербург минуя, прямо на Ревель – Колывань – городок это не нашенский, жуткий. Шли через Нарву, и было все внове, все любопытно. До этого-то Потап таких городов и не видывал. Даже радостно было шагать. Там петуху голову свернут, там девка тебе улыбнется, там водочкой угостят… Оно и хорошо!
Пришли в Ревель. Мати дорогая! Ну и башни… ну и паненки! Ну и страх… Под бой барабанов, по аппарели, выложенной булыжно, гнали наверх – в гору. Тра-та-та! Та-та! Выше, выше – под самое небо, город внизу остался. Стены высоченные. Кладка старая. Сыро. Фитили в подъездах горят. Вышел к ним усатый черт в скрипучих ботфортах. В руках – дубина, с конца гвоздями обколочена. А за ним – профосы с плетками. Прохвосты они, а не профосы…
– Любить, любить, любить! – гаркнул усатый черт по-русски.
Ласковые слова эти тут же пояснили – толково и дельно:
– Его высокопревосходительство, генерал-аншеф и губернатор земель Эстляндских, граф Оттон Густав Дуглас изволил сейчас сказать вам всем, что вас будут… лупить, лупить и лупить!
Вышел плац-майор с обнаженной шпагой. Встал «пред фрунт»:
– Знамена – за полк! Офицеры – на места! Гобои – раз!
И гугняво запели гобои. Начиналось опять мунстрование.
Потап Сурядов терпеливо шагал, надеясь на лучшее.
* * *
А в доме Петра Дмитриевича Филатьева, как и прежде, текла сытенькая и смиренная жизнишка. «Господи, не выдай!» – и в угол метались, к иконам припадая. От воровства извечного Ванька сын Осипов раздобрел. Штаны раньше сваливались, а теперь на пузе не сходились. Ремешок лопался! Сначала воровал больше от голода, а теперь – в похвальбу себе да в озорство. Я украду, а вы ищите!..
Вышел однажды на улицу. А мимо проходил человек толковый. И подошвы оторваны: щелк-щелк, щелк-щелк. А рубаха-то – ш е л к!
– Кто такой шествует? – спросил Ванька, очарованный.
– Петр Камчатка, вор на Москве известный…
Скоро встретились. Камчатка поднес стаканчик винца.
Смотрел с улыбочкой. И сказал слова примечательные:
– Пей водку, как гусь. Ешь хлеб, как свинья. А работай черт, но не я… Сказано сие в кабаке, сидя на сундуке.
Весело стало Ваньке от вина кабацкого. Начал он жизнь свою по порядку Камчатке пересказывать. Плохо ему за барином, объедки да побои, а своруешь – опять бьют. Едина душа была добра, Платон Сурядов, да и того в солдаты забрили.
– Сбежит! – мигнул ему Камчатка. – Рази вытерпит?
– Как же? – обомлел Ванька. – Можно ль сбежать из солдат?
– А во! На меня гляди… Весь я тута солдатский, весь беглый!
Ночью, когда в доме спали, Ванька ворота открыл, впустил Петра Камчатку на двор: щелк-щелк… Проснулся сторож – заголосил:
– Караул-у-ул… воры, воры, воры!
– Лозой его! – крикнул Камчатка. – Той, что воду носят…
Ванька коромыслом сторожа – бряк по башке. Затих. Взяли в доме что лежало поверху, и – прощай, Петр Дмитрич… Камчатка, легкий на ногу, увлекал Ваньку под мост Каменный, под сырые своды его.
А там, под мостом, весело. Пляшет и поет народ гулящий.
– Поживи здесь в нашем доме, – говорят. – Наготы и босоты понавешены шесты. Голоду и холоду – амбары стоят, зубы об язык с голоду трещат. Пыль да копоть, нечего лопать… Дай гривенный!
– Нету, – схитрил Ванька сын Осипов.
– Ах, нету? – И стали его бить (не хуже, чем Филатьев).
Пришлось вынуть. Тут и винцо явилось. Петра Камчатку воры пытали про Ваньку: кто таков есть? Не из Сыскного ли приказа подослан? Больно уж молод да с лица хитер…
– Не бойсь, – отвечал Камчатка. – Будет нашего сукна епанча! Он еще милостыньку прохожим кистеньком подаст ночью темною…
Всю водку выпили воры. Ушли на ночной разбой и убийства. Ванька утра дождался. Сидеть под мостом сыро и скушно. Вылез и пошел поразмяться. Тут его схватили дворовые люди Филатьева, стали вязать и лупить, приговаривая:
– Каждый бы хотел так жить, не тужить. А ты – што? Лучше нас рази? Ишь ты, крендель без маку… Вот и ступай до дому!
Филатьев велел беглого Ваньку приковать на цепь. Рядом с медведем. И не кормить – ни Ваньку, ни медведя.
– Я, – сказал барин, – ишо посмотрю, кто кого слопает?
Выручила Ваньку бабушка Агафья: она тихонько ему носила для Ваньки, а он, не будь дураком, ту еду медведю скармливал. Чтобы тот был сыт и его не трогал. Так и сидели на цепи двое.
Петр Дмитриевич даже сердиться на медведя стал.
– Эх, Мишка, – говорил, бывало, на двор выйдя, – совсем нет в тебе лютости… Ну чего спишь? Бери вот Ваньку да начинай с ноги его лопать. Он же – вкусный…
А Ванька от голода уже посинел. Но пузо – дело наживное. А вот жизнь потерять – тогда все! Потому и терпел. Однажды бабушка Агафья ёдово принесла и нашептала:
– Слушай, сынок. Наш-то барин в страхе нонеча. Ему солдата мертвого через забор на усадьбу подкинули. Он не знал, куды подевать его, взял да в колодец и опустил… Вода любой грех кроет!
– Не любой, баушка, – сурово ответил Ванька.
Вот и вечер над Китай-городом, порозовела Москва. Сытый медведь поворчал немного и спать завалился, когтями морду себе прикрыл. Около него (лицом в пахучую шерсть) притулился Ванька сын Осипов, сын крестьянский из села Иванцева уезда Ростовского. А в господском дому окна зажглись. Пришли гости: полковник Пашков Иван Иванович с сынком своим. А кучер барский куда-то палки понес, гладко оструганные. Видать, полковник затем и зван в гости, дабы в свидетелях быть, когда Ваньку молотить станут палками…
И верно – позвали к расправе. Уже и лавка приготовлена.
Лег Ванька… Лег и сразу вскочил.
– Слово и дело! – гаркнул, аж на улице слыхать было…
Филатьев – как полотно белый стал. Пашков чарочку от себя отодвинул. Стали Ваньку они просить, чтобы «слово и дело» обратно взял. Но Ванька прямо на полковника так и лез грудью.
– Во, служба! – говорил. – Коли смолчишь, так имею право и на тебя «слово и дело» кричать… Ты свое дело-то делай!
Пашков усы вытер и стол хозяйский покинул.
– Извини, Петра Митрич, – сказал хозяину. – За хлеб, за соль спасибо тебе. Одначе, как человек присяжный, обязан я о розыске том объявить, куда положено… – Потом к Ваньке повернулся. – Ну, а ты настучал на хозяина, так пойдем, стукач, в Стукалов монастырь на Лубянку. Там тебя на дыбе подвесят да и свешают безменом стучащим, сколь фунтиков ты потянешь.
– Веди! – отвечал Ванька. – Мои фунты всегда при мне!
И отвели его на Лубянку, где размещалась московская контора Тайной розыскных дел канцелярии. Там, по времени позднему, один секретарь сидел – Казаринов, бил он Ваньку дощечкой – ровной-ровной. И по этой же дощечке, к бумаге ее прикладывая, выводил потом ровные линии, по коим в тетрадке допросной писать удобнее.
Но Ванька ему ничего не сказал, секретаря озлобив.
– В баню его! – крикнул Казаринов. – С утра парить станем!
Утром пришел в застенок московский губернатор, сиятельный граф Семен Андреевич Салтыков, и стал ругать Ваньку:
– Чего «слово» орешь? Почто «дела» не сказываешь?
– А потому не сказываю, – отвечал Ванька, – что твой секлетарь Казаринов у моего хозяина Филатьева в гостях бывал, и боюся я, как бы рука руку не помазала…
– О! Ты неглуп, – засмеялся Салтыков, табачок нюхая.
Ванька ноги графа обнял, стал целовать их и рассказывать:
– Барин мой подчивал солдата кнутом деревянным, которым рожь брюжжат. Солдат ногами не встал, так мой барин его завернул в ковры персицкие, в каких соль возят, и башкой вперед – ухнул его в тот сундук, откель воду черпают…
– Коли соврал – убью! – сказал ему Салтыков.
Взяли Ваньку в штыки, пошли в Китай-город. Крюком железным, которым ведра утопшие достают, зацепили со дна колодца нечто тяжелое. Потянули. Вытянули. Обнаружился мертвый солдат полка ланд-милиции.
Тут Ванька своему хозяину закричал голосом нехорошим:
– Эй, барин! Ты меня днем на Саечных рядах пымал, а я тебя прямо в дому твоем спроворил… Мое «слово и дело» верное!
Взяли Филатьева под караул. А граф Салтыков выдал Ваньке сыну Осипову «письмо отпускное». Теперь, когда наговор его оправдался, он – по закону! – получил волю вольную. И более крепостным не был.
Гуляй себе! Ходи где знаешь…
– Каин ты! – кричал Филатьев ему. – Ты – Каин!
А Ванька снова – шасть под мост. Сидел там славный московский ворюга, дворянин Болховитинов, и делал в журнале опись подробную: кого и когда он ограбил. Сколько было с «походов» тех ему выручки. Ванька к дворянину Болховитинову подластился.
– Научи и меня писать, осударь, – попросил.
– И так подохнешь… Наука – дело дворянское.
С тех пор Ванька по отцу своему Осиповым уже не звался.
– Я – Каин! – говорил он. – Всех куплю, всех продам. Эй, ребята, что загрустили? Пей водку, как гусь, лопай хлеб, как свинья, а работай черт, а не я!..
…Было в ту пору Ваньке Каину всего пятнадцать годочков. Далеко пойдет парень. В истории же место его – наравне с курфюрстами и королями. Велик Ванька, велик!
Всех купит – всех продаст. Вы его, люди, тоже бойтесь.
Глава третья
С Украины уже не раз доносили о набегах жестоких из улусов ногайских. Крымский хан (по слухам) уже получил из Турции вещий подарок: халат и саблю, а это значит приказ – к походу! И вскинулись крепкие татарские кони, и было еще неясно, куда они ринутся, топча пределы российские. Кажется, через степи они помчатся на Кабарду… При дворе первым делом решили освободиться от областей, завоеванных в Персии, – от Гиляни избавиться! Земли эти на море Каспийском, с таким трудом завоеванные, камнем висели на шее Анны Иоанновны.
– На што мне Гилянь? – говорила она Остерману. – Да и далеки эти земли, солдаты в тех краях избалуются, чай. Пущай уж Надир забирает их обратно под свою руку…
Остерман Востока не знал и боялся его. Гилянские провинции – что ведал он о них? Жарко там, дух гнилой, клопы и клещи, мрет там много народу… И он поспешно согласился с царицей:
– Ваше величество, прибыли от тех краев никакой!
– А убытку-то сколько? – спросила Анна.
– Очень много. Но славы – мало…
– Вот видишь, Андрей Иваныч, – обрадовалась Анна. – Так на што мне эта Гилянь? Эва, у меня и своих земель не счесть… Говорят, это Волынский втравил Петра в походы персицкие… у-у-у, проклятый!
Помилование Волынскому она еще не подписала. Но зато не уступала Бирену и головы графа Ягужинского. Бирен ходил эти дни, как помешанный, твердя императрице неустанно:
– Анхен! Русские должны знать, что я умею любить, но я умею и мстить… Неужели можно простить дерзость Ягужинского ко мне?
Анна Иоанновна выла в голос – как бабы на базаре:
– Тебе Ягужинского отдай с головой, а где мне взять ишо такого слугу? Ведь он прокурор имперский, за меня от скорпионов верховных был в железа вкован…
Бирен решил добиться своего. И для этого у него козырь был верный: он знал, как сильно Остерман ненавидит Ягужинского.
– Вот вы, – сказал он императрице, обозленный, – всегда верите Остерману! Спросите у него. Так ли уж необходим для славы вашей этот разбойник Ягужинский?
Он был уверен: Остерман так и схватится за топор, сообща они разложат на плахе шумливого Пашку. В покои императрицы был срочно зван Остерман (опять… умирающий). Поверх вороха одеял лежали его восковые пальцы.
– Ягужинский… необходим, – заверил Анну вице-канцлер.
Бирен опешил. Вот этого он никак не ожидал.
Напряжение ума. Интриги. Конъюнктуры. «Уступить нельзя, – быстро соображал вице-канцлер. – Сегодня голова Ягужинского, а завтра этот кобель потребует у Анны моей головы… моей! Головы мудрого Остермана!..»
– Ах ты шарлатан! – заорал на него Бирен, опомнясь. – Долго ли ты еще будешь дурачить меня и ея величество? Тебе давно уже никто не верит. Сними свой козырек и покажи свои бесстыжие глаза.
Остерман не двинулся в коляске. Но по щекам его, серым и впалым, вдруг градом хлынули слезы.
– Оставь Андрей Иваныча… не мучай его, – заплакала и Анна Иоанновна. – Чего ты хочешь от нас?
– Я уже ничего не желаю в этом подлом мире! – воскликнул граф Бирен. – Но пусть этот человек только посмеет взглянуть на меня…
– Что ж, – тихо ответил Остерман, улыбнувшись. – Я могу поднять козырек. Но вид моих глаз вряд ли будет приятен вашему величеству и… вашему сиятельству, господин Бирен!
И козырек он сдернул. Вот оно – лицо трупа (натертое фигами). Глаза, заплывшие гноем, бестрепетно взирали на графа Бирена.
– Закрой, – велела Анна Иоанновна в отвращении.
– Ягужинский, повторяю, необходим, как генерал-прокурор империи. (Удар ладоней по ободам колес, Остерман ловко подъехал к Анне.) А почему бы, – спросил вкрадчиво, – не послать Ягужинского послом в Берлин?
Спросил и весь напрягся: никто (ни Анна, ни Бирен), никто из этих балбесов не догадается, что задумал великий Остерман.
– Но при королевусе прусском, – опешила Анна Иоанновна, туго соображая, – уже есть посол… Михайла Бестужев-Рюмин!
– Его – в Стокгольм, – рассудил Остерман.
Анна Иоанновна умоляюще глядела на Бирена.
Бирен грыз ногти. Остерман, усмешку затаив, выжидал.
– Хорошо, – поднялся фаворит. – Я согласен: посылайте его хоть в Китай, но чтобы я не видел более низкой физиономии Ягужинского. Я так не могу жить далее… Или я, или он.
Теперь Анна глядела на Остермана – вопросительно.
– Вот те раз! – сказала, себя по бокам шлепнув. – Договорились, хоть из дому беги… Ягужинского – в Берлин, а кто же тогда в прокурорах империи?
Остерман доплел свою паутину до конца:
– Ягужинский и останется генерал-прокурором!
Тут Бирен не выдержал – расхохотался:
– Ягужинский и там и здесь? И посол? И генерал-прокурор?.. Прав Волынский – плывем каналами дьявола!
– Око Петрово, – отвечал Остерман спокойненько, – из Берлина еще лучше разглядит грехи наши. А королевус прусский…
Но тут влетел Рейнгольд Левенвольде, сияющий:
– Ваше величество, из Петербурга гость…
О, чудо! На пороге, словно влитый в пол, стоял громоздкий истукан. Ботфорты сверкали на нем, лосины поскрипывали, чистенькие. И палашом он салюты учинял, безжалостно и дерзко рассекая воздух…
– Миних! – вскрикнула Анна, рванувшись вперед.
Палаш отринулся к ноге, плашмя прилег к ботфорту.
– Я буду счастлив, – заговорил Миних, сразу идя на штурм, – видеть ваше бесподобное величество в Петербурге! Ладожский канал – это великое произведение вашего царствования! Оно осенит вас в веках, и благодарная Россия, может, упомянет когда-либо и мое великое имя рядом с вашим именем – наивеличайшим!
«Умеет льстить, оставаясь грубым», – заметил Остерман.
– Что ж, – сказал он, – великое царствование государыни нашей имеет право избирать великих героев. Пусть и Миних тоже будет великим… не так ли?
И, презрев всех, выкатился. Бирен дружелюбно хлопнул Миниха по груди и ушиб себе руку. Под кафтаном генерал-аншефа скрывались латы. Миних был непробиваем – ни интригами, ни пулями.
– Ваше величество, – поклонился Бирен, – я оставлю вас. Однако, не уступив мне в Ягужинском, вы уступите мне в Волынском…
Анна Иоанновна, кося глазами, согласилась. Теперь граф Бирен нахваливал себя перед русскими вельможами:
– Я спас Волынского от виселицы… благодарности от него не жду, я поступал как христианин.
Ягужинского скоро из тюрьмы выпустили, велели в Берлин отъехать – послом. Павел Иванович всю ночь перебирал свои бумаги заветные, наутро сгреб их в кучу и нагрянул к Миниху.
– Бурхард Христофорыч, – сказал ему, – небось уведомлен, каково меня сгрызли тут? Так я до тебя… Дело сердечное, до всей России касаемое. А мне его завершить не дадут, потому как ныне упал я шибко. Тебе же оно, дело это, только славы прибавит!
– Славы у меня и без того много, – отвечал Миних, гордясь. – Однако покажи… Я и сам проектами полон. И мост через Балтику перекинуть. И Китай замышляю покорить… Я ведь все могу!
Ягужинский вручил Миниху свои проекты об образовании юношества на Руси при корпусах кадетских, где бы воспитывать дворян воински и граждански… Вздохнул:
– А я в Берлин отбываю, стану там пива разные пробовать. Может, и вернусь жив? А может, и помру… Прощай, аншеф!
* * *
Миних был на руку горяч и разумом вспыльчив. Когда еще мост через Балтику построится? Европа-то не ждет: она в надежде взирает на Миниха, и надобно ее поразить. Гуляя как-то с императрицей по саду Головинскому, Миних воткнул с сугроб свою громадную трость, воскликнул – весь вдохновенный:
– Не сойду с места сего, мать моя и благодетельница! Знай же, что Петр Великий говорил, будто только един я скрасил убогие дни его последние. И мечтал великий государь отплыть со мною от пристани в Петербурге и сойти на берег как раз на этом месте… Вот тут, где ныне моя дубина торчит, матушка!
– Что ты ныне желаешь? – спросила Анна, пугаясь.
– Полон я прожектами, мать моя, когда-нибудь лопну от них, как бомба… Саксонцы и баварцы уже переняли от Пруссии корпуса кадетские. Не пора ли и нам почину их следовать? Генерал-фельдцейхмейстерства желаю я такоже, чтобы дело пушечное подъять на Руси! Генерал-фельдмаршальства желаю такоже, дабы горячность моя к битвам не охладела…
Миних съедал по сотне блинов сразу. С маслом, с медом, со сметаной, с икрой. Выпивал аншеф целый анкерок настоек и, расстегнув золотой пояс на тугом животе, угрожал России страшными проектами.
– Версаль, – говорил он, – будет у стен Шлиссельбурга! Это я вам обещаю: сады, каскады, фермы, бабы в сарафанах… Качели! Куда ни глянешь – качели, качели, качели. Все деревни закачаются. Да!.. Имею еще некоторые соображения. Но, дабы не вредить безопасности государства, о них прежде молчу. Но… ждите!
Остерман даже не заметил, как Миних вдруг стал самым близким человеком у царицы. Это опасно. Желая забежать вперед, он тоже приласкал Миниха, советуясь с ним о создании Кабинета, он даже предложил грубияну пост кабинет-министра. Но Миниха на патоке не проведешь. Аншеф сразу раскусил, что главным в Кабинете будет Остерман, а Миниху всегда хотелось быть только первым…
– Я буду первым, – заявил он честно. – В делах военных!
В один из дней пришли в комнату Иоганна Эйхлера молчаливые кузнецы, расковали от цепей флейтиста. Остерман нежился в лучах триумфа, отдыхая от конъюнктур. «Как это удачно! – размышлял он. – Бирен остался в дураках, генерал-прокурор вроде бы и существует, но Пашки-то нету… Пашка в Берлине на пивах сопьется. А кто остался хозяином на Руси? Я, великий Остерман!..»
Темные каналы кончились, и пора было выплывать на свет божий. Кабинет станет главным законодательным учреждением в России.
– Ваше величество, – напомнил Остерман императрице, – все зло на Руси исходит от коллегиальных замыслов. Бойтесь мнения общего, но дорожите исключительно одним мнением – своим…
– Кого мыслишь в мой Кабинет министрами посадить?
Остерман заранее решил, что сажать надобно тех, которые дурнее всех, которые трусливее всех, которые богаче всех.
– Ваше величество, – отвечал он царице, – канцлер империи граф Головкин, Гаврила Иваныч, хотя и дряхл, но достоин той чести. Да и князь Алексей Черкасский – муж пламенный, добродетелями украшен!
На костях догнивающего Сената был воссоздан «Собственный Кабинет Ея Императорского Величества». Поблизости от покоев Анны Иоанновны (рядом с покоями Бирена) освободили угол. Истопник Милютин как следует прожарил печи, чтобы Остерман не мерзнул. Лакеи вперли сюда пышную кровать, взбили пуховые перины.
Кабинет был готов…
Сели за стол кабинет-министры, и Черепаха – Черкасский долго в недоумении тугодумном озирал высокую кровать.
– А кровать-то к чему здесь, Андрей Иваныч?
– Как же! – пояснил Остерман, улыбаясь. – А ежели ея величество пожелает почтить нас своим присутствием?..
И правда, пришла как-то Анна Иоанновна, посидела немного. Потом туфли с ног сошлепнула на пол, сунулась в пуховые подушки:
– Ну, министры! Ну, родненькие мои! Вы о делах важных тишком рассуждайте, а коли я задремлю – так вы уж потише…
Вот берлога – так берлога: именно о такой яме и мечтал граф Остерман. Теперь дела России двигались через Кабинет – Черкасский спал, Головкин трусил, Остерман решал.
Вся Россия отныне была в руках одного Остермана!
Однажды как-то подсунулся к нему Иогашка Эйхлер:
– Ваше сиятельство, а какой род службы мне поручаете?
– Флейтируйте пока, мой друг, флейтируйте, – обнадежил его Остерман. – Со временем вы мне понадобитесь на большее… Я вознесу вас, преданный Иоганн, столь высоко, что с высот Кабинета вы обозрите всю Россию… А сейчас, – закончил он без пафоса, – езжайте до Рейнгольда Левенвольде, обер-гофмаршал мне нужен!
* * *
Прямо от вице-канцлера Рейнгольд Левенвольде отправился в дом князя Черкасского просить руки его дочери – Варвары Алексеевны, которая давно считалась невестой поэта Антиоха Кантемира. Черкасский, коли гвоздь надо было вбить в стенку, и то годами не мог решиться – вбивать или не вбивать? А тут такое… Громадное «курфюршество» князя уплывало в руки курляндского оборотня.
– Ея величество, – безжалостно добил его Рейнгольд, – желают брака вашей дочери со мною!
Воле царицы перечить не станешь, и скоро Рейнгольда обручили с богатейшей невестой России.
– Ну что ж, – сказала при этом тигрица Варька, – коли золотого осла по мне не сыскалось, так пущай уж так: и на льва я тоже согласна…
Так начал Остерман расправу с Кантемиром – бил прямо в сердце, и справедливо писал князь Антиох:
Зачни с Москвы до Перу, с Рима до Китая, Не сыщешь зверя столь, как человек, злобна…А ведь помазали его милостями изрядно, стал Кантемир при Анне Иоанновне богатым помещиком земель Брянских и Нижегородских, – земли в тех краях сытые, жирные, лесные, пашенные. И невесту его, Варьку Черкасскую, царица заметно отличала, дозволила ей носить в прическе локоны, что другим девкам при дворе было строго заказано (за вину такую их на портомойню отсылали, где они штаны солдатские выстирывали). Но теперь все разом пошло прахом.
– Высокая степень, – говорит Кантемир, – да и богатство редко без беды бывают. И всегда неспокойны! А кто в тишине, от суеты мирской далече, будет малым доволен, тот и достоин называться философом истинным… Уехать бы!
К этому времени британский консул Клавдий Рондо начал трясти при дворе образцами сукон. Был он купчина хоть куда! Чего только не вытворял с этими сукнами: мочил их в уксусах, рвал шпорами, протыкал шпагою, палил над свечой и давал нюхать изгарь Миниху. И все это затем, чтобы доказать неопровержимую истину: британские сукна намного прочнее прусских!
Анна Иоанновна тоже сукна щупала и жалась: денег не было.
– О! – восклицал консул Рондо. – Англия богата, и деньги ей не нужны… Только пусть Россия откроет для наших кораблей Ригу, Архангельск и Петербург. И не надо нам денег! – повторил он, добавив: – У вас нет золота, но зато много воска, дерева, пеньки, смольчуги, льна и смолы…
Анна Иоанновна показала сукно Ивану Кирилову, что был членом в Комиссии о коммерциях… Он тоже сукно похвалил.
– Оно бы и ладно, – рассуждал Кирилов. – Да не ущемит ли сия коммерция прибыли купцов российских? Может, ваше величество, еще помучаемся, а скоро и сами начнем сукна валять отличные? Им воск и дерево отдай, а взамен бутылки да пуговицы получишь…
Но в Комиссии о коммерциях опять Остерман был главным.
– Мануфактуры российские, – отвечал он по-немецки (чтобы слов не выбирать), – внутреннего рынка и того обеспечить не могут.
Клавдий Рондо своего добился: дорога из солдатского сукна превращалась для Англии в «шелковую дорогу», – транзит через всю Россию в Персию, на восток, прямо в Индию, вот чего он добился! Теперь Россия была закована в две цепи сразу: Веной – в политике, Лондоном – в торговле… Клавдий Рондо, мужественный и умный, сделался при дворе своим человеком. Признав его на Москве как посланника, надо было готовить русского посла в Англию… «Вот удобный случай избавиться от Кантемира!» – решил Остерман, но Анна Иоанновна вице-канцлера тут же высмеяла:
– Придумал же ты, граф, кого послать! Да англичане, чать, молокососов не жалуют… Справится ли?
Остерман все заботы взял на себя. В карете вице-канцлера ехал князь Антиох на обед к английскому консулу.
– Сколько же вам лет, дитя мое? – спросил Остерман.
– Увы, всего двадцать два, – отвечал поэт.
– Но по уму гораздо больше…
После обеда Рондо отозвал Остермана в соседние покои:
– Ваш кандидат в послы при дворе Сент-Джемском вполне достойный молодой человек. Он разумен и знатен! Но я не могу не выразить вам сомнений в его возрасте. Ведь это же… мальчик!
– Двадцать восемь лет, – солгал с улыбкой Остерман. – Мы сорвали для вас, для англичан, самый роскошный цветок в России.
Рондо, стукнув башмаками, учтиво поклонился. Потом, расщедрясь, велел зажечь вокруг дома иллюминацию. Жена консула, леди Рондо, не тратя времени, вязала мужу толстые носки. Глаза ее посматривали с умом, блестяще. Она молчала, но умела слушать… Леди Рондо прибыла в Россию давно – женой посла, который умер; прибыл другой посол, она вышла за него, и он тоже умер; теперь прибыл Клавдий Рондо, она стала его женою. Англичане, как олимпийцы в эстафете, передавали вместе с делами посольства и жену, уже обвыкшую в делах московских… Довязывая носок, леди Рондо слышала, как Остерман наставлял в уголку Кантемира.
– Россия, – шептал вице-канцлер, – еще не познала той силы, что кроется в печати европейской. Журналисты и газетеры тамошние имеют свободы кощунственные и пишут все, что в голову взбредет. А вам, мой друг, предстоит бороться с клеветой, которую они станут изливать на ея величество Анну Иоанновну…
Леди Рондо собрала спицы и, отозвав мужа в сторонку, предупредила его, какова роль Кантемира в Англии… Консул ответил ей:
– Он сломает себе лоб и ничего не добьется… Наша страна – свободная страна! Эй, люди, еще зажгите плошки на дворе!
Остерман, стоя возле окна, смотрел, как с шипением разгораются на заборах чадящие плошки, и незаметно загибал пальцы:
«Ягужинский, Кантемир… Теперь – Татищев!»
* * *
Царевна Прасковья Волочи Ножку (вдова генерала Дмитриева-Мамонова) однажды среди глубокой ночи заорала:
– Ой, понесла я! Понесла… – И тут же скончалась.
Генерал Ушаков принес царице «сожалительный комплимент» по случаю смерти ее сестры и отъехал налегке в Измайловское…
– Лаврентий Лаврентьевич, – сказал инквизитор старому врачу, – пятого человека из дому Романовых, говорят, уморил ты рецептами своими. Ея величество грозится истребить тебя, ежели еще хоть едина персона дома царствующего через твое леченье помрет!
Ушаков насмердил страхом и отъехал, а Блументроста опять позвали в покои Дикой герцогини Мекленбургской.
– Кажись, – сказала Екатерина Иоанновна сумрачно, на постели сидя, – вновь забрюхатела я… Делай!
Блументрост упал на пол, весь сотрясаясь от рыданий:
– Ваше высочество, избавьте меня… Не могу, не могу…
Герцогиня пихнула его ногой.
– Делай! – сказала так, что из-за спины ее вдруг пахнуло на врача холодом застенка и качнулась угловая тень дыбы…
В эти дни на гололеди улиц московских споткнулся Тимофей Архипыч и помер сразу – напротив кабака Неугасимого. Анна Иоанновна восприяла смерть юродивого как горе всенародное. Велела с Тимофея Архипыча парсуну писать и портрет юродивого в спальне у себя повесила. Теперь, когда она грешила с Биреном, то из угла – сурово и строго – взирал на нее Архипыч…
Глава четвертая
Стали на Москве девки пропадать – русские, немецкие, калмыцкие и всякие. Сунет иная нос за ворота, тут ее – хвать, и увезут. А потом – ищи-свищи. Девка-то ладно, шут с ней, с девкой, но иной раз и нужна бывает. Особо, ежели мастерству научена…
Всех пропащих девок сыскали в гареме у Карла Бирена (того, что «инвалидностью украшался»). Граф Бирен был предельно возмущен.
– Ну какая скотина этот Карл! – фыркал граф. – Надобно ему полк в командование дать…
А младший брат Густав все мунстровал измайловцев. Спасибо Жано Лестоку – парень верткий, вошел в дружбу с ним, и мунстра сего в Александрову слободу вытащил. Как только увидел Густав Бирен цесаревну Елизавету Петровну, так и забыл обо всем на свете.
– Хочу жениться, – заявил он брату-графу.
– Опомнись. Она же – цесаревна, а ты… Кто ты?
– А я хочу! – твердил Густав Бирен. – Ты ведь, Эрнст, желаешь породнить своего сына с принцессой Мекленбургской…
– Молчи, болван! Елизавета была невестой короля Франции, а ныне живет блудно с сержантом Шубиным.
– Но я – майор! – отвечал Густав. – Сержанту не тягаться со мною… И цесаревна со мной любезна!
Бирен побежал к царице, ища содействия. Анна Иоанновна очень зло поглядела на все село Александрово:
– Гнездо Петрово разорить надобно, а птенцов сих собакам бросить… Знаю я: все наговоры идут из слободы Александровой! Лизка престол из-под меня желает выдернуть? Ну-ну, тогда я из-под нее кровать выдерну. Единой просфоркой сыта будет!..
Алешку Шубина взяли в Тайную розыскных дел канцелярию.
– Ты кто таков, молодче? – спросил его Ушаков.
– Я есть Алексей Яковлев сын Шубин, а ныне сержантом при полку Семеновском состою…
Ушаков бровью повел. Каты сдернули мундир с полюбовника цесаревны, разложили на лавку телом. Десять плетей – для начала.
Встал сержант как ни в чем не бывало, только удивился.
– За што бьешь? – спросил. – Ну, был грех… Так без того греха кто проживет? Муха и та на муху летит и жужжит…
– Ты – не Алексей, а Иван, и родства не знаешь, – внушил ему Ушаков, для верности врезав Шубину кулаком – прямо в дых самый.
– Врешь! – обозлился сержант, мучаясь. – Я себя не забыл, меня каждый в полку моем ведает…
Двадцать плетей. Выдержал. Только орал шибко:
– А деревня моя – Курганиха, я есть оттудова!
Тридцать плетей… сорок… Сколько же он выдержит?
Голова упала на лавку, кровью забрызганную.
– Ванечка, – позвал его Ушаков, – Ванюшечка…
– Уйди, вошь, – прошипел Шубин. – Я себя помню. Урожден Алексеем, крещен в имени этом, а в Иванах мне не бывать!
Бросили в воду: ни встать, ни лечь. Томили парня во мраке. Без хлеба, без огарка свечного. Крыса и та не выжила бы! Потом снова на свет извлекли, и тянул Ушаков акафисты наисладчайшие… Но твердо помнил себя Шубин – кричал с лавки, истерзанный:
– У меня мамушка ишо жива… сестрицы на выданье…
– Ты есть Иван, а корню своего не ведаешь, – внушали ему.
– Врете – ведаю!..
Через срок опять приволокли в пытошную. Горел огонь.
На стене, что насупротив дыбы, висли клочья волос.
В крови, в мозгах, в кале человечьем.
«Бедные, – пожалел Шубин. – Кто же страдал тут до меня?..»
– Кто ты есть? – спросил Ушаков, очки вздевая.
– Сам знаешь, – заплакал Шубин. – Чего мучаешь?..
Каты взяли банные веники – сухие, шелестучие. И те веники в огонь опустили. Одежонку велели скинуть и лечь.
– Ладно, – сдался Шубин. – Противу огня слаб я… Быть по-вашему, звери: Иван я есть, а родство не помню… Везите уж!
И повезли его – долго-долго, месяцами волокли через места пустые. Да все кибиточкой, да все под войлоком. И опомнился Шубин уже на Камчатке: стоял перед ним хиленький попик и держал обручальные кольца, дешевенькие…
Шубин повел глаза в сторону от себя – налево: о ужас-то!
Венчали его с камчадалкой – старой, дряблой и грязной.
Вынула она изо рта трубку и подмигнула слезливым глазом.
– Нисяво… нисяво… – сказала.
Заплакал он и продел палец в обручальное кольцо.
Первые годы все спрашивал, сидя сутками на берегу моря:
– За што? О господи, знаешь ли ты – за што?..
А потом и спрашивать перестал. И потекло время. Безжалостное. И забегали в чуме дети. Не цесаревнины. Камчадальские.
Были они, эти дети, очень на Шубина похожие. Там, с детьми своими на берегу моря играя, Шубин забыл русский язык…
* * *
До большого колокола Ивана Великого, от самого Красного крыльца кремлевского, протянули канат длиннющий. А высота-то – ну и высота же! Шапка падает… И на канате том, над головами мужиков и баб, плясал босой персианин. Потом выкатили на площадь бочки с вином. Анна Иоанновна на крыльцо вышла, бросала медяки в народ, празднуя, что от Гиляни избавилась.
– А вину, – крикнула в толпу, – даю употребление вольное!
Сие значило: коли до бочек живым пробьешься, то пей вволю, сколько душа примет. Перс-канатоходец видел со страшной высоты, как ринулся площадной народ в свалку… Стража потом питух разогнала, со дна бочек изъяли мокрые в вине шапки – утопшие.
– Эй! – трясли шапками на площади. – Чей треух?
Никто не признавался: как бы не попало. Перс еще долго плясал в розовом вечернем небе, потом спустился вниз. А императрица выходила слонов встречать. Как танцора, так и слонов прислал ей в подарок Надир за уступку Гиляни… Надир, звезда которого быстро разгоралась на Востоке, оказался очень хитрым дипломатом: пусть Россия поможет ему турок изгнать, или… Или пусть сама уходит из Персии! Остерман решил, что лучше уйти.
Артемий Петрович Волынский появился в царском Анненгофе, вполне прощенный. Держался скромником, остро поглядывая на Остермана. Прожигал его насквозь своими глазами, и Остерман не выдержал:
– Артемий Петрович, небось до меня нужду какую имеешь?
Волынский нагнулся и – в ухо кабинет-министру:
– Ночь-то, граф, черная. Вода в каналах темная. Плывите и далее. Но себя щупайте: уж не дьявол ли вы?
Намек был неприятен Остерману, и он отъехал на коляске.
– Озорник, – сказал издали. – Богохульство ваше ни к чему…
Раздался грохот ботфортов, кованных плашками из меди. Во дворец Анненгофа прибыл фельдмаршал князь Василий Долгорукий.
– Что слышу я? – вопросил, озираясь. – Нешто правда, будто Гилянь обратно хотят отдать? Кто зло сие придумал для России в бесчестие? К т о?
Остерман притих в колясочке. Из покоев своих величаво, шажками мелкими, выступила императрица:
– Чего кричишь, маршал? Или тебя обидел кто?
– Не меня, не меня… То русского солдата обидели!
– Да будет тебе, – отмахнулась Анна Иоанновна со смехом. – Разве же я русского солдата обижу когда?
– Выслушай, великая государыня! Семь потов в тех землях сбрызнуто, семь кровей пролито… Россия встала на море Каспийском ногою твердою! Лежат от Гиляни шляхи прямые – на Тегеран, Шахруд, Герат, Кандагар… Так почто же дарить задарма обратно? Добро бы соседу хорошему… А то ведь – кому? Надиру! Разбойнику!
– Уйди, – велела Анна, – от крику твоего голова болит…
Фельдмаршал развернулся и заметил Волынского.
– Друг Артемий, – слезно взмолился старик, – ты русским послом был в Персии, так скажи: разве можно кровью завоеванное за канатного плясуна да слонов отдать? Земли-то каковы, сам ведаешь! Русь чрез те завоевания богатство вечное обрела, она морем плывет в Индию… Сердце наше в Европе колотится, но телом большим мы по Азии разлеглись. В делах восточных укреплять себя надо, а не транжирами быть глупыми…
Волынский решил Остермана не щадить: теперь он снова силу обрел – за ним ведь граф Бирен стоял (с конюшнями его, с аргамаками его). И он так отвечал – во всеуслышание:
– Согласен я с тобою, фельдмаршал: придворные той крови и того поту не нюхали… Чужакам ничего не жаль! А вот нам… эх!
Остерман съежился на дне своей коляски.
– Это вы, – выкрикнул, – преступно повинны в том, что моря крови русской пролиты на Гиляни… Ради чего?
Фельдмаршал Долгорукий схватился за коляску:
– Кровь ради отечества пролита… чурбан ты немецкий!
И вдруг покатил Остермана… Все быстрее, быстрее!
Впереди уже двери. За ними – арапы дежурят.
Выбил коляской двери, повалив арапов, выпихнул Остермана прочь из зала… Граф со своей колесницей так и врезался в стенку.
Тут к нему угоднически, как собачка, подбежал принц Людвиг Гессен-Гомбургский:
– Ваше сиятельство, неужели… Неужели простите?
Остерман посмотрел на него – снизу, тяжело:
– Вы… ничтожество! Остерман не таков, как ваша сомнительная светлость: он никогда ничего никому не прощает… Можете подойти к фельдмаршалу и сказать, что дни его сочтены! А в этом поможете мне… вы, принц! И не отказывайтесь, – усмехнулся Остерман. – Жезлы фельдмаршала на улицах не валяются. А вам, ничтожество светлейшее, этот жезл еще пригодится…
– Мне? Какое счастье! – замлел принц.
– Да, – покривился Остерман. – Этой палкой вы будете хвастать потом перед дамами, рассказывая о своих подвигах!
* * *
Собрались одни только русские – чужаков не было: сам фельдмаршал Василий Владимирович, адъютант Егорка Столетов, племянник Юрка Долгорукий, прапорщик Алексей Барятинский и жена фельдмаршала Анна Петровна (старуха уже). Сначала жулярский чай попивали, потом маршалу воду гонять прискучило, он чашку ополоснул от чая:
– Травка сия вину не товарищ… Эй, Юрка! Плесни винишка…
Племянник разлил вино, стали тут все пить, руками махали.
Егорка Столетов так сказал:
– Петр Первый сквалыга был: он не отдал бы Гиляни!
– Не, – отвечал князь Алешка Барятинский, – он был таков, что из-за копейки давливался. Да и других до смерти давливал!
Фельдмаршал грохнул кулаком по столу – заходили чашки:
– Я Петра не люблю,[14] он немца на Русь призвал. И учить меня пожелал. А я и без того дураком не был… От Петра и полезла на Русь тоска бумажная: куды ни сунешься, везде про тебя в бумажку пишут. Я за един день при Петре столько бумаг писал, сколь ранее и за год писать бы не привелось…
Егорка Столетов налил себе еще, выпил и рот вытер:
– Эх, что уж тут! Петр зато просвещать стал…
Фельдмаршал тут его по лбу треснул.
– Вранье! – сказал. – Это все немчура придумала, что Русь до Петра была дикой, а они явились, как советники, и просветили нас! Немцу хлеб сожранный оправдать надо – вот он и придумал сие… Неправда это! Россия и до Петра не блуждала в потемках. Василий Голицын, Ордын-Нащокин, Ртищев, Матвеев – люди были ума зрелого, разума высокого… И русские человецы задворками ума до Петра не ползали. Россия и ранее на столбовой дороге стояла. Европа-то сама могла бы у нас многому поучиться…
– Подъехал кто-то, кажись, – сказал Барятинский.
– Выглянь, Егорушко, – попросила старуха княгиня.
Егорка Столетов в окно поглядел.
– Прынц, – сказал, зубы скаля. – Прынц на крыльцо поперся…
– Какой прынц? Их теперь на Руси развелось, что нерезаных собак.
– Да тот, матушка-княгиня, что к дочке Трубецкого сватался.
– А-а-а, – догадалась старуха, – это Гессен-Гомбургский… Небось дома-то жрать нечего, так по Москве ползает, харчей ища… Что делать-то? – поднялась Анна Петровна. – В сенцах темно. Эй, Ванька, Мишка! Кто там не спит? – позвала слуг. – Посветите прынцу свечечкой…
Барятинский-князь загыгыкал, говоря:
– Ништо! Свечки жаль – такому обормоту светить. Пущай бы впотьмах себе ноги ломал… Ги-ги-ги-ги!
Юрка Долгорукий запуган казнями был.
– Дяденька, – шепнул он фельдмаршалу, – вы бы потише, а то прынц сей в доводчиках ходит… Сказывали мне, будто на ваше место метит: в коллегии военной президента!
– А я в своем дому на лавке дедовской сижу! – разбушевался Долгорукий. – С коих это пор русские люди, чтобы поговорить, должны на двор выбегать? Или не стало чести более?
Вбежал казачок со свечкой. За ним, кланяясь, вошел принц Людвиг Гессен-Гомбургский: спереди на него глянешь – лицо, как топорище, сбоку зайдешь – будто лошадь. К столу принц разлетелся, Егорка Столетов подвинулся, лавку освобождая… Уселся принц.
– Ныне, – заговорил, – его сиятельство опять понтировать немало изволили. И столь успешно, все диву давались…
– Какое еще там сиятельство? – спросил фельдмаршал.
– Граф Рейнгольд Левенвольде, – пояснил принц.
– Таких сиятельств не знаю, – отвечал фельдмаршал.
– Васенька… – взмолилась жена.
– Цыц! – рявкнул в угол старик. – А то всех сейчас поразгоняю по шесткам да закуткам… Егорка, брызни винца прынцу!
Долгорукий пряник разломил пополам, бросил кусок его принцу:
– Вот тебе закусь… Как раз по твоим зубам!
– Васенька… – снова умоляла жена.
– Не перечь, – отвечал ей фельдмаршал.
Принц Людвиг привык: его уже давно за человека никто не считал. И не только русские, но даже немцы его шпыняли как могли. Винцо он выпил, грызанул пряничка тверского. И разговор, как умел, так и продолжил:
– Теперь войска с Гиляни до самой Куры отведут…
Вот тут и началось: поднялся Василий Владимирович князь Долгорукий во весь рост, страшен в гневе.
– Не отдам! – сказал. – Там кровь моя, там Россия столько голов сложила… А она, записуха митавская, только приехала сюда, а уже Русь по лоскутьям рвать стала… Вот ты, – обратился он к принцу, – поди и передай ей так: фельдмаршал старый, и он не отдаст… не отдаст Гилянь! Сколь веков стремилась Русь на Каспий выйти? И все – прахом? Туды-т вашу всех, мак-размяк… у-у-ух!
Вскочил Юрка Долгорукий – он всего боялся теперь, словно заяц. Да и женился недавно (не дай-то бог, от греха подальше). Он сразу за шапкой кинулся.
– Племяш! – остановил его фельдмаршал. – А ты куды?
– Простите, дяденька… час поздний.
– Сядь! И ты, Егорка, чего вскочил? Сядь тоже.
Принц было поднялся, но фельдмаршал и его усадил властно:
– Не разбегаться, души тараканьи… Еще вина выпьем!
И вдруг – из-за спины – сказала жена фельдмаршалу:
– Ишь разорался… Не ты ли спьяна и выбрал Ивановну в царицы?
– Не Ивановну, а… Задрановну! – поправил жену фельдмаршал.
Принц, скоренько дожевав пряник, поспешил откланяться…
Поздненько уже было (во дворце все спали), когда Анну Иоанновну разбудил дежурный камергер:
– Ваше величество, дело важное – государево!
На цыпочках вошел принц Людвиг Гессен-Гомбургский:
– Великая государыня, почту своим священнейшим долгом, как то положено благородному человеку… Желаю донос сделать на фельдмаршала Долгорукого! Не знаю, как перевести это слово на немецкий, во французском такого слова тоже не сыщется…
– Ну-ну, прынц! Говори скорее… не томи душу мою!
– Задрановна вы, а не Ивановна!
– Это я-то, хосподи?
– Именно так сказал о вас фельдмаршал…
– Гей, гей, гей! – взревела Анна. – Сыщите немедля Андрея Иваныча… Гей, гей!
Ушаков, словно хороший швейцар, всегда был рядом.
– Долгоруких извести под корень! – наказала ему императрица. – А тех, что выживут, никакой грамоте не учить. В школы и в науки не определять. Служить им только солдатами и матросами. В гарнизоны дальные всех! В степи, в леса, в пустыни… Погоди ужо, – погрозила кулаком в угол, – даст бог, и до Голицыных доберусь! Больно все умны стали… Загордились! Книжки читают, даже бабы читать стали… Ну, я им почитаю! Мучители мои… Бесстыжие! Философы окаянные, чтоб вы передохли все!
* * *
Начало указа Анны Иоанновны было таково:
«Явились некоторые бессовестные и общаго добра ненавистные люди, а именно: бывший фельдмаршал князь Василий Долгорукий, который, презря нашу к себе многую милость и свою присяжную должность, дерзнул не токмо непристойным образом толковать наши учреждения, государству полезныя, но и собственную нашу императорскую персону поносными словами оскорблял… Да еще бывший гвардии капитан князь Юрий Долгорукий, прапорщик Алексей Барятинский, Егор Столетов, тоже явились к повреждению общаго покоя и благополучия…»
* * *
Старого фельдмаршала ввели в пытошный застенок.
Руки навыверт, хрип, страх, боль! – висели на дыбах, к потолку подтянутые, три его гостя: племянник Юрка, адъютант Егорка Столетов и Алешка Барятинский, на огонек в гости забежавший…
Ушаков сказал фельдмаршалу – без видимой злобы:
– Василь Владимирович, покайся…
Фельдмаршал бельмо ладонью прикрыл. Смотрел одним глазом. Корчились гости его, стекал по телам их пот – едучий, нездоровый, пот от боли, от огня, от страха.
– Что ты делаешь, зверь? – сказал фельдмаршал Ушакову и вдруг закричал: – Робятки мои! Почто вам мука така дадена? Валите все на меня… на меня одного! И стыда в том не имайте: я старик крепкий – я все выдержу…
– Горды вы, Долгорукие, – заметил Ушаков. – Но мне велено свыше весь куст ваш из Москвы вырвать.
– Вырывай! – гаркнул фельдмаршал. – Долгорукие Москву основали, ты помни об этом. Имени князя Юрия Долгорукого, зачинателя Кремля Московского, как ни тужись, а из гиштории российской не отринуть… Меня ты вырвешь с кустом вместе, но корень наш в памяти народной останется!..
Остерман теперь был владыкой в России.
– В с е смерти лютой достойны, – сказал он.
И судьи покорно подписали: смерть – через топор палача.
* * *
Конец указа Анны Иоанновны был таков:
«Однако же мы, по обыкновенной своей императорской милости, от той смертной казни всемилостивейше их освободили. И указали: отобрав у них чины и движимое и недвижимое имение, послать в ссылку под караулом. А именно: князь Василья Долгорукого – в Шлиссельбург, а прочих в вечную работу: князь Юрья Долгорукого – в Кузнецк, Барятинского – в Охотский острог, а Столетова – на Нерчинские заводы».
Графу Бирену стало жаль старого, заслуженного ветерана.
– Анхен, – вступился он за Долгорукого, – фельдмаршал весь изранен в битвах, он уже близок к смерти. Ему не вынести крепости, о которой даже говорить страшно! Помилуй его… Анхен!
– Миловать врагов не стану. А коли ты (сам ты) за него просишь, так и быть: пусть возьмет в крепость пять рабов своих, дабы они, за старостью его и болестями, уход за ним имели.
О том царском решении донесли фельдмаршалу.
– Мои рабы, – отвечал старик, – и без того худо жили. Не повинны они, чтобы за господина своего кару несть! И рабов, к заточению назначенных, отпущать на волю… Прочь из рабства!
А жена его Анна Петровна две тарелки на стол – бряк, две ложки – бряк.
– Куды мне по две? – хмыкнул Долгорукий. – Мне в Шлюшинской[15] тюрьме гостей не принимать… Клади по одной!
– А я что? – ответила жена. – Ты ложкой есть будешь, а я пясткой шти хлебать стану?
Старая княгиня поехала за мужем в казематы. Везли их, стариков, по слякоти, гладила она руку мужа:
– Суета сует, Василья Владимирыч! Помяни ты, что на кольце у царя Соломона вписано было: «И это пройдет…»
Анна Иоанновна подивилась смелости княгини.
– Во спесь-то где! – сказала, дыша злобой. – Ну, ништо ей, дуре старой… Привыкла небось пироги с изюмом жрать? Пущай же отныне в крепости посидит на мышиной корочке!
Так закончилась месть императрицы за кондиции.
Но Феофан Прокопович предостерег ее в ближайшее свидание:
– Гляди не остывай от злости, матушка! Рукава-то засучи повыше да крови людской не бойся… Вся церковь за тебя станет молиться. Избу ты поломала. А в щелях еще сидят сверчки да о конституциях посвистывают… Огнем их, матушка! Огнем выжигай, только един огонь все вычищает!
* * *
Умер Голицын, заточен Долгорукий… Теперь в России остался лишь один фельдмаршал – князь Ванька Трубецкой, трус, заика и пьяница, воевать совсем не умевший. К уроненным жезлам кинулись два претендента – Миних и принц Гессен-Гомбургский. Но только было нагнулся принц, как его грубо отпихнул Миних:
– Вам еще рановато, принц. А вот мне этот жезл кстати…
Миних стал фельдмаршалом, генерал-фельдцейхмейстером, обер-директором фортификаций, Военной коллегии президентом, полковником полка Кирасирского, кадетского корпуса аншефом. От почестей и чинов его разрывало, как и от проектов разных.
Остерман спать не мог от зависти (обдумывал уничтожение…)
Но Миних собаку главную дразнить не желал и быстро сошелся с графом Биреном; их дружбу подогревала обоюдная страсть к древним монетам. В «минцкабинете» Миниха граф Бирен обнаружил монеты, каких у него не было. Но зато они были в коллекции у Кристодемуса (врача и философа из Риги).
…Двор постепенно перебирался в Петербург.
Глава пятая
Родила царица в ночь,
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку.
А. ПушкинВыло в трубах всю ночь, словно в Кремль забежали волки.
Не спали… Караулы были сдвоены. На лестницах – строены.
Анна Иоанновна надела под робу себе кирасу. Бронзовую.
Наступал момент – исторический.
Россия съежилась за окнами Кремля – застуженная. Обвытая метелями, занесенная снегами… Тишина над Москвой, тишина.
Анна Иоанновна выпила для храбрости большую чару вина.
– Зачнем? – спросила. – Дай-то, боже, управиться!
Дикая герцогиня Мекленбургская кинулась в опочивальню, где спала дочь ее – маленькая принцесса Елизавета Христина, лютеранка (так и не удосужилась еще перекрестить ее). Екатерина Иоанновна выдернула дочь из постели. Та проснулась, захныкала. Русского языка не ведая, говорила с матерью по-немецки.
– Куда меня? – терла глаза девочка. – Я спать хочу…
– Вставай, хвороба! – отвечала ей мать по-русски. – Коли не привел господь бог мне на престол восстать, так теперь ты, моя поросль, сядешь!
– Не хочу на престол… я спать хочу…
Принцессе дали хорошего подзадника, чтоб не ревела, и одели ее потеплее. Мать грохнула перед ней ларец с изюмом персидским:
– Грызи, несчастье мое! – И вышла, как солдат, руками размахивая, сама толстая, как бочка… Близок момент исторический.
* * *
В кордегардии – двое: майор Волков и Ванька Булгаков, секретарь полка Преображенского. Обоим скушно, а спать нельзя.
Булгаков зевнул наисладчайше – аж скула хрустнула.
– Слышь, – сказал, – майор Альбрехт… тот самый, что за Фика именье Котлы получил от государыни под Ямбургом…
– Ну? – спросил Волков, и кость бросил: пять зерен.
– Ныне он доимочную дирекцию на Воронеже справил…
– Правежничал, сволочь? У моей тетеньки, – припомнил Волков, – деревенька как раз там… уж така она разнесчастна!
– А дело прибыльное, – досказал Булгаков.
– Рази? – Волков спросил, и – бац кость: три зерна.
– Оно так и есть, – продолжал Булгаков. – Потому как ныне с помещика дерут так же, как с мужика. Не дал мужик – трясут дворянина, дворянин не смог доимки справить – воевод в железа куют, голодом их морят. И тое дело для дирекции недоимочной выгодно… Ты про таку гниду Лейбу Либмана слыхал ли?
– Кто о нем не слыхивал, – ответил Волков.
– Вот! А ныне к нему так не пройдешь. Офицеры к нему стоят в очередь по списку. И на руку ему кладут…
– За што кладут-то? – смигнул Волков.
– Экий ты дурень, майор! Да ведь каждому на правеж попасть желательно. Что с мужиков, что с усадебки, что с воеводы… Глядь, и богатым вернулся! Вот той дирекции и добиваются. А фактор Лейба Либман за то деньги берет… Осознал?
– А-а-а, – протянул Волков и опять бросил кость. – Пять зерен! На кухни сходить, што ли? – размечтался. – Да ковшик водочки царской задарма выпить? Или уж завтра?.. Не, схожу…
Только Волков поднялся, как вошел лакей дворцовый:
– Сударь, вас наверх просят идти. В чем стоите – сразу!
– Непорядок, видать, – сказал Волков и побледнел…
Темны углы. Страшны повороты. Дворец – словно гроб, и столь гулок, что берет оторопь. Лакей впереди шел со свечой, офицеру путь освещал. Из мрака блестели белые зубы да чалмы белели – это два негра у дверей стояли.
Двери – настежь, и вот… сам граф Бирен.
– Маеор фон Фолкоф, – сказал по-немецки, дружески за локоть офицера беря. – В четыре часа полки регимента и генералитет должны быть здесь… Пушки! Чтобы все улицы имели по пушке. И чтобы все было исключительно тихо.
Волков кивнул согласно. «Видать, мунстр?»
– Стойте, – задержал его Бирен. – Я догадываюсь, что вы меня не так поняли… В четыре часа ночи! Ночи, а – не дня!
Тут Волкова затрясло:
– Ваше сиятельство, какова причина тому? Полки – не дети малые: их так просто не подымешь!
Бирен загородил Волкову дорогу, которая – через покои его жены-горбуньи – вела прямо в спальни императрицы.
– Куда вы? – спросил настороженно.
– Я должен видеть ея величество, – ответил Волков.
– Не советую… Я сам не знаю причины сбора полков, но ея величество тревожить не смейте… Итак, в четыре! Ночи…
И по Москве пошли войска, батареи расставили пушки на перекрестках. Преображенцы, семеновцы и преторианцы полка Измайловского были построены перед дворцом. Заиндевели усы, застыли ноги, всю ночь не отпускали.
Говорить не давали. Слово сказал – тебя палкой: бац!
Однако же – говорили.
– Пошто стоим-то? – шепотом.
– Заваруха, видать, какая-то…
– Ша! Как бы не обвели нас, братцы.
– Да уж куда еще обводить-то? И без того обведены…
Бац – палкой! – снова тишина, стужа, ночь, звезды.
И вот – рассвет… Старших офицеров регимента стали звать в апартаменты, а младшие так и остались на дворе мерзнуть. И были тут собраны люди кабинетные; духовенство; генералитет; вельможи первых трех классов. Бирен стоял за спиной императрицы, косо посматривал… Все видели, как он подтолкнул вперед Анну Иоанновну, и та шагнула вбок – словно пьяная.
– Россия-то, поди, едва не погибла? – начала императрица. – А все отчего? Сами ведаете; не было престолунаследствия порядка дано законного… О конституциях по углам посвистывали!
Склонились тут выи придворные; свисали пудреные парики до колен и ниже, в трехрядку собрались тупые тевтонские затылки, тряслись жирные брыли щек, плохо выбритых.
– Мудрость-то! – плакал фельдмаршал Трубецкой. – Какова мудрость-то, матушка… Так и светишься ты вся!
И медленно все выпрямились (один Бирен не кланялся).
– Вспомните, – продолжала Анна, – сколь Россия настрадалась от злодеев, когда Петр передо мною помер милостию божией… То-то! Не тогда ли и кондиции те задумали? Ныне же тому не бывать, чтобы заветы предков моих рушить. А дабы Русь от злодейств в будущем предотвратить, полагаю наследника престолу еще при жизни моей назначить…
Маленькая принцесса Мекленбургская выступила из дверей, и Анна Иоанновна взяла ее на руки.
– Вот племянница моя! – сказала, подняв ребенка над собой. – Да будь благословенно чрево ее, которое породит в возрасте. И то, что породит она чревом своим, тому и быть на престоле прародительском, престоле Российском… Такова воля моя, самодержавная!
И заставили присягать. Тут же, пока не одумались.
Великое смущение было… кому присягать?
Тому присягать, что родится.
Когда родится? – Родится, когда родится.
А что родится? – Тому и быть на русском престоле.
Высшие чины империи присягали неведомо кому…
На штыках! Пока не рассвело. Во мраке.
Впрочем, никто не осмелился возразить.
* * *
Этим беззаконным актом о престолонаследовании Анна Иоанновна открыла дорогу для тронных переворотов, и они пойдут теперь своей исторической чередой: Анна Леопольдовна умрет в Холмогорах, сын Иоанн, порожденный ею, будет зарезан в Шлиссельбурге, Петра III проткнет вилкой бравый Алешка Орлов, а Павла I задушат в спальне офицерским шарфом, снятым с шеи поэта Сергея Марина…
Эта ночь не пройдет даром для династии Романовых!
Глава шестая
С утра на Дворе монетном залили металлом расплавленным горло трем фальшивомонетчикам. Двое сразу умерли, а третьему металл, дымясь, через горло прошел насквозь и в землю вытек…
– А все отчего? – сказал Татищев. – Все оттого, что деньгу нашу легко подделать. Надобно деньги выпускать не лепешками, а шариками, как горох. Тогда фальшивых менее станется, ибо круглую монету подделать трудней без ущербу ей в качестве фабричном…
В деньгах Татищев докой был – недаром при Монетном дворе состоял. Вот и сегодня пришли скупщики серебра, ударили перед ним в четыре тысячи червонцев. Да еще руку Татищева поцеловали:
– Уж ты прими, кормилец наш, на зубок себе. Да зато не волокитничай, когда серебришко в монеты перестукаешь…
Татищев взятку захапал, а себя извинил словами из писания священного: «…делающему мзда не по благодати, а по делу!» Мол, беру за труды свои… Василий Никитич был казнокрадец удивительный, из особой воровской породы – ученой! При Петре Первом он даже составил особый регламент, по каким статьям можно брать взятки: «1) Ежели за просителя работал после полудня, чего делать по службе не обязан, ибо в жалованье не ставится; 2) Ежели дело не тянул справками и придирками и 3) Ежели решил дело тяжебное не в очередь, а скоро и честно, в выгоду просителя и отечеству не в убыток»…
– Разумная любовь к самому себе, – утверждал Татищев, – уже есмь самая великая добродетель, и филозофия сии слова утверждает…
Монетное же дело, которым он ведал, расхлябалось: шатко время было – оттого и деньга в народе шатка.
Теперь новое дело выдумали: рублевики чеканить.
– Оно бы и неплохо, – доказывал Татищев канцлеру Головкину, – да вот беда: мужику нашему рублевик и во сне не приснится. А коли мелкие деньги изъять в расходе, так мужик наш завсе из финансов государственных выпадет. Ведь на рубль только богатый человек торговать может, а простолюдинам мелкая деньга необходима… Копейка там, осьмушка опять же – мелочь по рукам ходит, рубли собирая!
Мудрому совету Татищева не вняли: решили чеканить серебро крупно – богатым это удобнее (копить легче), а мужику совсем гибель. Так-то вот сидел Василий Никитич и рассуждал о деньгах, когда навестил его обер-гофкомиссар Лейба Либман и удивил вопросом подозрительным:
– На лигатуре монетной большой ли доход себе имеете?
– Проба разная, – уклонился Татищев. – Была всякая, да и весы плохие… Ныне семьдесят седьмую желательно.
– О! – сказал Либман. – Это много… А кто учтет?
– Я и учту, – скромно отвечал Василий Никитич.
– А кто проверит?
– Я и проверю…
– Хм, – призадумался Либман. – Между прочим, – сказал, – одна некая особа, при дворе известная, плутни монетные достаточно знает. Не угодно ли вам с особой этой в кумпанство войти?
– Я сам себе кумпанство! – обозлился Татищев.
– Вот оно и плохо… Без друзей вам будет трудно жить.
Василий Никитич неладное почуял: «Вот и под меня копать стали!» Ключи он взял (а ключи – словно пистолеты, громадные). Этими бы ключами да – по морде, по морде… Однако себя сдержал.
– Извольте, – предложил учтиво, – за мною следовать. Интерес некоей особы, при дворе известной, могу уважить серебром, еще от князя Меншикова оставшимся… Ныне же мы тем серебром горло фальшивым монетчикам заливаем публично!
– И – как? – полюбопытствовал Лейба Либман.
– На себе еще не пробовал, – отвечал Татищев…
Проследовали они через плющильню. Мужики-бойцы давили проволоку. Глухо роптали водяные мельницы, вздымая наверх печатные «бабы». Потом «бабы» враз падали, чеканя деньги, и стены гудели. А мальчишки-ученики, словно котята лапками, быстро выбирали готовую деньгу (еще горячую). «Баба» ухала с высоты – почти по пальцам детей. Но – ловкие! – они убористо справлялись.
– Забирай, – крикнул мастер, и мимо Либмана протянули ящики, полные новых серебристых рублевиков…
Татищев ключами-пистолетами отворил замки на дверях потаенных. Открылась камора – полутемная. Под ногами фактора зачавкало что-то – грязь вроде? Но та грязь и слякоть текла из-под груды серебра, что лежало здесь, химически разлагаясь, словно труп.
– Не такова ли участь всех князей земных? – изрек Татищев, подняв с полу черную несуразную глыбу. – Вот, сударь, и все, что осталось от князя Меншикова, и сим добром могу войти в кумпанство с особой некоей…
Эта «некая особа» с утра была в настроении поссориться, а тут и фактор пришел. Поставил Лейба перед графом тарелку. В тарелке же – нечто страшное, бугреватое, словно гнилое мясо. И течет по столу слизь зловонная.
– Что за мерзость ты притащил? – заорал Бирен на Лейбу.
– Не мерзость, граф. Это серебро в сплаве с мышьяком, из коего всемогущий Меншиков монету свою чеканил…
– Вор! – крикнул Бирен в досаде.
Либман подумал: «Кто вор?.. Я? Татищев? Или сам граф?»
– Меншиков и поплатится за воровство, – ответил Либман, заплетая слова в хитрую канву. – Но господин Татищев сие серебро шлет вам в презент… Каково? Может, сразу в окошко выкинем?
Бирен осатанел от ярости: ему и… эту грязь?
– Татищева давно надо судить, – сказал.
– Он умный господин… За что судить? За ум?
– Был бы человек, – ответил Бирен. – А вина за ним всегда сыщется. И замолчи про ум: что-то больно уж много развелось умников!
Либман взял со стола тарелку с серебром.
– И это… все? – спросил, прищурясь. – Не может быть, чтобы после князя Меншикова, такого богача, ничего не осталось!
Лицо Бирена напряглось, челюсть дрогнула плотоядно:
– Да… Ты прав: куда все делось после Меншикова?
– В самом деле, – просветлел Либман, – разве мы не сможем узнать, где хранятся миллионы Меншикова?
Татищева скоро притянули к суду, и он понял: мстят ему, что не поделился барышами с Биреном… Ушакова он спросил напрямки:
– Невдомек мне, и тужуся – в чем вина моя?
– Ах, Никитич, неужто сам своих вин не ведаешь?..
К монетным делам уже подбирался Миних, жадный до всего на свете, и Василий Никитич махнул рукой, стал умолять Ушакова:
– Да на што я вам? На што инквизиция? Коли неугоден стал, так, не мучая, сразу сошлите в Сибирь к делам горным…
– Сибири тебе не миновать, – утешал его Ушаков. – Но погоди, не суетись. Сначала ты нам душу открой: каковы помыслы твои были в году тридцатом, когда кондиции писались и ты крамольно о женском правлении изрекал?
* * *
Городок сибирский Березов – место гиблое, ссыльное.
Смотрела Наташа в оконце – в кругляк тот самый, что был в стене еще Меншиковым прорублен. Синел вдалеке лесок, пролетали, как в сказке, гуси-лебеди да курились над «чарусами» трясин синие колдовские туманы. Тишина да снег… Горько!
И никто Наташу не любит. Вот свекровь, Прасковья Юрьевна, та – да, жаловала; но она умерла, бедная, как в Березов приехали. А прочие Долгорукие – звери лютые, глаза бы их не видели. Алексей Григорьевич шпыняет, золовки щиплют, князь Иван жену в небрежении держит. «Эх, Иванушко! – думалось. – Душенька твоя слабенькая… Когда ходил по Москве в золоте да парче, когда при царе состоял, так был ты высок и статен! А ныне – грошик цена тебе: пьян с утра до ночи, соплив да слезлив…»
Не раз брала Наташа Ивана за голову, к груди прижимала.
– О чем плачешь, друг мой? – спрашивала. – В Сибири-то, под штыком сидючи, апелляции нету. Ну сослали… Ну обидели. Так не мы едины в печали своей: вся Русь таково жить стала. Погоди, друг любезный, цари тоже не вечны, а мы еще молоды… Гляди на меня – я ничего не боюсь! Все выживем, все переборем!
А выжить было ей трудно: Долгорукие сами дом острожный заняли, а Наташу с Иваном в сарай выкинули. Когда первенец родился, молоко в чашке мерзло. Второй родился (Борисом нарекли), от холода посинел и умер. А старшенький рос – его Михаилом назвали, – вот одна радость Наташе: мальчик!
Она его своей грудью вскормила и так ему пела:
У кота, у кота колыбелька золота, а у Мишеньки мово и получше тово. Потягушечки, потягунушки! Ножки-то – ходунушки, а в роток – говорок, а в головку – разумок…Вечером позвали в дом острожный – ужинать. Пошла. Сидела там под иконами порушенная невеста царская – Катька! Пыжилась и манерничала. Того не хочу, этого не желаю. Около нее восседал на лавке глава семейства, князь Алексей Григорьевич – худ, страшен, бородат. За ними рядком теснились прочие чада: Николка, Алешка, Санька да дщерицы – Анька с Аленкой. Наташа поклонилась, с уголка присела. Ей, как собаке худой, пустили миску с кашей по столу – вжик! Глаза она опустила и стала есть…
Алексей Григорьевич потом сказал – на весь стол:
– А князь Иван-то где?
– Заутре еще уволокся, тятенька, – отвечала Наташа свекру. – И где запропал – того неведомо мне.
– Хороша ты сыну моему супружница, что даже не ведаешь, где муж пропал, – буркнул старый Долгорукий. – Кажись, не на Москве, а во Березове-городке живем: домов тута не шибко выросло, могла бы и вызнать, в коем князь Иван пропадает… Может, покудова ты тут кашу с маслом трескаешь, он с казачкой местной слюбился!
И стали все, на лавках от удовольствия прыгая, изгиляться в смехе гыгыкающем. А Катька (гадюка сладострастная) добавила яду:
– Шереметевы испокон веку таково живали: муж от жены, а жена от мужа. Разве не знаете, тятенька, что и матка еённая спилась на винах сладких да мужа-фельдмаршала до сроку в гроб вогнала?..
Наташа ложку на стол брякнула. И – в двери; вышла на острожный двор, посреди которого копанец был, вроде ставка, где по весне лебеди купались. Стоял в воротах солдат – старенький, ружьецо обнимал, словно палку. Наташа, щеками пылая, прямо на него шла, слезами давясь. А солдат был ветеран – он фельдмаршала Шереметева помнил и чтил. Ну как тут дочку его не выпустить?..
– Иди, иди, касатушка, – сказал ветеран. – Погуляй.
И выпустил из острога в город. А городок Березов дик и печален: осели в сугробах избенки, сверкают льдины в окошках (стекол тут и не знали). Лают собаки, плывет дым, и ничего здесь не купишь, даже калачика. А за пуд сахару кенарского плати девять рублев с полтинкой, – в России на такие деньги мужика с бабой обрести можно… Слезы пряча, шла Наташа через весь город.
Вот и дом, где живет отец Федор Кузнецов – поп березовский. Попадья Наташу в горницу провела, а на лавке спал пьяный поп Федор (человек он был добрый и очень хороший).
– Гляди! – сказала попадья, на мужа указывая. – Во, драгоценный адамант да яхонт мой валяется… Насилу до дому его доперла. А и твой брильянтовый тоже тамотко – у Тишина гуляет!
Через весь Березов, постылый и окаянный, побрела Наташа к подьячему Осипу Тишину. А там – будто кабак скверный: чадно, пьяно, угарно. Сидят рядком-ладком пьяницы березовские: сам Тишин, дьякон Какоулин, обыватель Кашперов да Лихачев Яшка, посередке же – Иван ее, князь Долгорукий, супруг сладостный.
Тишин сразу княгине стаканчик оловянный с винцом стал в губы тыкать: пей да пей, госпожа наша! И плясали вокруг молодухи дьякон с обывателем. И соловьем разливался атаман Яшка Лихачев – вор (из детей боярских), за разбой кровавый в Сибирь сосланный:
Ты изюминка, наша ягодка, Наливной сладкой яблочек, Он по блюдцу катается, Сахаром рассыпается…Наташа рвала Ивана от сопитух, тащила прочь:
– Пойдем, Иванушко, ты уже пьян и весел… Куды больше-то тебе? Нешто меня тебе не жаль? С утра раннего пьешь…
В сенцах кое-как шапку на Ивана нахлобучила. Потащила домой – в острог! Шел Иван, бывший обер-камергер и гвардии полковник, – подло шел, пьяно, на плече жены вихляясь. Тяжело Наташе мужа тащить – через сугробы, через кочки. Запыхалась… А дома – новая пытка: все Долгорукие, забаве рады, в окна распялились, хихи да хахи строят. И Катька, пиявица царская, на братца пьяного так глядит, будто Наташа не мужа, а падаль домой принесла.
– Коли опять наблюет здесь, – сказала, – так мы убирать не станем. Сама и вытрешь за им!
– Да первый раз мне, што ли? – подавленно отвечала Наташа. – Вам еще не привелось убирать за нами… Иди, Иванушко, ты дома уже. Очухайся!
Потом свекор явился, стал сына палкой лупцевать:
– Почто пьешь беспробудно? Почто без ума пьешь?
Иван под палкой брыкался:
– С горя пью, папенька! Потому как был обер-камергер, а ныне кто я есть?.. Ой-ой, больно мне!
– А кто повинен в том? – не унимался старый князь. – Нешто я тебя разуму не учил загодя? Ежели б государь покойный завещаньице наше апробовал, быть бы Катьке царицей, а тебе – наверху!
Наташа кинулась на защиту Ивана, тут и ей палкой досталось.
– Я тебя, змея подколодная, – сказал ей свекор, – до самого донышка вызнал: ты на наше добро, на долгоруковское, позарилась, да – не вышло, не вышло… Не вышло! Хе-хе!
– Эх, вы… Долгорукие, – укорила его Наташа. – Неужто мне ваше злато надобно? Да и где оно? Что-то не видать.
– Было… было, – заплакал старый князь и ушел…
Иван с полу поднялся. На жену глядел глазами мутными.
– А ты не перечь… тятеньке-то моему! – сказал. – Чать, он не глупее тебя будет. Да и постарше нас с тобою.
– Велика ли заслуга – старым быть? – отвечала Наташа. – Да и старость-то худа у него, без решпекту. Привык за легионом лакеев жить. А теперь… Сымай рубаху-то, – велела она Ивану. – Сымай, я чистую дам. Да ложись спать… – И вдруг кинулась в ноги мужу. – Не пей боле, Иванушко! Не пей… Пожалей меня, горькую. Любить-то как стану! Крошками со стола твоего сыта буду, и ничего не надобно мне иного…
Тут Анька с Аленкой вошли, составили к порогу ведра.
– Катька, – сказали, – воду с реки не понесет: она царица у нас! А мы ишо махонькие… Иди ты по воду!
– Ладно. – Наташа с колен поднялась. – Иванушко, помоги мне воду нести. Надорвусь я, чай, от ведер этих…
– Мое ли дело то? – отвечал муж. – Я обер-камергером был, и теи ведра, в насмешку себе, никак не понесу.
– Ну что ж, – сказала Наташа. – Бог с вами со всеми…
У ворот острожных ветеран-солдат пожалел ее:
– Они-то ссыльные, а ты едина тут будто каторжная…
От реки было идти тяжело. Громыхали обледенелые бадьи. После родов недавних болело у Наташи внизу живота: трудные роды были, а в Березове даже повитухи не сыскалось. Стук да стук – ведра деревянные, плесь да плесь – вода окаянная… Тяжело и горько!
Светились на взгорье желтые окна острога. Вспомнила она тут готовальни свои, на Москве оставленные. Еще и шахматы точеные. Игра тонкая! Да задачи алгебраические, которые решить не успела. Все это заволокло в памяти бедой и одиночеством. «Эх, – думалось, – только б Иван не пил… Все легше было б!»
И вдруг чьи-то руки перехватили ведра. Вгляделась Наташа в потемки – это он, воевода Березова, майор Бобров.
– Княгинюшка, – сказал майор, – не печалуйся. Хоша и присягнул стеречь вас, псу церберскому подобну, но к тебе, миленькая, всегда уваженье выражу. Потому как люба ты всем нам…
– Спасибо на добром слове, сударь, – отвечала Наташа воеводе. – Но себя берегите тоже: как бы добро ваше не обернулось бедой для вас… Времена-то каковы, сами знаете!
Не расплескав, донес воевода Бобров ведра. Постоял у притолоки, на спящего Ивана глядя, и произнес слова утешительные:
– Не бойсь! Где люди есть – там человеку жить всегда можно…
* * *
Сибирь, Сибирь! Каторга, рудни, колодки, клейма да плети…
И никуда человеку отсель не деться. Коли не приставы, так леса дремучие, звери лютые стерегут людей горемычных. Всеми заводами, на коих спину ломала каторга, управлял Вильгельм Иванович де Геннин – рудознатец и прибыльщик, человек ученый и честный. Вот от него каторга обид не знала: он ее – уважал!
От Иркутска расходились по тайге лозоходцы: мужики смышленые, без роду, без племени, но дело знающие. Они шли и шли, неся в руке лозу расщепленную. Им ветка лозы знак подавала: где надо – там они колышек вбивали. Знать, тут земля что-то хоронит от людей. Каменья драгоценные, серебро или медянку зеленющую. Тех мужиков-лозоходцев де Геннин крепко от себя жаловал и хотел даже книгу о них писать, дабы Европа знала – сколь мудреные люди есть!
А как писать? На них и глядеть-то страшно, ноздри до кости вынуты, дышат сипло, на лбах «КА» выжжено, на щеках литеры проставлены – «Т» и «Ъ» (все вместе – «КАТЪ» получается); у других на лбу, словно звезда горючая, одна буква светится «Б» (это значит – бунтовщик)… Ну как о таких напишешь? Однако люди они добрые: от подобных-то катов и бунтовщиков Сибирь в истории славно двигается. Де Геннин верил, что случись уехать ему – и каторга его слезами проводит. От такого согласия хорошо и ловко работалось в Сибири!
Сибирский губернатор заседал в Тобольске, а в Иркутске сидел главным Алексей Петрович Жолобов, который говорил так:
– Бабы городами не володеют…
Отчего и был великий испуг в канцелярии: хотели уже «слово и дело» на Жолобова кричать. Шутка ли! Анна Иоанновна тоже баба, а всей Россией владеет. Однако нерчинский начальник, Тимоха Бурцев, все доносы, какие ему на глаза попадались, в куски рвал.
– Курьи-дурьи! – кричал он. – Здеся вам великая Сибирь, а не Питерсбурх поганый! Вы мне тута доношеньями не мусорьте. А то свалю вас всех в шахту и тую шахту водою по маковку затоплю…
Затихло все… Жолобов вскоре Бурцева к себе вызвал:
– Тимофей Матвеич, ешь-пей… Рассказывай!
– Да што сказать-то? – пригорюнился Бурцев. – Сам видишь, каков я есть: школ не кончал, дворянства не нажил, походов громких не ломал, награжден не бывал, в столицах живать не привелось… Весь, как есть, я волк сибирский. Одно дело мое – рудное!
– А людишек шибко ли треплешь? – спросил его Жолобов.
– Насмерть об стенки их расшибаю! У меня на то особый прием имеется – каторжный. Как хлопнешь человека, он постоит малость, в сомнение приходя, а потом снопом… кувырк, и все тут!
– Ты это оставь, – пасмурно ответил Жолобов. – Заводское дело, оно дело жестокое. Но убивству я не потатчик. Не век же мы тут вековать станем… Меня вот, сам ведаешь, от добра бы сюда не прислали. Я шибко противу самодержавия кричал на Москве! Мне сам граф Бирен, пес худой, отомстил. И хоша я вице-губернатор и твой живот, Тимоха, в моих руках, все едино – я тоже есть кат, только литеров на ликах наших еще не выжжено… Ешь-пей!
– А про тебя сказывают, будто очень смел ты, Алексей Петрович, – отвечал Бурцев, угощаясь. – Почто сам на дыбу скачешь? Привяжи язык свой покрепче, чтобы на «слово» по «делу» не напороться.
– А я их всех… – сразу забушевал Жолобов. – Я Бирена поганого еще в Митаве колодкой сапожной бил и, придет время, всех злодеев раком поставлю… На Москве! На месте Лобном!
Вернулся Бурцев из гостей к себе в Нерчинск – на заводы. А в канцелярии ему нового ката предъявили – Егорку Столетова, и стал его Бурцев расспрашивать – где был, что делал, кого знаешь? Егорка хвастал, что был в адъютантах у фельдмаршала Долгорукого, воедино с ним под указ попал, музыку и стихи слагать может…
– Это на што же тебе? – задумался Бурцев, волк сибирский.
– А так… – отвечал Егорка. – Для изящества душевного.
– Дурак ты, как я погляжу… Дран был?
– Не! – соврал Егорка для амбиции.
– Ну, мы эти резоны сейчас проверим… Ложись!
На лавке несчастного пиита разложили и долго сукном со спины его натирали. Пока не проступили под шкурой розовые полосы.
– Зачем врешь? – сказал Бурцев мирно. – Мы ведь здесь не дураками живем… Ты дран уже был, и я тебя драть тоже имею право!
Но драть не пришлось. Прикатил однажды в Нерчинск Жолобов по делам службы, целовал Егорку при всех, без боязни. Потом 20 рублей ему дал; с плеча своего атласный камзол скинул и на Егорку водрузил. Шапками губернатор с катом обменялся, и на всю улицу кричал Жолобов слова подозрительные:
– Чувствуйте, люди! Вот он – песни умилительные слагает, чего не всякий может. И вы его не обижайте, ибо пииты и художники по сусекам не валяются… Это сволочь высокая их не ценит, им бы только оды прихлебательные слушать! А каторга скоро запоет песни нежные, сим Егоркою сочиненные…
И тогда Егорка от такой заручки осмелел: колодки не нашивал, в шахты не лазал, дарованные деньги стал пропивать. И всюду шапкою губернатора хвастал.
– Это што! – говорил, гордясь. – Мы с его превосходительством в приятелях ходим, не раз у цесаревны Елисавет Петровны винцо попивали… Бывало, и высоких особ мы били! И только время ждем, когда еще бить станем… Вы, люди, это знайте!
И, по кабакам гуляя, стал Егорка Столетов знакомцами обзаводиться: крючкодеи ярославские, взяткобравцы питерские, ябедники смоленские – вся шмоль-голь приказная, в Сибирь за грехи сосланная, окружала «романсьеро» московского, который поил шарамыжников всех – направо и налево.
– Рази вы люди? – кричал им Столетов. – Пузанчики да лобанчики, што вы знать можете? А я – да, я знаю: нотной грамоте учен немало, от моих стихов горячительных любая госпожа моей стать желает. Теи стихи мои сам кавалер Виллим Монс на императрице Екатерине проверял, и успех любовный имел…[16]
Но однажды грохнула с разлету дверь кабака, в клубах пара с мороза ввалились солдаты. А меж ними, весь в собачьих мехах, человек каторжный. Солдаты размотали его, словно куклу, дали ему водки выпить для обогрева. На дворе фыркали застуженные кони…
Проезжий долго на Егорку глядел, калачик жуя:
– Али не признал ты меня, романсьеро?
– Ей-ей, не знаю, – перекрестился Столетов.
– А я есть Генрих Фик, камералист в Европах известный. Проекты писал, кондиции блюл… А ныне – несчастненький.
– Куды же едешь теперича? – спросили его.
– Не еду, а меня возят. И нигде мне места не отведено, чтобы осесть. Вот сейчас лягу на лавку, вздремну малость, и меня снова повезут. И будут так возить по Сибири, пока не подохну!
Калачик упал, до рта не донесенный: Генрих Фик уже спал. Затихли люди кабацкие – люди бездомные. Они чужое горе всегда уважали. Потом солдаты лошадей в кибитке переменили. Взяли Фика за локотки, поволокли на мороз. Он так и не проснулся…
Все царствование Анны Иоанновны никто и никогда не видел больше Генриха Фика: дважды на одном месте спать – и то не давали!
Глава седьмая
А диспозиция въезда Анны Иоанновны в Петербург была такая.
Первым ехал почт-директор с почтмейстерами.
Верховые почтальоны трубили в рога – протяжно.
За ними – капральство драгунское на лошадях.
Потом иноземные купцы.
А литаврщики, зажмурив глаза, ударяли в тулумбасы.
Цугом катились кареты господ кабинет-министров.
И – генералитет.
И – господа Сенат.
За важными особами ехали конюхи императрицы.
Фурьеры и лакеи – верхами.
Пажи с гофмейстером – чинно.
Наконец показалась карета графа Бирена – пустая.
Вот и матка Анна катит на восьмерике.
А сбоку от нее скачут на жеребцах Бирен и Левенвольде (два любовника царицы, въезжающей в свою новую резиденцию)…
Сию «диспозицию» составил Миних, и был у него спор с Федором Соймоновым: куда моряка ставить? Ученый навигатор в «диспозицию» никак не лез, от почета отговаривался. Порешили сообща так: состоять ему у «надзирания за питиями». Иначе говоря, дежурил Федор Иванович возле бочек с водкой, дабы драки не было. Трезвых – силою внушения! – понуждал к питию. А тем, которые лыка не вяжут, тем пить возбранял. Все творилось указно («под опасением жесточайшего истязания!»). А вечером был жалован допущением к руке императрицы. Анна Иоанновна моряком даже залюбовалась. Соймонов был детинушка добрый. Шея у него – бурая от ветров, кулаки – в тыкву, взор острый – из-под бровей косматых.
– Ну и здоров ты, флотской! – восхитилась Анна Иоанновна. – На-кось, – протянула Соймонову бокал свой, – согреши из ручек моих царских…
– Матушка-осударыня, – отвечал ей Соймонов, – хотя я, надзирая сей день за питиями, на морозе стоя, невольно с ведро белого принял уже, но из твоих ручек… изволь!
И, достав чистый плат, слюнявый край бокала – после бабы пьяной – он тщательно вытер. Тут императрица раздулась от гнева.
– А-а-а! – заорала. – Так ты мною брезгуешь! Это мною-то, самой императрицей, брезгуешь… Я тебе не лягушка худая!
И уже руку подняла, чтобы драться. Но тут (спасибо судьбе) подвернулся изящный Ренгольд Левенвольде и сказал:
– Ваше величество! В европских странах культурным обычаем принято посуду чужую платочком вытирать. Даже после Людовикуса вельможи версальские всегда бокалы галантно оботрут…
Анна Иоанновна пьяно пошатнулась, Соймонова за шею обхватила, обожгла его дыханием винным.
– Ой, держи меня, – говорила с хохотом. – Держи, морячок, крепше… Вся я такая сегодня нежная… нежная… Ой, хосподи, да што это меня ноги сей день не держат?..
С одной стороны – Рейнгольд, с другой – Соймонов, они дотянули грузную царицу до покоев внутренних. На постель она не пожелала, на полу шкуры лежали медвежьи – так и рухнула… Федор Иванович со лба пот смахнул и зарекся более у двора бывать. И к престолу более не лез. Его дорога иная, строго научная, деловая. Ныне вот, прокурором Адмиралтейств-коллегии став, он президенту, адмиралу Головину, сразу так и сказал:
– Изящнейший граф! Только не воровать…
И граф Головин его сразу невзлюбил. Ну и не люби.
По утрам Соймонова часто навещал Иван Кирилов – обер-секретарь сенатский. Как и в Москве, раскладывали они карты.
– Академик Жозеф Делиль для нужд Камчатской экспедиции карту составил. И в Сенате уже толкуют, чтобы Витусу Берингу к Америке идти, землю Хуаны да Гама искать… А где есть земля та? Не ведаю.
Кирилов грудью бился об стол, жестоко кашляя.
– Может, такой и совсем нету? – сказал, отдышавшись. – Нет ли подвоха тут? Дабы навигаторов наших от земель Камчатских отдалить, на бесплодные поиски их посылая? Не к тому ли Делиль и братца своего из Парижа сюды вызвал да в отряд к Берингу его пихает?
– Сколько слов я сказал! – обозлился Соймонов. – А все без толку… Подозрение имею. Будто Делиль тот, муж в науках почтенный, Генеральную карту России сознательно искажает. Мало того, копии с наших ландкарт снимает и подлым способом их в Париж переводит…
Неву однажды переезжая, Федор Иванович в Академию завернул.
– Имею, – огорошил Шумахера, – срочную надобность в сочинениях гишпанцев – де Фонте и дон Хуана Гамы…
Шумахер рот открыл. Думал. Потом спросил:
– А какого цвета книги сии?.. Была как будто одна. Вроде пергамин травчато-зеленый, а спрыск обреза на золоте…
– Тьфу! – сказал Соймонов и ушел, ничего не добившись.
Лошади завернули его на канал – прямо к дому Еропкина.
– Петра Михайлыч, – сказал он архитектору, – ты книгочей славный. Нет ли книжиц у тебя о землях басенных, что нижае Камчатки лежат? Будто великий хвастун де Фонте там города великие видел. Мне сверить надобно: чтобы Беринг по морям не напрасно плавал, химеры сказочные отыскивая! А прямо шел – к цели…
День окончен. От трудов праведных можно домой отъехать в саночках. На Васильевском острове лошади ноги ломали: весь остров канавами перекопан – ровными, как линии. То остатки творения гениального Леблона, который мечтал здесь русскую Венецию создать. Но Венеции у него не получилось: горячий Леблон со всеми разлаялся и уехал. Меншиков же деньги (отпущенные на Венецию) разворовал, а до дому теперь «с великим потужением» добираются жители, через канавы те ползая на карачках…
Шубу скинув, шаухтбенахт поднялся в дом. Сенные девки воды вынесли, полотенца подали. Фыркая оглушительно, мылся Соймонов.
Вот и к столу пора. В светлице стенки холстиной обиты, печка в зеленых изразцах, три картинки бумажные в рамочках самодельных. В углу – шкаф, а в нем за стеклом чашечки стоят порцеленовые. По стенам – коробья с книгами латинскими и немецкими. На подставке особой красуется модель корабля «Ингерманланд», которую Соймонов саморучно сделал в память себе: на этом корабле, в чине мичмана, он плавал под синим флагом самого Петра.
– Дарьюшка! Привечай мужа да к столу сопроводи…
Первым делом – чарку водки, перцовой. Эк! Даже дух захватило. А потом – щи. Когда жена рядом, то простые щи идут за милую душу.
– Ну, мать, – сказал Соймонов жене, наевшись. – Ты баба у меня золотая, и пропасть тебе я не дам. А потому наказываю супружески, наистрожайше: ко двору царицы не суйся! Меня тут Остерман стал заискивать, а знать, и тебя опохвалить захотят. Ежели на ласку придворную поддашься, так я возьму тебя за волосы и буду по комнатам возить, покеда не сомлеешь…
– Как вам угодно, осударь мой любезной! – отвечала жена.
* * *
– Ай вы, кони же мои, вы, лошадки мои удалые! Хороши ж и вы, кобылы мои – да с жеребятками малыми…
Вот она, стезя-то, – открылась: летит карьер Волынского на гнедых да каурых, все шибче. Что там еще мешает? Доносы? Пущай дураки их боятся. А ему не привыкать сухим из воды выходить. Нагрянул в Юстиц-коллегию под воскресный день, когда ни президента, ни вице, ни прокурора не было: в баню ушли париться да квасы пить. Только стоит за столом асессор Самойлов – строка приказная (под «зерцалом» урожден, гербовой бумагой пеленут, с конца пера вскормлен). Волынский на руку ему – р-раз! Да столь тяжело, что рука асессора провисла от золота. Взяткобравство? И затрясся асессор: мол, не погуби, не вводи в соблазн. Семья, три дочки… жена пузом опять хворает.
– Ври больше! – сказал ему Волынский. – Я в дверях постою, а ты дело спроворь… Эвон и печка топится!
И все доносы, какие были на него скоплены (по делам Астрахани, Казани и прочим хворобам), тут же в печке спалили. Артемий Петрович сам кочергой золу разгреб, смеялся.
– Дурень! – сказал Самойлову. – Знаю я вашу подлую породу… У всех у вас по три дочки да жены с пузом…
И – вышел. Было ему хорошо. Даже дышать стало легче. Главный враг его, Ягужинский Пашка, ныне в Берлине – заброшен. Остерман, супостат вестфальский, за двором в Питер поволочился. А вот он, губернатор и дипломат бывый, на Москве при лошадках остался.
Большой пост! Что есть лошадь? Лошадь есть всё…
Не будь лошади – не вспашет мужик пашенки (вот и голодай); не будь коня – нечем снарядить кавалерию добрую (и поражен в битве будешь). А что охота? А что почта? А что дороги? В гости, ведь если подумать здраво, и то без лошади не сунешься.
Вот и выходит, что лошадь – мощь и краса государства!
Зимою Волынский открыл на Москве особую Комиссию для рассмотрения порядка в делах коннозаводских. Левенвольде – лодырь. Ему бы по бабам ходить да в карты понтировать. Такие люди всегда поздно встают. А вот Волынский в пять часов утра (еще темно было) открыл ту Комиссию торжественно. И кого выбрали в президенты? Конечно, его и выбрали президентом Комиссии.
Да, хорошо начинал Волынский после инквизиции и розысков свою карьеру заново. Круто брал судьбу за рога и валил ее, подминал под себя, податливую. Загордился. Вознес подбородок над париками сановными. Ходил – руки в боки да погогатывал:
– Ай да и кони же вы мои! Кобылки вы мои – с жеребятками! До чего же любо мне – вскачь нестись… галопом-то!
Только, глядь, сидят в уголку канцелярии двое. Оба серые, как мыши амбарные. Один конверты горазд ловко клеить. Другой, уже в летах пожилых, клей варит. И по-русски – ни бельмеса.
– Кто такие? – подступился к ним Волынский.
– Я фон Кишкель-старший.
– Я фон Кишкель-младший.
– А ну… брысь отсюда! Чтобы и духу не было…
Обоих так и высвистнул за порог. Побежали фон Кишкели к Левенвольде – жаловаться. Три часа в передней ждали, пока граф проснется. Проснулся он и вышел к ним – в самом дурном виде (после проигрыша). Послушал брезгливо и велел убираться:
– Мое дело – лошади, а ваши кляузы – не по мне…
Вернулись фон Кишкели в канцелярию дел конюшенных, а там, на их месте, уже сидят двое русских: Богданов и Десятов, бумаги пишут дельные… Волынский сжалился и сказал, морщась:
– Ладно! Столов боле нет, так вы к подоконникам приткнитесь…
Затаив свое рыцарское зло, присели фон Кишкели к подоконникам и стали (тихо-тихо, никому не мешая) клеить конверты. За стеной раздавался легкий шаг – шаг президента. Все выше и выше всходила, осиянная фавором, звезда Артемия Петровича Волынского…
По вечерам фон Кишкели слезливо вспоминали Митаву.
* * *
Лепные гении ревели под потолком в трубы. У них были толстые ноги и непомерно раздутые щеки. Под теми гениями сидел сам Данила Шумахер и записывал академиков в журнал: когда и куда отлучились? Баба-повариха принесла секретарю обед, приготовленный знаменитым кухмистером Фельтеном (на дочери которого и был женат Данила Шумахер). Секретарь Академии «де-сиянс» поднял крышку с котла, понюхал пары благовонные, потом долго гладил бабу-повариху по обжорным мясам. «Галант, – сказал он. – Это деликатес…»
Тайком от него (в журнал не записываясь), пока Шумахер ел и бабу гладил, утекнули из Академии двое – мужи ученые. Это были два брата – Жозеф Делиль и Луи Делиль де ла Кройер (астрономы). Трактирный дом в два этажа был строен на юру. Его продувало откуда хочешь. Трещали паркеты. Выли печи голландские. Изразцы на них – в корабликах. Входя в трактир, Жозеф Делиль сказал брату:
– Петр Великий потому и был велик, что велел содержать при Академии наук кухмистера. Дабы мы, ученые мужи, по трактирам не шлялись. Но повара того подлый Шумахер подарил Кейзерлингу, и теперь самой природой извечного голода осуждены мы транжирить себя по харчевням… Виват!
– Виват, виват, – отвечали из-за столов, из-за печек.
Сели два брата за стол и попросили вина:
– Фронтиниаку! (На что получили ответ, что фронтиниаку нету). Как нету? – возмутился Делиль-старший, академик и астроном. – А вон, я вижу отсюда, сидят два шалопая и вовсю тянут фронтиниак!
И тогда по остерии пронеслось:
– Тссссс…
А два шалопая, задетые за живое, встали и представились:
– Штрубе де Пирмон, секретарь его высокородного сиятельства господина обер-камергера графа Бирена!
– А я – Пьер Леруа, наставник нравственности и наук изящных при детях его высокого сиятельства графа Бирена!
Тогда Жозеф Делиль тоже встал с ответной речью:
– Достопочтеннейшие господа! Штрубе де Пирмон и вы, сударь Леруа! Вижу отсюда, из этой петербургской остерии, как звезды судеб ваших рушатся торжественными фейерверками… Куда бы, вы думали? Конечно же, в кресла почетных академиков. Виват, будущие коллеги!
И стали (уже вчетвером) пить фронтиниак. Но потом обернулись, распаленные дружбой нежной, и потребовали согласно:
– Водкус!
А за печкой стоял, руки грея, некто неизвестный. Было ему лет под сорок. Взгляд – лучист. Он весь этот разговор слышал и потому фронтиниаку просить не стал, а сразу потребовал для себя:
– Водкус! – Потому как водку давали здесь беспрепятственно.
Он слушал, о чем говорят ученые люди.
– Ныне, – рассказывал Леруа, – я занят отысканием могилы Адама, прародителя нашего…
– Извольте! – отвечал Луи Делиль де ла Кройер. – Некрополистика древняя мне знакома… И где же, вы думаете, погребен Адам?
– Конечно же… там! На острове Цейлоне! И граф Бирен, при всей его любви к просвещению, вполне со мною согласен…
Раздался грохот. Это, выпив водкус, свалился из-за печки таинственный незнакомец. Лежал, и торчала из-под него острая шпажонка.
– Ого! – сказал Жозеф Делиль. – Если этот человек был сражен от первой же чарки, то из этого следует тонкое философское заключение, что дворянин сей первый день находится в России…
Незнакомец открыл глаза – хитрые-прехитрые.
– Вы правы, сударь, – ответил он, вставая. – Я только что прибыл в Россию и ночлегом не обеспечен.
– Назовите же себя, – попросили его.
И тогда, бодая за собой воздух шпагой, он расшаркался:
– Меня зовут граф Франциск Локателли!
– О-о-о, так что же вы, граф, сидите в одиночестве, а не идете к нам? Просим, граф… Фронтиниак? Мушкатель? Или… водкус?
И повели потом графа Франциска Локателли спать прямо в Академию наук. Проспавшись, таинственный граф сознался:
– Имею надобность ехать на Камчатку и дальше. Нельзя ли мне быть причисленным к экспедиции сэра Витуса Беринга?
– Тсссс… – зашептали ему братья Делили. – О таких вещах в Петербурге громко не говорят… Вы что, граф, – шпион?
– Нет, нет, – возразил Локателли. – Зачем так плохо думать обо мне? Меня на Камчатке интересуют лишь русские меха…
Глава восьмая
Санкт-Петерсбурх… Дворцы, не достроенные на зыбких трясинах, разваливались. Карета едет – в буфетах посуда звякает. Мостовые осели, и по весне вода подмывала низкие набережные. Нищий люд планы умные презирал и возводил лачуги где мог («на просторе»). Разбойники жили в лесах за Фонтанкой, и Анна Иоанновна по ночам просыпалась от свиста – совсем рядом свистели разбойники! Жить было негде: граф Растрелли сомкнул воедино дома Апраксиных, Ягужинского, Румянцева, Чернышева – вот и получился Зимний дворец для императрицы… Там и жила, непристроенно!
Зато спешно заканчивали Конюшенный двор – большой манеж для лошадиных забав графа Бирена. А на просеках перспектив еще стояли со времен Петра I виселицы; на ветру болтались истлевшие петли, – и так на каждой версте; здесь вешали тех, кто осмелится дерево срубить. Пусто, неуютно и одичало было в новой столице, которой управлял всесильный Миних.
Бурхард Христофор Миних был человеком правил твердых. Лбом стенки прошибал! Он еще молод был, когда дрались в Европе два врага – самых яростных: Россия и Швеция. И думал Миних: кто победит? где прибыльней? Но тут Карла XII, короля шведского, застрелили, и это решило судьбу – он сложил свою шпагу к ногам Петра I. Один лишь бес мучил Миниха постоянно – быть самым главным. Чтобы он говорил. Чтобы все другие ему внимали. И чтобы никакие Бирены, никакие Остерманы под ногами его не путались. Но Остерман бельмом сидел в глазу Бирена, сам Остерман завидовал Миниху, и… Три собаки одну кость миром никогда не поделят: жди свары великой. Сцепятся – где голова, где хвост. Только будь умным – не лезь разнимать…
В глухую зимнюю ночь выло в печных трубах. Душно в опочивальне супругов Минихов. Колышется огонек свечи. Бродят вдоль потолков, на которых небосвод расписан, стоглавые тени. Жутко!.. Рядом с женою (сухой, как палка) лежит великий прожектер Европы – фортификатор, боец, драчун, горлопан, бахвал и зверь ненасытный, Бурхард Христофор Миних.
– Что мне надо? – спросил он в пугающую темноту.
– Что? – спросила жена, не просыпаясь.
– Много, – ответил ей Миних.
– Хватит, – сказала жена, так и не проснувшись.
– Дура! – И отвернулся, обиженный женской глупостью…
Итак, думай, Миних… Думай, думай, думай, Миних!
Ладожский канал выкопал. Полки ландмилиции создал. Петербург построю… заново! Что еще? Этого мало.
– Не спи, – разбудил жену, и она открыла глаза.
– Отвернись от меня, сударь, – сказала недовольно. – Какую гадкую мастику вы вчера пить изволили?
– Граф Бирен, – четко произнес Миних, – женат на курляндской дворянке рыцарского дома Тротта фон Трейден… Так?
– О, проклятая горбунья! – пылко прошептала жена. – Вы бы видели, сударь, какие у нее дивные бриллианты…
– Но, – подхватил Миних, – у графини-горбуньи Бирен есть сестра Фекла, которая ныне фрейлиной при дворе… Так?
– Так, – согласилась жена. – Фекла, как и ее сестра, графиня Бирен, говорят, неспособна к супружеской жизни…
– Это и ни к чему! – сказал Миних, вскакивая.
– Куда вы спешите? – зевнула жена.
– Спи! – ответил он и, накинув халат, выскочил…
Со свечою в руках фельдмаршал тихо проник в спальню своего сына. Мягко светилось при лунном свете нежное французское белье. Темнел лаком в углу клавесин. На столе лежали не дописанные с вечера стихи – о пастушках, о свирели, о розах, о смерти…
– Встать! – рявкнул Миних по-солдатски, и сын оторопело вскочил. – Слушай внимательно, – сказал ему отец. – Завтра ты заявишь любовную декларацию перед фрейлиной Феклой Тротта фон Трейден!
– Зачем? – спросил сын, испуганно прервав зевок.
– А затем, глупец, что этим браком я породнюсь с графом Биреном, и он станет моим надежным конфидентом. В комплоте общем мы сковырнем в канаву Остермана презренного, и тогда… О, тогда!
– Нет, нет, нет! – закричал сын, падая отцу в ноги. – Она уродлива… Я люблю другую! Ее же – нет! Пощадите меня, мой падре…
– Что значит – не люблю? – удивился Миних, подымая свечу повыше. – Какое ты имеешь право любить или не любить? Живу ведь я с твоей матерью, совсем не любя ее.
– Умоляю вас, – заплакал сын. – Трейден не нужна мне.
– Но зато мне нужна вся Россия!
– Пожалуйста, мой падре: добывайте ее себе сами…
– Завтра! – крикнул Миних и дунул на свечу. – Завтра, – повторил он в темноте, – мы поплывем дьявольскими каналами, и ты будешь моим сатанинским эмиссаром… Спокойной ночи, мой любимый, мой единственный, мой прекрасный, мой гениальный сын!
* * *
Бирен смотрел на свояченицу Феклу, смущенную и жалкую, и заливался веселым смехом.
– И тебе молодой Миних нравится? – спросил он.
– Юноша очень красив и нежен, – потупилась Фекла.
– Таких много!
– Но не каждый пишет стихи и музицирует.
– И что ты отвечала на его амурную декларацию?
– Я жду вашего решения, граф, – отвечала Фекла.
Бирен погрыз ноготь, поглядел хмуро:
– А знаешь… я ведь разгадал замысел моего хищного друга! Миних желает опутать меня лентами Гименея. На самом же деле он ворвется в мою судьбу не божком любви, а – бомбой… Ступай! – велел он Фекле. – И скажи молодому Миниху… Впрочем, нет – влюбленным женщинам не доверяю, я сам отвечу за тебя!
Фекла возрыдала.
Бирен вышел в соседние комнаты – к Миниху.
– Вы так любезны, мой юный друг, – начал он. – Семейство дома Тротта фон Трейден никогда не забудет, что славный сын великого Миниха оказал честь фамилии, сделав предложение. Но, – вздохнул Бирен, – вы, юноша, должны понять и мою свояченицу; ее бедное сердце, вспыхнувшее от ваших слов любви, обратилось к разуму, а разум не желает сделать вас несчастным. Фекла Тротта фон Трейден слаба здоровьем и не способна составить вам счастья. Будьте же благоразумны и вы, мой милый друг…
Сын Миниха вернулся домой, отцепил шпагу, отбросил перчатки.
– Падре! – закричал он, счастливый. – Мне отказали!
Миних-отец долго молчал. Думай, Миних, думай, думай…
– Мне нужна… война! – сказал он сыну. – Да. Мне нужна победа. Слава знамен. Мои боевые штандарты в пороховом дыму… Русский солдат смел и доблестен, он сделает меня героем. Россия – великая страна: здесь можно угробить миллион солдат, но зато осиять свое чело славой непреходящей…
* * *
Между тем граф Бирен еще долго издевался над Минихом.
– Какой остолоп! – говорил он Либману. – Однако я сразу разгадал его коварство… Вот бы еще предугадать: что думает плюгавый Остерман? Как ты думаешь, Лейба, кого можно противопоставить Остерману, чтобы свалить его с высот служебных?
– Хм… немец не свалит, – ответил Либман.
– Вот как?
– Конечно, граф. Тут нужен русский с чугунным лбом.
– Но я такого не знаю.
– Волынский, – тихо подсказал Либман. – Вот человек, который сам по себе уже давно дьявол, и Остерман его боится.
– Боится? Поклянись, что это так.
– Клянусь! Остерман больше всех боится Волынского…
Бирен напряженно мыслил:
– Опасный человек этот Волынский… И твой проект, Лейба, пока прибережем. Знаешь, что я заметил? Имея дело с Волынским, всегда надо держать за пазухой камень. Чтобы выбить ему все зубы сразу, когда он начнет кусаться… Ты прав. Он – человек опасный!
Ему доложили, что из Кабарды прибыл драгоценный товар. Накинув шубу, Бирен спустился во двор. Стояла там крытая кожей повозка на полозьях. Кожу вспороли ножом, и Бирен заглянул в прорезь. Внутри повозки, тесно прижавшись одна к другой, сидели пленные черкешенки. Тонкобровые, юные, голодные и задрогшие. Из темноты возка гневно сверкали их прекрасные очи.
– Они очень пикантны, – сказал Бирен. – Но я не охотник до восточных тонкостей. Кусок свинины я всегда предпочитал итальянским маслинам. Везите товар прямо к Рейнгольду Левенвольде…
По морозцу, жизни своей радуясь, покатил Бирен в манеж, чтобы проследить за его постройкой. Манеж создавали – как дворец: каждой лошади по отдельной комнате, чтобы цветы там редкостные, чтобы печи духовые под полом… Именно отсюда, из конюшен, Бирен мечтал управлять Россией, в конюшнях он принимал просителей и послов иноземных. Секретарь Штрубе де Пирмон, сидя в карете напротив Бирена, читал ему список лиц, кои желают на сей день представиться его высокой особе.
– …а с ними и некий Меншиков, – закончил он чтение.
– Стой! – гаркнул Бирен и сразу вспотел под шубами.
Мело за окном кареты поземкой. С берегов пуржило. Звенели бабьи ведра от прорубей, над которыми клубился туманец. Бирен выглянул в окошко кареты.
– Не пойму… где мы сейчас? – спросил.
– Мойка, ваше сиятельство, – отвечал Пирмон. – Сейчас приедем… Что испугало ваше благородство?
Бирен устало отвалился на подушки, выпер кадык.
– Поехали дальше, – сказал. – Всех вычеркни. Оставь одного лишь Меншикова… Только его, одного его, приму до своей персоны!
В приемной манежа, наспех просушенной, стояли деревянные «болваны», придворные куаферы распяливали на болванах графские парики, завивали на них букли и осыпали пудрой – фиолетовой, сиреневой и розовой (какую граф пожелает!). Но сегодня Бирен, даже не сменив парика, ногой распахнул перед собой двери, ведущие в приемные апартаменты. Всех уже выгнали – здесь его ждал один Меншиков, жалкий и пугливый, с бледными вялыми губами.
– А-а, вот и вы… мой друг… – начал Бирен любезно.
Сын Голиафа поцеловал ему руку.
– Ну стоит ли? – отмахнулся Бирен и сам чмокнул юного Меншикова в узенький лобик. – Будьте, – сказал, – просты со мной. И не чинитесь… Слава вашего покойного отца столь велика! Страдания его в Березове столь незаслуженны. А десять миллионов, которые он сложил в банки Лондона и Амстердама… почему бы вам, мой юный друг, не перевести в Россию?
Меншиков пошатнулся и грохнулся навзничь… Обморок!
Бирен сел в кресло. Десять миллионов генералиссимуса прилипали к пальцам. Меншиков очнулся и встал, весь содрогаясь узкими плечами.
– Каков был ваш полный титул? – вежливо спросил его Бирен.
В ответ зашевелились бледные губы:
– Я был князь двух империй, Российской и Римской, я был обер-камергер, генерал-лейтенант и ордена Андреевского кавалер и прочих – тоже.
– Поздравляю вас, – сказал Бирен. – Поздравляю с чином… прапорщика! Начинать жизнь заново никогда не поздно. А ваша сестра, возвращенная с вами из ссылки, сейчас в Москве? Сколько же ей лет?.. Скажите! – удивился граф. – Она совсем невеста! Не желает ли она составить счастье достойному избраннику?
– Кому? – шепотом спросил Меншиков.
– Ну, надо подумать… Если я возьмусь за это, то жених будет великолепен по всем статьям! Вы верите?
* * *
– Марфутченок! – позвал Остерман. – Любишь ли ты своего старого Ягана?
– Еще бы не любить, – отвечала ему Марфа Ивановна.
– Всевышний, – обратился к богу Остерман, – ты наградил меня единственной любовью… Розенберг! Эйхлер! Где вы, бездельники?
Вошел Иоганн Эйхлер, бывший флейтист, а ныне секретарь при Кабинете ея величества. Растолстел он, весь в бархате, ему служба при Остермане впрок пошла: в нем даже князья заискивать стали.
– Розенберга нет, – сказал, – а я здесь, ваше сиятельство.
– Мой верный секретарь, – велел ему Остерман, – сегодня я жду разбойников-гостей. Проследите за кухней…
– Граф! – обозлился толстый Эйхлер. – Я не дворецкий в вашем доме, а секретарь Кабинета ея величества, и мне не пристало посуду вашу пересчитывать и в погреб лазать.
– Ах, боже мой! – засмеялся Остерман. – До чего же вы, милый Эйхлер, стали сердитым мужчиной. Вам бы пойти в солдаты…
– Поверьте, граф, – дерзил ответно Эйхлер. – Быть солдатом при Минихе выгоднее, нежели быть секретарем при вашей особе. По крайней мере, фельдмаршал не послал бы меня на кухню!
С густого парика Остермана скатилось насекомое, упав прямо на список приглашенных гостей, и вице-канцлер раздавил его – как раз под именем Густава Левенвольде, которого он вызвал из Москвы для конференции секретной…
Остерман прошел на кухню. По дороге прикидывал, как бы неубыточно вечер провести. Левенвольде, барон Гольц да граф Вратислав – послы иноземные, на них изведешься! Одних только груш к столу четыре штуки подать надобно. Ну, положим, свою грушу он есть не станет. Побережет. Однако три груши слопают разбойники – не постыдятся!
На кухне лакей песком чистил посуду.
– Что ты делаешь, мерзавец? – закричал Остерман, хватаясь за кочергу. – Кто тебя научил, подлец, этому? Отвечай…
– Господин дворецкий изволили приказать!
– Ах, так… Сюда дворецкого! – Явился тот. – Ты знаешь, что серебро от чистки худеет? Раз почистишь, два почистишь, и так сотрешь… Разоритель! Двадцать фухтелей этой сволочи…
Чем больше богател Остерман, тем страшнее становилась его неистребимая алчность. Платье не менял годами: засалено и рвано, так и ходил по дому. От грязи вице-канцлер дурно пахнул. Даже Анна Иоанновна, много ему прощавшая, как-то не выдержала: «Ты бы, Андрей Иванович, – сказала, – хоть помылся…» Дворню свою Остерман совсем не кормил. «Собака, – говорил он, – сама должна, на господина не надеясь, пропитание себе изыскивать!» И потому слуги Остермана ходили по улицам, ежедневно побираясь под окнами. Об этом в Петербурге все давно уже знали и привыкли подавать милостыньку челяди Остермана…
Прибежал дворецкий, уже настеганный, задрал рубаху.
– Ваше сиятельство, – крикнул, – считать будете?
Остерман глянул на спину, дотошно и педантично сосчитал рубцы от битья, потом выдернул из-под халата ключ от погребов:
– Пошли со мной, будем провизию готовить…
Первым явился Карл Густав Левенвольде, он – один! – съел две груши сразу. И взял со стола третью. «Убыток… живу в убыток себе!» – опечалился Остерман и в полном отчаянии придвинул гостю вазу, где лежала еще одна груша.
– Последняя, – сказал, едва не плача. – Хотел жене своей оставить. Но… ешьте! Мне для вас ничего не жалко!
Левенвольде больше ни к чему не притронулся. «Вот так и надо с ними… с обжорами!» – справедливо решил Остерман.
А разговор между ними был такой.
– Скоро, – сказал Остерман, – умрет курфюрст Саксонский Август Второй (он же король Польши), я это знаю точно.
– Но, – вставил Левенвольде, – целый легион химиков трудится в Дрездене, чтобы извлечь из природы эликсир бессмертия.
– Это чушь! – ответил Остерман. – Слушайте далее… Пока не пришли гости, послы Гольц и Вратислав, мы будем говорить как друзья: что делать нам с престолами – польским и… курляндским! Герцог Курляндский Фердинанд тоже готов отправиться в таинственную вечность… Вы меня слушаете, Густав?
– Да, граф. Я обожаю вести разговоры о престолах!
– Итак, на престол Польши надобно посадить немца. Мы его утвердим в Варшаве, а за это, в благодарность России, он не должен вмешиваться в дела лифляндские и курляндские.
– Кто же этот немец? – спросил Левенвольде.
– Вы его знаете, – ответил Остерман. – Это португальский инфант дон Мануэль, который приезжал сюда свататься к нашей императрице, и за него горою будет стоять Вена!
– За кого же будет горой стоять Берлин?
– Естественно, за Гогенцоллерна из дома Прусского, а именно – за сына короля – принца Августа Вильгельма.
Левенвольде вскинул серые спокойные глаза:
– И я вам нужен, чтобы соединить усилия трех черных орлов – трех династий: Романовых, Габсбургов, Гогенцоллернов?
– Вы очень точно выразились, Густав: это будет именно союз трех черных орлов против Польши… Но это еще не все!
– Понимаю, – кивнул Левенвольде. – Мы не обсудили еще один престол. А именно – русский! Маленькая принцесса Мекленбург-Шверинская, дочь Дикой герцогини, растет быстро. Она должна родить наследника престолу русскому, и… кто же именно должен стать ее мужем и отцом русского императора?
– Верно. Вот вы, проказник, и поезжайте по дворам Берлина и Вены и, улаживая вопрос польский, заодно присмотрите жениха, достойного нашей маленькой принцессы…
Гости в доме Остермана долго не засиживались. И были вежливы: на еду не кидались. Так что после их ухода Андрей Иванович бутылки с вином недопитым снова запечатал, велел все со стола убрать и отнести в погреб. Погреб замкнули, и ключ Остерман себе на грудь повесил. Потом прошел в спальню к жене.
– Марфутченок, а я за любовь твою что-то принес тебе…
И, сказав так, сунул ей под одеяло грушу, которая миновала крепких зубов Левенвольде, ставшего вдруг дипломатом…
* * *
Анна Иоанновна запросила банки Лондона и Амстердама, чтобы они вернули в Россию капиталы покойного генералиссимуса Меншикова. Лондон и Амстердам ответили, что миллионы лежат и ждут не ее запросов, а лишь законных наследников.
При дворе были раздумья… Над сыном и дочерью Меншиковыми, возвращенными из Березова, вдруг зашаталась дыба застенка.
Глава девятая
Галеры возвращались… Они шли от самого Ревеля, тяжко выгребая в балтийских водах. Весла взрывали толщу волн, и пена сквозила на солнце радужно. Расстегнув мундиры, сапоги скинув, гребли солдаты (по пять человек на весло). Гребли стоя, бегая за веслом по доскам мокрым. От банки до банки. Вых! Вых! Вых! – вырывалось дыхание из грудей – согласное, как залпы. Пахло в деках галерных слизью и порохом. Пахло от гребцов солью моря и хлебом ржаным.
Галерный капитан Андрей Диопер поднял «першпектив» к глазу: в трубе подзорной виделись ему сейчас, за блеском моря, сады Петергофа, зелень дерев. А слева, плоско и неуютно, блином лежа на воде, вставал Кроншлот, белели на берегу сваленные бревна и чернели камни недостроенных бастионов.
Скоро и Петербург, а на острову Васильевском, в самом конце его, где пасутся козы и машут крыльями мельницы, домик Диопера; встретит там капитана дочь Евдокия, столь дивно похожая на мать, убитую турками. Оттого-то Диопер, корсар греческий, и покинул родину – нашел свое счастье в России…
Евдокия Диопер, юная красавица, поджидала батюшку, возле окна открытого сидя. И напевала песни своей далекой родины, которая забывалась уже.
Заскрипели мостки деревянные, перед домом наложенные. Шаг грузный раздался. Евдокия Андреевна на окно глянула и закричала в ужасе: смотрело на нее с улицы черное страшное лицо с выпяченными синими губами. «Ах!» – и забилась в угол, в комнаты дальние…
Вернулся с моря отец.
– Не бойся, – утешал дочку. – Это тебе привиделось. Такое бывает перед событиями важными. Может, оно и в радость?
Вечером Евдокия вышла цветы у палисада полить. Истомлены они были зноем за день. Убегая мыслями далеко в моря – за фрегатом «Митау», лила воду на цветы. Выпрямилась над грядками и закричала – в ужасе от привидения:
– Опять он… он! Батюшка, спаси меня…
Бывший корсар выхватил нож из-за пояса, выскочил на улицу. Но тихо полз от Невы туманец, в кустах распевал соловей, и никого не было. Чего ждать от судьбы? Беды? Или… радости?..
Абрам Ганнибал, ныне адъютант Миниха, предстал перед своим фельдмаршалом с улыбкой блаженства на оскаленном лице.
– Беленькая, – заговорил, языком чмокая, – молоденькая…
– Опять ты пьян, скотина худая! – заворчал Миних.
– Нет, я влюблен. Живет она в Галерной гавани, случайно я ее увидел, и с тех пор покоя не знаю…
– В чем дело? – захохотал Миних. – Разве тебе откажут?
Но капитан Диопер отказал Ганнибалу: дочь воспитана в правилах свободных и сама уже избрала себе друга сердечного – мичмана Харитона Лаптева, что мачтой командует на фрегате… Ганнибал явился к Миниху, горько рыдая.
– Мичман? – осатанел Миних. – Но ты же… капитан! Нет, это не тебе отказали, а – м н е… Как смел галерный грубиян отказать в чем-либо адъютанту великого Миниха, от которого весь мир трепещет?
По лестницам сбежал. В коляску рухнул. Поехал.
И в тихий дом Диоперов ворвался с бранью.
– Моим адъютантам, как и мне, – заявил, – отказывать ни в чем нельзя. Подумайте о судьбе своей!
Из комнат выбежала Евдокия.
– Нет! – крикнула она. – Он ненавистен мне, я люблю другого… Ваш адъютант противен мне и гадок! Он мерзок, как свинья из лужи!
– Уйди, – велел отец, а сам поникнул, когда за Минихом захлопнулась сначала дверь, потом калитка взвизгнула на петлях ржавых и кони увезли его, через канавы дергая коляску фельдмаршала…
Тягаться с Минихом не под силу капитану галерному. Был зван в гости повар Богдан Халябля, на старшей дочери моряка женатый. Повар этот в ссылке уже побывал на морях студеных, возле Колы, и был застращен «словом и делом».
– Мы ведь маленькие, – сказал, – и бедные. А они все большие и богатые. Евдокия спасет нас или погубит…
Поздно ночью вернулся с моря фрегат «Митау». Евдокия закуталась в шали темные, быстро прошла проулками, мимо садиков и курятников, на берег. Харитон Лаптев вернулся из крейсерства – красивый и загорелый. В эту ночь она отдалась ему под плеск волн, в камышах прибрежных… Отец рано утром открыл ей двери. Молча!
Миних был посаженным отцом на свадьбе «арапа Петра Великого».
Под утро Ганнибал взял свечку и поднес ее к пышным волосам жены своей. Вспыхнули они, как факел… На крик дочери прибежал отец. Евдокия Андреевна, обезображенная огнем, качалась на постели, голову руками обхватив, а Ганнибал скалил зубы.
– Я оскорблен, – шипел он. – Она меня презирает.
– А чего вы хотите от моей дочери? – спросил Диопер. – В брачных делах фельдмаршалы любви не рождают… Иль вы раньше не знали, что она вас ненавидит?..
Миних послал своего адъютанта в Эстляндию – для надзора за инженерными кондукторами. Когда ехали, то в первой коляске сидел арап с женою, а за ними тащились еще два возка – в них перевозился гарем арапа, составленный из крепостных девок.
* * *.
Бабы и девки гаремные просили Евдокию Андреевну:
– Ты ведь теперь госпожа наша, так освободи нас от насилий бессрамных. У нас же и мужья дома остались, и детишки маленьки!
– Я сама подневольная, – отвечала Евдокия, девок жалея. – Не нужен мне Пернов, а вот, рабыня и есть, волокусь за мужем, как закон велит… Ох, горе, горе!
Поселилась чета Ганнибалов в Пернове[17] – вот печаль-то где выпала! Городишко в руинах, от войн оставшихся. После чумного мора народ еще не оправился. Вокруг все голодные, и всех боятся. И висит над городом тоска да туман, что наплывает ночами с болот, а днями с моря Балтийского.
За гласисом крепости – деревеньки притихли, а в городе каменщики русские собор возводят.
В гавани суда качаются, вывозят они из России лен псковский. С едой плохо – салака с хлебом ячменным, вместо масла – выжимки конопляные, а питье – бурда солодовая, от пива слитая. Так вот и жили в Пернове, где полк стоял, а капитан Абрам Ганнибал здесь самым старшим сделался…
И жаловаться нельзя: за ним сам Миних стоит, а за Минихом – царица. Всех офицеров полка Перновского Ганнибал застращал немыслимо; эстляндскую дворянку, Христину Шеберг, к себе затащил; отец этой девицы от огорчения умер. Неутешные песни поют за стеною девки… Евдокия Андреевна как-то к зеркалу подошла и улыбнулась впервые: «А все едино хороша я! И назло зверю моему хорошеть стану…»
Под пасху пригласила Евдокию в гости перновская мещанка Морша, там ее дочери были, и офицеры пришли. Решили в карты играть – на короли. Евдокия карты раскрыла в пальцах тонких. На голове у нее платок был, и она его не снимала. Волосы росли теперь не пышные, как раньше, а кольцами завивались. На мальчишку она была похожа. Напротив ее кондуктор Яшка Шишков сидел и чем-то на Харитошу смахивал: глаза лукавы, подбородок маленький, круглый… Евдокия на него залюбовалась, старое счастье вспомнив, и он тот взгляд перехватил.
Карту перед ней – хлесть.
– Вот и я в королях! – сказал. – Теперь имею право желанья загадывать, а все исполнять должны… Вам, хозяюшка, – попросил госпожу Моршу, – нам пива нести. А вам, сударыня-капитанша, – повелел он Евдокии, – встать да меня поцеловать.
Офицеры не хмельны были, но молоды и веселы:
– Ай, поцелуй! Ай, поцелуй ты Яшку нашева!
Евдокия из-за стола вышла, платочек на голове поправила, руками губы вытерла, глаза зажмурила и губы подставила. Яшка Шишков своими ее губ коснулся, и тут старое – будто ножом полоснуло под сердце: заплакала гречанка, и все разом стихло…
Шишков до дому ее проводил, а в темноте спрашивал:
– Я тебя всем сердцем люблю… Отчего плакала?
– Ох, не пытай меня… Тебя – не тебя, но люблю.
И в кусты зайдя, они долго там целовались. И так было горько. И так было сладко! Евдокия помолодела, домой пришла весела. А за стеной поют девки, и она к ним в комнаты прошла и вместе с ними дружно песни до утра распевала.
С тех пор и повелось: любовь да свидания, взгляды тайные да письма страстные. Ганнибал как раз опился водками – лежал дома, распухший. Девки радовались: вот-вот окочурится, сатана. Евдокия почасту уходила к Морше, а Шишков провожал ее.
Ганнибал очнулся, лекаря из полка звал, все котелки на кухне проверял, воду с пальца пробовал.
– То яд был, сударыня, – сказал Евдокии. – Меня кто-то уморить возжелал… Уж не вы ли это?
– Вы бы больше пили, сударь, вам бы и не встать уже…
А город Пернов – невелик: голодная собака его из конца в конец мигом перебегает. А сплетня людская бежит еще быстрее. Нашлись доводчики – донесли Ганнибалу, как целовала капитанша кондуктора Яшку при всех, как плакала от любви страстной, как…
Ганнибал буйствовал в перновской канцелярии:
– Отравила меня! Извести хотела…
Первой на расправу госпожу Моршу потащили. И она из-под плетей показала: «Приходил-де ко мне Шишков и говорил, что капитан Абраам Петров (Ганнибал) болен и кабы капитанша была умна и послала в аптеку и купила чего и дала б ему-де, Петрову (Ганнибалу), и он бы, капитан, недолго стал жить!» В тот же день к дверям Евдокии был караул приставлен. Пошли в доме звоны и лязги, из гарема своего бабы дырку в стене провертели, нашептали узнице:
– Беги, Евдокеюшка! Каки-то кольца в потолки вворачивают, жаровню из кузни принесли. Батогов да плетей натаскали – страсть!
Ночью привели Евдокию в покои мужние. Горели там свечи, много свечей. Робко, от страха оцепенев, подняла она глаза к потолку. Там кольца железные вкручены. Были тут же офицеры перновские – Фабер да Кузьминский (сопитухи арапа). Взяли они Евдокию и наверх ее вздернули. Ганнибал руки жены в кольца продел, и…
– А-а-а-а… – раздался крик; повисла она, от боли корчась, пола не доставая.
Всю ночь ее били. Евдокия скользкая стала – от пота, от крови. Висела в кольцах, а голова уже на грудь свесилась. Не сознавалась! Но чем-то жарким повеяло от пола, и она увидела под собой красную от огня жаровню…
Созналась! Только бы все кончилось…
Ганнибал сказал, что убьет ее завтра.
– Ой, сразу только… во второй не снести мне!
Очнулась, а над ней девушки стоят, плачут:
– Пока зверь наш от дому отлучился, мы уже все для тебя сделали. Розги от сучков ножиком обрезали, а ремни отрубями пшенными протерли. Уж ты прости, госпожа наша, что большим-то помочь не можем.
– Спасибо вам, родные мои, – отвечала Евдокия.
А в забытьи плескались черные волны, и реяли птицы черные, и острая молния вонзалась в темя, и тогда она – кричала. Потом солдаты отвезли ее в канцелярию перновскую. Там слабым голосом, пугливо вздрагивая, Евдокия все подтвердила, что ей приказали.
(«Где ты, фрегат „Митау“?.. Приди сюда – с пушками!»)[18]
* * *
Так прошел целый месяц – в муках, а потом Евдокию отвели с мужнего дома в гошпиталь перновский. Это была не лечебница, а тюрьма, где под караулом крепким держали убийц, должников, прокаженных и язвенных, детей приблудных, жен-прелюбодейниц, инвалидов военных и стариков, которых дети кормить отказались.
Вот сюда-то попала Евдокия, здесь она вздохнула свободно, и потекли дни гошпитальные… День, два, три!
И подумала она: «Почему есть никто не дает мне?»
А люди вокруг нее что-то едят.
– Бабушка, – спросила Евдокия одну старуху, – что ты кушаешь?
Старуха разломила пополам кусок хлеба и сунула гречанке:
– Сожри молча… Говорить в еде – грех великий.
И рассказала потом, что здесь (в госпитале) никого не кормят. Сколько ни трудись, сколько ни умоляй – ничего не получишь. Еду можно получить лишь от родственников. Или – от мужа!
– Муж-то есть, касатушка, – рассудила старуха. – Ведь не сама же ты сюды-тко явилась. Муж привел – муж пущай и кормит тебя.
Ганнибал кормить Евдокию отказался. Таких, как она, бескормных, собирали по субботам в «нищенскую команду». Сковывали баб и мужиков одной цепью и вели через весь город просить милостыню.
– Подайте Христа ради… – пели люди под окошками.
Им давали – кашу и хлеб, репу и салаку.
– И мне подайте ради Христа, ради господа нашего! – закричала Евдокия, дочь корсара греческого, стоя посреди улицы немецкой в городе эстляндском на берегу моря Балтийского.
Ей каши ячменной в подол полгоршка вывалили. Она не плакала. Она уже не страдала. Пяткой немытой, подол придерживая, цепью звеня, шла Евдокия через город, жадно кашу поедая…
Так прошло пять лет (в этом госпитале).
…Церковь сковывала мужчину с женщиной не любовью, а уставами. Но церковь и спасала жену от мужа, если было невмоготу. Немало женских страстей и мук навсегда захоронились от мира под монашескими клобуками. Монастырь часто бывал спасением от ужасов супружеской жизни.
И женщина имела право на это спасение.
Хоть одно право, да – имела!
Но теперь Анна Иоанновна тот порядок отменила. И указала: мужьям и женам их жить, один другого не убегствуя! Евдокия как раз под этот указ и попала. Теперь она до смерти не вырвется. Ее жизнь, можно считать, уже закончена.
* * *
А прекрасная красавица Наталья Лопухина одевалась…
Датской водою, на огурцах настоянной, омыла себе круглые груди. Подскочили тут девки с платками и стали груди ее вытирать. Майским молоком от черной коровы вымыла Наташка лицо – ради белизны (и без того белое). Для легкости шага натерли ей миндалем горьким пятки: танцевать предстоит изрядно. И все с ним – с озорником Рейнгольдом Левенвольде, которого теперь отравить надо, словно крысу, за то, что юных черкешенок в доме своем развел: «Мало ему одной меня, што ли?..»
Дав девке оплеуху, Наталья Лопухина сказала:
– Агажанты мне! И коробочку с мушками… Теперь – тяни!
Пока выбирала мушку, девки ее затянули, как лошадь. Засупонили в корсет, словно удавили. Не вздохнуть!
– Вот и хорошо, – сказала она, глубоко дыша через нос.
Вокруг Наташки трепыхались фалбалы, и девки сбоку к ней подойти уже не могли (столь широка была юбка), а подавали, что надо, из-за плеча госпожи. В разрез груди она вклеила мушку – кораблик под парусом. Достала другую – сердечком, и – на лоб ее! Для обозначения томности сладострастной подвела на висках голубые стрелки. И, оглядев себя в зеркалах, поняла, что для любви готова…
Свидание будет страстным, жестоким и пылким!
На дворе ее перехватил муж и сказал при слугах и конюхах:
– А ты, паскуда, куды собралась в пуху и в перьях?
– Звана на бал к великому канцлеру…
– Детей постыдись! – сказал муж. – Ведь они уже выросли: все про художества твои ведают… Мне за тебя-то стыдно!
– Дети, сударь, – отвечала Наташка, – не ваши. А – мои!
– Но один-то – мой! – провыл Лопухин. – Я точно знаю…
– В такой наглой уверенности, сударь, я вас никогда еще не обнадеживала…
И – укатила! В карете она думала о Левенвольде: как он красив и беспощаден. Руку поднимая, смотрела Наталья на крупный перстень – весь в голубом сиянии. Лошади завернули карету на Мойку, прямо к усадьбе Рейнгольда Левенвольде.[19] Здесь было уже немало гостей, и Карл Бреверн, переводчик при Остермане, повел Наталью по саду. Левенвольде строился знатно (не хуже Бирена): крытые аллеи, партеры зелени, клены в ряд. А в гущах дерев были устроены беседки-люстгаузы, куда гости по лесенкам взбирались, в уединении мыслили или амурничали. А кусты были высажены лабиринтами, чтобы человек весело заблудился на потеху гостям, которые те блуждания могли из окон дворца видеть и – хохотать.
Дворец был тоже на диво. Фонтаны падали в бассейны, обложенные мхами и окаймленные ильменскими раковинами. В обеденной зале играли водяные органы – особая музыка, в которой вода издавала самые нежные мелодии. Сады и гроты, павильоны и шалаши – все было в доме баловня судьбы – Рейнгольда Левенвольде! Быстро и ловко двигался он издалека навстречу прекрасной Наталье Лопухиной.
– Как я вас ненавижу, – сказала она ему со стоном. – Негодный вы любитель, мало вам сераля из черкешенок, так вы, сударь мой, еще на Варьку Черкасскую покусились? Я вас отравлю.
Левенвольде засмеялся, целуя руку ей губами пухлыми:
– Вы вся – очарование, судьба моя! Но рассудите сами: я стану мужем княжны Черкасской и осыплю вас, моя радость, такими дивными бриллиантами… Глупенькая, зачем же вам травить того, кто любит вас? – спросил Рейнгольд спокойно.
И руку Натальи взял. И перстень разглядел – весь в голубом сиянии. Сдвинул его чуть-чуть на пальце, и тогда просыпался из него голубой порошок. Камень вдруг стал медленно и сочно наполняться розовым светом… А Наталья Лопухина задыхалась: не от ревности – от счастья! От безмерного счастья придворной шлюхи, ослепленной бриллиантами!
…Она была статс-дама и подруга императрицы. Наталье все дозволено. И указы грозные не для нее писаны.
Глава десятая
Кейзерлинг и Корф особо не жаловали один другого, как и положено соперникам. Но иногда встречались, беседуя о разном. Карл Бреверн, переводчик при Остермане, часто оживлял их компанию – при отблеске каминов, когда вино в графинах кажется рубином, а книги выступают из полумрака, позлащенные, все в коже тесной, сверкая ребрами, словно рыцари в плотном каре…
Бреверн явился сегодня поздно, спросил – о чем разговор?
– Об Остермане… вы его знаете лучше нас.
– Мое мнение об этом человеке сложное, – отвечал Бреверн. – Там, где нужна интрига, мой начальник просто гениален. Но там, где дело касается конъюнктур положительных, важных, он просто… бездарен! Как дипломат, мне думается, Остерман и талера не стоит. Мне стыдно говорить, но он еще… продажен!
– Вас это заботит? – улыбнулся Корф, потянувшись к вину.
– Не скрою – да… Ибо, – отвечал Бреверн, – хотим мы того или не хотим, но наша родина, маленькая Курляндия, безусловно вольется в Россию, и судьба России должна стать нашей судьбой. И служить России нам, курляндцам, надо столь же честно, как мы служили бы самой Курляндии… Не странно это, барон?
– Нет, отчего же, Бреверн? Я тоже размышлял об этом, – ответил Корф. – Лучше уж нам перевариться в соку грандиозного русского мира, нежели Курляндия станет придатком бесстыжей Пруссии иль безрассудной Польши… Разве не так, Кейзерлинг?
– Но Густав Левенвольде, – сказал на это Кейзерлинг, – кажется, затем и поехал в Берлин, чтобы Прусского маркграфа Карла сделать мужем маленькой принцессы… Не станет ли сама Россия придатком бесстыжей Пруссии, барон?
– Молчите, – сказал Бреверн. – Об этом еще ничего не знают в Вене, и цесарцы не простят России, если предпочтение в женихе будет оказано Гогенцоллерну, а не Габсбургу…
– Откуда вы сейчас, Бреверн? – спросил его Корф.
– Я от Рейнгольда Левенвольде, и там была Наталья Лопухина – самая красивая женщина в России… Но я заметил одну странную вещь: перстень на ее пальце меняет цвет. Когда она пришла – он был голубой, как небеса, а потом приобрел оттенок крови… Что это значит, бароны?
– Перемена в освещении, – сказал Кейзерлинг.
– Точнее – яд! – поправил Корф. – От яда цвет меняется в том перстне… В роду Левенвольде, согласно фамильным хроникам, немало было отравителей. Такой же перстень есть у Густава Левенвольде; возможно, что Рейнгольд свой подарил Наталье… Красавицы этой надобно стеречься. Но это между нами, друзья. А вот успели ль вы запастись ядом?
– Зачем? – засмеялись оба – и Кейзерлинг, и Бреверн.
– Затем, – ответил Корф, – что конец наш может быть ужасен. Нельзя плевать в душу народа русского бесконечно.
– Я никогда не плевал, – ответил Бреверн.
– Вы – нет, но это делают другие. Уже одно наше засилие в этой стране Россию не возвышает, а лишь унижает… В гневе праведном русские снесут голову не только Бирену, но и вам, Бреверн!
– Ты не боишься за свой язык, Корф? – спросил Кейзерлинг.
– А кого мне бояться? Бирена? Ха-ха… Но за мною стоит рыцарство курляндское. Если же Бирен рискнет закатить мне оплеуху, то он тут же получит ее от меня обратно…
– Ты редко кормишь, Корф, а больше говоришь…
Корф нажал на потаенный рычаг: стена неслышно поехала в сторону, открывая для обзора гигантскую библиотеку.
– Вот, – вздохнул Корф, – ради этого я живу! Ради этого имею тысячи рабов, которые своим неустанным трудом дают мне счастье познавать людские мысли на расстоянии… – Он вдруг наморщил лоб и стал подозрительно мрачен. – Вон там, – точно показал рукой, – да, именно там, еще утром стояла одна книга. Но теперь ее нет на месте! И я не могу понять, кому она понадобилась?
– А что это за книга, Альбрехт?
– Так. Пустяки… О славном французском роде Бирон!
– Бирон или Бирен? – переспросил Бреверн.
– Я сказал четко: БирОн! – повторил Корф. – И к нашему конюху, ласкающему попеременно то кобыл, то царицу, этот славный род не имеет никакого отношения. Придется сечь лакея, вытиравшего полки, пока я не узнаю – куда делась эта генеалогия?
Лакея секли. Книга не отыскалась. Ее унес с собой Кейзерлинг.
* * *
Можно сказать всякому смело, Что любовь есть великое дело!Тогда подобные признания звучали почти кощунственно.
Раньше ведь как было?.. Раскроешь книгу, а там женщина – словно бес худой или сатаны наваждение: «ногами играюща, глазами дразняща, соблазны выпирающа».
И вдруг явился на Москву из Парижа неведомый человек Василий Тредиаковский, и книгу выпустил «Езда в остров любви», в коей заговорил он прозой и стихом ярким о любви Тирсиса и Аминты. Из книги следовало: не наважденье бесовское, а предмет страсти горячей и благородной – вот что такое женщина! А дабы любовь обрести, мужчине надобно многим ради женщины жертвовать…
Словно бомба на Руси разорвалась! Книгу ту – нарасхват. Но книги не сыскать, так делали так: возьмут одну книжку, соберутся в гости, один читает, а другие с голоса списывают. Офицеры тоже не гнушались, и канты любовные в альбомы себе чинно копировали. А потом – поют. Тредиаковского на Руси не читали, как стихи, а – пели, словно задушевную русскую песню:
Поют птички Со синички, Хвостом машут и лисички. Взрыты брозды, Цветут грозды, Кличет щеглик, свищут дрозды…Вот тогда-то ему было хорошо. Его на Москве ласкали. По боярским хоромам он хаживал, ел пироги сладкие, пил вина хмельные. Своего-то у пиита ничего не было – шиш в кармане! Что в гостях упромыслит, то и ладно. Сначала Тредиаковского приютил у себя Василий Ададуров – математик, ученик великого Якова Бернулли, а за это приютство поэт ученого во французском языке наставлял. Но Ададуров скоро в Питер отбыл, и – спасибо Сеньке Нарышкину.
– Ну, живи у меня! – сказал Сенька. – Только не вздумай свечи палить по ночам. Сожжешь меня – худо будет…
Да, все было бы замечательно, но потянуло поэта на родимое пепелище – в Заиконоспасскую школу. Попал он как раз на диспут: богословы спорили о том, как ангелы тихие сообщают друг другу свои мысли и растет ли в раю роза без шипов?.. Тредиаковского встретили монахи ласково. Под вечер зажгли свечи в лубяных стаканах, винца поднесли. Поэт распалился, про жизнь свою рассказывая, стал неуемно хвастать, как он в Париже учился.
– У самого Роллена! – восклицал. – У великого Роллена!
– Это кто ж такой будет? – спросили. – Не еретик ли?
– А вы, братия заугольная, нешто не знаете, что весь жар политичный Роллен в творениях своих выразил? И по всем разговорам философическим объявляется ныне тако, что якобы бога-то и нет! И не от бога мы произведены были, а от матери-природы.
Архимандрит пробочкой бутыль винную заткнул.
– И – будя! – сказал. – Братия, повытрясите уши… Сей писака, видать, в Париже оскоромился близ философий подлых. И пущай идет себе, мы его не звали… Брысь! Брысь!
Пошла о Тредиаковском слава – худая да опасная. Будто он в «повреждении» своем стал афеистом-безбожником. Ранее бояре знатные рады ему были, а теперь лакей выйдет и скажет: «Принимать не велено». Иной раз стихотворец заступал себя перед вельможами.
– Так то, – говорил, – не я же сам придумал! Таково и философия древняя показывает. Почто афеистом меня кликать? Эвон, говорят, и барон Корф, при дворе камергером состоящий…
– То – Корф! – отвечали. – А ты есть Васька Тредиаковский, а назовись нам – кто ты? Откуда?
– Произведен родителями в Астрахани был…
– Вот видишь, – улыбались вельможи. – Соответственно тому, тебя, как астраханского, и выпороть не грешно…
– Да как же драть вам меня? Ведь вы, господа знатные, мои галантные поэмы читаете? Не я ли вам томность любовную в стихах изобразил? Не вы ли словеса мои в тетрадки списываете?
– То верно, – соглашались. – Ты еще пиши, мы тебя честь будем. Но от кнута не только ты, но и мы, бояре, ныне не заказаны…
Тредиаковский смотрел на себя в зеркало. Не горазд! Руки длинные, будто грабли. Нос пупочкой кверху вздернут. Губы – как пряники, недаром его губаном зовут. А чулки на ногах тонких, надетые впереверт, штопаны-перештопаны… Смигнув слезу, пойдет поэт в лакейскую. Похлебает щец вдоволь, каши поест, кваском запьет.
А дома сидел на кровати Сенька Нарышкин и на фаготе играл нечто духовное или любовное (не понять было).
– Ты как? – спрашивал.
– Уже сыт, – отвечал стихотворец.
– Сыт – ладно. А чего не пьян?
– Похмелен был, – смущался Тредиаковский. – Меня подчивали…
Однажды Сенька ему свой фагот протянул.
– Дуди, – велел. – Дуди так, чтобы нас не подслушали…
Печальным воем наполнились комнаты, и Нарышкин душу излил:
– Потаенно признаюсь тебе, друг: цесаревна Елизавета меня до себя приблизила. А я на Камчатку, вослед Шубину-сержанту, ехать не желаю. И решил я, на тебя глядючи, за границу тишком отбыть. Лютости жизни российской моему сердцу не перенесть… Убегу! Стану учиться в Европах, как ты, философиям разным. Может, даст бог, и сподоблюсь разума…[20] А коли я утеку, так тебя, как человека мне близкого, до Ушакова таскать станут. Потому и советую тебе от души: покинь сразу меня, чтобы изветов не было…
Подался поэт к своему патрону, князю Куракину, что был раньше послом в Париже. Но князь столь пьянственно и грубо жил, что отвратило поэта от дома богатого. «Труд, едино труд прилежный все побеждает!» И с такими-то вот мыслями не уставал Тредиаковский трудиться. Всюду пишет. Огарочки свечные не выкидывал. В гостях, где увидит свечу оплывшую, сразу воск соберет, скатает в кулаке и окатыш в карман сунет. Потом он сам себе свечки делал. «Неусыпное прилежание ко славе языка российского, – внушал он себе, – единым моим желанием должно быть! И не может так статься, чтобы трудов моих отечество не признало… Овидию тоже нелегко живалось, да зато стал он Овидием!»
Василий Никитич Татищев пожелал с Тредиаковским дружбу завесть. Пригласил к себе и стал печалиться:
– Уж меня и жрут, и жрут, и жрут… И докеда эта мука тянуться будет? Хоть бы в Сибирь на заводы отправили, не пропал бы!
– Я сам в еретиках пребываю, – отвечал ему поэт. – Мне уже подметное письмо кинули. Грозятся кровь мою еретическую пролить. Но оставим этим тартюфам их суеверное бешенство… Ныне вот язык российской в небрежении пребывает. И кто за него, бедненького, вступится?
– Чисть его, чисть, – говорил Татищев сумрачно, кота черного на коленях лаская. – Язык-то наш замусорили уже словами тяжелыми.
– То верно, – согласился поэт. – Однако с иноземного на русский переводить очень трудно. Вот и я долго не мог перетолмачить слово «кокетство». Получилось у меня: «глазолюбность». Но, чую, не то! Не передать смысла! Может, какие-то слова иноземные следует так и впихнуть в грамматики наши, не переводя… Ну как тут не вспомнить Бориса Волкова? Петр Первый, государь наш, дал ему книжицу о садоразведении перевесть на русский. Книжица та – тьфу! На два дня работы! Однако два дня прошло. Волков в меланхолии жестокие впал и на третий день… зарезался!
– А отчего меланхолии-то его?
– Да никак не мог Волков найти слов русских, дабы заменить ими слова иноземные.
Татищев, осердясь, прогнал с колен кота.
– Ну и дурак, что зарезался! Российской язык – велик и знатен. Поискать – так всегда слово нужное сыщется. Коли одним словом не выразишь смысла, можно и два применить, беды особой не будет…
Брякнул колоколец с улицы – Татищев побледнел:
– Никак за мной? Эх, потащут на суд нескорый, на суд неправедный… Ты, братец, суда российского всегда бойся!
А вскоре схватили и Тредиаковского, повезли в Петербург. «Ну, – думал, – мне философия да Роллен знатной бедой аукнутся!» Однако нет: честь честью приняли при Академии, Шумахер поэта оглядел и велел ему башмаки стоптанные переменить.
– Да нету у меня вторых. Прожился вконец!
Повели так – в стоптанных. Прямо в Летний дворец, что стоял посреди сада. Не казнили, видать, а миловали. Вышел к нему барон Корф (тоже безбожник славный) и был очень приветлив.
– Ея величество, – сказал по-французски, – желает прослушать ваш перевод с аббата Поля Тальмана… Не обессудьте, сударь, я вашей поэмы не читал, ибо русского языка не знаю. Но сам Тальман мне с юных лет знаком, и государыне я уже доложил о вас в самых наилучших выражениях…
Ввели. Вот она, матка российская! Кофта на ней алая, юбки черные, лицо рябое, глаза – как угли. На улице мороз трещит, а окна все настежь. Жмутся по углам продрогшие фрейлины. А ей – хоть бы что! И вдоль стен ружья стоят, луки, лежат стрелы кучами…
– Наслышана я, – заговорила Анна ужасным басом, – будто ты вирши сочинил игривые. И в тех виршах про томление крови и постельные роскоши усладительно пишешь. Про любовь я всегда рада послушать… Уважь – прочти!
Испугался пиита. А рядом с императрицей стояла цесаревна Елизавета Петровна (краса писаная) и глазом ему подмигнула легонечко: «Мол, не робей, Васька, – жарь!» И начал Тредиаковский читать про любовь… Читал, читал, читал. Вдруг Анна Иоанновна ружье схватила, в окно – трах! Камнем упала с неба птица, пробитая на лету. Кинулись служки с порохом, быстро ружье перезаряжая. Тредиаковский даже рот раскрыл…
– Чего замолк? – рявкнула Анна. – Чти далее!
И так, пока читал он поэму, Анна Иоанновна время от времени хваталась то за ружье, то за лук тугой.
Падали пронзенные птицы, осыпая с ветвей дерев снежную замять… Наконец Тредиаковский осип. С голоса спал. Закончил. Фрейлин колотило от мороза. Что будет? Елизавета Петровна тоже озябла, больше ему не подмигивала.
– Поди сюды, – велела Анна, и стихотворец приблизился.
Императрица воздела над ним свою красную, как у прачки, длань и… тресь поэта! Тредиаковский так и поехал задницей по паркетам. Тут его взял за локоть барон Корф и поспешно вывел прочь.
– Сударь мой, – спросил у него поэт, вконец обалдевший, – оплеуху высочайшую как прикажете понимать?
– Понимайте, – ответил Корф с улыбкой, – как оплеуху всемилостивейшую. Сия оплеуха означает, что ея величество остались вашими стихами вполне довольны… Дело теперь за одой!
Треск этой оплеухи долетел до Шумахера, и теперь при дворе поэт был известен. От него требовалось ныне немногое: ну, ода… ну, лесть… ну, высокие слова! «Что бы ни было, – размышлял Тредиаковский, – а на милостивцев надежды слабы. Самому надобно трудиться и сим победить…»
Он был вечным тружеником, честь и слава Василию Кирилловичу Тредиаковскому! Вечная ему слава…
* * *
Тиран самодержавный, который не стоит похвал, всегда особо страстно желает похвалы слышать. Для этого надобно лишь откупить поэтов, художников, музыкантов – и они безжалостно будут сожигать фимиам сатрапу кровавому, только плати им за это исправно, только время от времени по головке их поглаживай. А иногда тресни их по башке – тогда они совсем хороши будут.
Так было и при Анне Иоанновне: отныне все, что делалось в искусстве, должно было восхвалять мудрость ее и величие. А наука должна была изыскивать способы ученые, дабы развлекать Анну от забот государственных, чтобы «матушка» не скучала. И коли писал живописец картину, то Анна пальцем ему указывала:
– А сюда персону мужика в лапотках и онучах чистеньких вмажь! Да чтобы он без дела не сидел, а на лирах Аполлоновых мне славу играл…
Особенно угодничали в одах хвалебных немцы-академики – Юнкер да Штеллин, а Тредиаковского обязали переводить всю нечисть на русский (оды печатались на двух языках сразу). Насколько был хорош пиита в своих виршах про любовь, про весну и осень, про зверушек разных – настолько плох он был в переводах славословящих.
И Россия тех од высокопарных его уже никогда не распевала!
– Черт знает что, – ругался Бирен. – Вот читаю Штеллина – до чего прекрасно! Читаю перевод Тредиаковского – до чего бездарно!
Глава одиннадцатая
Король прусский испытал радость: Густав Левенвольде прибыл в Берлин посланцем счастья, и маркграф Карл Бранденбургский уже мог считаться женихом маленькой принцессы в России. От этого быть на престоле русском Гогенцоллерну по крови, и великие выгоды чуял король Пруссии, вчерашний суп второпях доедая…
– Что бы нам продать в Россию подороже? Помню, – сказал он, – в цейхгаузах у нас скопилось много шпаг – ржавых! Жаль, никто не купит. Есть еще голенища от старых ботфортов… Кому бы их сбыть? Я придумал, – вдруг рассмеялся король, – едем на сукновальни…
На сукновальнях Вильгельм Фридрих осмотрел бракованное сукно.
– Клей! – крикнул он, и сукно опустили в чан с клеем.
Никто ничего не понял, а король уехал в Потсдам. Чистенькие суконные небеса нависали над маленькой Пруссией и курфюршеством Бранденбургским. В этой стране, составленной из двух кусков, еще ничего не было решено. И даже король Пруссии не был… королем. Он сам себе присвоил этот титул! Никто за ним этого титула не желал признавать. Но меч солдата и весы купца должны настойчиво утверждать в мире короля и его королевство!
– Ла-ла-ла-ла… Кстати, – вспомнил король, – а эта скотина Людольф Бисмарк, убивший моего исправного налогоплательщика, еще не отравился казенной колбасой в крепости? Выпустите его, и завтра снова едем на сукновальни… Ла-ла-ла-ла!
Никто ничего не понимал, но все покорно сопровождали короля на берлинские сукновальни. Вот и громадный чан с клеем.
– Теперь вынимайте сукно и просушите. Просушив, тщательно прогладьте и сложите в идеально ровные штуки…
Готовые штуки сукна король придирчиво осмотрел.
– Теперь их можно продавать в Россию, – распорядился он.
– Ваше величество, – удивились коммерц-советники, – русские не купят его, они приобретают сукна у британцев. Наше сукно при носке сразу же сломается по швам, как ржавая жесть на сгибах.
– Русские не купят, это их дело. Но граф Бирен заставит купить, это уж наше с ним дело. Все сукно купайте в клею, гладьте и отправляйте в Россию. Лучше всего – в Ревель, где губернатором граф Оттон Дуглас, спекулянт отчаянный! Россия – богатая страна, у нее большая армия, и русским еще много понадобится сукна для солдат…
Заросший бородою Бисмарк поджидал короля в Потсдаме.
– Здорово, молодчага Бисмарк! – весело сказал ему король. – Ты побрейся и не уходи, пока я перешью пуговицы со старого мундира на новый…
Король взял иглу, стал перешивать пуговицы. Выбритый Бисмарк снова предстал перед ним, и король к нему пригляделся:
– Видит бог, тебе совсем неплохо жилось в моей крепости. Ты даже поправился, старина! Извини, дружище, но я более не намерен сорить деньгами… Отныне, как это ни печально, я сокращаю тебе жалованье вполовину. Ты здорово отъелся, Бисмарк, на моей тюремной колбасе!
Бисмарк, припав на колено, с чувством поцеловал синюю, жилистую руку короля-солдата.
– Ступай в Голштинский полк, скотина, – велел ему король…
Из полка Бисмарк сбежал. Он понял, что ему никогда не выслужиться снова в полковники. Он голодал… Прибыв на свою мызу «Скатике» (это в Прусской Литве), Бисмарк вызвал управляющего фольварком:
– Завтра к рассвету собери с крестьян все, что положено господину богом за два года вперед. Так нужно… Не спорь!
Но управляющий стал спорить, а Бисмарк был пьян. Взял палаш и разрубил человеку голову. Труп затолкал под кровать и крепко спал до утра. Утром проснулся, все вспомнил, зажег факел и подпалил свою усадьбу. Полковая лошадь мчала его в Померанию. По дороге к морю Бисмарк совершал убийства и грабежи. Он сводил счеты с прусским королем, не оценившим его храбрости и доблести…
Прибыв в Гданск, Бисмарк втерся в дом Курляндского герцога Фердинанда и предложил себя в рыцари.
– Ты глуп! – ответил ему Фердинанд. – У меня в Курляндии полно своих рыцарей, от которых я едва спасся бегством в Данциг… Дам совет: если ты убил человека – плыви в Америку, если ты замучен долгами – плыви в Россию…
Утром Бисмарк проснулся на корабле, плывущем вдали от берегов. Вылез на палубу, осмотрел серые волны.
– Когда будем в Пор-Ройяле? – спросил.
– Никогда не будем, – отвечали ему матросы.
– Что это значит? – возмутился Бисмарк.
– Это значит, что мы плывем в Россию.
– Могли бы так и сказать, когда я садился вечером.
– Мы именно так и сказали вам, сударь.
– Странно! И что же я вам ответил?
– Вы ответили, что вам – один черт куда плыть, ибо покойники и долги одинаково висят у вас на шее. Вот теперь и плывите…
Путешествие становилось опасным: у короля Пруссии есть сильная рука в Петербурге, и как бы король не предъявил своих прав на Бисмарка! Вспомнив Кюстрин, Бисмарк содрогнулся от страха…
Через четыре дня на горизонте обрисовались древние башни.
– Какой это город? – спросил Бисмарк.
– Ревель!
– Я такого не знаю, но все же осчастливлю его посещением…
* * *
Ревельский губернатор граф Оттон Дуглас попал в плен к русским под Полтавой и так полюбился Петру I, что тот направил его губернатором в Финляндию. Дуглас прибыл в Выборг и здесь сразу же, не мешкая, убил русского капитана.
Сенат приговорил шведского графа к смертной казни. Но Петр I приговор порвал и велел Дугласу поработать в Летнем саду три недели. Дуглас сидел в саду, среди душистых роз, слушал соловьев, курил трубку и мрачно ругал Россию и русских. «Каторга» кончилась, и вот он снова – генерал-аншеф и губернатор…
– Люби, люби, люби! – кричал он, убивая солдат.
Когда жертвы стонали, граф Дуглас хохотал. Он убивал русских солдат мучительски – сек до костей, посыпал раны солью и селитрой. Иногда же – порохом! И порох – поджигал! Люди сгорали со спины – до костей. Дуглас называл это – «жечь фейерверки».
Когда Бисмарк предстал перед ним, Дуглас скривился:
– Пруссак! Дерьмо… Что вы умеете? Отрезать дезертирам носы и уши? Твой король – дерьмо ужасное!
Из ножен Бисмарка вылетело, мерцая зловеще, лезвие шпаги:
– Защищайся… Я умру за честь Пруссии!
– Было бы из-за чего умирать… – ответил Дуглас и полковой чернильницей так треснул Бисмарка, что тот зашатался. – Моя королева Ульрика стоит десятка твоих королей!
Шпага выпала из лапы Бисмарка, и Дуглас наступил на нее ботфортом шведским, кованным полосками уральского железа.
– Чего тебе здесь надо? – спросил Дуглас брезгливо.
– Чести и… жалованья!
– Не будь самоуверен, грубиян. Выйди и вернись смиренно…
Бисмарк так и сделал: вышел прочь и вошел уже смиренно.
– Совсем другое дело! – похвалил его Дуглас. – Небось ты хочешь получить от меня патент в службу русскую с чином…
– …полковника! – подсказал Бисмарк.
– Рано… капитан, – ответил Дуглас. – Садись же и пиши, капитан, прошение об отставке с русской службы.
Бисмарк обалдел:
– Но я еще минуты в службе русской не успел пробыть!
– Пиши! – рявкнул Дуглас, и Бисмарк написал, а Дуглас апробовал. – Теперь, в отставке будучи, ты уже подполковник… Поздравляю, прусская нечисть! Но-но, забудь о шпаге. Или я тебя тресну еще не так… А теперь составь прошенье о принятии тебя на службу вновь (Бисмарк покорно исполнил). Пиши вновь просьбу об абшиде, и закончим эту карусель… Мне как раз нужен полковник, закон соблюден, и никто ко мне не смеет придраться… А ты все понял, болотная жаба?
– Понял, – отвечал Бисмарк. – Мне эта карусель здорово по душе. Нельзя ли дать еще один круг, чтобы я стал генерал-майором?
– Много хочешь. Сначала послужи. Русских совсем нетрудно обскакать в чинах… Ну, ты доволен, сынок?
Вскоре Дуглас направил Бисмарка в Петербург.
– Сынок, – сказал убийца убийце, – покажись в свете, и пусть твоя морда примелькается в передних…
Наглый и самоуверенный, Бисмарк затесался в дом прусского посла, и тот удивленно спросил его:
– Вы? На кой черт вы сюда приехали?
– Чтобы искать чести, – захохотал Бисмарк.
– Вы потеряете здесь и остатки ее.
– Но зато обеспечу свое существование.
– А способы у вас к тому найдутся?
– Еще бы! Способов полно… Моя беззаветная храбрость тоже чего-нибудь да стоит. Может, сразу подскажете мне, барон, кто тут в России самая богатая невеста?
– Убирайся прочь, мерзавец! – закричал посол. – Убирайся, пока я не велел лакеям выгнать тебя.
– Но-но! – пригрозил ему Бисмарк. – Король теперь далеко, а моя шпага всегда при мне. Не наскочите на ее кончик, барон!
* * *
Городок Ревель (его солдаты Колыванью звали) – городок чинный, немецкий. Не загуляешься допоздна: ворот в нем много, и вечерами улицы все, словно дома, запирают на ключ. Сначала Потап Сурядов караул у блокгауза нес, и брызги моря – соленые – ружье заржавили. За ржу был бит. Потом весь полк в поле выгнали, велели в траве ядра искать, кои от войн прошлых остались.
Колывань солдатам нравилась: на Виру пива выпьешь, а на улице Сайкяйк бублик скушаешь. Опять же и служба не в тягость: охраняли дворец в садах Кадриорга, Петром I для Катьки строенный. А затем Потапа к мертвому телу приставили. Герцог де Круа лежал при церкви непогребен, ибо на этом свете задолжал людям шибко. И магистры ревельские решили его в наказанье божие земле не предавать. Пусть лежит! Да еще за показ тела грешного с проезжих людей деньги брали – вот и стоял Потап с ружьем, берег кубышку с медяками должника в русском генеральском мундире… Тихо над Ревелем; только виселица скрипит на площади, а в петле тощий бродяга болтается. «Бродягой, – думал Потап, – несладко быть, солдатом – лучше…»
Скоро выдали Потапу сукно на новый мундир. Слатали его в швальне полка Углицкого, и перешил Потап пуговицы – со старого мундира на новый. Красота! В новом мундире зашагал в караул. Застыл на часах. И текло время ленивое – время сторожевое:
– Слу-уша-а-ай…
Слушал Потап – не крадется ли кто, нет ли от огня опасения, воровских людей тоже стерегся. Наскучив тишиной, вытворял артикулы воинские. Хорошо получалось! «Экзерциция пеша» – суть службы воинской. Мокрый снег таял, стекая с полей шляпы. Ветром расплело косицу, и торчал из нее, словно хвостик мышиный, стальной прутик – ржавенький. А за шкирку – дождичек: кап-кап, кап-кап… Не знал Потап, к батальной жизни готовя себя, что эта ночь под дождем всю судьбу его повернет иначе. Он и не заметил, что сукно мундира нового уже поехало, распадаясь.
На следующий день был смотр в полку при господах штаб-офицерах и самом генерал-аншефе Дугласе. Погрешающих в шаге штрафовали жестоко. Потап ногу тянул, а сам был в страхе: мундир на нем по складкам трещал. И от этого жди беды! А вокруг ходили палачи-профосы и глазами зыркали: нет ли непорядка где? После мунстра Потап у капрала иголку взял и залез на чердак, чтобы там, где его никто не видит, зашить мундир. Но под иглой в труху скрошилось суконце прусское, ломалось, словно береста сухая, пуще прежнего. Тогда Потап, сам в страхе, явился пред полком, доложив покорно:
– Ладно, берите меня. За мундир мой, за убыток мой… – Долго тянулась потом телега, по песку колесами шарпая. Плыл Потап далеко-далеко, лежа в гнилой соломе на животе. А спиной рваной – к солнышку, которое под весну уже припекать стало. Охал и метался, рвало его под колеса зеленой желчью. В Нарве отлежался на дворе гошпитальном. Поили его пивом с хреном и давали грызть еловые шишки. Чтобы в силу вошел! Лежал все еще на животе, а спине его щекотка была: там черви белые долго ползали. По вечерам, шубу надев, выходил Потап на двор и слушал, как играют канты на ратуше… Так-то умильно!
Из госпиталя, малость подлечив Потапа Сурядова, как бывшего в «винах», отправили на крепостные работы в Кронштадт – состоять при полку Афанасия Бешенцова. Полковник этот был еще молод, лицом сух, нос – гвоздиком. Глянул на Потапа, велел кратенько:
– Сымай рубаху и ложись…
Завыл Потап в голос и, заголя спину, лег. Служба!
Но бить не стали… Бешенцов его душевно пожалел:
– Эка тебя, друг ситный! А кто же бесчинствовал над тобою?
– Его сиятельство, – всхлипнул Потап, – генерал-аншеф и командир в Ревеле главный… графы Дугласы!
Бешенцов рубаху на спине солдата задернул.
– Мила-ай, – сказал певуче, – работы в полку моем каторжные. Будем шанцы новые класть. Трудно!.. Не сбежишь ли?
– Куды бежать? Вода округ и места топкие.
– Верно, – кивнул Бешенцов и денежку дал. – В трактир сходи да перцовой оглуши себя. Прогреешься изнутри! А из бочки в сенях у меня огурчик вычерпни… Вот и закусь тебе!
Встал Потап с лавки и навзрыд заревел от ласки такой:
– Господине вы мой утешный… вот уж… а?
И началась служба «винная». Кирпичи на спине таскать остерегался: брал в руки, живот выпятив, штук по сорок – герой! – и пер по мосткам на шанцы. А кругом – отмели в кустах, тоска и ветер, зернь-пески, кресты матросские, косо летит над Кроншлотом чайка…
Ох, и жизнь – страшнее ее не придумаешь! Одна сладость солдатам: полковник хорош. Бешенцов лучше отца родного. На него солдаты, как на икону, крестились. Валуны гранитные катили, будто пушинку, – только бы он улыбнулся… Очень любили его! Здесь Потап и знакомца своего встретил – капрала Каратыгина, который за старостию и причинными болезнями при кухнях полковых обретался.
Не узнал солдата старый капрал, показывая трубочкой на закат:
– Вишь? Красно все… Видать, быть крови великой!
И ушел… В стылой воде, льдины окаянные разводя, бухали солдаты «бабу» – сваи в песок забучивая. Ах да ах! Свело губы. Водка уже не грела. Глотали ее – как водицу. Не хмелея, не радуясь. Только знай себе: ах да ах! И взлетала над морем «баба». Самодельная, в семь пудов. Да никто ее не вешал. Может, она и больше. Потом вылезли, пошабаша. Сели на солнышке. И порты от воды выкручивали. Стали, как это водится у солдат, печали свои высказывать.
– Хоть бы государыня к нам приехала, – сказал Сидненкин, человек серьезный, плетьми не раз битый.
– На кой хрен ее? – крикнул Пасынков (тоже драный).
– Да все в работах бы нам полегчило. Да и маслица в кашу на тот день, в приезд государыни, поболе бы кинули!
И тогда Пасынков кирпич взял:
– Вот этим бы кирпичом я зашиб ее здеся, как стерву!
– Рыск… рыск, – сказал Стряпчев и плечом дернул…
Вечером, амуницию начистив и ремни известкою набелив, солдат Стряпчев явился к полковнику Бешенцову:
– Имею за собою, – объявил, – дело государево. О важных речах злодейственных и протчем. А о чем речь, тому все в пунктах на бумаге изъяснение учинено.
– Кажи лист, грамотей! – велел Бешенцов и донос тот читал.
Потом палаш из ножен вынул, перевернул его плашмя, чтобы не зарубить человека насмерть, и стал доводчика бить.
– Берегись… ожгу!
Устав бить, Бешенцов велел Стряпчеву:
– Рукою своей же, бестрепетно и тайно, содеянное в подлости изничтожь… И про кирпич и про особу высокую позабудь. Не то лежать тебе на погосте Кроншлотском!
Свечу поднес. Стряпчев губу облизнул, сказал:
– Рыск! – И доношение сунул в огонь, держал в пламени руку, а в ней корчилось «слово и дело» государево. – Рыск, рыск…
А в казарме старенький капрал Каратыгин, собрав вокруг себя молодых солдат, вел с ними мудрую беседу.
– Што кирпичом? – говорил. – Рази так деется? Эвон мортирка на шанцах стоит… Коли ёна, кровососиха, поплывет мимо, тут в нее и пали! А народу российскому мы тады волю вольную с шанца крикнем…
Глубокой ночью, в самую темень, полковник Бешенцов разбудил Каратыгина, Пасынкова, Сидненкина и Потапа.
– Ныне, – наказывал, – вы хмельное оставьте. Языками не вихляйте на миру. Ухо на стремя. Глаз да глаз… На вас, братцы мои, солдат полка моего Стряпчев худое клепает…
Гуртом (все четверо) навалились на спящего Стряпчева.
– Порвем, как собаку, – сказали…
С того дня Стряпчев запил горькую. И, в кабаке на юру сидя, спиной белой непрестанно дергался.
– Рыск, – говорил он. – Рыск – великое дело… А иначе, пойми, мамушка родная моя, как иначе из этого ада выбраться?
* * *
Малолетняя принцесса Елизавета Екатерина Христина Мекленбург-Шверинская проживала при тетке своей, Анне Иоанновне, и уже о многом в судьбе своей догадывалась. Имя ей решено было дать в православии – Анна Леопольдовна, и теперь Феофан Прокопович, готовя ее к выходу из протестантства, наставлял принцессу в догматах веры православной, веры византийской…
Вития говорил ей о великом русском боге. О том боге, который везде и всюду. И потому чревобесие опасно, ибо бог все видит. Девочка-принцесса глядела на икону, с которой взирал на нее этот бог – сумрачный и старый, похожий на уличного нищего, и русского бога она не боялась. Мысли девочки порхали далеко: сейчас Левенвольде ускакал в Европу за женихом для нее, и быть ей – быть! – матерью императора всея Руси. Большия и Малыя, и Белыя, и Червонныя, и протчия.
От этого девочка в большую силу входила. Покрикивала.
И на Феофана Прокоповича не раз пальчиком грозила.
– У-у-у, черт старый! – говорила она ему…
Худенький подросток, на высоких каблуках – дрыг-дрыг! – она ходила по дворцам вприпрыжку, и арапы в чалмах двери перед ней растворяли. А двумя пальчиками несла она перед собой золоченый перед дамской робы. И в двери проскакивала бочком – столь пышны были роброны, сухо и жестко гремящие… Фрейлины приседали перед девочкой-принцессой, и она хлестала их по щекам (как тетушка своих статс-дам): «Цволоци… швин!»
Бирен наблюдал, как прыгает по дворцам маленькая принцесса Мекленбургская, и мрачно грыз ногти. Девочка давно занимала его мысли.
– Анхен, – снова говорил он императрице, – к чему искать женихов на стороне? Наш сын, граф Петр, вырос… Разве он не мог бы составить счастье твоей племянницы-принцессы?
– Опять ты за старое? – Анну трясло. – Рассуди сам: граф Петр наш сын, а девка – моей родной сестры дочь. Нельзя же родственную кровь мешать: это вон у любого коновала спроси, он и то скажет тебе – нельзя…
Остерман тоже никак не желал такого афронта: не дай бог, ежели Бирен станет дедушкой русского императора! Тогда ему, Остерману, костей не собрать. И он торопил события, быстро крутились колеса его коляски. Иоганн Эйхлер, чертыхаясь и ненавидя своего повелителя, катил его через анфилады дворцовых комнат. Вот и покои ея высочества – принцессы… Стоп!
– Разверни, – велел Остерман, и бывший флейтист развернул перед девочкой хрустящий пергаментный свиток. – Ваше высочество, – сказал Андрей Иванович маленькой принцессе, – вся жизнь моя у ваших ног, и доказательством тому есть мои заботы о вашем счастье.
Иоганн Эйхлер, воздев руки, держал перед Анной Леопольдовной свиток генеалогического древа династии Гогенцоллернов.
– Ныне же, – усладительно напевал Остерман, – руки вашей и вашего нежного сердца благородно домогается бранденбургский маркграф Карл, а он, как сородич короля Пруссии… Иоганн, к свету!
– Так видно? – спросил Эйхлер.
Девочка равнодушно взирала на свиток, где в круглых золоченых яблоках, обвитых ветвями славы, покоились, как в могилах, разбойничьи имена предков дома Гогенцоллернов… И вдруг – зевнула.
– Красив ли он? – спросила. – А парсуна его где?
– Портрет, ваше высочество, уже пишется лучшим живописцем Потсдама и в скором времени прибудет к вам для рассмотрения…
Девочка опять зевнула (зевнул, глядя на нее, и Эйхлер).
– Вот тогда и решим, – закапризничала принцесса. – А то на што мне эти таблицы? По таблицам ли мне красавчика сыскивать?
– Поехали, – сказал Остерман, кланяясь из коляски…
Эйхлер остервенело и яростно толкал перед собой колесницу Остермана, через высокие пороги взлетали колеса, металась пыль.
– Это выше моих сил! – ругался Эйхлер прямо в темя Остермана. – До каких пор мне вычесывать ваши парики, отворять двери перед гостями и катать вас по комнатам?
– Иоганн, я же устроил вашу судьбу. Не вы ли теперь состоите при горных высотах власти? Не мешайте мне своим ворчанием…
Воображение вице-канцлера занимали теперь брачные конъюнктуры. Казалось, что вопрос разрешен, но… Вена! Вратислав явился как буря:
– Вена не простит вам этого, граф! Сватовство России к Пруссии есть прямая измена двора вашего… Сейчас, пока я говорю вам это, из Вены скачет в Берлин маршал Секендорф, и мы (он там, я здесь) отвоюем право Габсбургов иметь наследника на престоле русском… Какая наглость! Какое низкое предательство! – восклицал посол. – За все, что Вена сделала для вас лично… Как можно быть неблагодарным?
– Позвольте, граф, – вступился Остерман, – но ранее я не слышал от вас подобных редукций. Инфант же португальский…
– Кому нужен этот инфант! – орал на Остермана посол цесарский. – Что вы уперлись в него, будто не знаете, что Вена кишит женихами… Вот вам Антон Ульрих принц Брауншвейг-Люнебург-Вольфенбюттельский, племянник нашего императора! Чем плох? Красив, смел, изящен, благороден… Есть ли у вас портрет из Потсдама?
– Нету еще, – признался Остерман.
– Вот видите. А из Вены уже скачет курьер с портретом!
– В чем дело, – покорился Остерман. – Ведь не своей же дочери я избираю жениха… Посмотрим вашего принца!
Иоганн Эйхлер, бранясь нещадно, опять катил Остермана:
– Не лучше ли мне снова играть на флейте?..
Теперь его заставили держать родословное древо Габсбургов.
– Опять таблицы, – вздыхала девочка-принцесса…
А скоро по Неве, расталкивая ладожские льдины, поднялся корабль, и напротив Летнего сада высадилась на берег вертлявая особа – мадам Адеркас, которой было поручено образовать принцессу в «политесе» и всех тонкостях придворного обращения. Феофан Прокопович уже извелся, стращая Анну Леопольдовну скучным бородатым богом, но девочке больше нравилась Адеркас.
По вечерам, веер растворив, мадам Адеркас водила воспитанницу свою на прогулки. Выступала она плавно, а принцесса – дрыг-дрыг!
– Мужчины, ваше высочество, – поучала ее воспитательница, – это проклятье рода человеческого, но без них, увы, не обойтись. Они – ужасны и любвеобильны. Впрочем, их можно понять, на нашу слабую породу глядя… Но зато, ваше высочество, какое блаженство испытаете вы, когда мужчина, смелый и благородный, увлечет вас в греховном падении в бездну ослепляющей страсти…
– Мадам, вы рассказываете мне о принце Антоне?
Адеркас игриво взмахнула веером.
– Ну зачем мне говорить вам о принце Антоне? – обиделась наставница юности. – Принц Антон Брауншвейгский станет лишь вашим мужем. А это всегда скучно и неинтересно… Я говорю, ваше высочество, о самом сладком мужчине – о любовнике говорю я вам, и вы меня внимательно слушайте! Поверьте: мне есть что рассказать о мужчинах. Я их знаю… Ого, еще как знаю! И как вести себя с любовником, я сейчас расскажу вам во всех подробностях…
Феофан Прокопович со своими молитвами был посрамлен. Кого хочешь переспорил бы он, но с мадам Адеркас ему не тягаться!
Глава двенадцатая
Ах, что за дни были над Флоренцией! Сочные, золотистые…
Карета плавно вкатилась на мост Понте-Веккио, и сразу потухло солнце: из-под арки прохладной щелью врубилась улица Уффици в древние камни. А в конце ее, на ярко-синем мареве итальянского неба, вздыбилась башня Палаццо-Веккио. И так тонко, и так протяжно пел камень… Хорошо! Сытые кони развернули карету. Вот и Лоджия… Дверцы распахнулись – длинная нога в дешевом чулке нащупала под собой горячий камень двора. Потом – трость, и локти острые (в штопках). И вот он сам: князь Михайла Голицын.
– Почтенный форестир, – склонился мессер Гижиолли. – Великий дож Флоренции, Джиованни Медичи, готовы дать вам аудиенцию прощальную… Вас ждут, князь Микаэль!
Гость был крепок и грубоват. Из коротких рукавов торчали широкопалые руки. На голове – берет священника. Мимо «Персея» Челлини, мимо «Сабинянок», мимо цветников и пушистых львят, забегавших перед человеком, играя, он шел через двор Лоджии, стуча башмаками по раскаленным плитам. И мессер Гижиолли видел, следуя за ним, стоптанные каблуки гостя из Московии.
Пять дверей сразу – в которую идти?
– В эту? – вскинулась трость Голицына.
Но мессер распахнул совсем другую, узкую, и московит, крепко выдохнув запах чесноку, протиснулся в нее широкой грудью. Брызнуло солнцем откуда-то сверху, через узорчатые стекла, и блекло засветились россыпи старинных майолик.
Д о ж… и князь Голицын поклонился низко и учтиво:
– Великий дюк, по случаю отъезда на родину, счастлив буду откланяться вашей светлости…
Джиованни Гасто (последний из рода Медичи) даже не поднял глаз. Рано состарившийся дегенерат, он умирал, хилый и мерзкий. Говорил за него мессер Гижиолли, нарочито громко:
– Вы не первый из русских, кто бывал во Флоренции, и дож рад выразить вам внимание. Флоренция не забывает, что здесь расцветилась кисть русского художника Ивана Никитина, который стал знаменит в отечестве своем. И, счастие имея писать царя Петра живым, он, по слухам, до нас дошедшим, изобразил его на ложе смерти… Но вы, принц Микаэль, кажется, покинули Сорбонну?
– Да, – отвечал Михайла Голицын, – я прошел науки в Сорбонне, в нашем семействе не любят неучености!
Медичи зябко пошевелил пальцами в теплых перчатках.
– Россия, – продолжал мессер, – дала титул Великого покойному царю Петру. Но Европа предвосхитила Россию, присвоив титул Великого, задолго до Петра, князю Василию Голицыну, который пострадал за пристрастие к царевне Софье… Дож любопытствует: «Кем он приходится вам, принц Микаэль?»
– Это мой родной дед, – ответил Михайла Алексеевич. – Вместе с ним я отбывал наказание в странах полуночных, после чего служил матросом на галерах балтийских…
Гижиолли склонился к уху Медичи:
– Русский принц был гребцом на галерах. Внук Великого Голицына был каторжником, а сейчас он окончил Сорбонну…
Неслышно ступая по коврам, вошла черная пантера и, гибко стегая воздух хвостом, подошла к московиту. Широкое скуластое лицо Голицына не дрогнуло. Пантера обнюхала колени князя и легла с ним рядом, доверчивая. Михаил Алексеевич заговорил вновь:
– Весьма сожалею о своем отъезде, ибо не все успел осмотреть, не всем еще восхитился… Помнится мне, что именно здесь, во Флоренции, греческая церковь воссоединилась с латинскою!
Мессер велел принести древнюю книгу:
– Вот протоколы Флорентийского собора, открытого папою священным Евгением Четвертым… Переверните же страницу – вы видите, принц Микаэль? Вот, вот и вот… И так без конца!
Среди кованых латинских строк пестрели крючки русских подписей: Исидора – Марка – Авраамия… Голицын наклонился и с чувством поцеловал раскрытую страницу.
– Не желаете ли и вы, принц Микаэль, следовать истинной вере?..
Пантера не спеша вылизывала серебристый длинный хвост.
– Я давно далек от схизмы, – сознался князь. – И туфлю папы римского уже целовал… Но вступление на русский престол Анны Иоанновны вряд ли поможет делам унии. Ибо царица эта предана ханжеству, и Сорбонне можно опасаться за аббата Жюббе-Лакура, что ныне на Москве пребывает…
Книга в руках Гижиолли закрылась громко, словно ударила пушка; дож вдруг очнулся и сказал внятно:
– Копию с протоколов собора Флорентийского мы вам доставим. И пусть она пробудит в русских чувство истины. А сейчас, мессер, вручите гостю нашему подарки…
Гижиолли перенял от дожа шкатулку, протянул ее Голицыну:
– Вам в память о Флоренции: здесь вы найдете запас лекарств на все случаи жизни. Толченый бивень носорога необходим воину, чтобы укрепить сломанную кость. А печень зайца вернет вам в старости печальной сладость общения с женщиной… Примите же в знак того уважения, какое Европа испытывает к вашему гуманному, великому и достойному деду, пострадавшему от зависти тирана!
Голицын поклонился. Пантера пружинисто вскочила и проводила его через весь двор до самых ворот… В лицо опять брызнуло солнце!
* * *
Вместе с дворовым человеком своим князь Голицын, путешествуя, наблюдал многие забавы республиканские. Видел, как девицы венецианские в масках карнавальных без стыда грешили. Бывал в операх, кои в первом часу ночи начинались, а кончали петь на рассвете. Наблюдал, как собаками меделянскими травили быков себе на забаву. А еще глазел из окошка, как господа сенаторы весело играли в кожаный мяч, воздухом надутый. Для того у них были в руках сетки, вроде решета. И теми сетками они по мячу били. Казалось, что жизнь людей этих – сплошь красочный, безмятежный праздник.
После чего слуге Флегонту говорил князь Михайла:
– Ты смотри, Флегонт, как люди живут! Ни в чем один другого не зазирают, и ни от кого страху никто не терпит. Всяк делает по своей воле, и живут оттого в покое, без обид горьких. И тягостей податных не имеют, как в России у нас! Мнится мне: кабы церковь нашу варварскую сочетать с римскою – то и у нас на Руси таково же ласково бы стало…
На что отвечал ему Флегонт – сумрачно:
– Охти, барин! Хотя бы годок так пожить…
Последний визит перед отъездом на родину. Томазо Реди, секретарь Академии искусств изящных, встретил Голицына приветливо.
– Ах, Россия! – сказал он. – Зачем я устрашился тогда бурных морей и снегов русских? Ваш царь Петр не однажды звал меня, чтобы я кистью своей украсил Академию художеств на берегах Невы!
– Такой Академии у нас нету, – отвечал Голицын.
– Разве? – удивился Реди. – Но я сам читал проект этой Академии, сочиненный русским ученым Авраамовым… Навестите, князь, – трогательно попросил старый художник, – учеников моих в Москве: Ивана и Романа Никитиных-братьев! Я изнемог от жизни и плохо помню их юные лица… Увы, как мало мы наслышаны о России, и только беглецы с галер турецких иногда являются у нас – дики, торопливы, спешащи на родину, которой они не забыли, к веслам прикованны…
В локанде, куда вернулся Голицын, его ждал ужин на столе, уже простывший. Две тонкие свечи оплывали воском – на серебро посуды, на лист бумаги, исписанный коряво («Добросердечный господине!» – так начиналось это письмо).
– Флегонт, – позвал Михайла Алексеевич. – Где ты?
Никто не отозвался, и Голицын прочитал письмо:
«Добросердечный господине, изведал я от вас грамоты понимание и деликатность души вашей. За то остаюсь, раб ваш нижайший Флегонт, что урожден был родителями в селе Сыромятни провинции Суздальской. А ныне, как вы на Москву отбыть изволите, то капросы и картуши разные уложил я в порядке. Прошу сердца не иметь на меня, что оставляю вас навеки. Аминь! И господине вы добрый, а город здесь свободный, и мастерство какое получу, и девку флоренскую для брачного согласия уже на дворе амбасадора высмотрел. И тако, господине мой, простите раба Флегонта, а родителев моих престарелых, что на вашем дворе московском живут, прошу не обижать за мое оставление вашей высокородной особы».
Не верилось – и Голицын снова воззвал во тьму локанды:
– Флегонт! Чудило гороховое, да явись же ты…
Но вместо раба, бежавшего лукаво, явились на пороге комнат, словно духи, две тени в черном. Голицын поднял свечу, вглядываясь в потемки, и талый воск струился по руке, капал на черные кружева его камзола.
– Кто вы… сударыни? – спросил Голицын.
Перед ним – две женщины: старуха гречанка, и еще одна тень, тоненькая, вся до бровей закутанная. Не угадать – какова, лишь дыхание колыхало над губами тонкую косынку. Старуха вдруг выступила вперед из мрака – с улыбкой жуткой.
– Русский форестир знатен и богат… О нет, – сказала она, – к чему спорить? Все русские щедры и не знают счет золоту… Я привела вам для радости девственницу, какой цены нет. Всего за десять цехинов…
– Нет! – отказался Голицын. – Я дважды вдов, у меня на Москве внуки, и то недостойно мне тайным блудом грешить. И цехинов лишних у меня не имеется!
Старуха оглядела стол и серебро на нем:
– Пусть красавица украсит ваш ужин…
И вдруг – из-под косынки – голос, слабый:
– Оставьте меня, сударь, у себя. Иначе я проведу ночь в казармах, где грубые супрокомито с галер Венеции… Сжальтесь!
Голицын вдруг подумал о Флегонте: «Куда бежал? Республика – то верно, но рабство и здесь ужасно… О боже, боже!»
– Возьми, – сказал старухе, раскрывая кошелек.
Дуэнья удалилась, и тогда из-под косынки снова вздохнула чья-то затравленная душа:
– Меня вы можете звать Бьянкой. Я так вам благодарна, добрый форестир… Спасибо, что избавили от грубости людской!
Михаил Алексеевич стал хмур. Пересчитал деньги – мало (едва до России доехать). И верный Флегонт бежал из рабства русского в рабство чужое. Его было жалко, а теперь вот… «Расход, – подумал князь, – нечаянный мне выпал… Да и на што мне это?»
Он отцепил кружева от камзола, чтобы не запачкать их. Раскинув локти по столу, Голицын наклонил кувшин, вино разливая:
– Ночи холодные, а здесь не Россия – печей топить не принято. Вот вам вино, согрейтесь… И вот – рыба! Я не богат, как решила обо мне ваша дуэнья, и ужин мой скромен…
Бьянка упала перед ним на колени, прорвалось первое рыдание:
– Возьмите меня с собой, форестир! Я одинока здесь. Не сегодня, так завтра меня продадут в Алжир пиратский… Я изнемогла от грехов людских, а мне всего шестнадцать лет… О нет, – пылко убеждала она, – не думайте обо мне дурно. Я не хочу быть русской княгиней. Я согласна быть вашей рабыней…
– Да русский раб – не флорентийский раб! – сказал Михайла Алексеевич и отвел от лица ее косынку: плакали глаза синие-синие, а волосы до того были рыжи, что казались красными при отблеске свечей; и мелкие веснушки на носу точеном… Стало жаль такой красоты! – Встаньте же, сударыня, – сказал Голицын, – не могу я губить души вашей. И нам, князьям, тяжко на Руси, каково же вам станется?
– Согласна я, – отвечала Бьянка. – На все согласна: стирать белье и мыть посуду. Но только увезите меня отсюда…
Князь Голицын был силен (смолоду матрос да в кузницах немало поработал); нагнулся он и, подняв Бьянку, посадил ее рядом:
– Дитя мое… спасибо вам! За то, что поверили мне.
– Вы не обидите меня… я знаю.
– Конечно нет. Грешно обижать сирых и слабых. Но как же я возьму вас с собою? Россия – веры греческой, вы – веры католической. Как совместить сие – не ведаю. И оттого смущаюсь…
Бьянка подняла бокал с вином. Пила с закрытыми глазами, а из-под ресниц ее срывались слезы: одна… другая… третья…
– Вы попросили меня выпить, и вот бокал пуст! Князь Микаэль, я уже начала служение вам… Преданно и верно!
Михайла Алексеевич спустился во двор локанды. У сонной прислуги разменял цехины на мелкие павлы, чтобы удобнее было в дороге, велел зажечь факелы и донести багаж до пристани… Рассвет открыл долину Арно; мутная и коричневая, река текла средь виноградников и древних башен. Доплыли до Пизы, откуда каналами прибыли в Ливорно. Италия скоро выпустила за свои рубежи двух странных людей – русского князя, целовавшего туфлю папы, и его слугу… Арсения Квартано!
В Женеве Голицын и Квартано уже спали на одной постели. Слуга и господин. Валялось на полу разбросанное белье, но женских юбок не было. Бьянка ехала в Россию под видом мужчины. Со шпагой на боку, как «свободный гражданин Флорентийской республики».
Так вернулся Голицын в Россию, где его ждал «Ледяной дом», а в этом доме – свадьба с грязной калмычкой Бужениновой.
* * *
Аббат Жюббе-Лакур нюхал воздух московский…
Дурно пахло! Тревогой. Сыском. Разоблачением.
Герцог де Лириа покинул Россию, и теперь дипломатический пас аббату никто не подписывал. Кто же теперь аббат Жюббе? Лишь воспитатель детей прекрасной Ирины Долгорукой, на род которых выпали гонения великие. Жюббе чувствовал себя на Москве, как голый человек среди людей одетых. И укрыться нечем! Защитников не стало: князь Василий Лукич – на Соловках, а Кантемир – в Лондоне… «Итак, все кончено. Но, проживи Петр Второй еще немного, и дети церкви восточной имели бы своим ключарем папу римского!»
Легкий шорох за спиной – Жюббе обернулся: перед ним стояла стройная княгиня Ирина, красавица уже в летах.
– Фратр, – прошептала она, – хотите вина?
Жюббе тронул женщину за локоть, привлек ее к себе. Упругая грудь выскочила из-под лифа, и княгиня прикрыла ее ладонью, блеснувшей перстнями. Узкими жадными глазами аббат смотрел, как женщина оправляет лиф платья…
– Рим, – произнес потом он тихо, – не оставит заблудших овец человеческого стада. Мы еще вернемся на Москву…
– Значит, – спросила княгиня Ирина, – вы уезжаете?
– Будем считать, что меня изгоняют.
– А я? Мужа моего сослали, – сказала женщина спокойно (без жалости к мужу). – Долгорукие страдают. Меня спасло, что я урождена княжной Голицыной. Но скоро примутся и за мою фамилию.
– В опасности вам следует отречься от веры истинной…
– Как? Мне, матери детей уже взрослых, раздеться в церкви при народе и снова лезть в купель? У меня язык не повернется, чтоб выговорить клятву отречения.
– Он повернется… по-латыни, – спокойно произнес Жюббе.
– Чтобы никто не понял?
– Да. А отреченье вы дадите не от веры католической, а лишь от веры… лютеранской. Римский папа будет помнить, что дочь его живет среди схизматов…
– Кто-то подъехал к дому нашему, – прислушалась Ирина.
– Меня здесь нет, – сказал Жюббе, вставая.
– Не уходите. На этот раз вам нечего бояться: это мой сородич – князь Микаэль Голицын…
Жюббе, успокоенный, снова опустился в кресла.
– Оставьте нас одних, – посоветовал он женщине.
Шаги – словно удары. Взвизгнула дверь, и вот он – Голицын.
– Аве Мария, – сказал Михайла Алексеевич.
– Аме-е-ен, – пропел Жюббе, знак тайный сделав, как брат брату во Христе: двумя пальцами, едва заметный.
Голицын знака того от аббата не принял и плотно сел.
– У меня, – сказал напряженно, – до вас личное дело.
– Дел не приму. Но слова ваши выслушаю.
– Проездом через Краков я венчан был по обряду истинной веры с гражданкой Флорентийской республики… Вы слышите?
– Да, слышу. Но я лишь труп, который начальство поворачивает в гробу господнем, как ему угодно. Я слышу, но… не слышу!
– Фратр! – с укоризной произнес Голицын. – Я не прошу вас о спасении моем. Но молодую женщину, впавшую в невольное рабство, благодаря любви ко мне, вы должны спасти. Не забывайте, что времена могут перемениться: я еще пригожусь истинной церкви.
– Я могу сделать для вашей жены лишь одно: упрятать ее в доме Гваскони, где, надеюсь, ее не посмеют тронуть…
Голицын шагнул к дверям и вывел из сеней стройного рыжеволосого юношу со шпагой на боку.
– Бьянка, – сказал, – из рабства флорентийского ты перешла в рабство русское… Прости! Вот этот отец отвезет тебя в убежище. Иногда мы будем видеться с тобою. Но тайно…
Грустно пожилому Михайле Голицыну возвращаться домой в одиночество свое. Двух жен уже потерял, счастья с ними не повидав. Теперь дочь его Елена, пока он в нетях зарубежных пребывал, нашла себе дурака в мужья – графа Алешку Апраксина. Пьет зять, дурачится и дворню обижает. Трудная жизнь у Михайлы Алексеевича: лишь к сорока годам из службы вырвался, учиться поехал… А зачем учился? К чему знания приложить?
– Алешка! – кричал князь на зятя своего. – Перестань юродствовать, все едино тебе Балакирева не перешутить.
– Ай, переплюну? – спросил граф Апраксин. – Шутам ныне хорошо живется при дворе. Будто генералы жалованье имеют…
В один из дней Голицын велел везти себя на Тверскую в дом, что в приходе церкви Ильи-пророка. Долго стучал он башмаком в ворота. Заливались внутри усадьбы собаки.
– Откройте же, люди! Я человек, худа не ищущий…
В щелку глядел чей-то глаз – опасливый. Открыл офицер.
– Живописные мастера, Никиты-братья, Иван да Роман по отцу Ивановы, – спросил Голицын, – здесь ли проживают? Имею до них слова приветные от маэстро Томазо Реди из Флоренции!
– Позвольте записать, – сказал офицер, книгу доставая. – Велено всех, кто нужду в Никитиных иметь станет, записывать по форме. Потому как Никитины взяты намедни…
– Куды взяты-то?
– В застенок пытошный. По делу государеву…
Записали фискально: и Голицына (майора) и Томазо Реди (маэстро). Вспомнилось тут ярчайшее солнце над Флоренцией… Голову низко пригнув, плечи сбычив, Голицын шагал к лошадям.
«Надежда России… надежда искусства российского, – размышлял князь. – Разве можно палитры их в огонь пытошный бросать? О Русь, Русь, Русь… до чего же печальна ты!»
* * *
Но палитры живописцев уже сгорели в огне. Их бросил в пламя просвещенный деспот – Феофан Прокопович.
Глава тринадцатая
Князь Санька Меншиков гнал лошадей на Москву, вожжи распустив, во весь опор – лошади кормлены на овсе с пивом, чтобы ехали скорее, вполпьяна! Ужас касался вспотевшего лба, летели во тьму лесов почтовые кони. Санька кусал рукав мундира, весь в хрустком позументе. Всю дорогу не смыкал глаз… Вот и Москва!
А вот и сестрица – Александра Александровна.
– Братик мой золотишный, – сказала, – чую, не с добром ты прибыл… Ну, говори сразу, бей – вытерплю!
– Им, – зарыдал Санька, – деньги нашего покойного тятеньки нужны стали. И получить их могут через нас только. Им невдомек, что мы полушки ныне не имеем, ты сама белье стираешь… Они одно знают: им – отдай!
– Пусть задавятся… Просят – отдай!
– Но деньги берут с тобою вместе. Ждут нас муки огненные, ежели супротив двора пойдем… Так пожалей своего братца, сестрица!
Меншикова выпрямилась, руки ее провисли.
– Кто? – спросила кратко.
– Граф Бирен желает те деньги получить через брак своего младшего брата с тобою. А зовут его Густавом, без отчества, словно собаку, ныне он премьер-майор полка Измайловского… Я уже узнавал о нем: он человек тихий, не пьянственный.
Княжна судорожно вцепилась в плечо брату:
– Бросим все… бежим! Спаси ты меня, а не я тебя!
– Ты спаси, – отбивался от нее брат. – Что задумала? Куда бежать-то? Едем ко двору, там уже кольца заказаны… Иначе дыба, кнут… Помилуй ты меня, сестричка родненькая!
– Видно, прав был тятенька наш покойный: миновали счастливые дни в ссылке березовской, наступила каторга придворная…
Княжна положила в сундук только сарафан крестьянский да кокошник. Села на сундук в санки и застонала:
– Вези, братец… Продавай сестричку свою! Ох, боженька милостивый, на што ты меня породил княжною Меншиковой?..
Анна Иоанновна все эти дни левую ладошку чесала.
– Ох, и свербит! – радовалась. – Кой денек все чешу и чешу. Это к богатству. Видать, испугалась княжна, едет…
Приехала княжна, и поставили ее рядом с прыщавым Густавом Биреном пред аналоем. Императрица сама обручила их. Десять миллионов золотом вскоре прибыли в Россию, и в двери спальни супругов графов Биренов долго стучали средь ночи:
– Эй, откройте… Это я – Густав!
– Придется пустить, – сказала горбатая Бенигна.
Густав вломился в спальню, как солдат на шанцы:
– Где мои десять миллионов? Вы меня обманули…
– Цыц! Ты получишь один миллион, – ответил граф брату и коленом под зад выставил молодожена прочь.
Остальные деньги Меншикова поделили между собой Анна Иоанновна и граф Бирен. «Санкт-Петербургские ведомости» сообщили читателям, что бракосочетание «с великой магнифиценцией свершилось». Бирен ходил веселый, радости скрыть не мог и Лейбе Либману говорил:
– Подлый фактор, наверняка знаю, что тебе известны еще статьи доходов, до которых я не добрался! Ну-ка подскажи…
– Высокородный граф, – смеялся Либман, – в России все уже давно ваше. Даже доход от продажи лекарств в аптеках мы себе забираем! Но есть еще одна статья… Вы сейчас удивитесь.
– Ну же, – прикрикнул Бирен. – Говори.
– Сибирь и горы Рифейские еще не ослепил блеск вашего имени!
– Ты прав. Хватит сшибать макушки, пора рубить под корень… Саксония, – задумался он, – славится своими бергмейстерами. Приищи мне человека, который бы испытал мою доверенность. И я поручу ему все дела Берг-коллегии… В самом деле, Лейба, надо заглянуть мне за горы Рифейские – в леса и горы Сибири!
Граф подошел к окну, выглянул из-за ширм на улицу:
– Ха! А этот глупец еще не ушел… Смотри-ка, Лейба: какой уж день он болтается перед домом моим…
Лейба тоже посмотрел на улицу. Там, стуча ботфортами, мерз среди весенних луж молодой Санька Меншиков.
– Сколько было богатств у его родителя? – спросил Бирен.
– Вот, – показал Либман бумажку, – здесь у меня все записано. Покойный князь Меншиков имел девяносто тысяч мужиков, не считая баб. Владел княжеством в Силезии и шестью городами в России: Ораниенбаумом, Ямбургом, Копорьем, Раненбургом, Почепом и Батурином… При аресте у него наличными отобрали четыре миллиона в монетах, на один миллион бриллиантов, а золота и серебра столового – более двухсот пудов.
– Ладно! – разрешил Бирен. – Сыну его мы отрежем две тысячи душ. И пусть он больше не болтается под моими окнами… Он свое заработал честно!
Таков был печальный конец неправедно нажитого богатства…
* * *
Вешняя вода на Москве сбежала, и сразу жары начались. Трясло первопрестольную в душных ночных грозах. Скинув паричок, хлебая квасок с погребца (рубаха под мышками – хоть выжми), строчил Волынский в Петербург проклятому Остерману (чтоб ему пусто было!). Писал о слонах, даренных персами, как кормить их мыслил, по скольку ведер водки зараз давать, «дабы слоны те в печаль жестокую не уклонились». Бросил перо, помахал бумагой, остужая себя.
И тут двери – бряк: вошел, остронос и худ, князь Дмитрий Михайлович Голицын, верховник главный, заводила кондиций и прочего. Волынский мелким бесом рассыпался перед ним:
– Эй, Десятов, тащи кресла господину высоку сенатору. Эй, Богданов, гони фон Кишкелей, чтобы не смердили тут поганью…
Сел старый политик, все заботы рукою отвел, начал дельно:
– Я тебе, Артемий Петрович, по весне аргамачку выслал, чтобы случил ты ее при заводах своих. А вернулась вчера в Архангельское нежеребая… Выходит, ты меня не уважил!
– Князь, – отвечал Волынский угодливо, – припуск кобыл до жеребцов к первому мая завершаю. Ибо, согласно иппологии научной, жеребята от случки по траве хуже бывают. От добра не случил аргамачку твою… Не серчай, князь! Тебе всегда рад услужить. Ибо что разум твой и весьма печалуюсь я, что от службы ты, говорят, уклоняешься.
Старый верховник улыбнулся кривенько.
– А кому служить-то? – вопросил. – Коллегии боятся Сената, а Сенат боится Кабинета императрицы, где Остерман да Эйхлер-гудошник великую силу взяли. Да и Кабинет тот ничего не делает, пока сверху – из покоев ея величества – указа не сбросят! Императрица во всем совет с графом Биреном держит… Так? А сам Бирен ничего не сделает, пока с подлым фактором Лейбой Либманом не обсудит. Вот я и спрашиваю тебя, Артемий Петрович: кто ныне управляет Россией?
– Оно верно, – вздохнул Волынский, на двери поглядывая. – Мы и не гадали, что из монархии станется. Вышла нам олигархия, да не русская (шут бы с ней – с русской!), а похуже ишо – пришлая. Вот я, коли говорить: да будь я немцем, разве сидел бы тут при лошадях, одну с другой случая? Быть бы мне на верху самом – при Кабинете ея величества!
– Будешь, – сумрачно ответил Голицын. – Ты такой, что будешь при ея величестве. По костям пойдешь, хруста не испугаешься. Высоко взлетишь! Паче ума своего…
И целый день Волынский, после разговора этого, не мог покоя сыскать. Словами князя ущемлен был. И расхотелось писать о заведении «Двора зверового». Где друзья его? Кругом волки… Правду глаголил юродивый Тимофей Архипыч: «Нам, русским людям, хлеба не надобно: друг друга жрем – и тем сыты бываем!» Поразмыслив об этом, признался Волынский – как бы себе в очистку:
– Попробуй стань добреньким – только тебя и видели в чужой пасти! Жри сам, пока другие тебя не сожрали…
И, дела забросив, домой отбыл. Дома он детишек велел звать, чтобы поглядеть на них. Оттаять сердцем. Аннушке да Марьюшке волосы на свой лад расчесал гребешком, а Петруше в глаз плюнул: у сынка, кажись, ячменек на глазу назревал.
– Ты един у меня, – сыну сказал. – Вся надежда и гордость! Даст бог, время лихое кончится, и тебе не придется, как тятеньке твоему, спину гнуть низко… Ну ладно, песни споем!
По пристрастию к Польше, которую Волынский любил давней любовью, он детей своих польским песням обучал:
Была бабуся роду богатего, Мяла козенка борзо рогатего. Ай, тен козенок был барзо тлусты, Дьял бабусенце тысонц глов капусты. Эдце, эдце, пийце, мое миле госце, А за моего козелька пана бога просце…Пел он с детьми, а из головы не шел разговор с Голицыным – разговор опасный, за который можно и на плаху лечь. Да не такие они с Голицыным люди, чтобы по углам жаться… Немного полегчало Артемию Петровичу, когда гость явился – Петр Михайлович Еропкин. Сразу камзол велел чистить, известью пачканный – архитектор прямо со стройки пришел (дом Волынскому возводил на Дмитровке).
– Теперь заживу, – радовался Волынский. – Повоевал досыта, по степям да горам хаживал. И губернатором был, и дипломатом бывать приходилось. От служб этих разных взмок! Спасибо туркам: даже в тюрьме своей посидеть дали. А что может быть гаже узилища в Константинополе? Ай-ай, чего не было! Теперь – хватит… Заживу домком. Жену приищу с лица не корявую, чтобы услаждение иметь охотное. А книги ныне в сундуках держать не стану. От этого скука бывает. Книги должно открыто содержать – в шкафах…
К вечеру пошли косяком – гость за гостем. Андрей Хрущов – интендант и горного дела мастер. Джон Белль де Антермони – доктор, вместе с Волынским всю Персию исколесивший, даже в Китай ездивший; привел Белль молодого врачевателя – Ваню Поганкина, из людей происхождения простого. Стали говорить, не чинясь. По себе гордый боярин, Артемий Петрович умел и ласковым быть. Он Ваню Поганкина потчевал от души, говорил так:
– Я человек карьерный, служивый. И тебе – хошь? – карьер сделаю. Ты вот естество человечье вызнал. А лошадиное – ведомо ли тебе? А ведь зверь всякой, как и человек, лечиться желает. Хочу завесть на Москве аптеку лошадиную. Да лазареты конские…
Легкой поступью в кафтане голубом, обшитом позументом и кружевом, вошел смуглый калмык – Василий Кубанец, и к уху господина своего приник доверительно.
– Не шепчи, – сказал ему Волынский. – Говори смело!
– И взяли уже, – заговорил Кубанец, с умом стол оглядывая, – типографщика славного Авраамова и живописных мастеров Никитиных, о коих Москва особливо жалеет. Памфлеты же, кои писали они противу власти духовной, ныне относят к тому же злодейству, что и «кондиции»! А в доме у Покрова на Тверской вой по ночам слышен: заперли жен и детей мастеров живописных, кормить их некому, из-под стражи не выпущают…
Кубанец вышел, а Джон Белль сказал Волынскому:
– Слишком знающ у вас раб ближний. Такие люди опасны для господ своих. К чему ваша доверенность к рабу?
– Крепок господин в рабе, и раб крепок в господине, – продуманно отвечал Волынский. – Мой Базиль – не чета прочей дворне. Мне иной час душу отвесть не с кем: вот с ним и беседую… Что головы повесили? Не бойтесь в доме моем дерзать открыто. У меня доводчиков нету. Весь я тут перед вами, страдающий сын отечества…
Еропкина в этот раз он у себя ночевать оставил.
– Ты мне нужен, – сказал. – Послушай меня… Людишек я презираю, каждого по отдельности. А вот народ, верь мне, люблю! Я патриот славный – не хуже Дмитрия Голицына буду. А людишек топтал и топтать стану далее. Коли молчат они… Не пикнут! Достичь же вершин пирамид фараонских могут лишь орлы или гады ползучие. И вот я, где ястребом, где ужом, но высот горних в государстве нашем достигну…
– И по костям людским пойдешь? – спросил Еропкин.
– Пойду, – честно отвечал Волынский, не дрогнув. – Потому что задумал я дело великое: надобно отечество спасти от скверны худой… А – как спасти? Ты знаешь?
– Нет, – отрекся Еропкин.
– А-а, и никто не знает. И взятые ныне за памфлетописание живописцы Никитины и типографщик Авраамов – тоже не знают. У меня другой путь… Гадом или коршуном, но достигну я высот небывалых. И вот оттуда, с вершины пирамиды российской, всех Остерманов и Биренов я спихну!
– Спихнешь, – кивнул Еропкин. – И сам сверху сядешь?
Но Волынский думу тайную при себе утаил.
– Спокойной ночи, архитект, – сказал и на свечу дунул…
Среди ночи Артемия Петровича разбудили. Да столь дерзко, что Волынский руку под подушки сунул, где пистоли у него лежали. Но то был гонец государев – весь грязью дорожной заляпан.
– Велено графом Салтыковым, – сказал, – лошадей из Комиссии отпустить самых добрых. Ехать мне в Тулу!
– А что там… в Туле-то? – зевнул Волынский.
– Воевода тамошний белого кречета видел. И ея величество, государыня наша, приказала ехать и того кречета имать скорее.
– Ну-ну, – сказал Волынский. – Имай, имай…
* * *
– Имай яво… имай!
Офицер флота был мал, но строен. Запомнилось сыщикам только одно: брови густые, черные. Шпагу выхватив, срезал лейтенант сразу пять свечей в шандале, и загасло – темно, мрак.
Сыскные людишки – за ним по лестнице.
– Мы тебя знаем… не уйдешь, – кричали. – Мы все про тебя знаем: ты флота лейтенант и брови у тебя черные!
Это было в летнюю ночь, но она не была белой. Только штаны у офицера белели в потемках. Он улепетывал к воде, словно гусь к родимой стихии. А там – корабли с пушками: «Эсперанс», «Митау», «Арондель», «Бриллиант» и прочие. И офицер этот скрылся.
Сыскные людишки воды боялись – бегали лишь по берегу…
Дошло это до Ушакова, и великий инквизитор повелел:
– Не уйдет! Флота лейтенант да брови черные… Уже по тем знакам найти его можно! Вестимо, злодей тот флотский на кораблях затаился. А посему на фрегатах «Эсперанс», «Митау», «Арондель» и «Бриллиант» сечь команду через пятого на шестого, пока не выдадут затейщика слов мятежных…
И, таково распорядясь, Андрей Иванович опять заснул. Но зато разбудили Федора Ивановича Соймонова – пришел к нему француз Пьер Дефремери, командир фрегата «Митау».
– Федор Иваныч, – нашептал капитан, – там через пятого на шестого матросов секут. А ищут лейтенанта Митьку Овцына, который спьяна или в сердцах худые слова на Бирена сказывал…
– Где Овцын? – спросил Соймонов, вскакивая.
– Я его в твиндеке за бочками с порохом спрятал. А туда со свечами и фонарями входить не положено, ибо фрегат под облака взлетит, и сыщиков я уже взрывом корабля застращал.
– Едем, Петруша! – Сборы недолгие, флотские, поехали…
Первым делом Соймонов, распалясь, стал вышибать с флотилии сыщиков и катов.
– Прочь! – бушевал Соймонов. – Здесь флот ея императорского величества, а не застенок ея величества…
Ванька Топильский, секретарь Тайной канцелярии (вор и кат непотребный), даже обалдел от такой дерзости.
– А кто вы есть, сударь? – спрашивал.
– Я есть шаухтбенахт! Я есть адмиралтейств-коллегии прокурор! Я есть флота обер-штеркригскомиссар… А ты откель взялся?
Выгнал всех. Потом спустился по трапу в темный твиндек, где укрылся от розыска и пыток молодой офицер.
– Митенька-а, – позвал его Соймонов во мрак, – не бойся, это я… прокурор твой!
А в каюте Соймонов внушал Овцыну по-отечески:
– С такими-то бровями… эх, пропадешь ты, Митька! Или от Ушакова, или от девок румяных, но пощады себе не жди. Время нехорошее. Науке же российской не стоять на месте – плыть и далее… Штурман ты славный, так я тебя в Камчатскую экспедицию к Витусу Берингу запрячу. И там, себя трудами прославляя, ты убежишь от инквизиции лютой. И девки сибирские, чать, не соблазнят тебя…
До поры до времени, пока не забылась эта история, Пьер Дефремери, француз отчаянный, укрывал Митеньку в салоне своего фрегата. Лейтенант Овцын, скучая, присаживался за клавесин:
Я пойду в сады, в винограды, Но сыщу ль где сердцу отрады?..Это был модный романс сочинения Егорки Столетова.
Глава четырнадцатая
Кабан так и пер на ея величество – на матку, на осударыню.
Харя у него – в пене бешеной, клыки – как ножики, глазки маленькие, желтым гноем заплывшие. Его лишь вчера под Лугой егеря поймали и вот привезли императрицу потешить. Анна Иоанновна, в красной кофте, стояла нерушимо, как ландскнехт. Приклад мушкета вдавила в жирное плечо. С писком разлетелись по кустам фрейлины. Хру-хру-хру… и! и! и! – кричал кабан, наступая стремительно. Анна Иоанновна не ушла – выстояла. И кабана того наповал убила.
– Тащите на кухни! – велела потом, и тут стали подходить придворные, поздравляли ее; а Данила Шумахер побежал в Академию наук, чтобы успеть к завтрему напечатать в «Ведомостях» о том, что «ея величество изрядно изволили тешиться, из собственных ручек кабана дикого застрелив со всем благополучием…»
Дворцы, Зимний и Летний, трещали. Из окон их, словно с бастионов, вылетали пули и стрелы, разя все живое. Иногда для потехи стреляли в народ. Правда, не пулями – чай, душеньки-то христианские (убивать их жалко). Палили в толпу ракетами, и было много обожженных, порохом изувеченных, и были разные калеки… От этих ракет потешных уже два раза горела Академия наук. Со дня на день ждать было можно, что Академию совсем спалят…
Анна Иоанновна велела Остерману издать указ:
– Чтоб никто не смел под моей резиденцией охоту иметь! Зайцев чтоб на сотню верст округ никто не бил. А куропаток – на двести верст не трогать. Моя охота – царская: кажинная птичка мне на забаву порхает. И убью ее всласть!
Но никак не могла приучить к охоте свою племянницу.
– А ты чего зверье не убиваешь? – спрашивала.
– Жалко, тетенька… – отвечала Анна Леопольдовна.
– Эва! С чего жалеть-то? Полные леса дичи разной…
Грызла ее тоска. И подозрительность. Озиралась. От тоски этой шутовство лечило. Приживалок забавных немало уже скопилось. Анна Федоровна Юшкова (лейб-стригунья) при дворе матерным речам научилась, чем очень потешала царицу. В говоруньях были две княжны – Щербатова да Вяземская, они без конца языками трещали. Судомойка Маргарита Монахина была весела и сказки разные сказывала. Драгунские женки – Михайловна и Руднева – здорово пятки чесать умели. Дарьюшка-безручка – любимица Анны Иоанновны: девица эта без рук родилась, все умела зубами делать, и за то ее жаловали. А в покоях царицы летали ученые скворцы, прыгали мартышки… И пели за стеной фрейлины голосами осипшими!
Князь Никита Федорович Волконский попал ко двору Анны Иоанновны не из милости, а из мести. Супруга у него была – Аграфена, которую на старости лет в тюрьму заточили: жена с разумом великим, книги философские читала, и очень не любила она царевен Ивановных! Никиту Федоровича, в отместку за жену, ко двору вызвали и велели ему за левреткой царицы ухаживать. Бантик ей повязывать, гребешком расчесывать!
Стоял Волконский в стороне и горевал: умерла недавно жена, а письма, какие были при ней, ко двору забрали. Письма были любовные, он их писал Аграфене, когда молод был. И письма те при дворе открыто читали (в потеху!) и смеялись над словами нежными. По молодости страстной называл князь жену свою «лапушкой», да «перстенечком сердца мово», да «ягодкой сладкой»… Вот хохоту-то было! Смеялись все, а он… Плакал он тогда, юность вспоминая.
Вдруг его по ногам кто-то – хлесть!
– Ай, – вскрикнул старик от боли.
Это маленький граф Петр Бирен подкрался да хлыстом лошадиным боярина по ногам.
– Сиятельнейший граф, – склонился вельможа перед мальчиком. – А вот я вашему тятеньке пожалуюсь… Побаловались и будет.
Снова взлетел хлыст – по ногам Левенвольде. Но обергофмаршал Рейнгольд молод был – подскочил ловко, и хлыст мимо пролетел.
– Я тебе все уши оборву! – пригрозил он мальчику.
И тогда хлыст опять обжег кривые ноги князя Волконского; побежал старик жаловаться самому графу Бирену:
– Высокородный граф, обнадежьте меня в своей милости. Сынок ваш старшенький (экий шустряк!) шалит больно. Да немолод играть я с ним. Внушите ему, что князь я… Знатный!
Бирен посмотрел на Волконского сверху вниз.
– Не князь, а – грязь, – сказал по-русски.
– Помилуйте… Три сына в чины гвардии вышли, зятья мои, Бестужевы-Рюмины, при дворах иноземных послами живут. Разве я шут?
Прошел граф в «анти-камору», где его сын резвился, отнял у него хлыст. Помахивая хлыстом, расчистил себе дорогу среди придворных до дверей покоев императрицы.
– Анхен, – сказал он, – русские князья опять задирают нос сверх меры. А это оскорбляет меня и мою дружбу с тобою.
– Да что же мне? – вознегодовала Анна. – Драться с ними, что ли, идти?.. Разбирайся сам как знаешь!
Бирен в гневе щелкнул хлыстом:
– Где Лакоста? Эй, звать сюда «короля самоедского»… – И шуту велел: – Тащи сюда Волконского и сам предстань здесь.
Через весь зал, обтерхивая колени, к Анне полз князь Никита Волконский, хватал в руки подол царицыной робы:
– Матушка… кормилица моя! За собачкой уж я пригляжу… Но защити! В работы каторжные сошли, в железа меня закуй, но токмо не бесчесть ты меня, старого и вдового…
Анна Иоанновна повернула к нему лицо – величаво.
– А кто главной язвой был на Москве? – спросила. – Кто меня публично дурою обзывал?.. Твоя женка, змея подколодная!
Лакоста потянул Волконского за штаны – лопнул пояс.
Никита Федорович, на полу лежа, отбрыкивался:
– Пусссти, пессс! Матушка, сжалься… Гляди, что делают!
– Рви! – крикнул Бирен, и штаны с вельможи слетели.
Старый князь вскочил – треснул Лакосту по уху.
Сцепились тут они. В драке жесточайшей.
Кулаки… зубы… ногти – все пошло в ход.
– Ай да князь! – ликовал Бирен, наслаждаясь.
– Ну и распотешил же меня… – радовалась царица.
И кровь на лице князя мешалась со слезами ярости ненасытной. Лупил он «короля самоедского» – владельца острова Соммерс (безлюдного). Сам же – владелец вотчинок и деревенек (мужиками населенных). А когда разняли их, то стоял Волконский без штанов и не чуял уже сраму…
Бирен выгнал Лакосту с князем за двери:
– Ну вот, Анхен! А ты на Митаве пожалела глупого Авессалома. Любой князь будет шутом… Таковы все русские!
* * *
– Нет, матушка, – отвечал Балакирев. – Ты как хошь, а я тебе шутовствовать не стану. Не с того конца смех получается… Ослабел я, память хуже решета стала: теперь туда хоть арбузы клади – все равно провалятся.
– Не бойсь! – отвечала Анна, смеясь. – От тебя смысла да памяти не потребуем. Договоримся так: мой – ум, твоя – дурость!
– Только давай, матушка, иногда меняться. Мне иной раз от дурости моей тяжко, а ты от ума великого часто погибаешь…
– Но-но мне! – пригрозила императрица.
– Вот и гром раздался вроде, – прислушался Балакирев.
Анна Иоанновна ему оплеуху для начала – раз!
– Вот и молния сверкнула, – сказал Балакирев…
Чтобы его в покое оставили, начал он хвастать про дядю своего – Гаврилу Семеновича Балакирева, что ныне (драгун в отставке) имеет свое жительство в сельце Маковицы по уезду Коломенскому.
– А что? – оживилась императрица. – Весел ли он?
– Я перед ним – отставной козы барабанщик…
Анна Иоанновна велела дядю Балакирева звать ко двору на кошт казенный. От вызовов таких многие умирали в дороге (от страху).
– А чтобы нашей милости он не пужался, – сказала Анна, – предупредите: худого не будет, лишь хорошее. Для веселья, мол, надобен!
Вытащили из глухой провинции старого драгуна, заросшего сивым волосом. Велели ему не пужаться. Привезли. Весть о новом шуте, который весельем своим забьет племянника, облетела придворных. Заранее собрались во дворец, как в театр. Вот ввели старого драгуна в апартаменты, Анна Иоанновна на кровать легла, а Лакосте и князю Никите Волконскому крикнула:
– Эй, лодыри! Рвите его… для азарту!
Кинулись шуты на старого Балакирева и стали рвать с него штаны. Но драгун оказался опытен: он шутов сокрушил и, за поясок себя держа, отвечал императрице без боязни:
– Великая государыня, неужли только на то и звала меня, чтобы штанов последних лишить? Ты штаны с меня, как и крест божий, податьми не облагай. Вторых мне не справить уже! Потому как проелись мы с мужиками дочиста…
Анна захохотала, и все вокруг нее тоже.
– А ты и впрямь весел, – похвалила императрица. – Ну-ка, подпусти еще перцу. Тогда я тебе сукна на вторые штаны выдам…
– Эх, матушка! – огляделся старый Балакирев. – Что там с перцем? Могу и с собачьим сердцем. Да жаль, полно немцев!
Снова хохотали. Но Анна Иоанновна нахмурилась:
– Ладно, распотешь нас. Расскажи про свое отставное житие. Сколько рубах носишь? Каково сено косишь?
– Эх, великая осударыня, плохое житьишко настало. Обнищал мужик на деревне. Правежи, да плети, да пустые клети… Не ведают, чай, министры твои, что беден мужик – бедно и государство. Коли богат мужик – и государство богато станется. Истина проста!
Хохот разбирал придворных, но Анна не улыбнулась:
– Коли веселых баек не знаешь, так хоть про разбойников расскажи нам… Бывают ли они у вас в уезде?
Гаврила Семенович Балакирев ответил ей:
– Кака же Русь без разбойников? Коли правители да воеводы разбойничают, так и простой народ, под стать им, на большую дорогу выходит. Да кистенем нам, грешным, во тьме путь освещает. И чем более холопы твои, матушка, народ грабят, тем более звереет народ простой, и к труду его не преклонишь… Вор на воре!
Анна Иоанновна с постели соскочила, рукава поддернула:
– Мы тебя для веселья звали! Не пойму я шуток твоих: то ли весел ты, то ли злишься?.. Государи за весельем к шутам прибегают, а ума чужого им не надобно… Своего у нас полно!
– Не всегда, матушка, – отвечал старик. – Аль не слыхала ты, что государи за мудростью к философам бегать стали? Вот только не было еще примера такого, чтобы философ за мудростью к государям бегал…
– Бит будешь! – крикнула Анна, побагровев.
– За што? – изумился драгун в отставке…
Анна Иоанновна глазами Ушакова в толпе выискала:
– Андрей Иваныч, сведи гостя моего на кухню. Пусть его от стола моего накормят до отвала. Да пущай сразу же к себе в деревню обратно уползает. И в городах моих чтобы не жил – у него язык больно поганый, плевелы округ себя сеет!..[21]
Иван Емельянович Балакирев противу воли своей был оставлен в шутах при дворе. Пришел он как-то, по должности своей, в приемную камору, а там уже придворные собрались. Здесь и Остерман был, который на болезнь свою жаловался.
– Подагра столь измучила меня, – говорил, стеная, – что не могу я ни стоять, ни лежать, ни сидеть, ни ходить…
– А ты висеть не пробовал? – любезно спросил его Балакирев. – У повешенных любая подагра сразу проходит…
Потом, готовясь к выходу царицы, заспорили в уголке Рейнгольд Левенвольде с генералом Ушаковым – кому в церемонии впереди следовать.
– Вору всегда надо первым идти, – сказал Балакирев. – А палачу за вором неотступно следовать… Такой уж порядок!
Вышел из покоев императрицы граф Бирен, улыбнулся всем ласково. Князь Александр Куракин с Трубецким заспорили – кому из них Бирен улыбнулся.
Балакирев прислушался к их спору и заявил громко:
– Всегда собаки из-за кости дерутся. Но впервые вижу, чтобы две кости из-за одной собаки дрались…
Вот уже и пять врагов у Балакирева – да еще какие враги!
К вечеру за все «штрафы» он в караульне десять палок получил. Потом на кухню пошел; там ему припасов от царского стола выдали. И поехал Иван Емельянович со спокойной совестью домой – семью кормить!
По дороге встретилась ему карета, а в ней княгиня Трое – курова.
– Ой, – пискнула, – я вас где-то видела недавно!
– Ваша правда, – отвечал Балакирев. – Я там, где вы меня видели, частенько бываю… Нно-о, кобыла моя! Чего уставилась? Или подругу свою повстречала?
* * *
Маслов проснулся засветло. Дунька, рябая умница, из постели дремно смотрела, как муж суетно кафтан натягивает, шпагу нацепляет. Не сыт, не мыт – в Сенат!
– Забодают тебя господа высокие, – пригорюнилась.
– Не каркай! – отвечал. – Они бодаться горазды, а у меня рогов нетути. Я рогами самого графа Бирена их бодать стану…
Вот и сегодня: бумаги важные из Смоленска получены; там, в губернии Смоленской, траву едят и колоду гнилую. А в Переславле-Рязанском купечество столь доимками выжато, что и бургомистра выбрать не могут: торговцы дома свои заколотили и разбежались. Дело ли это? Без купечества городу любому – гроб с крышкой… По дороге завернул Маслов в Тайную розыскных дел канцелярию, где седенький, сытенький Ушаков, рано восстав, уже акафисты сладкие распевал.
– Андрей Иваныч, – сказал ему Маслов, – ты Татищева шибко не рви: он отечеству большую выгоду принесть способен.
– На все воля божия, – отвечал Ушаков. – Никитич в винах, и рвать его… не порвать! А на што он тебе сдался, прокурор?
– Надобно промыслы горные умножать, а Татищев дока в минералах. Моя бы власть, так я бы с него украденное взыскал, а инквизицию к миру б привел. Да и перечеканку монет иноземных на русский манир – кому, как не ему, доверить?
– Доверь… козлу капусту, – ответил Ушаков. – Он тебе из этих монет скрадет еще больше… Ты, Анисим Ляксандрыч, мои дела не трогай… Хоша ты и обер-прокурор, но у меня в пытошных своих прокуроров достаточно. Што ты пришел в утрях самых и наказы мне учиняешь? Сенат, Кабинет, Коллегии – все это мирское, от меня далече. Канцелярия тайная – вроде Синода Святейшего: я охотник до душ людских! Я здесь сердца людские с огня познаю. Инквизиция государева от государства отделена, но таким побытом: нет Рима без папы римского, как нет России без «слова и дела»…
Маслов далее покатил, зубами щелкнув: так бы и рванул всех, словно волк, Ушакова и прочих… «Одначе, – размышлял дорогой, – надо хитрее быть. Эвон Волынский-то как! Его не раскусишь: улыбнется он тебе, отвернись – и враз по затылку кистенем хватит, уже не встанешь…»
– Господа высокий Сенат притащились? – спросил он у секретаря Севергина. – На сей день сколько особ будет в совещаниях?
– Трое, – отвечал Севергин, вставая покорно.
– Вот и всегда так: в Сенате трое, в Кабинете трое, и только один я за всех должен о нуждах крестьянских помышлять…
Грозны и слезливы дела доимочные: по стране теперь ехать страшно, будто Мамай войною прошел. Избы деревень заколочены, в пыли ползают нищие, пастух коровенок с десять выгонит утром в поле… Разве же это стадо? И, ничего не страшась, Маслов всюду говорил так: «Петербург, будто зверь яростный, все соки из страны высасывает. На пиры да в забаву себе. Да чтобы пыль в глаза иноземным посольствам пускать. Но Петербург – еще не Россия! Россия – это вся Россия, и мужик ее – в первую голову и есть сама Россия…» Сенаторам он дел накидал (до вечера не разберутся), а сам отбыл в Зимний дворец. И – прямо в Кабинет императрицы; Иоганн Эйхлер руки раскинул, его не пропуская.
– Нельзя, – говорил Иогашка, – там ныне дела важные…
Маслов кабинет-секретаря отшиб со словами:
– Нет дел важнее, паче мужицких – дел голодных!
В Кабинет прошел, гневный, а там – все министры: Остерман, Черкасский, Головкин; обер-прокурор начал при них такую беседу:
– И не стыдно тебе, бессовестный князь Черкасский? Доколе же ты, в тройке сей главной, будешь над мужиком глумиться?
– Николи и не бывало, – сказал Черкасский.
– Ты богат, как курфюрст Саксонский, – горячо продолжал Маслов. – Не твои ли мужики на Смоленщине кору с дерев гложут? Гляди на себя: пузо-то какое наел. Одних бриллиантов на тебе сколько… тьма! Неужто все мало? Почто копишь? Одна у тебя дочка, так нешто приданого еще не скопил? Уймись, князь. У тебя руки богатые, а у меня – смотри – руки длинные…
Великий канцлер империи Головкин сказал:
– Уймись ты сам и не маши в Кабинете тростью.
– Не уймусь! – отвечал Маслов. – Смоленск есть земля рубежная: мужик русский в Польшу бежит. От бессовестности помещиков наших безлюдет земля русская. И мне – молчать?.. А ты, канцлер, трость мою благословлять должен, как трость патриота истинного! Я сын отечества не на словах – на деле…
Остерман, буклями парика тряхнув, пробурчал внятно:
– Анисим Александрович разговаривает с нами так, будто мы не первые персоны в России, а лишь приятели его из трактира. И Кабинет ея величества, высшую палату государства, он по привычке пьянственной, видать, с трактиром путает…
Черкасский, заручку почуяв, плюнул в лицо Маслову:
– Говорили тебе – уймись, а ты кричал. Теперь же – утрись.
Маслов плевка не вытер и закричал в гневе яростном, душу облегчающем:
– Вор ты, князь Алексей Михайлович! И погубитель ты есть российска крестьянства. Ты меня харкотиной своей не обидел, а возблагодарил. Спасибо тебе, князь! Видать, и правда я на верной дороге стою, ежели такие паршивцы, как ты, меня презирают. Вот теперь утрусь! Утрусь, но не уймусь… А тебя затрясу. Так и знай про то, грыжа старая! Пока жив – не отступлюсь…
На лестнице его нагнал Эйхлер – толстый, важный.
– Господин Маслов, – шепнул, – а я ведь все слышал.
– Хорошо ли это, персон высоких разговоры подслушивать?
– Господин Маслов, я вами… восхищен!
– Да с чего бы это? – усмехнулся обер-прокурор. – Или вы, сударь, еще не успели мужиками обрасти? Обрастете, и вас затрясу.
– Остерман ненавистен мне, – признался Эйхлер. – Знали бы вы, как он ужасен в жадности: копит, копит, копит…
– Дам совет: обворуй его и беги!
Эйхлер отступил на шаг, и нестерпимо брызнули искрами бриллианты на пряжках его нарядных башмаков.
– Напрасно, – сказал Эйхлер печально, – вы со мною так разговариваете. Ведь я могу быть вашим конфидентом… Сиречь – тайным сообщником в делах опасных.
– В конфидентах не нуждаюсь, – ответил Маслов. – Мои конфиденты – суть простонародие российско!..
Бирен сегодня прихворнул и не вставал с постели, когда вошел Штрубе де Пирмон (секретарь графа) и доложил, что явился действительный статский советник Маслов… Допустить ли его?
– Маслова, – ответил Бирен, – всегда допускать до моей особы беспрепятственно, ибо он Остермана, как и я, терпеть не может.
Выслушивая обер-прокурора о нуждах мужицких и кознях Кабинета, Бирен фантазировал. Ему нравилось, что он нашел средь русских человека не знатного, но лобастого. Маслов все время стучит, стучит, стучит… Стучит по истукану Остерману, чтобы, раскачав, повалить и расколоть его вдребезги. Именно того же издавна желал и сам Бирен…
– Ну хорошо, – сказал граф, не дослушав. – Мужики и доимки – это все… трутти-фрутти (пустяки)! Но суть-то обид ваших, я чаю, заключена в одном человеке, имени которого мы с вами произносить не станем, ибо он – подл и коварен!
– Верно! – ответил Маслов графу. – Но этот человек забрал такую силу в Кабинете, что стоит ли впредь называть нам Кабинет Кабинетом ея величества? Не лучше ли сразу назвать его Кабинетом того человека, имени которого мы произносить не станем?..
Бирен глянул на Маслова из-под вороха жарких одеял. В спальне не было окон, и, чуть потрескивая, горели свечи в жирандолях.
– Мой друг, – сладко зевнул Бирен, – вашу доверенность к своей особе я испытал не однажды. Скажите, чего вы желаете от меня? Золота? Много ли?
– Слава богу, я сыт, – отвечал Маслов.
– Именье? – спросил Бирен, сбросив колпак с головы.
– Володею усадьбою по жене.
И вдруг Бирен вскочил – босой, в одном исподнем.
– Слушай! – крикнул. – Уж не обманываешь ли ты меня?
– Нет.
Граф вернулся в постель, с головой укрылся одеялами, и долго было тихо в опочивальне. Бирен открыл лицо – рассмеялся.
– Я придумал, – сказал он. – С сего дня ты будешь иметь доступ к ея величеству. И все, что говоришь мне, отныне можешь говорить лично императрице. А более мне мужиками не докучай…
После Маслова явился к фавориту барон Кейзерлинг.
– Допускать тоже всегда? – спросил де Пирмон.
– Не всегда… Но иногда можно.
* * *
– Ну, добрый Кейзерлинг, с чем ты пришел?
Кейзерлинг сел в изголовье постели графа:
– Вы негодяи… все! С тем я и пришел к вам.
– Побойся бога, – ответил Бирен. – Ты же не безбожник.
– Но я умнее безбожников и хорошо умею благодарить за дружбу, не в пример графу Бирену, который ныне, в чине обер-камергера, лежит передо мной в постели, повернувшись сиятельным задом…
Бирен с хохотом подпрыгнул на подушках:
– Вынь камень из-за пазухи… Что тебе надо?
Кейзерлинг расшаркался в шутовском поклоне.
– Ваша светлость, – дерзил он нагло, – наверное, еще не забыли, сколько пришлось вам вытерпеть на Митаве от гордого курляндского рыцарства?
– О, помню, помню.
– И кто тогда, презрев условности, не пренебрег вашей дружбой? Мне кажется, этого человека звали бароном Карлом Генрихом Кейзерлингом?
– Сядь! – велел Бирен. – Сядь и не паясничай…
Кейзерлинг открыл табакерку, чтобы нюхнуть табачку, а на закопченной ее крышке был выцарапан план разговора:
1. Слегка пошутить.
2. Вызвать гнев.
3. Закончить дело.
Он уже пошутил как мог, теперь осталось вызвать гнев. Это было совсем не трудно. Кейзерлинг напомнил Бирену, как однажды в ратуше его присудили за долги к битью по щекам, и при всем народе каждый рыцарь подходил и давал ему оплеуху…
– Замолчи! – крикнул Бирен, вспыхивая.
Тихо щелкнув, табакерка закрылась…
– Конечно, – сказал Кейзерлинг, добродушничая, – теперь не мешало бы с высоты величия и плюнуть в митавский котел, где варят свой тощий суп угрюмые рыцари… Впрочем, вот послушайте, граф! Ведь вам можно по праву считаться рыцарем нашего курляндского ордена… Законно!
– Конечно, – скромно согласился Бирен. – Я напомню тебе: мой отец был корнетом, потом лесничим, мой дядя умер комендантом в Могилеве, а дед… ну, правда: дед был конюхом при Иакове!
– У вас, – ответил Кейзерлинг, – есть основания быть причисленным к древнейшему из родов в Европе… В королевстве Франции издавна славен знатный род Биронов. Недавно я сверился по книгам. И вот вам результат: один из этого рода пропал куда-то, обремененный долгами и нежными любовницами…
– Как пропал? – ошалело спросил Бирен.
– Пропадают всегда одинаково: выходят из дома, но обратно в него уже не входят… Так было и с вашим предком!
– Ага! – задумался Бирен.
– Потом имя Биронов услышали дремучие леса Курляндии, но исказили произношение. Стало – Бирен!
– Я тебя понял.
– Боюсь, что не совсем… Но лучшего пока и не придумать. Фамилия почти не требует изменений. Лишь вместо «БирЕн» надобно говорить так: «БирОн»… Вот и все!
– Молчи, – испугался Бирен. – Пока ни звука об этом. Но я запомню о твоей услуге. И отблагодарю… Чего ты хочешь?
– О, сущих пустяков! Хочу стать президентом Академии наук.
– Ты с ума сошел! Там же – Блументрост.
– Вот именно, что там его давно уже нету. Делами всеми заправляет Шумахер, вызывающий массу нареканий.
– Погоди, – сказал Бирен. – Не все сразу…
Глава пятнадцатая
В потемках царского дворца случилось быть неприятностям…
Фрейлина императрицы Фекла Тротта фон Трейден пробиралась как-то до своих комнат – со стороны кухонь – со свечкой в руках. Время было позднее. Вдруг на нее выскочил из темноты какой-то офицер, потащил девицу в закут под лестницей, где и стал ее насиловать.
На крик бедной девицы сбежались солдаты из караула…
Граф Бирен, узнав об этом случае, пришел в бешенство:
– Кто этот негодяй?
– Этот негодяй, – ответили ему, – убийца известный. В чинах прусских он прибыл из Берлина, а зовут его полным именем так: Людольф Август фон Бисмарк…
– В цепи его! – велел Бирен. – В крепость… на хлеб и на воду. Растерзать! Он обесчестил славный род Тротта фон Трейден.
Андрей Иванович Ушаков сам занимался этим делом.
– Ну, полковник, – сказал он Бисмарку, – ты в темноте дворца царского на всю жизнь ошибся… Велено мне тебя на сто кусков порвать и каждый кусок отдельно собакам бросить.
– За что такая лютость? – ужаснулся Бисмарк. – Эта девка постоянно крутилась при кухнях, снимая с котлов жирные пенки, и я принял ее за простую кухарку.
– Увы, – ответил Ушаков, – это не кухарка, а родная сестра сиятельной графини Бирен… вот тебе и пенки! Молись богу, полковник. Пастора завтрева сыщем и приведем для покаяния…
Потом навалился на Бисмарка, заколотил в рот ему «испанский кляп». Щелкнула потаенная пружина, и груша кляпа механически раздвинулась во рту Бисмарка, даже глаза на лоб полезли, столь широк был кляп этот.
– Лежи тихо, – сказал Ушаков, а сам из крепости в Тайную канцелярию отправился. Было уже совсем поздно. Ушаков по опыту знал, что время ночное всегда способствует слабости человеческой: днем с огня человек того не покажет, что ночью выдаст. Ночью его удобнее на слове проговорном уловить.
Шинель, до пят длинную, Андрей Иванович в сенях Канцелярии на руки Топильского (секретаря своего) сбросил, пожаловался:
– Старею… Вот и мерзнуть стал, Ванюшка.
– В пытошную пройдите, – отвечал Топильский. – Там как раз палачи огонь разводят… Тепло там – прямо сласть!
Пытошная – словно кузница, горят горны, а в них медленно зреют докрасна клещи, фукают мехи, нагнетая в жаровни воздух.
– Какие дела-то у нас на сей день? – спросил Ушаков.
– Парсунных дел мастера, живописцы – братья Никитины…
Инквизитор империи на бревне попрыгал, упругость дыбы проверяя. Велел палачам огонь держать – на случай, ежели запираться станут, и готовить пока плети… Очки нацепил и сказал:
– Учнем с божией милостию… Ввести первого пациента!
Но тут ввалился, с ног падая, Ванька Топильский:
– Погоди с пациентом… гости жалуют!
А за ним, прямо в смрад пытошный, шагнула придворная дама. Ушаков даже ахнул… Это была сама Фекла Тротта фон Трейден!
– Если вы, – сказала она шепотом зловещим, – тронете полковника Бисмарка хоть пальцем, я найду способ, чтобы вас…
– Голубушка! – расцвел Ушаков. – Да с чего мне трепать-то его? Рази я молод не был? Все понимаю…
Проводив нежданную гостью, он Топильскому наказал:
– Ванька! Езжай скорее в крепость да кляп гишпанский из глотки Бисмарка выдерни. И что ни попросит – давать. Вина не жалеть. Пусть жрет и пьет, каналья. Видать, судьба его иная…
Топильский кляп изо рта Бисмарка выдернул:
– Ну, полковник, в темноте дворца царского ошибся ты здорово и для судьбы своей полезно… Теперь, чую, быть тебе в фаворе великом. Ты и меня не забудь, в случае чего. Топильский я! Меня здесь кажинная собака знает… Ванька я!
* * *
Мчался по снегам русским роскошный поезд в сорок лакированных карет венских, на полозья от Киева ставленных. Сверкали зеркала и гербы пышные, скакали трубачи, оглашая печальным ревом леса и долины, впереди поезда гайдуки сшибали шапки с мужиков проезжих.
Словно сон, будто сказка, несся кортеж по дорогам, гонимый злодейкой-политикой в сторону столицы России. А позади поезда ехал офицер замыкающий и часто водку на «ямах» пил.
– Везем его высочество, – рассказывал, – принца Антона Ульриха Брауншвейгского, высоконареченного жениха принцессы нашей Анны Леопольдовны Мекленбургской. Дай-то бог, чтобы зачала принцесса нам царя хорошего, доброго и неглупого! Прощайте, люди, за хлеб-водку спасибо… Спешим мы от Вены самой, как бы не опоздать в Питер ко дню рождения императрицы Анны Иоанновны!..
Навзрыд рыдала в Петербурге, жениха поджидая, принцесса Анна Леопольдовна – девочка.
– Не хочу прынца, как кота в мешке, – говорила она тетке. – Граф Вратислав посулов надавал, а сам уехал… Где же парсуна прынца? Только дерево родословное Остерман тут нашивал да всем показывал. На што мне дерево? Может, урод какой едет?..
– Уймись, – утешала ее Анна Иоанновна. – Не только парсуну, но скоро самого суженого зреть будешь в доме моем…
Бледный отрок, почти мальчик, сидел внутри большого шлафвагена. Перед ним – на ремнях – качалась походная печка. От раскаленной трубы часто загорался войлок на крыше, его тушили снегом и гнали лошадей дальше. Принц Антон сильно мерз, ничего не ел и был подавлен. Все случилось так неожиданно! Кто бы мог предугадать? А за окнами шлафвагена неслись – в свисте и вое – русские снега: бело, бело, бело… И так без конца! «Где страна? – раздумывал принц. – Где же сама Россия? Неужели вот этот безлюдный снег и есть то приданое, которое мне дают русские?..»
Петербург уже был готов Антона встретить. В январский морозный день еще с утра кареты придворных и дипломатов стали съезжаться к заставе. За Фонтанкой-рекой синели леса, уходили в лесную чащу следы мужицких саней, каркали вороны. Мадам Адеркас привезла и свою воспитанницу – Анну Леопольдовну.
– Дитя мое, – наставляла она, – не кидайтесь принцу на шею. Сразу покажите ему свою холодность… Вот, кажется, едут!
Вывели жениха под руки из шлафвагена, совсем ослабевшего после дорожной качки. Глянула на него девочка и отвернулась:
– Обманули! Урод какой-то…
– Ваше высочество, – ответила ей Адеркас, – к чему расстраиваться? Принц Антон – не единственный мужчина на свете…
Свели их. Стоял перед Анной Леопольдовной сугорбый и нескладный тихоня. И носом шмыгал. А нос – красный. И глаза – красные.
– Скажите ему что-либо, – подсказала Адеркас.
– Каково доехали, прынц? – спросила девочка.
– Ва… ва… ва… – ответил принц и замолчал.
Граф Бирен строго посмотрел на Остермана.
– Это твои конъюнктуры? – гаркнул и пошел к карете.
– Ничего, – сказал Остерман, оправдываясь. – Это пройдет… Смолоду кто из нас, господа, не заикался? Тем более любовное волнение свойственно в столь нежном возрасте. Мне думается, лучше оставить принца и принцессу наедине. А еще лучше завтра же посадить их за один стол, чтобы в учебе совместной родились чувства страстные…
Анна Иоанновна приняла жениха и невесту в полном парадном уборе, на престоле сидя, в руках – скипетр и держава.
– Ну, дети мои, – сказала радостно, – сегодня у меня праздник великий: вижу грядущее счастье России в единенье вашем… Будьте же дружны и ласковы, стремитесь войти в лет совершенство, дабы, в брачный возраст придя, навеки супружески сопрягтись!
А день был как раз днем ее рождения. По закону негласному, в этот день трезвых быть не должно. При дворе так пили, так пили, так пили… Кто не пьет – тот врагом государства считался! Заводилой же в пьянстве князь Александр Куракин бывал: первым под стол валился. Анна Иоанновна молодость вспомнила: так же вот приехал к ней женихом герцог Курляндский, и люди русские тут же насмерть его споили. А потому сейчас Анна посматривала: как бы принц Антон Ульрих не впал в пьянство жестокое… Жених оказался тих и скромен, очень вежлив с людьми и совсем не глуп (скорее, даже умен). Но граф Бирен уже взялся подвергать его издевательствам разным. Очень уж обидно Бирену было, что сопляк из Вены, а не его сын Петр станет мужем маленькой принцессы…
Рано утром Феофан Прокопович усадил за стол обоих – жениха и невесту. Почтительно, лоб напрягая, принц Антон слушал витию русского. Он все понимал, но догматы эти были ему ни к чему. Православие – по брачному трактату – примет только принцесса, принц же, отец будущего русского императора, оставался в прежней вере.
В это утро, после «служения Бахусова», поздно проснулась Анна Иоанновна: ее разбудил грохот вязанки дров, сваленной у печей ее спальни. Пришел истопник Алексей Милютин, человек верный. Анна Иоанновна его не стыдилась и Бирена под одеялом не прятала. Свалив вязанку, Милютин каждый раз к постели подходил, целовал в пятку сначала царицу, а потом и Бирена; при Милютине царица и сегодня одевалась…
– Чай, не дворянин ты, Ляксей, – говорила смеясь. – Чего мне тебя стыдиться? Верно ведь?
Чулок натягивая, она заметила, что ногти отросли:
– Ляксей, ну-ка, покличь Юшкову с ножнями…
Явилась лейб-стригунья коготочков царских:
– Матушка, кормилица ты наша сдобная! – И рассказала, между делом, что граф Алешка Апраксин с Москвы приехал, шумлив больно, всех задирает, в шуты просится, чтобы на флоте ему не служить…
– Зови, – сказала Анна, – мне молодые шуты нужны.
– А тестенек евонный, – умильно напевала Юшкова, – князь Михайла Голицын из стран заморских явился. Шибко ученый, слых идет, и будто, сказывали мне, от дука Флоренского привез девку рыжую. И живет с ней любовно, но не глазно. А девка та флоренская естество свое женское под мужними одеждами прячет. А поженились они в землях польских по обрядам не нашим, а вредительским…
– Ой, не врешь ли ты? – спросила Анна.
– За што купила, матушка, за то и продаю… Свят-свят!
– Андрея Иваныча! – потребовала царица Ушакова к себе. – Завелись в государстве моем люди недобрые. Девке в штанах мужских ходить от бога не завещано. То есть умысел нехороший, на соблазны всякие наводящий… Да князь Михайлу Голицына ко мне звать! Того самого, что из папежской Италии вернулся недавно…
* * *
Михайла Алексеевич Голицын об одном лишь просил:
– Что угодно, любую пытку вынесу, токмо святыми угодниками заклинаю – не разрывайте меня с женою… Милости прошу!
Офицеры утащили его Бьянку, распались из-под шляпы волосы красоты венецианской, торчала возле узкого бедра беспомощная шпажонка… Прощай, прощай! Все, что было, и все, что еще будет, – тоже прощай вместе с тобою. А было много всего: ссылка в Пинегу, умные речи деда – Великого, штык солдата, весло галерное, фратры-капутиняне да лекции иезуитов в Сорбонне… «Боже! – ужаснулся князь. – Да видишь ли ты? Да слышишь ли ты? Нешто люди с людьми – звери?..»
– Не пойду! – уперся он ногами в дверные притолоки.
А сам здоров – как бык, ноги толстые. Тыр-пыр, не могли пропихнуть его в храм. Подскочил Ванька Топильский и заверещал:
– От веры православной отвращаешься ли? Почто в церковь божию чинно войти не желаешь?
– Да не в храм вы гоните меня, – с мукою отвечал Голицын. – Чую позор великий и посрамление всей фамилии моей знатной…
– Дурак! – крикнули князю и в спину так треснули, что он в церковный придел влетел и – головой прямо в пол…
От боли, от страха потерял князь разум.
– Верните жену мне! – взывал исступленно. – Верните, а потом уж что угодно со мной творите… Она не поддана ея величеству, а есть вольная гражданка республики Флоренской… Пощадите!
А в ухо князю кто-то нашептал – сострадательно:
– Не пытай судьбу далее словами дерзкими.
Упала на грудь седая голова, и тогда сказал он:
– Делайте…
Переступил ногами, словно конь в путах, и штаны с него сняли. Потянули потом исподнее – тоже прочь. Тогда (еще разумно) он понял, что с голым срамом шпага не годится. И сорвал ее с пояса. Втащили его в придел храма. А в церкви служба шла. Придворные певчие хорошо пели, возносясь голосами к небу. И стало князю так больно за весь род людской, что заплакал он и тоже молитву запел… А его уже сажали.
– Куда вы пихаете меня? – спросил.
И его посадили: голым задом в лукошко с сырыми яйцами.
Сел… Сжался от стыда на лукошке.
– Сие есть, – объявил над ним Топильский, – наказание тебе знатное за веры отступничество, а женка твоя, коя тож папежского духу, выслана будет, и ты про нее сразу забудь…
Сумрачно было и холодно в приделе храма. Текли из лукошка раздавленные яйца. Сгорая со стыда, поднял Голицын голову.
– Эй, кто тут еще? – спросил, приглядываясь.
– Это мы, – ответили из потемок. – Шуты ея величества…
Верно: сидели, тоже на яйцах, все с задницами голыми, у входа в храм дряхлый князь Никита Волконский, «король самоедский» Лакоста и еще кто-то – не разглядеть было…
– Кто? – спросил Голицын.
– Я, папенька, – ответили. – Твой зятек, граф Алешка Апраксин… Оно бы и ничего все, мне даже нравится служба легкая. Да при ея величестве, говорят, кудахтать надобно, дабы развеселить государыню нашу. Вот и скорблю – справлюсь ли по-петушиному?
Открыли приворот – брызнуло светом из церкви, и вдоль сеней пробежала востроносая собачонка. Значит, императрица где-то поблизости… сейчас явится. Михайла Алексеевич голову понурил, чтобы его никто не узнал. А над ним прошуршало платье и сверху полилось на него что-то кислое и холодное… Квас!
И раздался хохот – это смеялись над ним придворные:
– Вот ты и квасу из царских ручек отпил…
Тут все шуты встрепенулись, руками стали махать. И все на разные голоса закудахтали, на яйцах подпрыгивая:
– Куд-куды-кудах! Куд-куд-куд-кудах!
Словно череп раскололи Голицыну, и это было началом его безумия… Михайла Алексеевич тоже руками взмахнул, подпрыгнул и запел курицей. Лучше всех запел. А за то, что на голову ему опитки кваса были излиты, за это его Квасником прозвали, по титулу более величать не стали… Голицын Квасник!
– Куд-куды-кудах… куда-как-кудах! – хлопал руками Михайла Алексеевич, и в эти дни Анна Иоанновна писала на Москву своему дядюшке графу Салтыкову, который там губернаторствовал:
«…благодарна за присылку Голицына, коей всех лучше и здесь всех дураков победил. Ежели еще такой же дурак в его пору сыщется, то немедленно уведомь, и пребываю вам неотменно в моей высокой милости…
Анна».Эпилог
«Слово и дело!» – по площадям. «Слово и дело!» – по кораблям. «Слово и дело!» – по кабакам… Бойся, человек русский. Возьмут тебя – и навеки пропал ты. Запись имени твоего в прах изведут, даже не узнать – куда сослан. Впредь только так и делали. Чтобы никто не нашел сосланного. Чтобы от человека и следа не осталось. Будто его никогда и не было на белом свете.
Иногда же в мешок зашьют – и в воду. Или на болоте ногами затопчут – вглубь. Коли жена у тебя была – ее в одну сторону. Детишек – в другую. Раскидают семью по разным углам. Сколько их было – Иванов, родства не помнящих! Сколько детей, от голода мутноглазых, бродило по околицам.
– Подайте Христа ради, – пели они страдальчески.
– Да кто ты таков, чтобы нам тебе подавать?
И не знало дите – чье оно? От кого уродилось?
Пройдет еще лет пять… Ноздри рваны, спина бита, – «дите» уже потащилось в железах на каторгу. В рудные промыслы, на солеварни сибирские…
Но теперь «дите» знало, что отвечать:
– Я – Иван, а корню своего не помню… Отцепись! Когда хас на мас, то и дульяс погас.
Летопись пятая Под бой барабанов
Ах! Гданск, ах! на что ты
дерзаешь?
Видишь, что Алциды готовы;
Жителей зришь беды суровы;
Гневну слышишь Анну самую…
Вас. ТредиаковскийВерхи Петрополя златые
Как бы колеблются средь снов,
Там стонут птицы роковые,
Сидя на высоте крестов…
Семен БобровГлава первая
Ночь, ночь. Всегда ночь… И не проглянет свет.
Только изредка, святых празднуя, спустят в «мешок» свечечку. И – трапезу скудную. А коли поест Василий Лукич, то свечку обратно воздымут. Да иной день склонится лицо над колодцем.
– Веруешь ли? – спросит, бывало.
– Верую, – заплачет князь Долгорукий.
– Ну и будь свят, коли так…
«А сны-то… сны какие! О, люди, почто вы меня породили?»
Версаль ему снился – в жасмине и резеде, где он выступал маркизом великолепным. Ах, как пахли те вечера! И в муфте шуршали записки от дам – любовные, горячительные. Был он молод тогда, посол российский. А Русь-то на гребень вздымалась, яростная. Уже тогда в Европе ее побаивались… А потом пошли города, словно бревна в частоколе. Даже стерлись в памяти, но вставали в снах – явные. Дания да Стокгольм – трактаменты подписывал. Войны вызывал и негоциации заключал. Россия крепла! А вот и дом на стороне Коллонтаев, в Варшаве. Где же ныне полячка та, синеглазая? Вот уж любился он с нею – немолод. Оттого и жаден был до нее, до глаз этих, изменчивых. Убежала она от него…
«Ах, сны мои эти! На что вы мне снитесь?»
– Веруешь ли? – спросили его однажды.
– Верую, – ответил Василий Лукич.
– Ну тогда выходи…
И лестницу в яму спустили.
Помогли князю вылезти. Тут – при свете – он себя и разглядел. Борода – совсем седая, волосы колтуном ниже плеч сбегают. Патлатые! Вша густо ползет по телу…
– Держите меня, – сказал, и монахи его подхватили.
Повели в баню. Даже дух заняло: вот жар! Князь Долгорукий двинуться не мог – все плакал. Служки сами его раздели, стали мыть князя, парить. И квасу ледяного давали. Волосы сзади обкорнали, а бороды ножницами не тронули.
– Того тебе не надобно, – было сказано.
Василий Лукич взмок, пот дурной из него вышел. Грязь колодца отлипла. Исподнее ему чистое дали.
– К оконцу, – попросил, – можно мне? – У оконца стоял долго, на звезды глядел, радуясь. – Чистенькие, – говорил, – звездочки.
И кончик носа хватал морозец. Северный, соловецкий!
– Иди тихо, – сказали служки. – Братия уже спит…
Повели коридорами узкими. Светили Лукичу, чтобы не споткнулся на лестницах. И вдруг опала тьма, вышел он в зал – светло, и никого нету. Ни души! Лампады горят… Служки двери за ним притворили и оставили тут одного. Посреди палаты каменной стоял стол, полный яств. В кувшине розовело вино. Дыня лежала, сочно разломанная. Мякоть ее была как тело женское – такая сытая, такая дразнящая… Чу! Шорох за спиной. Оглянулся князь. Стоял перед ним старец согбенный. Белели на одеждах его черепа да кости. Сам он невелик, годы еще больше пригнули его. Глядел черносхимник на князя с улыбкой грустной:
– Аль не узнал ты меня, князь Василий Лукич?
– Ей-ей, не признаю…
– Вестимо, трудненько! Ныне я смиренный старец Нафанаил, а был в миру… Неужто так и не вспомнишь?
Нет, не мог вспомнить Долгорукий, и опять плакал:
– Год-то ныне какой? Сколь долго томлюсь я?
Ответил ему старец Нафанаил, как по писаному:
– Ныне, князь, от сотворения мира лето 7241, а от рождества спасителя Христа нашего наступил год 1733…
– Господи! – ужаснулся Долгорукий. – Неужели всего три года прошло? Мнилось мне из тьмы, будто вся вечность уже протянулась.
Тут схимник его ладошкой теплой погладил:
– Взбодрись, князь. Времена худые пошли. Может, оно и есть спасение твое – в яме нашей? Иным-то, кои в миру жить остались, еще постыднее крест нести свой… – Посадив узника за стол, начал потчевать: – Согреши винцом, князь, да кусни дыньки-то. Эка вкуснятина! У нас все есть… Соловки – богаты!
Пламя свечей качнулось от сквозняка, рыжие отблески осветили лик черносхимника, и закричал вдруг Лукич:
– Вспомнил я тебя! Помню, помню… Мы с тобой вместе при Великом посольстве состояли. А ты был…
Но костяшки монашеских пальцев рот ему заткнули:
– Тиха-а… Бывал и я, князь, когда-то высок. В больших чинах хаживал. То верно: состоял при посольстве Великом и при дворах служил разных. А ныне, вишь, от мира подлого и стыдного я здеся, в тиши да смирении, прячусь. И ты – прячься… Тиха-а!
– Доколе же? – со стоном спросил Василий Лукич.
– Все ходим под богом, и Анна Иоанновна тоже…
– При дворе-то – что ныне? – спросил Лукич.
– Гнусно и смрадно… Переехал двор в Петербург, цесаревну Елисавет Петровны, яко носительницу имени отцова, имени громкого, со свету сживают. Слышно, что хотят в монастырь ее заточить. А престолу наследник обозначен указно во чреве маленькой принцессы Мекленбургской, но добра из того чрева не жди!
– Под кого же Русь пойдет? Под немца, видать… Эх, дураки мы, дураки. Напрасно Лизку-то на престол тогда не вздыбили!
И вдруг черносхимник выкрикнул злобно:
– Это вы, бояре, во всем повинны! Вы зло накликали…
– Неправда то, – слабо возразил Лукич, страдая.
– Истинно говорю! – перекрестился чернец. – Ежели бы не гордость ваша, не плутни тайные – не быть бы ныне посрамлению чести русской. Страдаешь, князь? Ну то-то… Еще вот дядья твои, да братцы, да племянники – они, верно, по ямам да по цепям сиживают. Но вы – лишь капля от моря людского, от России великой. И ваши страдания – ничто, плевка не стоят, коли глянуть на Русь с высот вышних, да вот отседа, из тиши обители северной, посмотреть, каково стоном стонет и корчится земля Русская… – Высказал это старец и поднялся, на клюку опираясь. – Вот теперь плачь, князь! Плачь… Бейся лбом об стены каменные, стены соловецкие. Потому и ушел я из мира этого, дабы страданий людских не видеть, дабы в передних дворцов не холуйствовать, дабы Биренам всяким не кланяться… Так оцени же меня, князь!
– Ценю, – отвечал Лукич. – Мои нужды, – сказал потом, очами сверкнув, – оставим давай… Не о них сейчас печалуюсь я. Годы прожил в холе да в радостях. А вот, скажи мне, каковы планы политичные: есть ли война аль нет? И за што биться России?
– Ныне, – рассказал чернец, – «Союз черных орлов» заключен Густавом Левенвольде, Россия близка к войне. Забьют барабаны в полках наших, коль скоро помрет курфюрст Саксонский Август и престол польский свободен станется. А на престол в Кракове хотят немцы сажать инфанта Португальского Мануэля, который уже в Россию приезжал, к царице нашей сватался… Не удалось тогда. Но цесарцы упрямы: так и пихают своих принцев по престолам. На южных рубежах наших тоже спокойствия нет, – вздохнул чернец. – Крымцы с султаном османским через степи ордами бродят, в Кабарду идут конницей великой…
– Так, – призадумался Лукич. – Ну а дельное-то есть что в России? Или уж совсем Русь наша в захиление вошла?
– Дельное? Да вот дельное тебе: Витуса Беринга опять в путешествие отправляют. Великим обозом экспедиция сия отъедет вскорости и, дай бог, пользу России на будущие времена принесет…
Василий Лукич оживел от вина, потеплело в косточках. А тут стало розоветь за оконцем. Вроде полыхнуло рассветом. Но это не рассвет – небесное сияние разлилось над ледяным морем. Где-то внизу, под полом, вдруг глухо залопотали колеса мельничьи. Чернец взял большой хлеб со стола, сунул его князю.
– Вот и воду, – сказал, – братия на квасоварню погнала. Начался на Соловках час работный – час мукосеяния и хлебомесия. Нехорошо, ежели увидят тебя здесь… Ступай, Лукич! А через год, коли жив я буду, позову тебя снова. Не о себе помышляй. Все мы черви земли одной. А токмо едина Русь лежит в сердце моем – вот о ней, о родине нашей, нам и следует печаловаться прежде всего!
Повели служки Лукича обратно в темницу. Мраком и плесенью шибануло снизу; светом испуганные, шарахнулись из-под ног крысы монастырские – большие, как щенки. А из одной двери высунулась голова узника незнаемого, стала бородой железо царапать, белки – как янтари – желтели из потемок.
– Прохожий человек! – кричала голова. – Уж ты скажи мне по чести – кой век сейчас на дворе? Семнадцатый аль осьмнадцатый? Живу здеся во мраке узницком со времен царя «Тишайшего» – царя Алексея Михайлыча, дай бог ему здоровья и счастия!
– Ныне, брат, – отвечал Лукич, – после царя Тишайшего много было царей грознейших… Ты теперь за Анну Иоанновну помаливайся – ныне баба на Руси царствует.
– Анна Иоанновна… Кто ж это така будет?
Служки провели Лукича до ямы его.
– Прыгай, – сказали, – мы закроем тебя с богом…
Прыгнул Лукич обратно в темницу свою. Захлопнули его сверху крышкой. И потекли годы… Снились ему сны. Тяжкие, старческие.
«О, Анна! О, матка… смердящая!»
* * *
В глубоких подземельях замка Саксонского курфюрста в Дрездене лихорадочно, в чаду и в муках, под неусыпной стражей, трудились чудодеи-алхимики, добывая для Августа Сильного эликсир бессмертия. Среди фарфора и галерей картинных, среди гобеленов и ваз редкостных бродила тень короля, и эта тень на стене казалась уже согбенной. Августа в прогулках неизменно сопровождали два шута. Один был мрачный меланхолик – барон Шмидель, а другой ужасный весельчак – баварец Фрейлих. Первый имел алмазную слезу на кафтане, другой, лопаясь от бодрого смеха, носил медаль с надписью: «Всегда я весел, печален никогда!»
Пресыщенный жизнью, король спросил:
– Может, где-нибудь свадьба? Я бы славно поскучал.
– О свадьбах не слыхать, – ответил меланхолик.
– Жаль! – огорчился король. – Может, кто-либо сегодня умер? Я бы славно повеселился.
– Скоро сдохнет барон Грумбахер, – захохотал Фрейлих.
– Это кстати. Я спляшу на его похоронах…
А на втором этаже замка были раскрыты окна, свежий ветер задувал с Эльбы, плескались паруса, и было хорошо и весело пировать придворным… Граф Мориц Линар (мужчина красоты и наглости небывалой) выпил вино и, не глядя, швырнул драгоценный кубок в окно, – воды Эльбы сомкнулись над кубком.
– Если уж пошла речь о женщинах, – сказал граф Линар, – то нет в мире лучше женщин, нежели из Мейсена. При полной распущенности они сохраняют вид очаровательной невинности. Нежный голос их смягчает грубую немецкую речь. Глаза они опускают лишь для того, чтобы, подняв их, натворить потом еще больших бед…
– Теперь слово за мной! – воскликнул барон Хойм, отправляя драгоценный кубок туда же (в Эльбу). – Осмелюсь заявить, саксонцы: у меня нет метрессы. Но зато я обладаю женой…
– Ха-ха-ха-ха! – заливались придворные. – Вот бесстыдник!
Пан Сулковский поднял нежную душистую ладонь.
– Кажется, в нише скрипнула дверь… Нас подслушивают? – И пустой кубок он бросил в Эльбу, а другой для себя наполнил.
– Слушайте вы… распутники! – продолжал барон Хойм. – Волосы моей жены сбегают вдоль спины, покрывая нежные чресла ее. Теперь я расскажу вам, распутники, как моя жена…
Сулковский вскочил из-за стола:
– Саксонцы! Нас слушает король…
По стене скользнула тень. Август вышел из ниши, молча наполнил себе бокал, молча выпил и молча отправил посудину в Эльбу.
– Продолжай, Хойм, – сказал король слабым шепотом. – Говори мне о прелестях своей жены. И ничего теперь не бойся… Твой король уже стар. И я не пошлю ей, как бывало в лучшие времена, сорок возов с хорошими дровами, чтобы насладиться ее красотой…
Хойма шатало от любви и от вина:
– Ваше величество! Я смело расскажу вам о белизне ее тела, о блеске черных глаз, вспыхивающих от сладострастия, о длинных ногах ее и могучих бедрах… И не боюсь, ибо ни за какие поленья моя жена не станет вашей метрессой. Потому что она любит меня!
– Какое счастливое совпадение, – заметил граф Линар в сторонку. – Меня она любит тоже…
Король с глубоким сожалением глядел на барона Хойма:
– Как жаль, что после карнавала я должен ехать в Польшу на открытие сейма… Глупец! У меня нет времени, чтобы доказать тебе обратное. Ты и протрезветь не успеешь, как твоя жена, даже без дров, запрыгнет под альков ко мне.
– Нет! – выкрикнул Хойм, берясь за шпагу.
Король достал табакерку, осыпанную бриллиантами, и вложил в нее золото из кисета своего.
– Я скоро умру, – сказал он. – На память обо мне передай табакерку своей жене… – Август вздохнул, выбросив в окно фарфоровую чашку. – Когда-то я все мог, – заговорил король опять. – Для меня не было ничего невозможного! Помню, певец-кастрат де Сорлизи вздумал жениться на фрейлине Лихтверт… До сих пор я так и не пойму, – зачем ему это было нужно? Кроме прекрасного голоса, у Сорлизи давно уже ничего не осталось… Я разрешил этот брак! Но тут вмешалось духовенство со своими глупыми сентенциями. И вопрос о браке моего кастрата был передан консилиуму ученых Европы… О эти ученые! – снисходительно улыбнулся король. – Черт их знает, откуда они только берутся? Но их было много: из Иены, из Грайфсвальда, из Кенигсберга и Страсбурга… Они писали на эту тему большие нудные трактаты, а мой кастрат сгорал от нетерпения… Налей мне, Хойм!
– И что же, ваше величество, далее? – спросил Сулковский.
– Я женил его! Своей волей. Ведь я король. И я все мог!
– Правда, – заметил граф Линар, – я слышал, что в первую ночь кастрат ваш ночевал в таверне. А с фрейлиной Лихтверт остался в браутс-каморе кто-то другой… Очень похожий на короля!
– Сходство с королем у этого негодяя, – отвечал Август, – было поразительное. Все так и думали, что это был я. Впрочем, я тоже думал: я или не я?.. Пора признаться: это действительно был я! К чему скрывать?.. А ты, Линар, очень дерзок. Я пошлю тебя с поручением в Петербург к графу Бирену: там твоя дерзость и красота пригодятся… Эй, Хойм! Налей еще королю…
И опустошенный кубок полетел, сверкая, в окно.
– Едем! Сразу, как откроется карнавал. Ты, Линар, поскачешь в Петербург, а я, твой король, потащусь в проклятую Варшаву… Кстати, – повернулся король к барону Хойму, – в дороге я всегда скучаю. Пусть твоя прелестная жена сопутствует мне до Варшавы!
– Мне будет нелегко уговорить ее на это, – побледнел Хойм. – Вы же знаете, как сильно она меня любит.
– Ты постарайся, – попросил король. – Твой рассказ о прелестях жены не был лишен для меня интереса…
Хойм воскликнул:
– Черт побери! Чего не сделаешь ради любимого короля!
И тень короля опять шагнула в нишу, растворяясь в полутьме. Тени окружали Августа… тени воинов и развалин… тени пышных фавориток… тени узников, прикованных цепями к стенам подземелий… тени уходящей в небытие жизни!
* * *
А сын короля (тоже Август) очень красиво вырезал из бумаги все, что взбредет в голову. И тучами расстреливал собак.
– Тебе, мой сын, – сказал король, входя к нему, – надо быть бы закройщиком или живодером на бойне. Ты разоришь Саксонию на бумаге и на собаках… Скажи: неужели даже развратницы тебя не прельщают?
Сын короля ловко вырезал из бумаги фигуру женщины.
– Вот она! – показал отцу. – Самая сладкая распутница!
– Боже, – схватился король за голову. – И этому остолопу должны достаться две короны сразу… Пойми, ничтожество: Россия, Австрия и Пруссия уже составили «Союз черных орлов». Я спешу в Варшаву, чтобы спасти для тебя хотя бы кусок от Польши…
Открыв в Дрездене карнавал, 6 января 1733 года Август II отъехал на открытие сейма. Больная нога короля покоилась на бисерной подушке. Прекрасная и глупая баронесса Хойм сопровождала его.
– Как я завидую герцогу Орлеанскому, – сказал король. – Ведь ему удалось умереть в постели с мадам де Валори… Осчастливьте же меня, баронесса: позвольте умереть в объятиях ваших!
– Ваше величество, все будет так, как вы пожелаете…
По дороге на Варшаву – возле Кросно – король встретил старого приятеля и собутыльника пана Грумковского. Встреча друзей была исключительно нежной. Лошадей распрягли, и два друга, обнявшись, засели в корчме – под бочками с белым и красным.
– Ну, круль, – сказал Грумковский, жупан скидывая. – Теперь мы не разъедемся так просто… Эй, хозяин! Бочку на стол!
Король с другом выпили на этот раз всего две бочки. Август Сильный остался ночевать на почтовом дворе, в очень жарко протопленной комнате. Утром его стала мучить одышка. Дорога была дурной, вся в ухабах, и он часто спрашивал – скоро ли Варшава?
Граф Брюль, молодой придворный, вытирал обильный пот со лба короля… Вот и Варшава! Когда гайдуки кинулись открывать двери кареты, Август запутался в плаще. И ногою (больною) ударился об косяк. Сразу хлынула кровь. Вскрикнув, король потерял сознание…
Это случилось 16 января. Очнулся он уже в постели.
– Как не везет, – сказал король Брюлю. – Только бы не вздумали саксонцы хоронить меня в фарфоровом гробу. Вот будет потеха в Европе, если ящик расколется и я вывалюсь на мостовую, как это случилось с графиней Денгоф… Брюль, исполни мою последнюю волю. Вот корона Ягеллонов, мои главные сокровища, ордена и ценные бумаги. Скачи во весь опор в Дрезден: передай их сыну…
В ночь на 1 февраля Август был причащен, а к пяти часам утра он скончался… Врачи вырезали его сердце, срочно отправили его в Дрезден.
Никогда еще не плясали так весело Саксония и Польша:
– Нет больше проклятого распутника! Эй, выпьем за дохлятину!
Освободился престол Речи Посполитой, но власть короля в Польше была избирательной, а это значило – любой пан мог претендовать на место покойного Августа.
– Изберем достойного из Пястов! Долой всех немцев! Крулевята, сейм продолжается… Мы решим судьбу ясновельможной Польши, как нам захочется.
Глава вторая
Начиналось действо великое – действо российское, ко славе в трудах поспешающее… Первые обозы Великой Северной экспедиции уже подтягивались к Москве, а хвост еще собирался возле застав петербургских. Обоз был грандиозен, словно армия на походе.
Динь-динь-динь – звенели колокольчики, туп-туп-туп – колотили в наст лошадиные копыта. Фрррр… – взлетали куропатки из-под снега. Пять тысяч лошадей разом брали с места в карьер.
Вот оно – флота офицерство: крепкие шеи, бритые затылки. Мундиры сняли, парики скинули, рукава засучили, разлили по чашкам пенное хмельное вино:
– Прощай, море Балтийское – море придворное.
– Свидимся ли когда? – загрустил Сенька Челюскин.
Лейтенант Прончищев кружку поднял, висла с краев ее лохматая пена, обнял красавицу, что была с ним рядом.
– Марьюшка, – сказал, – в чине высоком, в чине супруги моей любимой, являю тебя пред товарищами моими, яко соучастницу в бедах, трудах и в радостях… Я без тебя – никуда!
– Виват господа корабли стопушечные!
– Виват господа галеры стовесельные!
– Виват Россия, виват госпожа отечество!
И, колотя кружки, до дна пили… День был морозный – тронулись. От хмельного расставания многим кисло было. Ученого астронома Делиля де ла Кройера свалили мешком в санки: он лишку принял. Ехали – не тужили. А особо был рад Митенька Овцын, даже назад обернулся и кулаком Петербургу погрозил.
– Да пропади вы пропадом, – сказал. – Лучше на краю света с волками жить, нежели с палачами да катами… Эй, гони, ямщик!
И – гнали. Северная экспедиция начинала свой тяжкий путь, закончить который предстоит еще не скоро. Упав в розвальни, хохотала краснощекая Марьюшка Прончищева, радуясь, что без мужа не останется. Возглавляя громадные обозы, неторопливо катил в санях капитан-командор Витус Беринг и на постоялых дворах шуршал по ночам картами.
Одна из них была картой Делилевой – там земля да Гама показана, которую будто кто-то когда-то видел. Но большие города мира незнаемого были окутаны туманом. Мрак океанов нависал над картами, и каждая стрела курса вела к гибели. Под тяжелым шагом командора скрипели половицы мужицких избенок.
Однажды тихо отворилась дверь, и вошел в избу граф Франциск Локателли. Мизинцем, перчатку сняв, он сделал тайный знак «вольного каменщика». Витус Беринг знак понял, но не принял его.
– Молоток ложи масонской, – сказал Витус Беринг, часто помаргивая, – давно отстучал в сердце моем. И света истинного не вижу я ни в чем… Боюсь одного: верны ли карты мои? Куда следовать от Камчатки и далее? Нет ли промысла тайного в путях, мне неведомых? Жить ли мне? Скорблю…
Командор принял незнакомца за масона из ложи Кронштадтской, которая недавно была шотландцем Хакобом Кейтом основана.
Франциск Локателли медленно натянул перчатку:
– Промыслы тайные ведомы братьям вольным, шаги судеб людских известны мне… А также, – признался вдруг, – знаю эликсир жизни, мне в Египте от мудрецов древних переданный…
Беринг поднял свечу повыше, вглядываясь в потемки деревенской избы. Стоял перед ним человек – немолод, ростом невелик, носат, не сух, не толст, смуглый ликом, глаза черные – с ярким блеском.
– Дьявол ты! – закричал командор, бросаясь в него шандалом.
Задымив, погасла на полу свеча. Локателли уже не было. Кто он? Откуда взялся здесь, в обозе экспедиции?.. Запахнув плащ, Беринг зашагал в соседнюю избу, разбудил своего помощника Чирикова:
– Иваныч, Иваныч, не спи… Нешто на самой грани жизни и смерти ты спать можешь спокойно?
Алексей Чириков высек огня, распалил лучинку.
– Командор, – сказал, зевая, – о какой смерти ты мне столь часто толкуешь? Разве я, супруг добрый, повез бы на смерть… Ты сюда гляди! На жизнь новую везу чада свои…
А под одеялами – в ряд – лежали на подушках русые головы его детишек. От света лучины сонная жена закрывала глаза ладошкой, и светилась ладонь молодой женщины теплой розовой кровью. Ехали семейно многие, севера не страшась, надолго. Немало останется их навсегда в краю, где только песцы лают да ревут метельные вихри…
Только старые карты сохранят имена павших.
Фрррр! – взлетали куропатки из-под лошадиных копыт.
Годы уйдут, чтобы пробежать Россию… до Америки!
* * *
Дошла и до Нерчинска весть о смерти саксонского электора.
– Вот и живи, – сказал Тимофей Бурцев. – Што королевус, што собака тебе – един хрен: алчна смерть всех пожирает. О господи! На што живем? На што мучаемся? На што страдаем?..
А тут масленая как ударит: зазвенела цепями каторга, повытрясла вшей из бород лохматых, загугукала, сиводер хмельной корочкой занюхала… Гуляй, душа, в цепях! Егорка Столетов кафтан с плеча Жолобова давно пропил, одна шапка осталась. Пустил и шапку на круг бедовый, а сам бегал, уши от мороза зажимая.
– Здрасьте, мои чарочки-сударушки. Каково поживали? Меня ли часто вспоминали? – И запил…
А с ним народец – дошлый, ссыльный. Всякие там крючкодеи да лихие подьячие. За воровство и взятки битые, теперь они поют и пляшут. А лики-то каковы! Клейма на лбах, уши да носы отрезаны, дышат убийцы со свистом ноздрями рваными… Гуляй, душа, в славном граде Нерчинске! Страна Даурия – страна гиблая: горы да рудни, остроги да плети, течет из печей серебро горючее. Из того серебра денег много начеканят. Да нам с тобой – шиш достанется!
– Петенька, – сказал Егорка Ковригину, – Феденька, – сказал Егорка Сургутскому, – люблю я вас, детей сукиных! Нет у меня более ни шапки, ни кафтана. Но для вас, друзья, не жаль мне исподнее с себя пропить. И поедем мы к Ваньке Патрину – он звал…
В деревне Выше-Агинской жил богатый мужик Ванька Патрин, к заводам приписанный. Чтобы задобрить нерчинского комиссара Бурцева, зверя лютого, он его в гости к себе заманил, пирогов да вина наставил. Скоро и Егорка притащился с сопитухами. Пили поначалу умеренно, более о королях рассказывая, что знали. Какие, мол, они умные да глупые, какие истории про дебошанства ихние в книгах писаны изрядно и занимательно.
– Оно, конешно… – соглашался Бурцев. – Для королей и жисть в рубль. А вот нам – эх! – в самую гривну выглядывает.
Тут Ванька Патрин призадумался и в руку Бурцева положил два рубля, заранее припасенных для случая. Крякнул Тимофей Матвеевич Бурцев, комиссар заводов нерчинских, и добавил без сомнения:
– Кому как повезет… Иной час и королем быть не надобно. Спасибо тебе, Патрин! Истинно говорю: друг ты мне большой…
И один рубль нечаянно выронил. Тут все под стол кинулись и, конечное дело, разве рубль сыщешь? Бурцев побагровел и сказал:
– Вы, голь каторжная, взяли! Кому же еще?
– Я каторжный? – вскинулся Егорка. – Эвон Петька Ковригин да Федька Сургутский, они – да, каторжны! А я за политики сослан, меня в указе царском рядом с фельдмаршалом пропечатали, и времена еще переметнуться могут. Мне ль рубли воровать?
Тут Ванька Патрин по-хозяйски сказал ему – наикрепчайше:
– Ты не ври, Егорка, а верни рупь! Слово сказано.
Ковригин и Сургутский, сопитухи, переглянулись:
– И нас, Егорка, почто обидел? С чего гордишься стихами да музыкой? Ты нашего брата не лучше. Хоша мы и под гневом ея величества (дай ей бог многие лета царствования!), одначе мы едино за взяткобрание крест несем свой.
Егорка пирогом с рыбой пустил в них.
– Воры вы! – сказал. – Народец простой грабили…
– А ты што? – спросили его. – Про нас таких манифестов не было. А тебя с манифестом прислали. Как злодея явного престолу ея величества, храни ея бог, государыню нашу матушку, пресветлую царицу Анну Иоанновну… Ой, как мы любим ее, царицу-то!
И подьячие-воры бойко крестились на иконы.
– Не мне! – кричал Егорка во хмелю. – Не мне одному бесчестье выпало. Ныне русскому человеку погибель идет. Одна сволочь округ престола царского крутится, а русскому не выбиться…
– Бей его! – крикнул Патрин. – Чего крамолу слушать?
Тут Егорка лавку за конец схватил, и посыпались с нее подьячие-сопитухи. Из лохмотьев их выкатился рубль – краденый.
– Патрин, во рупь твой! Эвон воры… их ты и бей!
До Нерчинска от деревни верст пятнадцать. Да дорога вся лесом, распадками, сугробами… Без шапки и тулупчика, руками маша и плача, хмельной и усталый, пришел Егорка в Нерчинск, упал на пороге и заснул (головою в горнице, а ногами в сенях). И крепко спал, не слышал он колоколов церковных, кои созывали народ каторжный на молитву, дабы вознести хвалу и здравие дому царствующему! Проспался и пошел к дому Бурцева, дрожа костями:
– Тимофей Матвеич, нешто чарочки не спустишь? А?
Бурцев ему, как собаке, водки в миску налил:
– Лакай, пес…
Вылакал Егорка мисочку и стал говорить, что бесчестья себе не снесет. Никаких королей не признаю, и всякое такое молол.
– Потому как, – рассуждал, – короли токмо жрать да гадить способны. После них одна нечисть да остуда. А после поэтов вечность бывает нетленна, ибо художник всегда выше любого королевуса!
– За такими-то словами, – сказал Бурцев, – начинается «дело». И ты боле ко мне не ходи: не мусорь злодейски…
Но вскоре главный командир всех заводов, инженер-генерал де Геннин, велел Бурцеву ехать на речку Тельму – новый железный завод там строить, чтобы экспедиция Витуса Беринга нужд в железных припасах не ведала. По дороге на Тельму Бурцев повидался с Жолобовым в Иркутске.
– Ляксей Петрович, – сказал ему Бурцев, – што с Егоркой-то Столетовым делать станем? Напрасно ты кафтан ему подарил, он от подарка твово в спесь вошел. О королях поносно рассуждает, а власть земную ни во што ставит.
– И прав будет, – отвечал Жолобов, – что власть земную Егорка херит. И я бы похерил ее – крест-накрест, яко для народа нашего злодейскую и убыточную. Не жмись, комиссар! Чего боишься-то? Слова и дела? Так здесь не Питер, а Сибирь: народы стран Забайкальских уже пытаны – каторга «слова и дела» не боится!
Правду скажем: Алексей Жолобов, ныне голова земель Иркутских, был человеком смелым и дерзким. И дело свое он знал: при нем заводы на славу работали…
Говорил же иногда непонятно – намеками:
– Щука умерла, да зубы остались… Кого надо – за глотку хватим! А бабы городами не володеют. Тако и Татищев сказывал.
* * *
Василий Никитич Татищев еще смелее говорил, когда Анну на престол избирали: «Персона есть она женская, к трудам неудобна, паче же того, ей и знания законов недостает…» Андрей Иванович Ушаков сии крамольные слова вслух зачитал и спросил:
– Зачем ты словами подобными изблевал ея величество?
– Ой, худо мне! – отвечал Татищев на розыске. – Ежели собирать о человеке все, что он намолотил с возраста нежного до волос седых, так подобных блёвов у каждого из нас немало сыскать мочно… И сие есть – придирка, дабы меня поклепать!
– Ты погоди словами сыпать, – придержал его инквизитор. – Ты, Никитич, лучше ответствуй по сердцу: на што ты хотел, противу императрицы, сто человек собрать на манир парламента? И на што тебе хотелось, чтобы в начальники людей выбирали снизу, а не назначали свыше волею мудрого начальства нашего?
– Тако в образованных странах деется, – отвечал Татищев. – И сие образованным государям еще в заслугу философы ставят, ибо тогда и народ до правления государством допущен…
– Вот ты мне и попался! – сказал Ушаков. – Мало того, что серебро воровал со Двора монетного, так ты еще и философии вольной набрался… Сознайся – Макиавелли читал?
– Читал… видит бог – читал, – сознался Татищев.
– А зачем читал? – строго вопрошал его Ушаков.
– Любопытно… книга знаменитая! Интерес был к ней.
– Интерес к тому, как государей ловчее обманывать?
– Да что ты подковырствуешь, генерал? – потерял Татищев терпение. – Возьми Макиавелли и сам прочти. Нет там ничего такого, чтобы государей обманывать, а лишь политика утонченная.
– Вот видишь! – стал радоваться Ушаков. – Тебя от политики этой прямо за уши не оттащишь. А ведь не твое это дело… не твое! У нас в осударстве уже есть человек, которому сама государыня поручила политикой ведать. Вот ты на графа Остермана и уповай! А сам сиди смирненько, не воруй. Оно, глядишь, государыня-то тебя заметит за благость твою и отличит. Вот как надо жить!..
В это время из Сибири стал на болезни плакаться де Геннин, генерал горный, абшида себе у престола испрашивая. И указывал де Геннин (разумно и дельно), что заводы сдать может только одному человеку – Татищеву… Василий Никитич очень желал в Сибирь вернуться: по лесам бродил бы, камни искал бы, дни свои трудами благодатными наполняя. С такими-то вот мыслями и нагрянул он прямо к Бирену, да не с пустыми руками.
– Имею, – подлизнулся, – раритеты, из монет ветхозаветных состоящие. Памятуя о высоком интересе вашего сиятельства к нумизматике, решился я преподнесть монеты сии в дар вам!
Бирен руку под парик сунул, почесал голову.
– Давайте, – сказал, а защиты не посулил…
Татищев понял: крепко граф его не жалует. «Русский, да еще умный, – говорил Бирен при дворе, – таких опасаться надобно».
Анисим Маслов вступился за Татищева.
– Вот, – сказал обер-прокурор, – Блументроста все хаять стали, и делами наук бестолковый Шумахер ведает. Академию бы отдать под руку Татищева – немалая бы польза нам вышла…
– До господ академиков, – ответил ему Бирен, – которые время свое в дебошах кляузно проводят, мне и дела нет! Вы бы знали, дорогой Маслов, как много у меня забот при дворе…
Справедливо: Бирен сейчас имел немало забот (личных). Фекла Тротта фон Трейден на коленях за ним ползала.
– Осчастливьте, – умоляла она. – Осчастливьте меня и несчастного полковника, которому вы не смеете отказать в мужестве!
Наступила весна – время любви и надежд…
– Не могу! – хмуро отвечал Бирен свояченице. – Но грех мужества и оскорбленной невинности можно прикрыть лишь розами Гименея. Неужели ты согласна стать женою насильника?
– О-о-о, – простонала Фекла, – я сплю на угольях…
Бирен распорядился, чтобы Бисмарка из крепости выпустили.
– Кажется, этот негодяй родился счастливчиком. Пусть он явится к моему столу для обеда. – А за столом граф любезно спросил Бисмарка: – Полковник, кто были ваши предки?
– Ну! – распетушился Бисмарк. – Стыдно, граф, не знать Бисмарков! Кто славился охотой в Бранденбурге? Кто умел выпить и закусить чем-нибудь солененьким? И так уже половину тысячелетия, начиная с 1270 года… Это вам не шутка, граф!
Бирен остро позавидовал древности рода Бисмарков, и Фекла Тротта фон Трейден была обручена с прусским убийцей.
Анна Иоанновна щедро осыпала Бисмарка милостями, от казны царской дали ему каменный дом в Петербурге. Принцесса Анна Леопольдовна и ее жених, принц Антон Брауншвейгский, несли в процессии шлейф невестиного платья. Молва о такой неслыханной чести дошла и до Пруссии; король прислал убийце письмо: «С высоты своего нового величия, о бродяга Бисмарк, не забудь бедного короля бедной Пруссии… Узнай, кстати: нельзя ли продать русским старые штыки? У меня также залежались голенища от ботфорт. При известной бережливости русские могли бы еще их носить долго…»
Бисмарк стал генерал-майором, и Бирен спросил его:
– Может, Людольф, ты желаешь получить губернию?
– Но я не знаю русского языка, чтобы управлять ею.
– Тут нужна палка, а не язык. Хорошо, мы подумаем…
По ростепели дорог Густав Левенвольде уже скакал в Варшаву: начинались тревоги в Европе по случаю смерти Августа II, русская армия Петра Ласси стягивалась к рубежам империи…
Версаль упрашивал Петербург поддержать на престоле польском Станислава Лещинского. А за это обещал быть в дружбе с Россией. Версаль гарантировал завоевание провинций в Гиляни и Прибалтику, Франция сулила России защиту ее интересов в делах турецких, она признавала за русскими царями императорский титул… Казалось бы, чего еще надо? Но Остерман, верный союзу с Веной, убеждал царицу в обратном:
– Союз с Францией вреден для нас и за дальностью расстояния, через головы княжеств немецких, весьма неудобен… Ваше величество, зачем вы Миниху Крестовский остров в столице подарили? Дом в Кронштадте, дом в Петербурге… ему все мало! Фельдмаршал о вашем обер-камергере графе Бирене очень дурно отзывался.
Интрига уходила далеко – до типографии, где Шумахер велел «Ведомостям» Миниха более не восхвалять. Звезда прожектора медленно угасала на горизонте славы. Спасти Миниха могла только война. Теперь он рассуждал так:
– Дело мое – дело солдата! Но конъюнктуры польские – палка о двух концах: ежели мы в Польше завязнем, с Францией через то рассорясь, начнут турки рвать Россию со стороны степей ногайских. И вот тогда начнутся страхи и кровь великие…
Был теплый летний день, когда в Петергоф прибыл Кейзерлинг и ловко просочился в покои графа Бирена. Намекнул о своих услугах.
– Ты ловкий барышник, Кейзерлинг, – смеялся Бирен. – Тебе не терпится сесть в кресло президента… Но что я могу поделать, если в Академии еще сидит Блументрост?
– Вот за этим и прибыл, – сказал Кейзерлинг, – чтобы сообщить: Блументрост завтра из кресла президента пересядет на лавку в застенке Тайной розыскных дел канцелярии.
– Что это значит? – спросил его Бирен.
Кейзерлинг достал черный траурный платок, вытер слезу:
– Ночью скоропостижно скончалась Дикая герцогиня Мекленбургская – Екатерина Иоанновна, и эту смерть тоже поставят в вину Блументросту…
Дикая умерла, вином опившись. Анна Иоанновна плакала:
– Сиротинка я горькая, одна осталась на белом свете, любой теперича меня обидеть может… Ирод проклятый Блументрост погубил последнюю сестричку мою. Андрей Иваныч, рви его… Допроси, почто он рецепт худо писал?
Когда закопали Дикую в Александро-Невской лавре, а одежды придворных снова сделались палевыми, голубыми и розовыми, тогда Бирен завел с царицей речь о делах академических, о пристрастии Кейзерлинга к наукам.
Кейзерлинг воссел в кресле президента и сказал:
– Господин Шумахер! Отовсюду слышны вопли мужей ученых, кои обвиняют вас в самоуправстве тираническом… Так ли это?
– В мире научном, – отвечал Шумахер, низко кланяясь, – это обычная картина, барон. Вы пробудете в Академии три дня, и вокруг вашего кресла тоже залетают осы, жалящие нещадно…
Трах! – брызнули стекла, и в кабинет президента влетела первая ракета с Невы. Начинался очередной пожар, Шумахер героически руководил его тушением… Неподалеку от Академии размещался фейерверочный «театрум», и оттуда время от времени, потехи ради, запускали огненные ракеты, швермеры и мордшломвы… И никакими силами нельзя было убедить Анну Иоанновну, чтобы «театрум» этот из-под бока Академии убрали.
– Забаву-то, – говорила она, – должна я иметь или нет? Или уж вы меня совсем в монашенки записали?..
Таковы были дела придворные, дела столичные, когда русская армия дружно топала в сторону Польши, и солдаты еще не знали, сколь далеко идти им… Очень далеко уйдут солдаты: кровь русская прольется на виноградниках Рейна, в бою с французами, за дела венские, дела германские, дела конъюнктур Остермановых.
* * *
Из кареты перед дворцом вышел молодой человек в длинном черном плаще. Решительно (будто он не раз уже бывал здесь) стал подниматься по лестницам. Не было женщины, которая бы не смутилась при виде его – столь красив был этот молодой мужчина. Черный плащ тащился за ним по ступеням, словно змеиный хвост. Это был граф Мориц Линар, прибывший из Дрездена в Петербург…
И вот он – перед Биреном:
– Сиятельнейший граф, имею разговор для вас важный.
– Прошу, – учтиво поклонился Бирен и побледнел…
В полутемной комнате, наедине с Биреном, Мориц Линар долго стоял молча. Молчал и граф Бирен, предчувствуя нечто.
– Начнем?
– Я думаю, – ответил Бирен, – нам здесь не помешают…
– Отлично, граф. Имею честь довести до вас волю моего покойного короля и курфюрста Саксонского – Августа Второго.
И отрубил – в лицо Бирену, которого даже зашатало:
– Двести миллионов талеров и корона герцогов курляндских – все это отдается вам, но… – И заключил уже спокойно: – За это, граф, вы поможете сейчас курфюрсту Саксонскому Августу Третьему утвердить за собой престол Ягеллонов в Кракове.
Лицо Бирена заливал пот, он бормотал:
– Двести миллионов… и корона герцога… О боже!
– Я жду ответа, – сказал Линар, взмахнув шляпой.
Бирен выпрямился, глаза его были почти безумны.
– В чем дело? – прошептал он, озираясь. – Разве вы не слышите? В полках русских уже стучат поход барабаны и давно поют воинственные флейты… Я помогу вам. Чем могу.
Глава третья
Волынский на Москве широко зажил: дом новый – полная чаша, веселись душа! И ничего теперь не боялся: от недругов отдарился. Кому – лошадь, кому – шубу знатную. А чтобы на будущее себя перед двором обезопасить, Андрей Петрович имел «бабу волосатую». Женщина эта была казусом природы: имела усы и бороду. По всем же другим статьям – полу была прекрасного. Зная, как охоча Анна Иоанновна до всяких уродств, Волынский эту «бабу волосатую» до времени берег, никому не показывал. Соображал так: «Коли в карьере моей что-либо хрустнет, тогда я бабой этой всем рты заткну!»
Сидел Волынский в библиотеке и монеты, из стран восточных вывезенные, перебирал лениво. Выделил чекан – для дарения Бирену.
– А… Миниху? – спросил Кубанец. – Тоже пошлете?
– Миниху – кукиш, – отвечал Волынский. – Ныне я, Базиль, и сам в силу вошел, мне ли Миниха задабривать? Гляди, как бы Миниху не пришлось передо мной гнуться?
Далеко залетал Волынский в мыслях своих. «Хорошо бы, – мыслил, – куранты временные в Европе издавать обо всех делах русских. Вроде газеты! Да чтобы на языках разных мерзости двора нашего описывать. И дегтю не жалеть – мазать так мазать! По всей сволочи придворной, по всем патронам моим. Да и… Анну – тем же цветом, в навозе бы ее вывалять. Чтоб предстали пред лицом Европы во всей скверне своей… Эх, мысли мои! Вы – как кони: нет на вас удержу!»
Стол в доме Волынского всегда на сто кувертов накрывали. И гостей не звали – сами придут охотно. Как раз экспедиция Беринга через Москву проезжала, офицеров немало явилось пировать в доме открытом… От гостей в палатах обеденных было не протолкнуться, чадно от свеч. Волынский в соседние покои от пира уклонился, чтобы в месте «утишном», пояс ослабив, вздремнуть на кушетках. Но один из гостей следом за ним двинулся; Волынский его не знал, лицом смугл, носат, брови густые, а глаза сияют…
– Свет идет с востока, брат, – сказал незнакомец. – А мясо уже сошло с костей… – И пальцем крутил возле пуговицы.
Волынский сдуру тоже пуговицу на себе дернул и сказал:
– Прикидывайся! Меня удивить трудно… все знаю!
– Вы почему не отвечали мне за столом?
– А ты разве меня о чем спрашивал?
– Я вижу свет, – продолжал загадочный незнакомец. – И вы напрасно отпираетесь: ваша вилка лежала поперек ножа вот так, – и он скрестил пальцы, показывая. – Вы сами сделали мне трапезный знак Розового креста рыцаря Кадоша пятой степени!
Волынский разумом был остер, он сразу понял, что перед ним «вольный каменщик», который по ошибке, видать, его тоже принял за фрера – брата своего. А как он вилки за столом клал, как ножи бросал – того не упомнил. Может, случайно и знак ему сделал? Однако из забавного не может ли выгоды быть? «Может, на ловца-то и зверь сам бежит… Не запрячь ли мне его в свои санки?»
– Не отрицайте! – сказал незнакомец. – Вы и сейчас держите руку не как профан, а как опытный венерабль ранга метра.[22]
Волынского понесло – во вранье и похвальбе:
– А ты, жалкий профан! Закрой двери, встань. Мой градус выше твоего, и я давно за тобой присматриваю, как ты с посудой моей старался. Да только у тебя плохо вышло. Пятый градус – ладно, да ложа-то твоя какова? Я ложи самой высокой…
Из кармана кошелек достал и швырнул его в незнакомца – тот поймал золото, словно собака мосол с большими мохрами мяса.
– Говори! – велел Волынский и снова на кушетки – хлоп!
Франциск Локателли рассказал о себе: он прибыл в Россию искать чести и славы, путешествуя, имеет наклонности описывать виденное. А печатать сочинения свои будет в Париже… Ныне же, при обозах Камчатской экспедиции, он едет в Казань и… далее!
– Француз ли ты? – спросил его Волынский.
– Нет… итальянец, но выехал в Россию из Парижа.
– На лбу, граф, у тебя не писано, кто ты таков. А потому считай, что Казань тебе заказана… Дворы – наш и Версальский – в негласной вражде состоят из-за дел польских!
– Но вы же бывший губернатор земель Казанских, – ответил Локателли. – Затем и знаки я вам делал за столом, чтобы вы меня приняли. И обнадежили в дружбе. И помогли мне далее следовать. Мы все братья великого ордена каменщиков, нам ли не помогать друг другу?
– Я тебе помогу, – сказал Волынский, поразмыслив. – А ведь ты сбежишь да в курантах парижских иль лондонских станешь зло на русских людей клепать?
Локателли улыбнулся ему большим темным ртом.
– Политике Версаля, – смело заявил он Волынскому, – не народ русский мешает, а… политика Петербурга, где засел двор почти германский, почти венский. Отсюда и вражда Версаля с Петербургом!
Волынский сказал на это со смехом:
– Больно много ты знаешь… профан!
– Вы еще больше… метр! – отвечал Локателли с иронией.
Артемий Петрович думал, думал, думал… «Что за человек? А если не врет? От руки много ли напишешь? В типографиях же европских любую книжку выпустить можно. Вот тогда Остерман с царицей зашквырят, будто плевки на раскаленной сковородке…»
– А зачем вам Казань и земли заказанские? – спросил потом. – Не лучше ли сразу оглобли на Париж повернуть? Сидели бы там в тишине, а я бы помог вам в писании политичном… Россия свои тайны имеет. И вам их выглядеть шпионски не дано. Для этого надобно русским родиться. Я больше вашего знаю тайн. Но имени моего вам поминать нельзя. Забудьте сразу, что вы меня видели!
– К чему мне ваше имя? – ответил Локателли. – Я и своего не стану писать. На первой странице книги, которую я сочиню по возвращении из России, будет объявлено: издатель этой книги, гуляя после бури по берегу моря, нашел сундук, волнами выброшенный…
– Дельно! – засмеялся Волынский. – Ты хитер.
– Сундук издатель открыл, а там лежали записки неизвестного путешественника по России времен царицы Анны Иоанновны…
– Твои записки! – догадался Волынский.
– Добавьте мне тайн, вам известных, и они войдут в книгу, как ваши… Пусть Европа прочтет про немцев – правителей России, о страданьях народа русского… Кого винить за истину? Писатель этот, – Локателли показал на себя, – давно утонул в море. Остался от него сундук и книга его…
– Что ж, – согласился Волынский, – ты хорошо придумал: пусть писатель тонет, а книга пускай всплывает…
* * *
Сеймы и сеймики! Сабля и шапка! Жупан и кунтуш!
Тысячи голосов – в едином вопле: «Позволям!». Но один голос произнесет магическое «Вето!» – и тогда весь сейм летит к чертям собачьим, и хоры голосов уже ничего не значат для польской нации… Таковы вольности панства посполитого.
Изо Львова – пан Мецкий, Из Кракова – пан Стецкий, Из Киева – пан Грецкий, И – Северинский Стройно, гойно, гучно, бучно поприезжали — Все в собольих колпаках, Все в червонных чёботах…Съезжалась шляхта к Варшаве – избирать короля нового: Пяста!
Староства, воеводства, поветы… Отовсюду катили кареты с ясновельможными, плыли в грязи предлинные дроги, везомые быками, ехали на дрогах мелкошляхетские. Пока богатое панство пировало в замках и дворцах Варшавы, мелкая шляхта по харчевням жила, кормясь в садах под навесами. К столу подавали им (за счет панства благородного) жирно, но просто: говядину и свинину, кур и гусей, и все это с перцем под соусом, дабы возбудить жажду. На хлеб ставили каждому раза два-три водку. Напиваться же не давали, чтобы способны были здраво кричать на сеймике – когда «позволям», когда «не позволям».
Прямо от стола шли на сессию. В костелы или на кладбища. Там шляхта вольности проявляла. То шапку скинет, то саблю вынет, то грудь распахнет: режь, не уступлю! В лязге сабельном в куски изрубались противники. Коли пан без уха или без зубов, – значит, уже не раз сессию отбывал. Потом, жаждою томима, разбредалась шляхта по харчевням, и тут богатое панство поило ее безвозбранно. А чтобы скорей упились, вино старкою разбавлялось. Сверху же смесь эта покрывалась пивом с дурманом. К ночи глубоким сном спит благородная шляхта, разбросавшись под столами на земле; ветер колышет чубы на головах крепких, кого в лужу занесло, кого под самый забор махнуло…
Но вот проснулся пан Мецкий и не смог нащупать сабли у пояса. Пан Стецкий кошелька не нашел за жупаном. Пан Грецкий шапки не отыскал. Тогда вставали и дружно шли к принципалу. Дарил тот, богатый и ясновельможный, каждому по шапке, по сабле, по кошельку. За это опять голосами хриплыми кричали они, что прикажут им принципалы, – когда «позволям», когда «вето». Иногда же в сабельном плеске падали наземь, а над ними, звеня, рубились клинки и кусками отлетало напрочь мясо шляхетское… Таковы-то вольности те – вольности польские!
Начиналось «бескрулевье» – время без короля. По обычаю, один год и шесть недель мог править страной примас Федор Потоцкий, архиепископ гнезненский. На примаса – под звон колоколов – щедро изливался блеск престола, никем не занятого. Потоцкий сам был некоронованным королем, и от него же во многом зависел выбор короля. Сейчас он желал иметь на престоле Станислава Лещинского. Но Анна Иоанновна, в грубости самодержавной, уже прислала примасу письмо дерзкое – чтобы он и не помышлял о Станиславе. Письмо столь ужасно, столь хамски изложено требование, что Левенвольде боялся предъявить его Потоцкому…
Густав Левенвольде прибыл в Варшаву с громадной свитой и ротой драгун. Как только поляки узнали, что за мерзавец приехал из России, так сразу дом посольства русского они разгромили. Пришлось перебраться в дом имперско-германского посла, графа Вильчека, отсюда было недалеко и до жилища посла прусского («Союз черных орлов»)…
Конвокационный сейм, кипучий и яростный, твердо постановил: избрать на престол польский природного поляка – Пяста, и «черные орлы» сразу взъерошили перья – как? Поляки хотят иметь королем поляка? Какая наглость! А куда же девать тогда инфанта Мануэля Португальского? Ну это мы сейчас поправим…
Голова примаса Федора Потоцкого гладко выбрита и прикрыта черным беретом. Откидные рукава его одежд при взмахах сильных рук взлетают как крылья. Речь примаса – умна, справедлива, напориста, патриотична. Потоцкий не побоялся принять сразу трех «орлов» – от России, Вены и Берлина; ему зачитали вслух декларацию из Вены, писанную по-латыни, и примас молча ее выслушал.
– Я, – сказал Левенвольде, – ничего не могу добавить к декларации венской, кроме изъявления любви и дружбы, какие наша императрица Анна Иоанновна давно испытывает к народу польскому, и благодаря этой любви она не желает, чтобы поляки имели на престоле своем Станислава Лещинского!
– Любовь вашей царицы, – усмехнулся примас, – столь велика к народу польскому, что шестьдесят тысяч русских солдат она уже двинула в поход против нас, дабы лишить народ наш права избирать короля – какого Польша пожелает… Не так ли?
– Боже! – воскликнул Левенвольде. – Назовите мне того человека, который распускает столь подлые слухи!
– Не вы ли, – отвечал примас, – договорились ранее в Берлине и Вене, чтобы сажать на краковский престол не Пяста природного, а приблудного побирушку – инфанта Мануэля Португальского? Странные вещи творятся в мире: когда Россия избирала на престол Анну Иоанновну, поляки тихо сидели дома, а не шлялись с ружьями по дороге от Варшавы до Москвы… Речь Посполитая, со смертью Августа, вздохнула облегченно: умер хищник, разграбивший и нас и свою Саксонию; иных же хищников, навязанных нам из Германии, поляки более не желают.
– Но Станислав Лещинский, – вступился Вильчек, – не есть ли тоже хищник, навязанный Речи Посполитой королем шведским?
– Польша гордится своими вольностями, – отвечал Потоцкий, – и никто не посмеет диктовать нам! Кого сейм пожелает – тому и вручим щербец королевский. Если бог с нами, то кто против нас?
Голоса повышались. Лица вспотели. Начиналась ругань.
– Моя императрица, – уже орал Левенвольде, – не привыкла беспокоить свои войска по пустякам. И она найдет средства, чтобы наказать врагов своих…
– Утесняйте меня и далее! – говорил примас. – Чем больше вы будете навязывать нам немцев, тем скорее мы изберем славянина!
«Союз черных орлов» казался нерушим. Но в это время курфюрст саксонский Август III (отложив ножницы) вдруг признал Прагматическую санкцию, чего не успел сделать его отец. Этим жестом Август купил доверенность Вены, и Вена сразу, отвергнув инфанта Португальского, стала выдвигать на польский престол Августа III. Король же прусский, обидясь, что спекуляция с Курляндией не удалась, затих в Берлине, выжидая – что будет дальше? Вена обещала ему подарить Курляндию, оторвав ее от Речи Посполитой. Но теперь Август III (если он вступил на престол в Кракове) должен передать корону курляндскую графу Бирену. Король прусский плюнул тогда на дела польские и запел свое извечное «Ла-ла-ла-ла…».
– Черт возьми, – горячился Левенвольде в Варшаве, – когда же Ласси подтянет сюда русские войска? Пушками мы изберем в короли хоть дьявола, только бы разрушить сейм, стоящий за Станислава!
Но пока не было видно в Польше короля Станислава Лещинского. И не было видно за Вислой русских солдат. Но увивались вокруг Левенвольде князья Любомирские, Вишневецкие и Мнишеки, пил и ел в кругу немцев литовский князь Радзивилл: они просили короны польской для себя! И просили солдат русских, чтобы поляки тут же не сшибли этой короны с их головы… Полными пригоршнями, тускло отсвечивая, рассыпалось в Варшаве золото!
* * *
Солдат Бешенцова полка – Стряпчев (из компанента Кронштадтского) в кабаке на юру сиживал и спиной дергался.
– Рыск… – говорил он. – Всюду рыск!
– Иди, иди давай! – вышиб его целовальник на двор. – Твоему полку походы ломать пора в земли Польские…
Строился полк на плацу. Под ретивым ветром балтийским. Далеко, за серятиной моря, искоркой сверкали дворцы Ораниенбаума: там гошпиталь, там пивоварня, там бабы веселые. А тут – Кронштадт: тоска, камень, пески, вода, чайки… Полковник Афанасий Бешенцов устал от пьянства Стряпчева. Добрый был человек, а не выдержал: велел лавку нести, пьяницу класть врастягай и фухтелями лупить его нещадно. Разложили.
– Начи-и-най! – сказал Бешенцов.
И тогда Стряпчев сказал за собой «слово и дело» государево. И тогда взяли всех по оговору: самого Стряпчева, Бешенцова, капрала Каратыгина, солдата Студненкина и Потапа Сурядова, – вот и увидели они Ораниенбаум и сады тамошние, и кричал павлин на них из зверинца царского – нехорошо кричал, к беде горланил.
Стряпчева от них выделили (чтобы не зашибли его до смерти за показание) и повезли всех водою – в Тайную розыскных дел канцелярию. А канцелярия та дремуча – внутри крепости, за версту нехорошо пахнет, вокруг кладка кирпичная иль бревенчатая; над воротами же – вензель царицы из первых букв ее имени: «А» и «I». Понюхал воздуха Потап и уверился: «Чай, не мне первому…» Договорились они накрепко: отца – командира Афанасия Бешенцова не выдавать. Добрый человек! Он солдата не обижал, и мы его никогда не обидим. Стой крепко, ребята, завтра поведут в оговорах розыск чинить.
Привели… Глянул Потап Сурядов на дыбу и сказал:
– Знать не знаю. Ведать не ведаю.
– Все не знают, – отвечал Ванька Топильский, – все не ведают. Однако ты не смущайся, братик: мы тебе напомним!
И на дыбу вздернули. Пять плетей. Сошла кожа со спины.
– Говори, – допрашивал Ванька, внизу стоя, голову кверху, под потолок, задирая, – говори по совести: про то, как кирпичом хотели ея величество зашибить, как мортирку на нее готовили?
– Знать не знаю… ведать не ведаю…
– Десять! – сказал Топильский, и очнулся Потап под утро.
Темно было. Падалью разило от пола. Постонал. Забренчали цепи, и узник один кружку с водою ему поднес… Потап напился воды вдоволь и спросил сотоварища:
– А ты-то, брат, за што в цепях сиживаешь?
– Моя вина тяжкая, – отвечал узник. – Вина я не пил, табаков не куривал, в зернь не играл, жену свою не колотил, зла никому не делал, грамоте обучался. Вот и сижу теперь второй годик!
– Хороший ты человек, видать, – посочувствовал Потап. – Но вина-то какова твоя?
– По такому образу жизни, какой вел, впал я в подозрение жестокое. Плохое и хорошее на Руси всегда рядом лежат… А теперь пытают меня: не умыслил ли я чего противу государыни нашей?
Солдаты втащили капрала Каратыгина – шмякнули. Так пластом и лег старый ветеран. Не охнул. А под вечер разговорился:
– Били, перебили. И на себя все накричал, а нашего Афанасия Петровича, дай бог ему здоровья, словами худыми не тронул…
Спину подлечив, снова повели. Ставка очная – вещь подлая: вот на этой дыбе висит Потап Сурядов, а на этой, рядышком, Стряпчев болтается. Спросят Потапа, потом Стряпчева спрашивают: так ли?
– Солдатики мои, касатики, – говорил Ушаков, квасок хлебая, – да нешто вам самих себя не жаль? Дай им еще… ожги!
Ожгли так, что до костей проняло.
– Было! – кричал Стряпчев, извиваясь. – Все было, как показал. И про кирпич говорили, и на мортирку косо посматривали…
– Знать не знаю – стонал Потап, – ведать не ведаю!
Капрал Каратыгин ночью подполз к нему, внушал так:
– Люди гулящие живут сами по себе. Вот и беги ты…
– Да где живут? – спрашивал Потап.
– Недалече… За Фонтанной рекой, за Мойкой-речкой.
– Велики ли реки те?
– Да с Яузу будут… Эвон, за городом сразу!
– Ну, прощай! – сказал капралу Потап…
Только вывели его – сразу через частокол махнул. А там – ров. И вода. Глыбко! Ногами от дна отбрыкнулся, и вынесло его на другой берег. Бежали за ним, стреляя, потом отцепились. Долго (всю ночь) блуждал Потап вокруг Петербурга по лесам. Дважды лодки отыскивал, переплывал реки. В леске и выспался – на клюкве. А вышел из леска – дымит деревенька, бабы воду от речки носят.
– Баушка, какая такая деревенька-то ваша будет?
– Калинкина, человек божий, – отвечала старуха.
– Вишь ты, – задумался Потап, – сам-то я краев других. Вашей губернии не знаю… Эка речка тут у вас прозывается?
– Да мы ее Таракановкой кличем. Течет она из лесу, кажись, да прямо в Фонтанную попадает, а та – в Неву.
– Ну, баушка, спасибо тебе. Тую реку мне и надобно…
И стал он вольным человеком. Гуляя по лесу, слышал рожки почтарей. Першпектив генеральских стерегся – там солдаты с ружьями ездили. Охраняли. Глядь, а на болотце костерок огоньком пыхает.
– Хлеб да соль вам, – сказал Потап, из кустов вылезая.
– Хлеб в чулане, а соль в кармане, – ответ получил. – Ежели не врешь, так и сам проживешь.
Накинулись и мигом раздели (разбойники). А мундир сняв, увидели спину драную, и тогда мундир доброхотно вернули Потапу:
– Ты барабан старый. Только не стучи громко. Эй, робяты, посторонись: нашего табора цыган плясать станет…
Люди лихие жгли дачи пригородные, по амбарам шастали. Деньги грабастали. Бедных не трогали, но сторожей не спрашивали – богат ли барин? Кистенем – тюк, вот и каюк! Жуткий свист по ночам кольцом облагал столицу, владычили там люди гулящие. И днем себя показывать властям уже не боялись. По трактирам у застав сидели, отсыпались ночью под лавками… Житье – так себе: не знаешь, где завтра проснешься. В чухонской деревеньке Автовой одна старуха залечила спину Потапу, он снова в тело вошел, еще никогда столько сала боярского не едал, как в эту разбойную пору…
Только вышел однажды, скучая, в город. Толпился народ на Сытной площади – казни ждали. Приткнулся и Потап сбоку: смолку за щекой жевал да посматривал. Вывели из возков черных двух людей, болтались их члены, дыбами вывернутые. Подняли на эшафот и читали при народе сентенцию – про вины великие: о кирпиче и мортирке. Потап слезы глотал, а когда палач топор поднял, крикнул:
– Афанасья Петрович, за ласку твою… не забуду!
– Укройся, – отвечал Бешенцов с плахи.
– И ты, капрал…
– Беги! – крикнул Каратыгин, и слетели две головы…
Вьюном вывернулся Потап из толпы. Какого-то сыскаря из канцелярии Тайной кистенем в размах шибанул по лбу – на память вечную, и – поминай как звали: он уходил на Москву.
На дорогах России пустейше было. Деревни – заколочены. Жары летние иссушили хлеба, гряды жесткие к земле их прибили. Голодно стало! И бежал люд крестьянский от правежа… Тихо было!
* * *
Ветер с Невы не достигал Трубецкого раската, что лежал внутри крепости Петропавловской. Собрались все придворные, все генералы, приехал Феофан Прокопович, чтобы святое дело святой водой освятить… Анна Иоанновна из коляски вышла.
– Учнем зачатие делу великому? – спросила, гордясь.
Архитектор в ранге полковника Доменико Трезини подал ей камень, и она коснулась его рукою. А на камне том – надпись пышная, случаю сему приличествующая: «Во имя Господне, Божию поспешествующею милостию, повелением Всепре-светлейшия, Державнейшия Великия Государыни Императрицы и Самодержицы Всероссийския Анны Иоанновны, Матери Отечества, основание сего равелина…»
Ей подали лопатку с известью, и она известь на камень тот символически сошлепнула… Глянула вбок: там высились камни равелина Иоанновского, недавно ею заложенного в честь отца своего.
– А сей новый равелин, – сказала хрипло, – звать в веках Алексеевским, в память дедушки моего – царя Алексея Михайловича!
Тихо было на Неве. Погожий денек выпал, солнышко светило.
Заложила она равелин Алексеевский, которому стоять на крови два столетия. Камни русской Бастилии еще хранят отпечатки пальцев царицы престрашного зраку.
Глава четвертая
Только на Польшу взгляни – новые распри растут!
Вас. ТредиаковскийСтанислав Лещинский, король польский, приехал в Версаль проститься с Людовиком и своей дочерью – королевой Франции. Отсюда в окружении блестящей свиты он поскакал на Шамбор, где провел ночь, после чего карета покатила его в сторону побережья Бретании… Венские шпионы сопровождали короля. Когда он проезжал через город Ренн, газетеры уже оповестили читателей о его проезде. Напротив деревни Лонво качалась на волнах эскадра французских кораблей. Военная гавань Бреста стучала в небеса фортовыми пушками. На глубоком рейде, стиснутом зелеными холмами, белые паруса фрегатов окутывались дымом ответных залпов.
– Виват королю великой Польши! – кричали французы.
Запахнув плащ и взмахивая шляпой, по сходне поднимался пожилой красавец – белокурый, с нежными губами, стройный и изящный король Станислав Лещинский… Под восторженные крики и салюты пушек он отплывал, чтобы занять пустующий престол в Польше.
Эскадра выбрала якоря. Лещинский сказал офицерам:
– Конечно, маршал Тессе прав: корона Ягеллонов в руках России. Кому она вручит ее – тот и станет королем. Но, слава всевышнему, Польша ждет меня – природного Пяста… Ставьте же паруса!
За балконами корабельных корм медленно исчезала зеленая земля. Король остался в каюте флагманского фрегата. И тут его стало так бить, так стало трясти… Не дай бог, если бы кто увидел его в это мгновение! Ибо этот человек, принявший на себя королевские почести, никогда королем не был.
Звали самозванца – кавалером де Тианж, он был мальтийским рыцарем и очень походил на Станислава Лещинского: лицом своим, улыбкою приятной и повадками. Эскадра поднимала паруса, ветры звенели в громадных полотнищах… Впереди – Польша!
Но если это не король плывет в Польшу, где же тогда настоящий король, которого ждут сейчас в Польше?..
* * *
Как раз на день святых Фрола и Лавра (известных покровителей лошадей) Волынского от лошадей и оторвали: велено было ехать в Польшу, чтобы состоять при Смоленском корпусе. Жаль! Работы по Конюшенному ведомству очень влекли Артемия Петровича: скрещивая маток породистых, добивался он крови улучшения, имел заботы о заведении на Руси первых аптек ветеринарных…
– Прощай, квашня, я гулять пошла! – И отъехал скоренько вместе с Кубанцем, говоря ему: – Чую беды и посрамления… Вот суди сам: Август покойный на шее русской виснул, словно камень худой; сколь много солдат из-за него Петр Первый угробил. Теперь сына его вздымать хотят на престол польский. Думаешь, саксонцы или венцы помогут? Нет, все нам, русским, в крови своей добывать для чужаков блудных надобно. А поляков мне жаль: они нам, россиянам, по крови родные. Народ этот пылок и добр, а что шумят много, так это по горячности. Беды времен прошлых забыть надобно и славянству единым быть… Так-то!
Корпус генерала Ласси он нагнал на марше:
– Петра Петрович, дай обгоню тебя… На што мне тащиться за солдатами? Дозволь до Варшавы ехать? Хочу вудки выпить да закусить кокурками варшавскими.
– Езжай, – отвечал Ласси, генерал славный, в коляске качаясь. – Но смотри, как бы тебе поляки кости не переломали…
Угроз не убоявшись, Волынский раньше армии явился на Варшаве. Седоусые ляхи хватались за сабли, распивали жбаны с пивом на улицах, и светились костры площадные – зловеще! Через заставы столичные с воплями и стонами удирали по дорогам на Саксонию немцы. Поляки всех немцев вышибали прочь из своей страны. От увиденного Волынского брала оторопь. «Вот бы и нам так, – думал, полякам завидуя. – Смотри, как немчуру погнали, будто скотину… Хорошо бы у нас такое вышло!» В доме цесарском навестил он начальника своего – Густава Левенвольде, который встретил его с лицом рассерженного льва: потолстели у него брови, распух нос, язык еле ворочался:
– Сам дьявол принес вас! Примас Потоцкий извлек из архивов закон древний, по которому при избрании короля никому из иноземцев быть в Варшаве нельзя… Нас изгоняют, а вы вдруг явились! Сидите дома…
– Зачем же ехал? – сказал Волынский. – Чтобы сиднем взаперти сидеть и понтировать с вами?
Понесло его – в самую гущу. Карету свою придержал на перекрестке улиц:
– Проше пана… Як я моге пшиехать до дому примасу?
И поехал в логово бунтующей Польши – в дом архиепископа гнезненского Федора Потоцкого… Волынский знал его! Примас родился в плену московском, мать его была Элеонорой Салтыковой, роднею Анны Иоанновны, и теперь Потоцкий (по слухам) стал самым яростным врагом русской императрицы. Час послеобеденный – для визита рискованный. По законам службы дипломатической разговоров после обеда вести нельзя (а судьям приговоры нельзя подписывать). Волынский думал: каково примут? Не спустят ли по лестницам?
Гайдуков отстранив, поднялся в палаты. Столы там стояли, по обычаю панскому покрытые плитами чистого серебра. За чарами вина, осиянные множеством свечей, сидели приверженцы Лещинского, а среди них – Потоцкий, и Волынский поклонился через стол:
– Великий примас! Не изгоняй сразу… Мы родня с тобой дальняя: через Салтыковых в кузенстве родственном состоим.
– Средь врагов Польши не ищу родства себе!
Но Артемий Петрович вновь поклонился ему.
– Езус Мария, – отвечал с усмешкой. – Но ведь есть родство, от которого никакой поляк не отречется: поляки и русские есть братья извечные по крови славянской. И за то родство уважь меня!
Хмуро смотрели на гостя нежданного маршалок Белинский, казначей Оссолинский, гетман Огинский, стражник коронный Сераковский, епископ Смоленский – тонколицый Гонсевский… Волынский к нему обратился.
– Вот ты, епископ, – сказал Гонсевскому, – твой предок во время смутное Москву дотла спалил. А я на Москве как раз новый дом отстроил: приезжай – примем ласково, зла не упомнив!
Примас поднялся, тишины выждал.
– Эй, панове! – гаркнул. – Москаль – не саксонец… Налить ему куфель полный. Проше пана до нашего польского корыту!
У «корыта» польского Волынский чувствовал себя куда лучше и свободнее, нежели в отечестве своем – за столом Остермана или царицы. И, уединясь с примасом, они говорили честно, скрестив оружие двух правд – правды польской и правды русской, в поединке славянском…
– Зачем вы губите нас? – спросил Потоцкий. – Престол Польши, сестры русской, хотите наследственным для немцев сделать? Саксонского выродка нам сажаете? И – за что? В обмен на престол Курляндии, который даже не вашей стране, а подлому куртизану Бирену нужен… Стыдитесь, панове москальски!
– И я стыжусь, – отвечал Волынский бесхитростно. – По мне, так любо Польше то, что полякам любо. Но вступила во вращение политика тайная, злодеи плывут каналами темными. Союз Левенвольдов и Остерманов гибелен и вам и… России! Но и у вас, в Речи Посполитой, не все в согласье: Любомирские, Вишневецкие, Мнишеки кричат за Августа… А разногласье это худо обернется для крулевят!
– Melius est excidium, quam scissio,[23] – отвечал примас. – Я знаю нравы панства нашего: многие гетманской булавы жаждут и внимания исключительно к своим фамилиям… Им ли думать о Польше?
– У нас тоже таких много, которые дочерей продадут, только бы им хорошо у престола сталось. По размышлении здравом вижу еще корень опасности для славянства – турки… Не враждовать бы нам, а быть в починах дружеских.
Примас ответил ему с печалью глубокой:
– И мы, поляки, знаем всю тягость России под немецким быдлом! Однако Польша пусть останется разумна… Нет, мы и мысли не допускаем, что русские люди виновны в бедах наших. Бедствие в Посполитой оттого происходит, что Россией немчура управляет. И лишь одно правительство ваше повинно в этом… Мы прах и пепел! Века отшумят над нами, горе и распри старые изживутся, будут радости новые, и… где поляк? где русский? – того не узнать будет: славянство все в соку своем переварит…
Артемий Петрович вернулся к Левенвольде.
– Где вы были столь долго? – спросил он Волынского. – Я думал, вас уже растерзали.
– Гулял, граф… Вудки выпил! Паненочки варшавски – до чего ж милы! Черти, медом помазанные, – вот девки здешние каковы!
– Не подходите к окну, – велел Левенвольде. – Там стреляют…
Волынский выглянул на улицу. Вокруг германского посольства стоял громадный забор, с утра до вечера толпились поляки, дружно обстреливая посольство… Немцев выкуривали! За Варшавой, в местечке Вола, уже возводилась шопа – деревянный навес, под сенью которого Польша изберет хоть дьявола, только не немца…
– Пяста! – кричали на улицах.
А где же король?.. Где же он?..
* * *
В коляску к королю запрыгнул мсье Дандело:
– Ваше величество, имею восемь тысяч луидоров и говорю на восьми языках… Хватит ли нам этого в далеком путешествии?
– Вполне достаточно, мсье Дандело, – отвечал Станислав Лещинский, одетый под лакея. – Итак, мы едем к престолу… Вы – мой господин, я – ваш слуга покорный. Помните об этом, мсье Дандело, ибо шпионы венские стерегут каждый мой шаг…
Колеса плыли в топкой грязи мелких немецких курфюршеств, где каждое перекрыто от другого шлагбаумами. Возле рогаток солдаты светили по ночам факелами, вглядываясь в проезжих; Дандело ехал под видом польского купца, Лещинский был его слугой исправным, и король проворно спрыгивал с козел, ворота харчевен отворяя.
От Страсбурга – уже верхом! – они поскакали в Мюнстер, а там сели в почтовый дилижанс, который довез их до Берлина: вот наступил момент опасный – проверка пасов. Но король Пруссии уже охладел к «Союзу орлов», и пасы путникам вернули без подозрения. Во Франкфурте-на-Одере их ждала коляска французского посла в Варшаве – маркиза Монти, а в ней – припасы для дороги.
Маркиз Монти объявил в Варшаве, что король Станислав Лещинский на эскадре кораблей приближается к Гданску (это он говорил о кавалере де Тианж). Следы были запутаны… Коляска быстро покатилась через земли славянские. Потекли родные холмы, покрытые буковыми лесами. На постоялых дворах, под увесистыми грабами, король пил деревенское пиво и слушал игру волынок. Отбросив в сторону парик, он клал румяный пухлый подбородок на кулак, и слезы текли из-под длинных, как у девицы, мохнатых ресниц. Слуха короля достигали разговоры поляков – старых ляхов. Не было, пожалуй, в Польше семейного очага, где бы не вспоминали по вечерам походы и славу былых времен. Легкомысленно забыты все тягости походов во славу Карла XII, и теперь имя Станислава Лещинского светилось в замках и хижинах, как звезда возрождения Польши – великой и самостийной… На последней станции перед Варшавой король Станислав разоблачил себя, сказав:
– Поляки! Посмотрите на меня внимательно… Неужели вы не узнали своего изгнанника-короля?
– Виват королю! Да здравствует природный! Пяст… Хотим поляка Польше, но только не германца! – кричали варшавяне.
Король въезжал в столицу с запада. А через восточные заставы покидали Варшаву недовольные, сбираясь в лагерь на правой стороне Вислы, и уже сколачивали конфедерацию. «Хотим Августа!» – доносилось оттуда, из Пражского предместья. Папа римский переслал примасу Польши особое послание, и Потоцкий набожно обнажил голову… Ватикан тоже требовал избрать Августа! Но ничто уже не изменит духа поляков…
– На коло! Под шопу! – раздавались призывы.
Резкий удар грома разорвал небо над Варшавой, хлынул проливной дождь. В грохочущих струях ливня промокли знамена староств, воеводств и поветов. За глубоким рвом открылось – все в пузырях дождя – поле рыцарского коло: хорунжа к хорунже, тесными рядами стояли всадники в жупанах, висли мокрые усы депутатов, высоко взлетали их шапки – под дождь, под гром, под молнии:
– Хотим Станислава!
Шпора к шпоре, сабля к сабле. Впереди хорунжей торчали малиновые значки региментов поветовых. Примасу подвели лошадь, и он вскочил в седло. Реял бархатный кунтуш на собольем меху, вилась за спиной примаса лисья мегерка… Взревели рога и трубы, когда он поскакал вдоль строя. Ряд за рядом проносился примас под дождем, осыпаемый рукоплесканиями варшавянок.
– За кого? – спрашивал каждого.
– Хотим Станислава! – и примас мчался дальше…
– За кого?
– За себя! – отвечал ему князь Сангушко.
– Так будь ты проклят! – И Сангушко поскакал прочь за Вислу.
– За кого?
– Польше – поляка!..
Восемь часов подряд, под бурным ливнем, затоплявшим рвы, примас объезжал коло, и ревели трубы под шопой, одобряя каждый возглас депутатов. Шестьдесят тысяч человек он объехал за день, вставая на стременах, чтобы разглядеть лица… Вот и конец. Перед примасом – последний депутат.
– За кого? – спросил он его.
И тут раздалось роковое:
– Вето!
Шестьдесят тысяч голосов обрушились в пропасть. Восемь часов под дождем – как собаке под хвост! Кто посмел сказать «вето»? Бедный шляхтич с Волыни Каминьский был против. А спросить его, пся быдло, почему против – никак нельзя (таков закон вольностей).
– Одумайся, безумец, – умолял его примас. – Иль ты за Вислу тоже хочешь? Один, совсем один, ты повергаешь в разоренье наше отечество, окруженное врагами, и воплем своим уничтожаешь всю силу голосов, поданных на этом коло нацией польской…
Шестьдесят тысяч человек жалобно кричали:
– Каминьский, не рушь коло!
Уговорили. Примас взмахнул рукой и бросил факел в шопу, чтобы она сгорела сразу. Три залпа возвестили миру об избранье Станислава Лещинского в короли. Хорунжи вздыбили коней, паля из пистолетов в небо. Из седел – то здесь, то там – падали с криком люди, убитые наповал шальными пулями (нечаянно).
Из церкви Иоанна король Лещинский отъехал во дворец. Шесть сенаторов несли над ним балдахин из красного бархата. Перед кортежем плыли знамена царств – Польского и Литовского, пронесли оранжево-черный штандарт Курляндского герцогства (вассала Речи Посполитой). Во дворце король настежь распахнул окно на Вислу. Дождь кончился. Распевали птицы. Алмазами сияли капли на листве. А там, за Вислой, стояли толпы противников Станислава.
– Хотим Августа Третьего… – расслышал король их клики.
Но по законам польским, голос протестующих был действителен лишь в том случае, если он раздался на месте коло прежнего. А там уже догорали остатки старой шопы, завтра ветер развеет пепел…
Это случилось 11 сентября 1733 года.
* * *
– Меня отравили, – сказал под грохот пушек Левенвольде.
– Кто? – спросил его Волынский.
– Не знаю – кто, но верю, что поляки… Я еле двигаюсь. Не ешьте этот хлеб. Выплесните вино… Откуда стреляют?
Поляки выживали немцев и русских послов из Варшавы.
Пушки расстреливали ворота домов посольских. Курьеры не достигали цели: их перехватывали у застав, а шифры Остермана сейчас были разгаданы особой комиссией из евреев и армян варшавских.
– Боже, – стонал Левенвольде, – где же армия Ласси?
И вот наконец заржали кони на правом берегу Вислы, задымили костры, – это Ласси подвел русскую армию. Под Гроховом собрались поляки, недовольные избранием Станислава; паны ясновельможные стояли теперь за Августа, решив: коли корона не нам, так пускай уж Августу. Под прицелом пушек русской царицы был избран в короли курфюрст Саксонский – немец.
– Vivat Rex Augustus Tertius!..
За Станислава – шестьдесят тысяч голосов. За Августа – четыре тысячи (и те продажны, отягщены золотом, полученным от Густава Левенвольде). Было «бескрулевье», а теперь стало в Польше сразу два короля! И пушки Ласси развернулись от Праги на Варшаву… Отсюда, от разрушенного моста над Вислою, корона герцогов Курляндских воспарила над головой графа Бирена – любовника царицы всероссийской… Левенвольде встретился с Ласси:
– Здесь больше делать вам нечего. Станислав Лещинский – с примасом и сенатом – удрали в Гданск, где жители предложили им свою защиту под стенами крепости. Туда подходит и французский флот… Вам осталось самое малое: силой оружия внушить полякам смирение!
Ласси развернул русскую армию на Гданск – к морю…
Волынский ехал и дремал. Пробудясь, пил славную вудку. Заедал хмель черствыми кокурками, внутри которых запечены яйца. На плече своего господина отсыпался раб верный – калмык Кубанец. Было худо на душе. Не забылись (и не забудутся) сеймы и сеймики. Вот каково живут магнаты польские! И думал Волынский: «Нам бы эдак… Кричи, что хочешь. А у нас – шалишь: за крик тот языки отрезают…»
Над рекою выросли в тумане башни, виден уже и пологий гласис крепости… Тпрру! Приехали – вот он, Гданск. Петр Петрович Ласси показал на стены фортов, произнеся без улыбки:
– Они готовы драться… Сейчас раздастся первый выстрел!
На самом верху стены форта Гагельсберг стояла гордая полячка, держа в руке дымящийся фитиль. Ветер рвал ее тонкое платье, относил назад длинные волосы. Движеньем плавным приставила фитиль к затравке, и пушка рявкнула, а женщина исчезла в клубе дыма, потом в рассеянном дыму опять явилась пред Волынским – прекрасная богиня мужества и гордости.
Чух! – раздалось рядом, и тяжкое ядро, крутясь отчаянно, запрыгало меж колес тележных, круша их спицы и ломая ноги лошадей…
Так началась осада Гданска.
* * *
В эти дни обозы экспедиции Северной достигли Казани, и принимал гостей в доме своем губернатор Кудрявцев… Сначала хозяйством похвастал: жеребцами своего завода Каймарского, в сарай ученых провел, там у него мешки лежали, в поленницы сложенные; в одних мешках – деньги, в других – пряники. «Вот, господа, как надобно жить, – сказал Кудрявцев, – чтобы запас иметь!» Потом гостей звали наверх – к столу. Вина подавались французские и астраханские. В двух комнатах пир шел, в одной – женщины, в другой – мужчины (порядок азиатский). Во время еды и пития играл оркестр домашний. Среди тостов один был опасный – за князя Дмитрия Голицына, затейщика кондиций! За ужином гостей десертом обносили: арбузы, орехи и тянучки. Из комнаты соседней хозяйка вышла, с поклоном каждому в больших стаканах пунш с лимонным соком предлагала. От пунша того многим худо стало. Таких в сарай выносили и складывали чинно и знатно. Кого на мешках с деньгами, кого на жестких пряниках.
В эту ночь на Казани был арестован Франциск Локателли.
Экспедиция Витуса Беринга от одного шпиона избавилась. Остался еще один – вечно пьяный Делиль де ла Кройер с подложной картой, составленной в Петербурге его старшим братом – астрономом. Локателли прошел через застенки Тайной розыскных дел канцелярии и, вынырнув в Европе, стал выжидать, когда из моря вынырнет… сундук!
А в этом сундуке отыщут люди… книгу!
Глава пятая
Бывало, поблуждает Анна Иоанновна по дворцам, хозяйство свое царское, необъятное оглядит придирчиво и перекрестится.
– Слава богу, – скажет, – сподобил меня господь бог до светлого дня дожить: теперь у меня все есть, и все это – мое!
Да, все имелось у вдовицы-императрицы. Вот только не было еще обоев, которыми стенки обклеивают. А эти обои – такая роскошь, столь они дороги… Пожалуй, один Людовик и может такую роскошь себе позволить. Но связь Санкт-Петербурга с надменным Версалем прервалась, когда армия Ласси начала осаду Гданска… Дела польские разрушили завет Петра I – дружбы с Францией искать, и находить ее, и крепить через головы княжеств немецких. Теперь немцы правили Россией, а британский флаг гордо развевался на Волге, и лишь один Анисим Маслов, опечаленный, осмелился заявить в Сенате:
– Вся дрянь аглицкая, лежалая да подмоченная, сбывается у нас на рынках. А товары российски, коим цены нет в Европе, по дешевке в Англию уплывают. Это грабеж, а не торговля, господа Сенат!
Но один Маслов беспомощен: англичане, нация денежная, держались взятками – за Остермана, за Бирена, за Лейбу Либмана, за братьев Левенвольде и даже за Миниха… А императрица, перебирая свои богатства, то скулила, то гневалась:
– Эти ляхи проклятые замутили всю воду в Европе, теперь в Версаль не напишешь, чтобы обоев мне для комнат прислали. Люди же аглицкие фабрик обойных не завели еще…
…Джон Белль д’Антермони ударил молотком в двери, и слуга принял с его плеч русский тулуп. Консул Клавдий Рондо не спал.
– Вы куда ходили так поздно, доктор? – спросил он.
Белль скинул с ног мужицкие валенки, надел мягкие туфли:
– Я ходил, сэр, встречать обоз из Архангельска.
– Писем от наших компаний нету?
– Пока нет, сэр…
Белль прошел к себе в комнаты, засел за писание дневника. Он был умный человек и понимал: перед взором его сейчас пролетает стремительная История, и надо запечатлеть размах ее крылий. Он приехал в Россию еще молодым, вот уже двадцать лет живет среди народа русского. Он полюбил этот народ, врачуя его в быту и на полях битв. Беллю удалось то, что редко выпадает даже русским: он дважды пересек Россию: с Артемием Волынским – на юг (до знойных долин Персии), с послом Измайловым – на восток (до самого Пекина). Теперь же он не только врач, но и атташе посольства британского. Изучив пути на Восток, Белль подсказал королю Англии пути транзита, чтобы успешнее выкачать из России ее богатства… В этом случае Белль поступил как англичанин!
Утром его разбудили резкие удары счетных костяшек. Клавдий Рондо со своей очаровательной супругой, как добрые коммерсанты, уже засели за бухгалтерию. Поташ, пенька, железо, селитра, уксус, дерево, смольчуга, овчины… За окном было светло от снега, выпавшего за ночь. По первопутку Джон Белль поехал в манеж графа Бирена, где почтенный куафер Кормедон пудрил парики, а Лейба Либман, преважный, разгуливал средь кадок с душистыми померанцами…
– Почтеннейший банкир, – сказал ему Белль, – так и быть: мы дадим ея величеству десять кусков обоев на стенки.
– И мне… три! – спохватился Либман.
– Разве комната вашей любовницы, госпожи Шмидт, столь мала? – спросил Белль, в душе смеясь. – Вы получите тоже десять…
Конечно, Анисиму Маслову в этой придворной толчее, все жадно расхватывающей, было не справиться. Не хватало Ягужинского, который сидел в Берлине и помалкивал. А за широкой спиной графа Бирена Маслову было неуютно и опасно. И обер-прокурор империи даже не удивился, когда к порогу его дома кто-то подкинул ночью письмо: «Остерегайтесь женщины, известной в свете. Вас, яко защитника простолюдства, желают извести. Следите за цветом перстня красивой женщины, когда она разливает вино…»
Эту записку подкинул ему Белль д’Антермони, и в этом случае он поступил как русский, страдающий за дела российские!
* * *
20 января 1734 года умирал великий канцлер великой империи, граф Гаврила Иванович Головкин – царедворец ловкий. Он умирал в своих палатах на Каменном острове, который недавно ему подарила Анна Иоанновна. Смерть была не страшна, но убыточна для канцлера, ибо доктора и услуги аптечные обходились дорого. Слабеющей рукой Головкин прятал лекарства под подушку. Он их не глотал – жалко было. Чай, тоже деньги плачены… «Сожрать-то все можно!»
Почуяв холод смерти, канцлер собрался с силами.
– Убыток… – сказал и дунул на свечу, гася ее: покойнику и так светло во мраке смерти.
В погребальной церемонии принцесса Анна Леопольдовна впервые увидела красавца, какого трудно себе представить.
– Кто этот сладенький? – спросила она у мадам Адеркас.
– Это граф Мориц Линар, посланник саксонский, на смену Лефорта прибывший с делами тайными. Мужчина очень опасный, ваше высочество, и по части утех любовных, пожалуй, Левенвольде опытней.
Внимание принцессы к Линару заметили многие. Анна Иоанновна лицом покраснела, рукава поддернула, прошипела племяннице:
– Неча на послов чужих вперяться. На жениха радуйся…
Анна Леопольдовна губы надула. Жених-то – тьфу! Выбрали ей такого принца, как в песне поется:
Было бы с него счастия того, Ежели б плевати мне всегда на него, Буду выбирать по воле своей, Учлива в поступках по любви моей…Мориц Линар внимание принцессы к себе тоже заметил, но вида не подал. Остался спокоен, только ноздри раздул, как жеребец.
– До чего же опытен, каналья! – определила Адеркас. – Понимает, что нашу слабую породу лишь холодностью совращать надобно. Ваше высочество, – зашептала она на ухо принцессе, – хотите, счастье составлю? Доверьтесь моему знанию персон мужских.
– Я без ума! – отвечала девочка. – Как он красив!..
Бирен этой любовной суеты даже не заметил. Он был чрезвычайно озабочен смертью канцлера. Итак, в Кабинете осталось теперь два кабинет-министра: Остерман и Черепаха. Это пугало Бирена, и он выискивал буйвола, который бы – лоб в лоб! – сразил Остермана наповал. Волынскому – еще рано, он не пройдет в двери Кабинета… Граф толкнул локтем Лейбу Либмана.
– А я придумал, – сказал он фактору. – Ягужинский человек горячий… Такого-то нам и надобно! Решено: я помирюсь с ним, только бы Остерману воли не давать…
– Но Остерман вице-канцлер и теперь по праву заступит на место Головкина.
– Смотри сюда, – велел Бирен, отгибая полу кафтана.
В погребальной процессии следуя, Либман глянул туда, куда ему велели, и увидел – весь в сверкании перстней – громадный кукиш графа Бирена, пристально глядящий на него.
– Видел? – засмеялся Бирен. – Канцлер здесь Я! И пока я жив, Остерману в канцлерах не бывать… Ягужинского за драку со мною я прощаю. Впредь пусть говорят о нем при дворе уважительно и значительно.
Кареты разъезжались от дома мертвого канцлера. Граф Линар, волоча по снегу черный плащ, прошел мимо принцессы, даже не глянув, и Анна Леопольдовна всю дорогу плакала на плече своей многоопытной воспитательницы:
– Как он жесток… даже не поклонился!
– Ваше высочество, вы близки к победе… Уверяю вас! Прежде чем приласкать нас, мужчины обычно казнят нас. Он уже у ваших ног. Вытрите божественные слезы, я все сделаю для вас…
Остерман очень любил покойников. Тихие, они ему уже не мешали.
И долго стоял над гробом великого канцлера, размышляя о коварстве Миниха, склонного к дружбе с Францией… Вот бы и его туда же, вслед за канцлером! Но… как? Две кометы пролетали над Россией рядом, одна к другой вприжимку – Остерман и Миних (Бирен в счет не шел: словно вор полуночный, он крался по России в тени престола). У гроба канцлера Остерман решил: «Устрою-ка я Бирену хорошую щекотку, разорву ленточки его дружбы с Минихом…»
– Рейнгольд, – сказал Остерман, очнувшись, – я вас довезу…
В карете сидя, вице-канцлер интриговал:
– Императрица напрасно доверяет Миниху… Если бы она знала, бедняжка, каков этот хамелеон! Боже, хоть бы раз услышала она, какими словами он поносит графа Бирена! Ужасно, ужасно…
– Но Миних дружит с обер-камергером, – заметил Левенвольде.
– Чушь! – отвечал Остерман. – В управлении артиллерией русской Миних запутался. Артиллерию от него надо спасти и генерал-фельдцейхмейстером сделать опытного принца Людвига Гессен-Гомбургского… Вы поняли? А если нет, так и напишите брату Густаву в Варшаву: он вам ответит, что нет чумы подлее, нежели зазнайка Миних…
Сделано! Во главе артиллерии поставили принца Людвига – того самого, у которого «слово» с «делом» не расходилось: где что услышит – сразу донесет. Миних озверел: такие жирные куски, как артиллерия, под ногами не валяются. Хлеб ему оставили, а масло отняли. Кормушку от его морды передвинули к другой морде…
Фельдмаршал не щадил трудов своих. Но не щадил и слов для восхваления трудов своих. Золотой дождь уже просыпался на него, и в звоне золота чудилась ему фортуна трубящая: «Слава Миниху, вечная слава!». Почуяв железную хватку Остермана, он еще крепче сколачивал дружбу с Биреном… Ему, Миниху, постель с Биреном не делить, потому и дружили пламенно, чтобы сообща под Остермана копать… Один перед другим монетами древними хвастали.
– А вот, граф, – сказал однажды Миних, в ладонях серебром темным брякнув. – Такой монеты у вас в «минц-кабинете» не найдется. Монета Золотой Орды времен ужасных для России! И называется «денга», что в переводе с татарского значит «звенящая»… Ну как? Завидуете?
Глаза Бирена, до этого скушные, оживились.
– Да, – ответил, – у меня такой нет… Продайте, маршал!
– Никогда! – отказался Миних. – А вот еще одно сокровище: монета тмутараканского князя Олега Михайлы, и здесь вы зрите надпись таковую: «Господи, помози Михайле»… Сей раритет есть у меня и… в Риге у врача Шенда Бех Кристодемуса.
– Кристодемус? Вот как? – удивился Бирен, хмыкнув…
Так они дружили. Но Рейнгольд Левенвольде пришел от Остермана и предупредил:
– Вы бойтесь Миниха, придет черный день, и тогда…
Началась «щекотка». Бирен сомневался: кому верить?
– Хорошо, – сказал он, взвинченный. – Я найду способы, чтобы узнать истину благородной дружбы… Не клевета ли это?
* * *
Саксонцы при дворе русском, как и голштинцы, издавна были людьми своими. Иоганн Лефорт, прощаясь, успокоил Линара:
– Скоро и вы, граф, станете здесь своим человеком…
Мориц Линар проследил, как лакеи шнуруют «mantelsack» с вещами Лефорта: меха и серебро, посуда и ковры, опять меха, меха, меха… Линар напряженно зевнул, ему было тоскливо. Чадя, горели свечи в канделябрах. Был поздний час – пора ложиться спать. Линар прошел в спальню, где лакей расстилал для него постель.
– А веселые дома с доступными женщинами существуют ли в Петербурге? – спросил его Линар (очень ко всему внимательный).
– Да, – прошептал лакей, невольно бледнея.
– Ты… подкуплен? – спросил его посол невозмутимо, как о вещи обычной, которой не стоит удивляться.
– Да, – сознался лакей мгновенно.
– Кем же?
– Только госпожой Адеркас… Клянусь, только ею!
Линар не сделал ему никакого замечания.
«А почему бы мне, – он думал, – не стать при Анне Леопольдовне таким же фаворитом, как Бирен при Анне Иоанновне? Допустим, отцом русского царя я не буду. Но любовник матери царя русского… О, тогда карьера моя обеспечена!»
– Одевайся, – наказал он лакею. – Ты станешь на запятки моей кареты, будешь показывать дорогу… Едем сразу!
Двери отворила сама госпожа Адеркас.
– О мужчины! – сказала она. – Как вы жестоки…
Линар небрежно сбросил плащ, подбитый пунцовым шелком:
– Мадам! Я вас вспомнил… Не вы ли содержали в Дрездене веселый театр, где актрисы играли главным образом с глазу на глаз за скромную плату?
– Я не настаиваю, чтобы вы помнили о моем прошлом, граф. Я согласна и сейчас на плату самую скромную, если…
– Но играть-то будете не вы, – ответил ей Линар.
И вот темная, жарко протопленная комната. И вот девочка-принцесса, ради которой он и пришел сюда.
– Ваше высочество, – заявил Линар с порога, – я готов рыцарски служить вам. Итак, я весь у ваших ног.
В эту ночь саксонский дипломат опередил законного жениха. Того самого, что прибыл из Вены с важным заданием: зачать принцессе русского царя. Худая и плаксивая девочка, тихо всхлипывая, заснула в эту ночь на плече своего любовника…
– Госпожа Адеркас, – сказал Линар под утро. – Я молчу о вашем прошлом несчастии. А вы будете молчать о моем настоящем счастии… Денег за это с вас не беру! Но, как человек благородный и воспитанный, я не привык и давать своих денег кому-либо…
* * *
– Кто там стучит? – спросил Кристодемус. – Дверь философа не закрывается. Если ты нищ и бос, то входи смело…
Ворвались солдаты, засунули врачу кляп в рот, замкнули ноги и руки в кандалы. Офицер рылся в комнатах, разбрасывая книги. Со звоном лопнула реторта с газом.
– О подлый Бирен, – простонал Кристодемус…
Коллекцию древних монет сунули в мешок. А в другой мешок завернули Кристодемуса. Два мешка бросили в карету, задернули окна ширмами, повезли куда-то… Везли, везли, везли. Через несколько дней в кабинет к Бирену втащили тяжелый мешок с монетами, и алчно блеснули завидущие глаза графа.
– О-о, – сказал Бирен, – такого я не видывал даже у Миниха! Теперь мой «минц-кабинет» будет самым полным в Европе.
– Ваше сиятельство, – склонился Ушаков, – там, на дворе, остался в коляске еще мешок… с Иваном, родства не помнящим!
Речь шла о враче Кристодемусе.
– Пусть этот скряга, – распорядился Бирен, – отправляется вслед за Генрихом Фиком, пусть возят и возят его по стране пушных зверей… – Бирен задумался.
– Возить… а сколько лет? – спросил Ушаков.
– Пока я жив, – четко ответил Бирен.
…Под ровный стук копыт убегали в небытие долгие годы!
Глава шестая
Наестся меч мой мяс от тела…
Вас. ТредиаковскийАрмия Ласси безнадежно застряла под Гданском: с одной стороны – мужество жителей и крепкие стены фортов, с другой – нищая, полураздетая армия солдат, не имевших горячего варева и припасов. Голыми руками крепости не возьмешь! Отшумели дожди осенние, с моря вдруг рвануло метелью – подступила зима. Русские солдаты остались зимовать в открытом поле, а защитники Гданска, отвоевав день, шли по домам, где их ждал хороший ужин с музыкой и танцами… Миних еще осенью предсказывал:
– Ласси я не завидую. Он расквасит себе лоб, но Гданска не возьмет. Тут нужен гений – такой, как я…
Миних ужинал при свечах, при жене, при сыне. Он много ел и еще больше хвастал. Пустые бутыли из-под венгерского летели под стол, катаясь под ботфортами. Сочно рыгнув и ремень на животе раздернув, фельдмаршал сказал своим самым близким людям – жене и сыну:
– Бирен, конечно, подлая свинья! Остерман – грязная скотина! Братья Левенвольде – подлецы и негодяи… Разве эта шайка способна осиять Россию славой непреходящей? Конечно, нет… Один лишь я, великий и славный Миних, способен свершать чудеса!
Когда в доме Миниха погасли свечи, в камине что-то зашуршало. Часовой, стоя у крыльца, видел, как нечистая сила вылезла из печной трубы и, оставляя на снегу черные следы, спрыгнула с крыши в сугроб… Черные следы привели от дома Миниха к дому Бирена.
Нечистая сила предстала перед обер-камергером.
– Ну, рассказывай, – сказал граф. – Что ты слышал обо мне? Так ли уж справедливо то, что фельдмаршал хамелеон?..
На третий день камин в доме фельдмаршала затопили, и раздался вопль обожженного человека. Миних был солдатом храбрым: выгреб огонь внутрь комнаты и сам, прямо от стола, взбодренный венгерским, нырнул в черную дыру. Из печки долго слышалась возня, и вот показался громадный зад фельдмаршала, который тащил за ноги человека.
Миних приставил шпагу к груди шпиона:
– Кто научил тебя подслушивать мои разговоры?
– Его сиятельство… граф Бирен… Но – пощадите.
Удар – и конец шпаги выскочил из спины. Миних вытер лезвие о край скатерти, выпил еще вина, позвал лакеев:
– Мертвеца подбросьте к дому Бирена… В ответе я!
И лег спать. Бирен же, проснувшись поутру, выглянул в окно: на снегу лежал черный человек – его шпион.
– Ну, это даром ему не пройдет… зазнался Миних!
Миних получил приказ: очистить свой дом, который нужен для размещения растущего двора принцессы Анны Леопольдовны и жениха ее, принца Антона Ульриха Брауншвейгского.
– Что-о? – рассвирепел Миних. – Очистить дом? Мне?
Было приказано повторно: дом освободить, а самому переселиться на Васильевский остров. Значит, теперь от двора и Анны Иоанновны его будет отделять бурная Нева: весной – ледоход, осенью – ледостав, и фельдмаршалу ко двору не добраться. Кинулся Миних за милостью к Бирену, но вышел Штрубе де Пирмон и объявил, что из-за сильного насморка его сиятельство принимать никого не велят.
Миних извлек из штанов потаенный кошелек:
– Если его сиятельство стало таким сопливым, то покажите ему вот эти монеты. Насморк пройдет от такого подарка!
И монету Золотой Орды («денга») и монету Тмутараканского княжества («Господи, помози Михайле») вернули ему обратно.
– Его сиятельство, – объявил де Пирмон, – весьма благодарны вам, но поручили мне сказать вашему высокопревосходительству, что эти монеты в коллекции уже имеются…
Через город, через Неву потянулись громадные обозы: везли на Васильевский остров живность и мебели Миниха. Впереди на рыжем громадном коне величаво и торжественно ехал сам фельдмаршал. Он был оскорблен и мечтал о подвигах… Бирен из окон дворца с удовольствием наблюдал за движением миниховского обоза.
– Ну вот, – сказал весело, – а теперь мы его опозорим в глазах истории на весь век восемнадцатый!
– А как вы сделаете это? – спросил Либман.
– Очень просто: я пошлю его искать себе славы под Гданском. Петр Ласси отличный генерал, но крепости взять не может. Пусть же Миних порвет свои великолепные штаны под Гданском…
Расчет был тонким: Гданск – такая крепость, где любой полководец может свернуть себе шею. Да и мужество поляков – опасно! В эти дни обер-камергер был особенно ласков с императрицей, он расслабил ее сердце любовью, и Миних получил грозный указ: взять Гданск наискорейше, а короля Станислава Лещинского пленить…
Миних разгадал замысел Бирена, но не устрашился, как и положено солдату. Он заглянул в камин, под стол (там никого не было) и тогда сказал своим самым близким – жене и сыну:
– Этот мерзавец хочет, чтобы я обесчестил себя под Гданском. Как бы не так… Я угроблю миллионы солдат, но Гданск будет взят. Шпагу! Платок! Вина! Перчатки! Прощайте! Я еду!
На прощание императрица поцеловала фельдмаршала в потный, мясистый лоб. И подозвала к себе Бирена.
– Эрнст, – сказала, прослезясь, – поцелуй и ты Миниха!
Бирен широко распахнул свои объятия фельдмаршалу.
– Мой старый друг… – сказал он, лобызаясь.
– Мой нежный друг… – с чувством отвечал ему Миних. И – поскакал. Прямо из дворца – под Гданск!
* * *
Король прусский в политике был изворотлив, аки гад: пропустил он через свои владения короля Станислава, теперь пропускал через Пруссию фельдмаршала Миниха, который ехал, чтобы того короля живьем брать… Миниха, как родного, встретили прусские офицеры и всю дорогу от Мемеля сопровождали его конвоем, воинственно лязгая бронзовыми стременами, крича при въездах в города:
– Вот он – великий Миних! Слава великому германцу…
Тридцать тысяч червонцев звонко пересыпались в сундуках, на которых восседал фельдмаршал, поспешая к славе. Вот и Гданск – опаленные огнем крыши, острые шпицы церквей, апроши и батареи. На Диршауской дороге, под местечком Пруст, поник флаг главной квартиры Ласси. Город был обложен войсками, но – боже! – что за вид у солдат: босые и рваные, ноги обмотаны тряпками, заросли бородами, варят муку в воде и тот белый липкий клей едят… Звякнули сундуки с деньгами – это Миних бомбой вырвался из кареты.
– Солдаты! – возвестил он зычно. – Перестаньте позорить себя поганым супом… Вот перед вами город, полон добычи! Я поведу вас завтра на штурмы, и каждый из вас сожрет по целой корове! Каждый выпьет по бочке вина! Каждому по четыре бабы! Каждому по кошельку с золотом! Мужайтесь, мои боевые товарищи…
К нему, полузакрыв глаза, издали шагал тощий Ласси.
– Добрый день, экселенц, – сказал фельдмаршалу Петр Петрович. – И Гданск перед вами, но армия… тоже перед Гданском. Что можно сделать еще, помимо того, что я сделал? Солдаты обворованы, они раздеты и не кормлены… Под моей рукой всего двенадцать тысяч, четыре пушки и две гаубицы! Конфедераты польские смеются над нами…
– Штурм! – гаркнул Миних. – Императрица жаждет штурма!
– Кровь уже была. Наши ядра не долетают. Артиллерия завязла. Надо пощадить солдат, мой экселенц.
– А где австрийские войска? – огляделся Миних.
– Об этом надобно спросить у Остермана, – отвечал Ласси. – Вена любит втравить Россию в драку, много обещать и ничего не дать, рассчитывая только на силу русских штыков. Это же подлецы!
– Цесарцы – дрянь, я это знаю. Но где же саксонцы?
– Саксонцы там, вдоль берега… Август Третий прислал сволочь, набранную из тюрем, они насилуют женщин в деревнях пригородных и жгут окрестности. Я порю саксонцев и вешаю, как собак! Вешайте и вы, экселенц…
– Он еще там, этот шарамыжник-король? – показал Миних тростью на город.
– Да. Король там… С ним примас Потоцкий, по слухам, каждый вечер пьяный, и французский посол маркиз де Монти. Теперь они ждут прихода эскадры французских кораблей.
Миних раздвинул тубусы подзорной трубы, положил конец ее на плечо Ласси, осматривая город… Был ранний час, Гданск – весь в туманной дымке – курился уютными струями, неприступно высились серые форты – Шотланд, Цинкенберг, Зоммершанц, Гагельсберг.
– Звать совет, – решил Миних. – Пусть явятся начальники…
В глубине шатра фельдмаршала накрыли стол, застелили его парчой, красное вино рубинисто вспыхивало в турецких карафинах. Первым притащился, хромая, Карл Бирен – брат графа, ветеран известный. Без уха, один глаз слезился, вчера ядро проскочило между ног Бирена, ошпарив ему ляжки. Он излучал запах крови, табаку и водки. Сел, ругаясь… Пришел генерал Иван Барятинский, худой и небритый, всем недовольный. Но вот распахнулся заполог, и, низко пригнувшись, шагнул под сень шатра Артемий Волынский, на груди его тускло отсвечивали ребра жесткого испанского панциря… Миних сразу душу свою излил:
– А-а-а, вот и вы, сударик! Помнится мне, ранее, после тягот казанских, вы милостей моих униженно искали… А ныне, говорят, в силу великую вошли и новыми патронами обзавелись? Чаю, мне и кланяться вам теперь не надобно?
– Отчего же? – сказал Волынский и поклонился Миниху…
Расселись. Шумела река Радоуна, со стороны соседней корчмы Рейхенберг вдруг заливисто крикнул петух (еще не съеденный). Карл Бирен сразу навострил на петуха свое единственное ухо.
– Петух, конечно, не курица, – сказал инвалид. – Но его тоже сожрать можно. Боюсь, как бы саксонцы нас в этом не упредили!
Миних нетерпеливо взмахнул фельдмаршальским жезлом.
– Штурм! – воскликнул он. – Имею повеление матушки-государыни нашей поступать с городом без жалости, крови не боясь. Предать Гданск резне и огню! Таково велено. А людишек не жалеть.
– Вот то-то, – вставил Барятинский.
– С нами бог! – упоенно продолжал Миних. – Дух великой государыни Анны Иоанновны ведет нас к славе бессмертной…
– Оно, конешно, так, – задумался Волынский. – Слава дело хорошее. И в расчетах политичных галантности не бывает. Однако штурм Гданска из Питерсбурха приятно видится, а… попробуй возьми его! Сколько солдат положим? А за што – спросит солдат у меня. За то, что поляки худо короля выбрали…
– Вперед… хоть на карачках! – закричал инвалид Карл Бирен, карафины к себе двигая. – Нас ждет слава бессмертная!
– А ты, Карлушка, совсем дурак, – ответил ему Барятинский.
Урод выхватил шпагу, она молнией блеснула над столом. Но Миних ударом жезла своего выбил шпагу из рук инвалида, и, тонко звякнув, она отлетела прочь, ткани шатра разрывая.
– Петр Петрович, – сказал Миних, – а ты молчишь?
– Молчу, – ответил Ласси, – ибо от крика устал, фельдмаршал. Ты пушку Гагельсберга все равно не перекричишь. А скажу тебе так: утомив армию походом до Варшавы, теперь Питерсбурх от нее славы и побед требует? Лбом стенок шанцевых не прошибешь! От сырости местной эспантоны офицеров – ржавы, и в бою ломаются, будто палки. Солдаты, сам видел, каковы стали… Я против штурма!
– И то согласую с тобой, – поддержал его Волынский. – Штурму делать мочно, когда артиллерию морем подвезут. Когда флот из Кронштадта придет. Когда цесарцы проклятые, согласно договору, плясать перестанут да воевать возьмутся… Людишек, может, жалеть и не стоит, – заключил Волынский, – но солдата русского поберечь надо… Я сказал!
– А ты, Ванька? – Миних жезлом ткнул в Барятинского.
– А с Ваньки и спрос малый, – обиделся Барятинский. – Куды больше голосов скинется, туды и Ванька ваш кинется…
За немедленный штурм крепости выпали два голоса: самого Миниха да еще Карлушки Бирена, и эти два голоса забили честные голоса Ласси и Волынского… На следующий же день Миних послал в осажденный Гданск трубача с манифестом.
«Даю вам слово! – возвещал фельдмаршал, —что по прошествии 24 часов я уже не приму от вас капитуляции… И, согласно военным обычаям, поступлю с вами, как с неприятелями. Город ваш будет опустошен, грехи отцов будут отомщены на детях и внуках ваших, и кровь невинная рекой прольется рядом с кровью виновных…»
Варварский «манифест» перепечатали газеты всего мира, выставляя напоказ звериное естество России (России, а не Миниха!). Где-то далеко отсюда, под дуновением ветров, плыла эскадра французов, и Миних велел заранее выжечь огнем штранд Вейксельмюнде: французы, высадясь на берег, увидят только прах и пепел. Итак, пора на штурм… Началось! Взяли Цинкенберг, заложив на нем редуты; главная квартира перекочевала ближе к Гданску – в предместье Ора; пушки, ставленные на плоты, плыли по Висле, сметая польские батареи; русские войска в схватках отчаянных отвоевали ретраншементы Винтер-шанца и Шидлиц; пробились штыками на контрэскарпы Гданска и сели прочно меж ворот Гагельсбергских…
Миних, стоя в клубах дыма, бахвалился удачами:
– Генерал Ласси, вы поняли – как надо воевать?
– Эдак-то и я умею, коли крови людской не жалеть.
– Кровь – не деньги, ее жалеть не надобно…
Полуголые солдаты копали люнеты. Противным слизнем сошлепывалась с лопат земля – сочная, червивая. Петербург торопил Миниха, возбуждая в нем ревность к славе. Ночью Волынский выглотал полную чашку вудки, куснул хлебца, с бранью выдернул шпагу долой:
– Пошли! Раненых подбирать, а мертвых не надо…
И повел колонну на штурм форта Шотланд, где мясо, вино, порох, ядра… Босые люди в разодранных мундирах, крича и падая, бежали за ним. Артемий Петрович шагал широко, взмахивая тонким клинком, и две пули тупо расплющились об его стальной панцирь.
– Езус Мария! – кричали поляки. – За убиты естем!
– Святый Микола, не выдавай нас! – горланили русские…
В схватках на люнетах трещали багинеты солдат. Волынский дрался на сыпучем эскарпе, пока в руке не остался один эфес. В смерть свою он не верил и не боялся ее. «Умру, но токмо не теперь!» – думалось ему в битве, и после боя долго и брезгливо чистился…
С воем, источая гул в поднебесье, волоча за собой хвосты огня, словно кометы, плыли на город русские ядра. В эти дни Артемий Петрович сочинял письма противу Миниха, сообщал в столицу о реках крови, об отчаянном изнурении солдат…
Однажды среди ночи его разбудили – вызывал Миних.
– Зложелательство ваше, – сказал фельдмаршал, – выше меры сил моих. Доколе терпение мое испытывать клеветой станете?
Волынский разругался с Минихом и пошел к врачам полковым, прося «диплома» о болезни причинной. «Диплом» врачи ему выдали:
«Имеет болезнь авъфекъцию ипохондрика, и понеже в оной болезни многие приключаются сипътоми в воздыхании, временем имеет респуряцию несвободною, и хотя в пище имеет охоту, однакож, по принятии оной пищи, в животе слышит немалую тягость и ворчание…»
С таким «дипломом» – ложись и помирай. Волынский был здоров как бык. А эти болваны написали такое, что и правда заболел.
– У меня, – жаловался повсюду, – респуряция несвободна. Что такое респуряция – убей бог! – не ведаю. Но и сам чувствую, что несвободным часто бываю… Оттого и лечиться ехать надобно!
Миних его отпустил, и Волынский укатил в Петербург, навстречу новым взлетам карьерным. А фельдмаршал, озлобленный изветами и попреками царицы, стал готовить войска к часу смертному, – теперь перед ними возвышался знаменитый форт Гагельсберг.
28 апреля 1734 года (ровно в полночь) «со всевозможным мужеством» русские солдаты тремя колоннами свалились в глубокий ров. Нахрапом взяли польскую батарею из семи пушек. Ура! Они уже на валу… И тут их накрыло огнем. Мужество осаждающих разбилось о мужество осажденных. Русские с вала не ушли. Мертвые, осыпая груды песка, съезжали в глубокий ров. Живые падали на мертвых. Мертвецы закрывали живых.
Миних повернулся к своему штабу:
– Господа офицеры, вас учить не надо… Вперед!
Все офицеры штаба, как один, пали на валу замертво. Прошел час. Теперь войска было не стронуть: ни вперед, ни назад. Второй час! Ров уже доверху наполнился телами. Третий час…
Медленно розовел восток – со стороны России.
– Теперь, – сказал Ласси, – пойду вперед я! Не ради славы, а ради спасения тех, кто еще жив…
Ласси солдаты уважали, и генерал знал, что его послушаются. Не сгибаясь под пулями (в руке опущенной – шпага), Ласси уходил по холмам – маленький и беззащитный, ветер Балтики сорвал с головы парик, трепал седые волосы генерала… Храбрецам везет: Ласси сумел дойти до вала живым.
– Робяты! – сказал он просто. – Выбора нам не стало. Пришел час стыдный, но зато нужный – необходимо назад повернуть!
Рога протрубили отход печальный, ретираду постыдную. Две тысячи человек остались во рву; живые там еще ползали среди мертвых. А над ними, глухо и слепо, стояли стены Гагельсберга! Беда не приходит одна: под утро с моря подошла французская эскадра…
– Бог не с нами! – сказал Миних и отказался от завтрака.
Французы сбросили с кораблей десант. Мушкетеры сошли на топкий берег, под их ботфортами колыхались болотные кочки. Предместья штранда Вейксельмюнде были заранее выжжены – прах и пепел. Крепость была хорошо видна французам, но до нее надо было еще дойти. Бригадир Лаперуз решил, что это ни к чему. Французы сели обратно на свои корабли, с миром отплыли в Копенгаген…
– С нами бог! – ободрился Миних, плотно пообедав. – Жаль, что они шли при звуках моего великого имени… Очень жаль! Сибирь нуждается в даровых руках для извлечения руд драгоценных…
* * *
Людовик Ипполит де Бреан граф Плело – поэт, солдат, ловец птиц, ныне посол французский в Копенгагене. Он счастлив оттого, что он француз; в развратный век он сохранил любовь к жене, в идиллиях воспев свою к ней страсть… Над башнями древнего Копенгагена всходило солнце, юная жена еще дремала в тени алькова, когда Плело растворил окна. Прекрасно море, плещущее у замка Эльсинор! Но… что это такое?
Заходят в гавань корабли – шестнадцать кораблей под флагами с бурбонскими лилиями. Этого не может быть!
Граф Плело встретился с бригадиром Ламот де Лаперузом:
– Если Гданск не взят, то как посмели вы вернуться?
– Болота там, все выжжено на взморье… Не пройти.
– Флаг Франции, – отвечал Плело, – впервые за всю историю мира показался в морях Европы северной… Зачем? Чтобы, насмешив русских, тут же бежать в страхе обратно? Ни слова больше, бригадир. Сейчас же поднимайте якоря – плывем обратно мы, под Гданск!
Нарочного послал в посольство с запискою к жене, она ответила ему тоже запиской: «Я обожаю вас, любимый мой, и буду обожать всегда». Вот прекрасные слова прекрасной женщины!.. Королю он отправил эстафет. «Стыд и позор, – писал Плело в Версаль, – могут быть стерты победой или кровью. Победить или умереть!»
Корабли уже выбирали якоря…
В погожий майский день, под солнцем ослепляющим, когда цвели на берегу ромашки, эскадра Франции опять вошла в устье Вислы, и три полка – Блезуа, Ламарш и Перигор – вновь ступили на выжженную землю штранда Вейксельмюнде. Плело обнажил шпагу поэта и дипломата. Розовый кафтан в сиреневых кружевах раздуло ветром…
Взбежав на холм, поросший вереском, взывал он к совести французов:
– Честь! Доблесть! Слава! Бессмертие! Король! Франция!
Полки тронулись. Туфли графа Плело, сверкая бриллиантами, месили грязь болот приморских. За ним шагали, тяжко и решительно, три тысячи королевских мушкетеров. Звенели панцири, сверкала сталь и бронза боевая. Гремели рукавицы жесткие, пузырями топорщились красные штаны.
За ними сочно и неистово гремел прибой…
Корабли эскадры жгли на марсах сигнальные огни, призывая жителей Гданска выступить из фортов. Воздев рога, трубили трубачи. Они бодрили души слабых и насыщали смелых жаждой подвигов. Уже видны за лесом ретраншементы русские, но… тишина. Какая тишина царит над миром! Как он чудесен, этот мир воздушный, и запах с моря перемешан с запахом цветов весенних. И первая пчела, летя за медом, жужжит над головой, счастлива трудолюбием своим.
Тра-та-та-та! – стучат барабаны. Ву-у… ву-у – нехорошо завывают горны. Идут мушкетеры, хваленые мушкетеры, которым сам черт не страшен. А впереди – изящный, словно мальчик, граф Плело – поэт, и птиц ловец, и счастья баловень привычный.
Ретраншементы рядом… в сорока шагах. Какая тишина!..
– Выходим к первой линии, – подсказал Лаперуз.
Грянул залп, насыщенный пулями. Вперед, мушкетеры!
Истекая кровью, во вдохновенье боя, граф Плело провел войска через первую линию. Осталась – вторая, и он воскликнул страстно:
– О славный Блезуа! О доблестный Ламарш! И ты, полк Перигорский, знамена которого прославлены храбростью… Умрем за короля!
Три раза бежали французы от русских, и граф Плело трижды возвращал их в атаку. Потом шагнул в завесу дыма едкого и растворился в нем – так, будто никогда и не было его на свете. Французы в ужасе бежали снова к штранду, где качались паруса их кораблей. На песчаных пляжах Вейксельмюнде, окруженные топкими болотами, они провели ночь, пока птицы не разбудили их…
Рассвет вставал над морем – свеж и розов. Со стороны русской вдруг забубнили барабаны, потом заплакали русские флейты и гобои полков армейских. К морю спускалась мрачная процессия. Русские солдаты, головы опустив, под музыку войны, терзающую души, несли тяжелый гроб, наскоро сколоченный за ночь… Французы не стреляли, завороженные. А русские шагали мерно, придавленные гробом, который плавно качался на их плечах. Впереди – офицер с обнаженным эспантоном, клинок обвит был лентой черной, и черный флер печально реял над шляпой офицера. Дойдя до лагеря французов, солдаты русские гроб опустили бережно на землю. А офицер сказал:
– Смелые французы! Мы, русские, восхищены мужеством вашим… Вы отлично сражались вчера, и сегодня примите выраженье восторга нашего перед лицом противника, в бою достойного!
В гробу, осыпанный весенними ромашками, покоился Плело.
(«Я обожаю вас, любимый мой, и буду обожать всегда…»)
* * *
Что же он натворил, этот поэт? По его вине произошло событие историческое: впервые французы встретились с русскими на поле чести бранной, чести национальной. Мужество графа Плело было мужеством не солдата, а поэта. Как он писал стихи – с наскока и по случаю, так и в войну вошел – наскоком и случайно. Их было как бы два графа Плело: один увлекал за собой мушкетеров короля, а другой шагал с ним рядом, восхищенный собственным мужеством.
Порыв отчаяния и гордости – порыв поэта, но не солдата.
Шестнадцать ран на теле – как венок сонетов на могилу.
Венок из славянских ромашек на груди его, и слава воина, которой суждено пережить славу поэтическую… Прощайте, Плело!
Европа очень долго говорила о нем. Говорила и Анна Иоанновна. Велела она портрет его сыскать и у себя в спальне повесила. Теперь, когда она грешила с Биреном, то смотрели на нее две парсуны из углов разных. Тимофей Архипыч – юродивый из села Измайловского, бородой заросший, весь в веригах («Дин-дон, дин-дон, царь Иван Василич!»). А из другого угла спальни взирал, возвышенный и тонкий, поэт и баловень Версаля – граф де Бреан Плело…
Осада Гданска продолжалась. А пока русские солдаты умирали за престол польский для Августа III, он весело кутил на лейпцигской ярмарке. Сейчас он занимался тем, что скупал на ярмарке ненужные ему безделушки. И ни о чем больше не думал.
Только время от времени король спрашивал:
– Брюль, а есть ли у меня деньги?
– Полно! – отвечал Брюль, ставший его любимцем…
Глава седьмая
Тобольск – веселья полны домы! Да и как не веселиться, особливо девкам, – понаехали разные, холостые да красивые, офицеры да люди ученые, начались танцы и поцелуи, в любви признания и свадьбы скоропалительные. Всю зиму Тобольск плясал и упивался вином, над крышами трубы так и пышут – пирогами пахнет, рыбой там, вязигою или еще чем-то… не разнюхаешь сразу!
Великая Северная экспедиция зимовала в Тобольске, чтобы, подтянув обозы, по весне пуститься далее – в тяжкий путь. Одних ждут неведомые лукоморья стран Полуночных, другие поедут на острова Японские, о которых Европа мало слышала, ибо японские люди наездчиков не жалуют; Витус Беринг пойдет искать таинственную землю Хуана да Гама… А где Америка с Россией смыкается? И нет ли до нее пути санного? Чтобы не кораблем плыть, а прямо на лошадке ехать…
Обо всем этом часто говорили по вечерам офицеры, за столами сидя, вино разливая, рыбу мороженую ножами стругая и стружками жирными вино то закусывая. Были они ребята отчаянные, им все нипочем. Да и службе рады – все не Кронштадт тебе, где сиди на приколе в гаванях. Там волком извоешься, капусту казенную хряпая! А тут – простор, рай, палачей нету, сыщиков сами в проруби утопим, а доводчику всегда кнут первый… Простор, простор, простор! Над всей Сибирью края гибельные – это верно, но зато какие молодые, какие хорошие эти ребята… Карты России – им памятник первый и нетленный!
А лейтенант Митенька Овцын начальником стал. На берегу Иртыша стоял, носом к воде повернут, новенький дуббель-шлюп «Тобол»; вот на нем и плыть Митеньке вниз – на север, за Березов, за Обдорск, дабы вызнать: а что там? Об этом часто беседовал Овцын с хозяином дома, у которого поселился зимне. Никита Выходцев был старожилом тобольским, сибиряк коренной, мужчина уже в летах, с бородой никогда не стриженной. Удивительные дела на Руси творятся! Живет человек в глуши, учителей не имея, книг не ведая, а ухищрением, ровно дьявольским, сумел геодезию самоукой постичь. Когда жена уснет, Выходцев в одном исподнем, в громадных валенках, бутыль вина прибрав, спешит в комнаты к своему жильцу молодому.
– Митенька, – говорил, – пущай баба глупая сны разные смотрит, а мы с тобой, как мужчины, разговор поведем о разностях высоких. Опять же вот и геодезия… ну-к, как ее не любить?
Так они ночей двадцать проболтали, потом Чириков пришел, все Выходцева выспросил и Овцыну посоветовал:
– Лейтенант, бери ты этого бородатого с собою. Ей-ей, от тебя не отстанет. Диву дивлюся, но разум мужика признаю немало…
– Никита Петрович, – сказал Овцын хозяину, – куда как тяжел путь предстоит. Загоняем мы тебя… Ведь пятьдесят тебе!
– А ето не так, – отвечал Выходцев. – Было б мне пять десятков, так я бы и не просился. А мне всего сорок девять врезало, и ты у моей бабы спроси, каковой я прыти человек. Ёна все про меня знает, даже шашни мои, и правды не утаит!
Взяли! Взяли его… Расцвел мужик тобольский от близости к высокой геодезии. А дело вроде бы и скушное. Тягомотное. Ходи по берегу, словно вол, всяким инструментом навьюченный. А вот ведь… влюбился в науку человек. Хороший дом у него над речкой, жена нраву миролюбивого, детишки, огород, коровенка.
– Все продам! – кричал, выпив. – Мне бы только вкусить от геодезии сладости научной…
«Тобол» был оснащен прекрасно. Инструмент на нем – от квадранта до тисков слесарных, люди на нем – от рудознатца до иеромонаха, оба они мастера выпить и закусить рыбкой. Овцын зиму целую гулял да плясал, как заводной, а по утрам всех матросов загонял в класс. Прямо в кубрик дуббель-шлюпа. Фитиль запалит и в матросские головы, через высокие кожаные кивера, забивает мысли о звездах, о курса проложении, о материях эволюционных и прочих чудесах навигаторских.
– Учу вас, – говорил Митенька матросам своим, – чтобы вы плавали не как бараны, а – мыслили… И вот крест! На нем клянусь: года не пройдет, как я самых умных из вас офицерами сделаю…
От этого было великое старание в матросах. А чтобы слова и посулы не казались пустыми, Митенька экзамен учинил Афанасию Курову – матросу. И тот Куров, не мешкая, голосом громчайшим на все вопросы Овцына отвечал, все каверзы навигаторские, какие в море случаются, разгадал…
– Молодец! – похвалил его Овцын. – Теперь пойдешь со мною за подштурмана. Поплавай, потом и о чине тебе постараемся…
Всю ночь Иртыш ломал лед. Сбежали в реку ручьи благовонные, сладко и безутешно запахло прелью, и «Тобол», вздернув тонкие мачты, отошел от берега, сердясь словно, растолкал форштевнем редкие льдины. По берегу долго гналась за кораблем жена Выходцева.
– Никитушко! – взлетал ее вопль. – А мне охабень смуростроевый на меху беличьем… Слышишь ли? Уж ты расстарайся.
– Привезу… жди! – сулил ей муж, смеясь. – Вот баба глупая, не верит ведь, что я в Березов плыву… Думает, я тишком денег скопил и теперь гулять куда-то поехал… Из Березова я ей только кочку болотную с мохом привезти способен. На голову – вместо шапки.
И текли мимо темные берега, хваченные лиственником. За кормой дуббель-шлюпа шлепали днищами по волнам три дощаника с едовом да с питием. Команду едва распихали по закутам, спали один у другого на головах, а третьему на живот головы клали:
– Поешь больше, чтобы живот вздуло: мне спать мягше станет…
Иртыш врезал свои желтые воды прямо в синь, прямо в простор – это пролегла широченная Обь, шевели да пошевеливай парусом, рулем работай, впередсмотрящим спать не придется. Такие коряги плывут, такие кедры, что не дай бог напороться с ходу…
– Теперь – в океан! – сказал Овцын, трубу подзорную за отворот мундира сунув: и без оптики видать, что вокруг дичь, глухомань, безлюдье жутчайшее. – Где человецы? – вздохнул лейтенант. – Полно по берегам твари разной, дикой, летающей да пушистой, а вот человецев лишь в Березове мы повидаем…
Где-то очень далеко лежал по курсу Березов – место ссыльное.
Митенька Овцын судьбы своей не ведал. А там, на краю света, ждала его любовь. Любовь ослепительная и горячая, как взрыв ядра вражеского. Пока ты на воде, моряк, тебе хорошо будет; не дай бог на берег ступить – земля меньше моря ласкова…
Крепко и свежо, шкаторинами хлопая, полоскались над головой навигатора паруса – плыли, как на свадьбу, с песнями…
* * *
Анна Иоанновна локтем отодвинула спящую на столе моську, сказала: «Хосподи, вразуми!» – и одним росчерком пера вывела на бумаге важной свое монаршее одобрение: «Опробуеца. Анна».
И сама не знала того, что сделала счастливым одного человека.
Этим человеком был Иван Кирилович Кирилов, секретарь сенатский, прибыльщик и картограф… В волнении чудесном секретарь из дворца вышел: кому радость передать?
– Греби! – сказал лодочнику. – На остров Васильевский, у корпуса кадетского я тебе копейку полную дам…
Федор Иванович Соймонов дела личные в порядок и благолепие приводил. Как раз прибыл из серпуховских поместий управляющий. Жаловался. На жары. На дожди. На грады небесные. На люд разбойный… Прошлый год – год 1733-й – выпал на Руси неурожайный, нужда пришла.
– Каково-то в нынешнем станется? – тужил Федор Иванович. – И ладно: мужикам своим разорителем не буду… Отныне велю присылать тако: три четверти ржи да овса, три туши свиные, одну телячью, сена четыре воза. Да к праздникам пять баранов и поросят, ушат творогу деревенского, масла полпуду, яиц куриных две сотни… Семье моей того хватит, а мужикам передай, что видеть их голодными не желаю. И печься о них стану по-христиански.
И тут явился к нему счастливый Кирилов:
– Поцелуй ты меня, Федор Иваныч.
– Уж не серчай! Горазд не люблю с мужиками целоваться… будто лягуху волосатую ко рту подносишь! Однако, ежели причину радости назовешь, я тебя, может, и поцелую… без брезга!
Кирилов встал и руку воздел над собой:
– Предначертаниям моим апробация учинена! Мечта жизни моей, ныне ты здравствуй. Затеваются дела важные… Киргиз-Кайсацкие орды, Каракалпакские и прочие тамошние, никому не подвластны и многонародны, просят принять их под руку русскую! Ехать мне в те края, на реке Орь город осную, руды сыскивать стану, заводы запущу. Да на море Аральском знамя флота русского объявим пред миром! Дороги лежат из тех краев – дикие, но чудесные: в Индию, Федор Иваныч… И край весь этот, досель непокорен, я на веки вечные за Россией укреплю – вот мне и памятник сооружен…
Соймонов губы толстые ладошкой вытер, секретаря к себе через стол потянул и поцеловал в лоб:
– Увижу ль я тебя, Кирилыч? Ухожу я ночью в море с эскадрой на фрегате «Шторм-Феникс», с казною флотской и штабом комиссариатским. Идем под Гданск… Может, убьют меня? На кого детей оставлю? Только службой жил… А коли жив вернусь, так тебя, видать, в Питерсбурхе уже не застану. Прощай, друг мой…
Накануне, опередя эскадру, ушел в боевое крейсерство фрегат «Митау» под командой Пьера Дефремери. Рейд Кронштадта оживал в скрипе рей, талями на мачты вздымаемых, задвигались весла галерные, срывая с волн пенные гребни. На «флейты» (грузовые корабли) была погружена артиллерия и припасы. Миних в горячности своей все ядра и бомбы на Гданск перекидал, магазины опустошил. Флагманом шел на эскадре Фома Гордон – вице-адмирал. Разменявшись с Кроншлотом салютацией прощальной, корабли тронулись. Лихие шнявы, воздев косые паруса, долго гнались за эскадрой, держась в крутом бейдевинде, потом волны стали захлестывать их, и шнявы отстали… Впереди – Балтика!
От шведских шхер вдруг рванул крепкий свежак, паруса напружинились, и тогда все загудело… Корабли разом вздрогнули, накренились. Мачты их напряглись, стоная, сдержав ярость стихии, и… Пошли, пошли, пошли!
* * *
За Мемелем отдали якорь; грунт был плох – якорь то грохотал по камням, то тянулся в иле, но «не брал». Неподалеку от «Митау» обрубил концы фрегат «Россия» и снова поднимал паруса. Дефремери, спящего в каюте, встревоженно разбудил Харитон Лаптев.
– Не берет! – сказал. – «Россия» якорь на грунте оставила, сигналит, дабы крейсерство продолжить. Здесь не отстояться нам!
Было свежо. Раннее солнце еще не прогрело море. Дефремери глянул на картушку компаса: в цветистой радуге румбов плясали четыре страны света – норд (синий), зюйд (красный), ост и вест (цвета белого). «Россия», ставя паруса, широко забирала ветер, дующий с берега, – пахнул он травами и землей. Следом, держась в струе за «Россией», толчками набирал скорость «Митау». Тридцать две пушчонки, упрятанные в бортах, с угрозой ощупали мутное пространство. Вахту в полдень сдал лейтенант Чихачев – вахту принял лейтенант князь Вяземский; на фоке и на грот-мачтах постоянно несли дежурство мичмана – Лаптев и Войников… Бежали ходко, держа курс на Пиллау, где за песчаными гафами укрылась земля. Огибая мыс Гиль-Гук, заметили неизвестную эскадру.
– На сближение! – скомандовал Дефремери. – Фок на ветер, гик перебрось вправо… к повороту. Ложимся на галс – левый!
Маневрируя, мимо пронеслась, в гудении и плеске волн, «Россия». Командир ее барон Швейниц, к борту подбежав, прогорланил:
– Питер! Поднимаем флаги шведские… давай!
Над мачтами русских фрегатов взметнулись желтые полотнища со львами, держащими в мохнатых лапах палаческие секиры. Такой обман для войны полезен. В туманной дымке проступали корабли. Купцы? Или военные? Издали было не разобрать… А со стороны Гданска, едва слышимое, доносилось глухое ворчание. Там, за прусскими гафами, что заросли сосняком, Миних снова начинал бомбардировку города; значит, эскадра Фомы Гордона уже сгрузила на берег бомбы и ядра…
Медленно, как привидение с того света, таяли в море неизвестные корабли. «Россия», ложась круче на ветер, заваливалась к весту и скоро ходко пропала из виду. «Митау» пошел один, продолжая крейсерство. В орудийных деках плескался в чанах уксус. На жаровнях юнги поддерживали огонь, и в пламени тихо краснели зажигательные ядра. К вечеру стали раздавать пищу команде: миска кислой капусты, кусок мяса, краюха хлеба, водка и квас. Матросы ели, не отходя от орудий; через открытые порты море забрасывало внутрь корабля лохматую пену. От сырых бортов фрегата многих колотило ознобом.
Харитон Лаптев крикнул Дефремери:
– Вижу пять вымпелов… По траверзу борту левого!
Пять судов заходили на пересечку «Митау». Флаги их были вытянуты ветром в нитку – не разберешь, чьи корабли. Через подзорную трубу Дефремери на случай драки пересчитал число орудий. Пересчет был неутешителен: на фрегат неслись полным ветром 260 пушек. И тут корабли развернулись – стал на повороте виден их флаг с бурбонскими желтыми лилиями.
– Это французы, – сказал Дефремери, сунув трубу Лаптеву. – Будем курсом своим следовать, благо войны меж нами нету…
Французы улеглись в галс, каким шел и «Митау». Торжественно и жестоко было спокойствие безмолвного поединка. Сто тридцать пушек короля Франции следили за русским фрегатом со стороны правого борта. Тогда фрегат «Митау» ожил по боевому гонгу, и в откинутые порты матросы силой мускулов просунули шестнадцать пушек с борта левого… Ветер спал. Солнце село. Не стало чаек.
– Галса не менять! – велел Дефремери. – А флаг смени.
Сбросили флаг шведский – поплыл в облака флаг андреевский.
Французы тяжко разворачивались, заходя сразу с двух бортов, и с флагмана прокричали по-голландски, чтобы на «Митау» паруса брасопили, гася скорость, и пусть русские пришлют шлюпку с офицером. При этом под нос «Митау» дали холостой выстрел.
– Звать совет! – рассудил Дефремери. – А галса не менять… Идти, как и прежде, курсом норд-тень-вест… С богом!
Совет корабля – закон корабля. По праву выслушивается сначала мнение младшего, затем – старшего. Первый говорил мичман Войников: мол, войны с Францией у нас нет, он согласен навестить французов и вразумить их, стыдя за поведение неблагородное…
– Вот ты и сходи, мичман, – последним говорил Дефремери. – И пристыди! Коли дело за салютацией стало, так мы им салютацию учиним всем бортом. А курса менять не станем…
Шлюпка с Войниковым отгребла, и от борта французского линейного корабля скоро оттолкнулся вельбот. Два офицера королевского флота поднялись на палубу «Митау».
– О, так вы француз? – обрадовались они, заговорив с Дефремери. – Какое счастье! Командир эскадры нашей просит вас прибыть на борт для переговоров партикулярных, чести вашей не отнимая…
На адмиральском корабле Дефремери приняли с честью, выстелив коврами ступени трапа. Но капитан увидел своего мичмана Войникова привязанным к мачте.
– Что это значит? – возмутился Дефремери.
– Он сразу стал буянить. Но вы же не русский дикарь, вы буянить не станете, и вас вязать не придется…
В салоне корабля тянуло мощным сквозняком, под распорками бимсов качались две клетки с черными мадагаскарскими попугаями. Адмирал вынул шпагу и салютовал. Дефремери – тоже.
– Патент ваш и патент корабля! – потребовал адмирал. – Иначе мы станем признавать вас за разбойников морских…
– Того не предъявлю. И разбой морской не с нашей, а с вашей стороны наблюдаю. Королевство Франции с империей Русской во вражде воинской не состоят, дипломаты войны указно не учиняли.
– Но вами объявлена война Станиславу, королю польскому!
– Если это так, – дерзко отвечал Дефремери, – и если вы сражаетесь на стороне польской, то обязаны флаги Людовика на мачтах спустить и поднять боевые штандарты Речи Посполитой…
– Сдайте оружие! Вы – пленник короля Франции.
Дефремери сорвал с пояса шпагу, и, звякнув, она отлетела в угол салона. Фрегат «Митау» французы взяли как приз и под конвоем в пять вымпелов отвели в Копенгаген.
Дефремери вернули шпагу:
– Вы француз и потому… свободны!
– Нет, – отвечал благородный Дефремери. – Меня вы отпускаете, а товарищей моих в трюмах держите… В таком случае прошу вас считать меня русским.
Послом царского двора в Дании был барон фон Браккель; он навестил пленников, угрожая им лютой казнью:
– Вы опозорили ея величество! Уж я позабочусь, чтобы всем вам быть на виселице. А тебе, французу, висеть первому…
Из Копенгагена французы перегнали «Митау» в Брест: вот она, прекрасная Франция! Дефремери вдыхал запахи родины – глубоко и ненасытно. Тринадцать лет прошло с тех пор, как в дождливую осеннюю ночь он покинул Бретань, убегая от изменчивой любви, и нашел себе вторую родину – в России заснеженной. А тринадцать лет – это немало…
Офицеры держали меж собою совет.
– Полагается нам казнь через головы отсечение. Тебе первому под топор и ложиться, – объявили они Дефремери. – Ладно, мы, русские, а ты француз природный. Благодари судьбу: уже спасен, уже ты дома. Возьми шпагу, коли дают, и оставайся здесь. Только простись с нами по-божески: ну вина поставь… ну песни споем… ну поплачем напоследки.
Дефремери отказался покинуть своих офицеров.
– Вы меня не отпихивайте, – просил он. – Я с вами хочу судьбу разделить. Смерть – так смерть. А вина и так поставлю. У нас, во Франции, вино хорошее, это правда. Его, братцы, уже не репой закусывают…
Глава восьмая
Умер в Березове старый князь Алексей Григорьевич Долгорукий, и старшим в семье, покровителем ее и заботчиком остался князь Иван… Какой он там заботчик? С утра напьется, слова путного не услышишь. А все заботы легли на Наташу: и белье выстирай, и начальников задобри, и мужа пьяного раздень, за детьми уход…
Весна, весна! А Наташе всего двадцать лет. Ей в ночи белые вирши писать хотелось, музыку слушать. Да вот беда: бумаги нельзя держать, а музыка утешная вся на Москве осталась. Так и пропали эти мечтания втуне, в потемках женского сердца. А уж сколько это сердце настрадалось – никто не узнает. Нехорошие люди Долгорукие: в злате и холе грызлись, а теперь, в обидах ссыльных, никак помириться не могут. И все время делят что-то…
– Что вы делите? – не раз говорила им Наташа. – Только ворованное с трудом делится, а честное – легко. Да и было бы что делить!
– А у нас много чего было, – отвечала Катька, царева невеста. – У нас не как у Шереметевых – у нас-то всего хватало!
– Было, да сплыло… Скоро до воздуха доберетесь, тоже делить учнете: кому больше, кому меньше вздохов досталось… Уймитесь!
Катька в рост, в сыть бабью, входила. Стала вдруг женщиной – волоокой и статной, ей любви жаждалось в остроге березовском. Но предмета не было галантного – одни подьячие да урядники казачьи. Как же ей, царской невесте, унизиться? Она и не глядела в их сторону: пройдет, не заметит. Гордая была. Но иногда (в ночь зимнюю, когда за окнами пуржит и воет) боль за прошлое прорывалась.
– Я, – кричала Катька на весь острог, – не порушенная от его величества! Мое право на престол российский еще не отнято…
А Наташа думала тогда: «Ну и дура же ты, Лексеевна!»
Об этом Наташа часто печалилась: ей в сад хотелось, чтобы яблок нарвать… а потом – вишни, сливы. Ничего здесь нету: вот хлеб, клюква, рыба мороженая, мясо собачье да оленье, молоко – тощее, синее, будто сыворотка… Зато водка здесь крепкая!
Писала она на Москву своему братцу – графу Петру Борисовичу Шереметеву: вышли мне сюда яблочков, хоть моченых, да пришли с оказией верной готовальню мою, посмотреть на нее желаю, а яблочком твоим, братик родный, слезу горькую закушу… Ничего ей брат не ответил: «слова и дела» боялся, мерзавец! А ведь тысячи душ крепостных имел – мог бы от богатств своих хотя бы яблочко сестре выслать… Наташа долго по этому случаю плакала, потом рукою повела крест-накрест, словно брата навсегда для себя зачеркивая, и сказала тогда:
– Апелляции из острога нету… Пользуйся, брат!
Утром муж проснется с похмелья. Начинает старое поминать. Как жил. Какие кафтаны нашивал. Что съесть успел. Что выпить.
– Хватит вам, сударь, тарелки да кубки пересчитывать, – вспыхивала Наташа. – Говорила я вам, чтобы в деревню ехать. От двора подалее. А ныне… Вот лежит дите мое! Уж как люблю его, один бог знает. А буди мне ведомо, что он, в возраст придя, ко двору царскому сунется, так мне легше его сейчас за ноги разболтать да – об стенку! Так и тарарахну насмерть! Только бы уверену быть, что окол престолов мои дети порхать не станут… В мире эвтом много занятиев для людей сыщется – более придворных полезнее!
– Дура-а, – стонал князь Иван. – Ой и дура-а же ты…
– Нет, сударь. Ошиблись: высокоумна я!
Через стены острожные шла молва о Наташе, как о женщине в чести и разуме крепкой. Выйдет она на улицу, всяк березовец издали ей поклонится – и стар, и млад. Слова дурного о ней не придумаешь. По городу слухи ходили:
– Наша императрица – курва самая последняя! Уж коли таку кротку бабу Наталью выслали, так, видать, в Рассеи порядков не стало…
Березов жил сам по себе: Петербург слишком далек, там престол, там перемены, там какой-то Бирен (значение которого до конца березовцы так и не понимали), там войны разные, а здесь снег да тишина… рай. Ругай, круши, матери! Воевода Бобров не выдаст – свой человек. Закостенел, заберложил, бородой зарос (тоже яблочка лет с двадцать не кушал). Спасибо Тобольску: иной раз пришлют оттуда бочку с капустой квашеной, тут все накинутся с ложками, и в един час всю бочку – до самого дна – под водку стрескают!
Хорошо жили… тихо. Раздумчиво.
Дай-то бог и далее так жить.
– Нам Питерсбурх не в указ, – говорили березовские. – У нас Тобольск есть, а там губернатор… Ну и хватит нам!
А весна выдалась пригожая. Посреди острога был копан (еще Меншиковым) ставок, и слетались туда лебеди. Наташа кормила их хлебом, они ей свои шеи давали гладить. Экие умницы! А месяц май закатился над тундрами незаходным солнышком. Растеплело в краях березовских. На берегу речном размякли сугробы, из-под снежной замети кресты выступили – князей Меншиковых да Долгоруких. И в один из дён все опальное семейство потянулось гуськом из острога – пошли проведать папеньку с маменькой… Каково-то лежится им там? Первыми шли в паре Наташа с Иваном, и князь Иван, на диво трезвый, руку жены в своей руке держал и говорил слова хорошие:
– Наташенька, ангел ты мой, прости меня… Ей-ей, слаб человек посередь страстей мирских. И только вот, на виду могил, от греха бежать желаю. Ах, синица ты моя! Люблю я тебя, Наташа…
За ними, голову задрав, на солнце глядя, будто ястребица, шагала порушенная невеста царская Катька. У нее даже сейчас много всего было напрятано. Вот и сегодня убрала жемчугом копну волос своих, а на руке манжет имела особый, и в манжете том – медальон, на коем портрет царя покойного… Шли за Катькой братики – Николашка, Алешка, Санька и бубнили молитвы, спотыкаясь. За братцами – золовки Наташины: Анька да Аленка – эти две (еще глупые) тоненько выпевали нечто божественное.
Вот вышли семьей на берег – к часовенке. Стали у крестов печали свои выплакивать. А Наташа в сторонку отошла, чтобы одной (без Долгоруких) о себе поплакать. Расселись внизу раскисшие, словно грибы после дождя, березовские строения – гниль да труха, мохом затыканная. Чадные дымы выплывали из дверей и окон. Из церквушки Рождества богородицы вышел к Долгоруким березовский поп, отец Федор Кузнецов, человек добрый, и стал увещать он князя Ивана.
– У меня, – говорил, соблазняя, – не брага, а чисто музыка духовная… Трубы нет, так я ружьецо казачье приспособил. Прямо из ружья бражка льется, наварена. Опосля божественного исполнения пойдем, князь, ко мне и помянем родителев ваших!
«Опять, значит, напьется Иван…» Сверкала река, и смотрела Наташа вдаль – вот бы ей плыть, плыть, плыть до Тобольска. Потом на санках бы, сынка к груди прижав, она бы ехала, ехала, ехала… Соли Камские, Мамадыш да Казань татарская, потом Нижний в куполах да башнях, а потом ударит в уши граем вороньим, плеснет в глаза блеском, вскинутся кони, и вот она – Москва… край отчий… кров и покой… Так вот и смотрела Наташа, мечтая, в даль речную. Вдруг белая искорка блеснула за излучиной.
– Ой, что это? – испугалась Наташа. – Гляньте-ка!
Да, теперь все видели – шел кораблик, неся мачты. Ветерок набил полные пазухи парусов – они вздулись, ветром сытые. А напротив самого Березова-городка в воду убежал канат якорный, и лодочка к берегу стала подходить.
– Не за нами ли? – пригорюнились Долгорукие. – Эвон и солдаты там с ружьями на нас глядят… Как бы беды не стало!
По высокому берегу бежал офицер – флотский. И еще издали его улыбку заметили. А сам-то молод, на ногу скор и брови черные…
– Ой… ой… – провыла Катька. – Никак это… он?
Наташа сбоку глянула: стояла невеста порушенная, ни жива, ни мертва. В лице ни кровинки. А офицер, оглядев опальных, сказал:
– Лейтенант Овцын я… И прибыли мы с добром, чтобы далее отплыть. И про страны Полуночные все дельное вызнать. Ну а вы, господа, как живете-можете?
Тут Катька глаза опустила и, словно в былые времена, чинила политес офицеру на глине скользкой. Среди кочек болотных приседала она, боками платьев шурша заманчиво.
– Милости просим… до острогу нашева, – говорила чинно. – Чего, сударь, ранее к нам не приезживали? Уж мы рады…
Анька с Аленкой хотя и глупы еще, но уже девицами стали. Они тоже на лейтенанта завидно поглядывали. Но Овцын, с князем Иваном сойдясь наскоро, вечером пить вино к подьячему Тишину закатился. Скулу ладонью подпер. Слушал, что говорят. Тишин ему невзлюбился – ярыга! А вот боярский сын Яшка Лихачев, за разбой в Березов сосланный, ему приглянулся.
– Атаман, кой год здесь, небось места здешние знакомы?
– Оно так. На пузе все исползал. За бобрами. За утками.
– Вот и ладно! – кивнул Овцын. – Завтра спозаранку, как проснешься, возьми казаков и до окияна самого ступай.
– А меня куды зашлешь? – скалил зубы Тишин.
– У тебя изо рта скверной пахнет, – ответил Овцын. – Мне такие не надобны… Пей вот, сопля подьяческая!
И, здорово подьячего обидев, Овцын ушел от него – сам чистый, ладный, быстрый. На боку его звенел кортик, и на нем вписано: «Богу и Отечеству», а на лезвии: «Виват Анна Великая», – слова те казенные, от них скука бывает… А пока он делами занимался, княжна Екатерина Долгорукая медальон с портретом царя с руки сняла и говорила сестрам своим младшим так:
– Ежели вы, опята острожные, еще раз на лейтенанта мово глазами впялитесь, так я вам глаза-то ваши бесстыжие вилкой повыкалываю. Одна я любоваться им стану. Мне всегда навигаторы нравились!..
Она этого лейтенанта сразу взлюбила: у нее и тогда, на берегу, сердце екнуло. «Он!» – сказала, будто о суженом. Где-то граф Миллезимо-красавчик? Небось в Вене своей, при короле отплясывает… Бог с ним! Эвон и черемухой дали обрызгало, эвон какие румяные закаты пошли полыхать, эвон и птица в кустах свиристелит…
– Куда уходите, Дмитрий Леонтьич? – спросила Катька. – Что недолго у нас гостили?
– Иду я, Катерина Лексеевна, далече от вас. Путем древним плыть мне, како и предки наши в Мангазею с товарами плавали. Воскресить курсы забытые надобно и на карты все разнесть причинно, чтобы другим кораблям ходить в те края не опасно было.
– Вернетесь ли? – обмерла Катька, печалуясь.
– Вернемся. До заморозу жить у окияна не станем. Я людей своих, как начальник, присягой беречь обязался. Да и мне приятнее возле вашего обхождения зиму провесть, нежели в снега зарыться…
Овцына перед отплытием навестил воевода Бобров:
– А вот, лейтенант мой ласковый! Уж скажи ты мне, как человек шибко грамотный: будто (слух такой дошел) Россия наша с сорока королями в войне сцепилась и от Питера царского хрен с маком остался… Верить тому или из ушей поскорей вытрясти?
– Какая война? – удивился Овцын со смехом. – Да и откуда знать-то мне? Я ныне, воевода, такой же волк сибирский, как и ты…
* * *
Французская эскадра боя с русскими кораблями не приняла и бежала из-под Гданска вторично. А десанты свои на произвол судьбы покидала. Денно и нощно теперь гремела канонада: Миних осыпал город ядрами с суши и моря. Особенно доставалось от него бедным французам, которые попали в эту историю, как кур в ощип. Бомбардирские галиоты шлялись вдоль берега, между гафов, разрушая траншеи и ретраншементы, в грудах песка взрывались ядра, наполняя воздух жаром и грохотом… Французы прислали к Миниху парламентеров.
– Я давно наблюдаю за вами, – сказал им Миних. – И решил нарочито не тревожить вас предложеньями о капитуляции, дабы вы до конца прочувствовали свою вину перед моей государыней…
– Мы желаем вернуться на родину, – просили французы.
– Желание ваше похвально! Каждый блудный сын должен к матери своей возвращаться. Садитесь же на наши корабли, и клянусь честью своей, что адмирал Фома Гордон высадит вас в Копенгагене…
Глубокой ночью, минуя пикеты, вышли из осажденного города крестьяне. В грубых рубахах и мохнатых шапках, в руках у них – палки, чтобы дно каналов прощупывать. Только один из них имел сапоги покроя офицерского, другие шли босы. До чего же широко разлилась на полянах Висла!.. По грудь в воде, часто озираясь, палками дно щупая, перешли через канал. Дальше плыли наводненными полями, средь обгорелых деревень. Хрустел камыш, раздвигаемый носом лодки. Рассвет застал беглецов уже на другом берегу Вислы. Развели они костерок и сварили суп. Крестьянин в офицерских сапогах уже крепко спал на сырой земле, с мужицкою свиткою в головах.
– Говорите тише, – сказали у костра, – король спит…
В деревне утром они купили два копченых языка и продолжали путь. Станислав последний раз обернулся на оставленный им город.
– Спасибо моему дорогому зятю, королю Людовику, – сказал со слезами. – Этот городок с дурным пивом еще долго будет бурчать в моем животе… Но я предрекаю: лучше Польше иметь королем цыгана – только не немца! Хищники растащат мою страну по кускам…
Магистрат Гданска раскрыл ворота крепости, и в поле вышла депутация мира. Представ перед Минихом, они согласились сдать город на милость победителя… Каковы же будут условия?
– Голова короля и миллион ефимков!
– Миллион ефимков мы обещаем царице русской, но короля за стенами города уже нет…
Миних в ярости неописуемой ударил ботфортом в барабан, кожа лопнула, нога застряла внутри барабана, он вскинул ногу, и барабан, сорвавшись, долго крутился в воздухе, пока не упал на болото, где паслись в нежданной тишине мира две тощие лагерные козы.
– Ласси! – заорал Миних. – Сколько бомб в магазинах осталось, все их швырнуть на этот город, выпустивший добычу из рук моих…
И в бешенстве он за одну лишь ночь перекидал на крыши Гданска все запасы артиллерийских магазинов. Утром к нему опять явилась депутация из города, горящего со всех сторон от бомб:
– Короля родить мы вам не можем… Где взять его, если его нет средь нас? Не губите же детей и женщин, кровь невинная давно смешалась с кровью виноватых, как вы и напророчили в манифесте своем.
– Два миллиона ефимков! – повысил контрибуции Миних. – Один просто так, в награду, а другой за то, что король от вас бежал. Всех дезертиров моей армии выдать с оружием и барабанами… Знаю! Я сам видел, как русские солдаты сражались против меня заодно с поляками на стенах города. Всем жителям дарю свободу полную, но пусть предстанут передо мною зачинщики войны – маркиз Монти, примас Потоцкий и Понятовский…
Прискакал из Дрездена курьер, вручив фельдмаршалу от Августа трость и шпагу, осыпанные бриллиантами. Но Миних даже не обрадовался: его ждал выговор из Петербурга за упущенье короля. И он издал приказ: по всем дорогам хватать каждого, кто одет почище, лицо имеет с чертами приятными, губами мягкими, склонными к улыбке печальной… В убогой хижине вислянского рыбака, стоящей посреди болота, на чердаке сидел король Лещинский и видел, как мчатся по округе казаки, кусты пронзая пиками. Но Станислав был спокоен: Миних бушевал притворно, ибо Версаль уже отсыпал в карман ему чистым золотом, чтобы короля никто не схватил… Со стороны города ударили вдруг пушки: это был победный салют в честь Миниха, и тогда король начал молиться.
– Герои вроде Миниха, – сказал он, – вот язва, опустошающая человечество… Прости мне, боже, я никогда героем не был! Но помяни ты всех, кто пал в жестоких битвах за меня и… против меня!
Ночью к хижине подвели доброго скакуна. Король, осиянный лунным светом, вдел ногу в стремя, обмотанное тряпкой, чтобы не звенело, перецеловал всех «крестьян» своих. Молча вскочил в седло, надвинул шляпу на глаза и дал коню шпоры… Лунная дорога, как серебристый клинок, звонко дребезжала под копытом коня. Путь его лежал в Померанию, где его обязался приютить король прусский. Тот самый, который пропустил через свои владения и самого Миниха, и пушки русские, а теперь выехал навстречу королю-беглецу…
Фельдмаршал, разбив свои шатры на площади Гданска, пировал. А возле шатра его стоял польский сейм, и низко была опущена голова гордого примаса Речи Посполитой – Федора Потоцкого.
– Великий примас! – Миних вышел к ним с кубком вина. – Узнаешь ли ты меня, самого славного Миниха?
– Тебя я не знаю, пивная рожа! – вскинулся Потоцкий. – И, если бы не мужество солдат русских, ты бы в моем хлеву сейчас лакал пойло из корыта свиней польских…
– Польских свиней, – оскорбился Миних, – я и бить бы не стал. Я сражался с французами, и они дважды бежали.
– Но мы-то… здесь! – ответил примас. – Поляки не бегают!
* * *
МАНИФЕСТ
САНДОМИРСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ
От польских братьев – к русским братьям:
Яснее солнца для каждого, кто исследует причины вещей, откуда встала буря на нашу вольность. Не русская держава сама по себе есть виновница настоящих бедствий в Польше, ибо война эта в основании своем противна интересам России, которая сама находится под гнетом немецкой власти – власти, стремящейся ко всемирной империи и ненавидящей вольность славянскую, как соль в глазу.
Видя, что насилие, учиненное нашему королевству московскими войсками, сделано не по совету доблестных вельмож русских, правдивых наследников честного российского имени, обязали мы нашего маршала объявить войскам российским и чинам панств московских, что с ними враждовать мы не станем!
Это – благородно. Это – возвышенно. Это – прекрасно.
* * *
Честь Франции была посрамлена в битве с русскими, и батальоны славных полков – Блезуа, Ламарш и Перигор – плыли на кораблях в ослепительном море. Миних поклялся им, как честный солдат, что их доставят в Копенгаген. Адмирал Фома Гордон поклялся, как честный моряк, что капитуляция будет исполнена по всем пунктам.
На горизонте вспыхнула искорка – показался город. В плеске волн, накренясь, шли корабли. Французы облепили борта и снасти, вглядываясь в берег и гадая – что это? Дания? Или Швеция?.. Плоско и безжизненно лежала земля, вставали из глубин морских чеканные форты, а справа тянулась зелень садов, и там белели дворцы.
– Вы… в Ораниенбауме! – объявил Гордон. – А кто недоволен, того прошу прыгать за борт и плыть во Францию…
Русские офицеры армии и флота были возмущены гнусным поступком с французами. Зачем так подло обманывать людей, уже настрадавшихся? Слово дано дважды (слово чести воинской), значит, его надо держать… Французов уже высаживали с кораблей. Сразу за прибрежными дворцами начинался густой лес, ноги топли в болотах. Вскинув мешки на спины, они шли по тропинке, под конвоем полка Астраханского, а их поспешно уводили прочь от моря – куда-то в чащу… Все дальше и дальше! Но вот лес раздвинулся, и французы увидели башни крепости, уже поверженные древностью, тихая речка текла за опушкой, дымили избы крестьянские, на огородах скудных выцветал в стрелку лук и печально шуршали русские овсы…
Это было Копорье. Здесь французам объявили:
– По указу ея величества велено содержать вас тут до тех пор, пока король ваш не вернет России фрегат «Митау» с офицерами и командой. Императрица просит с вас взять слово честное и крепкое, что бежать из ее пределов вы не станете!
Французы слово дали. Приехал к ним в лес подполковник Василий Лопухин с женою – дочерью графа Ягужинского, кричал на весь лес:
– Хоть шпагу ломай мне – до чего бесстыдно поступлено с вами!
Потом с женою своей он стал ветки с елок обрывать, показывая французам, как надо шалаши строить. А над ухом каждого, вззз… вззз… вззз. Комары тучей навалились! Лопухин на свой счет открыл в лесу буфет, где подавались вино и водка. Французы понаделали себе дикарских луков, стали охотиться за дичью, которой было в этих краях преизобильно.
Сидели они в камышах на речке, ловя рыбок русских. На пять су, какие отпускала царица на каждого француза, было не прожить иначе.
15 офицеров и 400 мушкетеров навеки остались там, в комариных дебрях Копорья, и могилы их навсегда затерялись среди кочек болотных. Но слову они были верны – никто не убежал. Давно уже Людовик вернул России фрегат «Митау», но Анна Иоанновна еще держала французов в лесу, словно забыла о них! И правда – забыла.
Так закончилась война за «польское наследство».
В древнем Вавельском замке короновался глупый саксонец, опоясав чресла свои щербецом и воздев на голову корону Ягеллонов.
– Брюль! Есть ли у меня деньги? – спрашивал Август Третий.
– Полно, ваше величество, – неизменно отвечал граф Брюль.
И так будет все тридцать лет: один вопрос – один ответ.
Глава девятая
День – в день: от Березова-городка отплыл в пути северные Дмитрий Овцын, а Иван Кирилов отъезжал из столицы в пути южные (а сама экспедиция Кирилова называлась тогда – для секрету – «Известная»)… Анна Иоанновна протянула ему ковчег золотой, внутри которого указ лежал. Указ, в трубку свернутый, был в парчу обернут, кисти на нем золотые, а печати на шнурках из серебра. И сказала Анна Иоанновна:
– Указано тута от людей кабинетных, что город, который на речке Ори офундуешь, именовать впредь – Оренбургом… Ну, – подала смуглую жирную руку, – целуй да езжай в страхе божием!
Для науки немало требовалось: инструмент разный, чтобы звезды счислять, наборы хирургические, часы разные для обсерваций, особые коляски, которые на бегу версты в пути пересчитывают, книги новые, гравюры, глобусы, азбуки иноземные и прочие вещи, учености служащие.
– Куда столько? – пугался Шумахер.
– Буду школы там заводить, – отвечал ему Кирилов.
– У дикарей-то? Берите побольше попов и пушек.
– Попа найду умного, а пушки всегда глупы. Из пушки сколь ни пали по народу, народ умнее не становится… Нужны меры кроткие и разумные!
До самой Москвы плыли водою. По рекам и каналам. Вечерами мурза Мамет Тевкелев (толмач в чине полковника) вылезал на палубу, коврик стелил и молился своему страшному богу. Иван Кирилович слушал, как завывает толмач, и распределял – что сделает… Чтобы товары в степь потекли. Чтобы дороги хорошие. Чтобы гоньба почтовая. А от Оренбурга кинет шляхи на Бухару и Хиву, за коими пролягут пути сердечные – до Индии!
От волнения кашлял. Плевал в воду, и красными цветками уплывали плевки его вдаль… Бухгалтеру своему Пете Рычкову, за ученость в экспедицию взятому, говорил Кирилов, тужа:
– Я не жилец на сем свете чудесном. А потому поспешать мне надобно, чтобы до смерти мечту свою видеть исполненной…
Недоставало еще ботаника – травы описывать. И архитектора – домы Оренбурга строить. Не было и попа разумного, дабы в веру башкир приводил без тягостей понукания. Впрочем, на Москву прибыв, Кирилов такого попа сыскал. Правда, поп не поп, а еще школяр риторики. Происхождения – дворянского, по прозванию же – Михайла Ломоносов. Детинушка был ростом велик, распятистый, с разинутым в удивлении ртом, и Кирилов сказал ему:
– Чего пасть-то свою открытою содержишь?
– От внимания, – отвечал Ломоносов.
– Закрой, неча галок ловить… Как же так? – спросил он его. – Сыне ты дворянский, а лезешь в попы ко мне… в экую даль!
– До стран далеких интерес имею. А что дворянин я, так это – вранье. С испугу назвался! На самом деле есть я сын попа Василия Дорофеева, что в городе Холмогорах при церкви Введения пресвятыя богородицы состоит. И желаю, дабы в экспедицию вашу попасть, тоже приять сан священнический…
И в том убеждении Ломоносов расписку дал: ежели, мол, он показал на себя облыжно, то пусть будет «пострижен и сослан в жестокое подначалие в дальний монастырь». Кирилов в этой дылде холмогорской острый ум выявил, в Петербург о Ломоносове отписывал похвально: «…тем школьником по произведении его во священство буду доволен». Но… Камер-коллегия ту сказку проверила и по бумагам казенным вызнала, что Ломоносов такой же поповский сын, каков и дворянский…
– Чего ж ты врешь? – сказал Ломоносову Кирилов. – То дворянин, то попович… А на поверку выходит – крестьянин ты!
– Оно так, – сознался Ломоносов. – От простоты всё…
– Опять врешь, – сказал Кирилов. – Не прост ты… Был бы ты прост, так я бы тебя и не брал с собою. Ты остер достаточно. И весь карьер свой поломал. Взял бы я тебя в Оренбург, с годами ты бы в сан вошел архиерейский… Глядишь, кусок хлеба на себя и на семью имел бы к старости. А теперь не могу! Нехорошо, сын крестьянский, ты с вельмож вранья не списывай: честным будь.
– А теперь меня куда? – спросил его Ломоносов.
– Небось пороть будут, – посулил Кирилов.
– Оно накладно… – задумался сын крестьянский.
– А ты – вытерпи, всех порют! – посоветовал Кирилов.
– Конешно… пострадать можно…
И, тяжело вздыхая, ушел. «Жаль», – думал Кирилов. И снова поплыл водою – до Казани. Теперь уже с пушками. Полки Пензенский и Вологодский сопровождали его. Кирилов на пушки глядел косо: он пушечного грома не жаловал, радушен был ко всему, что живет, что дышит, что прыгает, что летает, что колосится…
Прекрасны холмы башкирские, золотом и серебром осыпало леса, тихо струились реки из хрусталя. Уфа жила уже обособленно, вся в помыслах прирубежных, набегов боясь. Здесь Кирилов за работу засел и других к тому понуждал. Лошадей закупал табунами, магазины готовил, ланд-милицию создавал на манер казачий, перепись тептерям и башкирам учинил. И – кашлял, кашлял советник статский, бился грудью о край стола, кровь текла на бумаги важные, на «сказки» уфимские… Из окошка, на шлях глядящего, ему Индия мерещилась.
– Пора гостей звать тамошних, – говорил, отдышавшись…
Чуден был день над Уфой, когда сама Индия вошла в дом к нему.
Первый гость индийский – Марвари Барайя шубы на лавки скинул, но прежде глянул – нет ли жучка какого на лавке, чтобы не раздавить тварь живую. Уселся он, ноги поджав, запах какой-то странный от себя излучая. Томно и нездешне струился на Кирилова свет его глаз – глубоких, как омуты…
– Пусть, – велел Кирилов толмачу, – гость мой радостный о родине мне своей поведает…
Усладительно звучал дребезжащий голос Марвари:
– …снегу и зимы никогда не бывает, такоже всякие цветы и травы никогда не увядают. Руд всяких и каменьев имеется довольство изрядное. Ягоды всякие родятся в год по дважды, орехи величиною кругом в три четверти аршина и более, лимонии в год по дважды ж, и протчие всякие овощи свежие, шелк хороший, подобно китайскому, однако ж его немного, а бумаги хлопчатой множество. Места зело теплые: жители ходят в платье, сделанном из бумаги хлопчатой…
И долго еще, словно во сне, звучали неувядающие слова гостя индийского: «Кардамон, алмазы, гвоздика, лалы, орехи мускатные, инбирь белой и желтой, яхонты, кисеи и лавры…» Сколько об этих богатствах они с Соймоновым говорили! Еще там, возле печек, когда снега лежат по пояс… Кирилов ладонью лицо закрыл и заплакал беззвучно: «Только бы не помереть до сроку!..» И торопливо новые торги заключил, основал в Уфе Компанию русско-индийскую, а жене признался:
– Ульяна Петровна, супруга вы моя ненаглядная, почто жизнь людская столь плохо устроена? Едва сумеет человек основать судьбу свою на мечтах юности, как смерть к нему уже поспешает…
Множество табака искуривал Кирилов нещадно, благо курение при чахотке считалось по тем временам весьма полезно. В раскольничьих же книгах, тяжелых и грубых, воском закапанных, как раз обратное доказывалось… Кому верить: врачам или раскольникам?
* * *
Когда Татищев проведал, что Кирилов в экспедицию «Известную» главным назначен, он взвыл от зависти неуемной.
– Почто опять не меня? – кричал в бешенстве. – Я человек роду боярского, знатного! А сей Кирилов из гузна мужицкого на свет божий выполз. Шти лаптем хлебал, на лавке спал и кулаком подпирался, а собака миску его вылизывала… – Соймонова повидав, ногами в обидах топал. – Может ли, – доказывал ему Татищев, – мужик географию понимать? Только мы, столбовые, в геодезии да в гиштории смысл глубокий изыскиваем… Рази не так?
Федор Иванович послушал вопли боярские:
– И такого-то дурака, как ты, Никитич, еще умным зовут? Эх, люди… Во спесь-то где! Во где жир-то дурной! Да ведомо ли тебе, что Кирилов кровью над географией исхаркался? Он прост, да! Однако атласы и книги на свои рубли печатал. В науку идет без оглядки. И – честен! Мужицкий сын Оренбурга не разворует. А тебя только допусти: половину края – в казну, а половину по своим именьишкам растащишь… Ступай, видеть тебя не хочу!
И столбовой дворянин изгнал от себя сына боярского.
Сытые лошади уносили гневливого Татищева на Карповку…
«Князь тьмы» проживал здесь! Велики богатства его, много у него домов в Петербурге, каменных и деревянных, немало усадеб в округе Московской, пышны его дачи меж Петергофом и Ораниенбаумом. Но любимое место жития – на Карповке, речке тихой, вдали от суеты столичной. Леса шумят, сады плодоносят. На реке качается флот – из галер малых, из гондол венецианских, подходят сюда баржи с дровами. Издалека пышет над лесом высокая труба – тут вовсю работает пивоварня, откуда пиво течет в бочки царицы и в подвалы дома графа Бирена. Сам же хозяин, от трудов устав, иногда в стихах свою душу излагает. То самодержавие на Руси восхвалит, то пивоварению воздаст славу творчески – в рифмах… Велики погреба у «князя тьмы»! Чего только не таят они в тишине прохладной: белужина, тёшки осетровые, спинки копченые, раки псковские, угри балтийские, икра черная, вязига для пирогов, устрицы флембургские, анчоусы итальянские; заповедным сном покоятся там вина – веит, понток, реншвин, бургундское, мушкатели разные, фронтиниак, ренское, эрмитажное, оглонское, водка гданская, а сивуха украинская…
И пусть шатается народ от голода – стоны людские в эту тишь да благодать не проникнут! Здесь живет «князь тьмы» – Феофан Прокопович, владыка синодальный, от него и улица в Петербурге пошла – Архиерейская та улица…[24] Дела у него ныне были плачевные. Императрица просвещению ходу не давала. При карповской даче Феофан свою школу открыл. Сам и учил школяров по уставам иезуитским. Чтобы в учебе соревновались. Чтобы друг за другом поглядывали. Чтобы доносили один на другого исправно… От этого великое рвение было в учениках! По вечерам же, от наук утомясь, Феофан пытки и розыски производил. Бывало, вернется на Карповку, а вся борода в крови людской… Самому страшно! Четки возьмет, а они – словно брызги крови… «Ой, муторно! Ой, спаси меня, господи!»
Постарел. Живость потерял. Борода поседела. Под глазами обода темные. В глазах тоска. Веко трясется живчиком…
Татищева принял, перстами темными благословил его.
– Зачем пожаловал? – вопросил строго.
– Генерал де Геннин в артиллерию просится, – рассказывал Татищев охотно, – ему с заводами сибирскими по старости не совладать. Кабаки тамо завелись, народ гуляет. А ея величество в бухгалтерии не смыслит… Горное дело таково: рубль в него вложил, и десять лет жди – тебе ста рублями вернется. А граф Бирен рубль вложит, а завтра же ему сто рублей, хоть роди, а вынь да положь…
– А ты? – спросил Феофан. – Где сто рублей возьмешь?
– Я не сто, а тыщу возьму, – отвечал Татищев. – Эвон беглых полна Сибирь, всех в работу вопрягу… Вогулов опытных науськаю! Они мне за пятачок медный миллионные доходы в горах укажут. Да и бухгалтерия мне издавна в делах горнозаводских свычна…
Феофан прищурился – остро.
– Слышь-ка, – придвинулся, – я тебя научу… они на это клюнут. Они там жадны до всего… Ты прибытки великие посули!
– Кому?
– Бирен, говоришь, не жалует… Ну и ладно! Ты прямо в ноги матушке-осударыне кидайся. Соблазни ее доходами, во искушение введи. Они ведь живут при дворе, как дети малые: нет того, чтобы дать, а лишь одно ведают – взять!
Татищев так и поступил. Однажды в садике дворца Летнего, из кустов явясь, словно разбойник, в ноги императрице кинулся, стал ее соблазнять доходами непомерными…
– От воровства доходов не ищу, – сказала Анна, отступая.
– Матушка, – затараторил Татищев, на коленях за нею ползая, – а мы ведь с тобой родня недальная…
– С чего бы это? – фыркнула Анна Иоанновна.
– Дак как же! Хочешь, разложу генеалогию по косточкам?
– Ну, разложи…
Татищев развел руки, в воздухе незримо рисуя дерево:
– Изображу родство наше… Матушки ваши, блаженныя памяти царицы Прасковьи Федоровны, были дочерьми боярина Федора Петровича Салтыкова. А дедушки ваши были женаты на моей троюродной бабке – Татищевой…
– Ты мне десятую воду на киселе не мешай!
– Не десятая вода, а родство совсем близкое: мы с вами, ваше величество, праправнучатые братец с сестричкой… Сестрица ты мне! Так не мучай своего братца…
Анна Иоанновна расхохоталась, и тогда Татищев (горячо, пылко, разумно) поведал ей о делах горных. Глаза Анны засверкали: предчуя выгоды, она уже прикидывала, что купит себе, что построит… На прощание Татищев получил от нее оплеуху.
– Вот и конец инквизиции, – сказала императрица. – Езжай в Сибирь, братик…
В звании генерал-бергмейстера Татищев проворно отправился к горам Рифейским.
* * *
За окном бело: снег, вихрь, гаснут редкие фонари…
– Ну вот, – перекрестилась Анна Иоанновна, – четвертый годок в благолепии отцарствовала… Дай-то мне, господи, и дале так!
Шагом широким, руками размахивая, проследовала в туалетную через комнаты Бенигны Бирен. Обер-камергер с кушеток поднялся, за нею пошел. Из дверей вывернулся блистательный, кружевами шурша, обер-гофмаршал Левенвольде – тронулся за Биреном. За Левенвольде «взял шаг» барон Корф, розовощекий, духами благоухая; за Корфом пошли в церемонии прочие-разные: Менгдены, Ливены, Кейзерлинги, Фитингофы, Зальцы, Кампенгаузены и… Бисмарк (в чине генеральском). Окружили они толпой веселой громадный стол, на котором сверкала золотом, словно сервиз, огромная коллекция ваз, коробок, кувшинов и флаконов с притираниями и помадами. Анна Иоанновна присела у зеркала. Вгляделась в оспины на лице. Пухленькие амурчики, болтая ножками толстенькими, взирали на нее из-за оправы зеркальной…
– Музыку! – гаркнула, и в соседних покоях заиграли.
До чего же хорошо играли итальянцы… На скрипке – Пиетро Мира, на виолончели – Тантонидо, потом раздался божественный голос, будто с небес сошедший, – это запела Верокаи-Аволио, вторил ей кастрат флорентийский – Пьеро Пердиччи, сладко-пресладко…
– Печки! – крикнула Анна, и внизу, под полом, вдоль потаенных дымоходов, потек горячий воздух, в который истопник Милютин бросал восточные благовония: запахло в комнатах – райски…
А кастрат все пел – столь умилительно. Все о любви, все о ней, неизбежной. Начинался час вожделенный, и об этом все придворные знали, к дверям торопливо пятясь, чтобы оставить императрицу наедине с графом Биреном…
Потом между ними такой разговор был.
– Вот, – сказала Анна Иоанновна, – теперь, мой друг, ты понял, ради кого я вела эту войну?
– Выгоды имела Вена, Дрезден и… Остерман.
– Ништо! Будто сам не догадаешься, ради кого я десять тыщ христианских душенек под Гданском угробила?.. Все для тебя! Отныне, когда Август Третий мне престолом польским обязан, он поручился престол Курляндии в наши руки передать… Митава отныне вассалом Речи Посполитой не станет!
– Но я, – ответил Бирен, глядя тускло, – тоже не дурак, как Остерман обо мне думает. Я ведь знаю, что в Гданске еще проживает герцог Курляндский Фердинанд, родной дядя вашего покойного супруга… Вот ему все сливки и достанутся.
– Но Фердинанд-то… помрет, – вразумила его Анна.
– Боюсь, – вздохнул Бирен, – что я помру раньше его, и корона Кетлеров, когда-то могучих, лишь коснется моего виска.
– Терпи! – отвечала Анна. – Я-то своей дождалась…
Корону на голове Анна Иоанновна редко носила. Вот и сейчас, перед зеркалом встав, она водрузила ее прямо себе на грудь. А грудь ее была столь велика, корсетом подпертая снизу, что корона покоилась будто на столе. Так она и вышла – с короной на груди необъятной. За нею пошагал Бирен, вывернулся откуда-то Рейнгольд Левенвольде, за ним – Корф, а потом разные-прочие…
Был малый выход.
– Хоть на народ посмотреть, – говорила Анна Иоанновна.
Зала в Зимнем дворце была наполнена людьми. Проходя вдоль рядов посольских, царица спросила консула британского:
– Чай, в Виндзорском дворце зала будет пошире?
– Увы, – польстил ей Рондо, – она гораздо уже.
Ей издали кланялся новый венский посол – граф Карл Генрих Остейн – и столь резво подался вперед для руки целования, что, казалось, головой вышибет царице зубы. Когда же нагнулся резво – она за юбки свои схватилась.
И потом сказала – во всеуслышание:
– Вот до чего мужчина опытный может напужать меня, слабую женщину!
Отчего был смех продолжительный, смех подхалимский, и она пошла дальше, собой довольная…
Возле китайских послов задержалась:
– Кого же вы из дам моих самой красивой считаете?
– В звездную ночь, – отвечали китайцы, кланяясь, – трудно сказать, какая из звезд самая прекрасная. Но есть звезда на небосклоне двора вашего, которую не заметить трудно… Это цесаревна Елизавета с глазами зелеными и круглыми, как у кошки.
Анна Иоанновна нахмурилась:
– А что самое удивительное для вас у двора моего?
– Самое удивительное – видеть тебя на престоле!..
В глубине залы стояли пленные французы (которые уцелели), вывезенные из Копорья, с любезной улыбкой Анна Иоанновна к ним подошла.
– Довольны ль вы? – спросила.
– Мы благодарны вашему генералу Лопухину, – отвечали французы дружно. – Он научил нас шалаши строить, он кормил и поил нас… Мы так и представляли себе русских людей – добрыми и благородными!
– Рада слышать от вас слова дружественные… Фельдмаршал! – позвала она Миниха. – От щедрот своих дарю каждому французу по тулупу в дорогу да по валенкам. Пущай едут в свою Францию, славу обо мне по миру развозя!
К французам робко приблизилась Елизавета Петровна.
– Нет слов, – шепнула, – передать мне, как я люблю Францию… Приходите ко мне, в дом на лугу Царицыном, я научу вас, как надо ноги обернуть в дороге, чтобы не мерзли… Морозы трещат лютые!
Ночью, вернувшись из дворца, леди Рондо при мерцании свеч писала письмо в Англию – своей подруге:
«Зала была украшена померанцевыми и миртовыми деревьями в полном цвету. Деревья, расставленные шпалерами, образовывали аллеи, которые доставляли возможность гостям часто отдыхать, потому что укрывали садившихся для поцелуев от нескромных взоров. Красота, благоухание и тепло в этой дворцовой роще (тогда как из окон видны только лед и снег) казались чем-то волшебным и наполняли душу мою приятными мечтами. Аллеи были наполнены изящными кавалерами и очаровательными дамами в праздничных платьях, вроде костюмов аркадских пастушков и нимф. Все это заставляло меня думать, что я нахожусь в сказочной стране фей, и в моих мыслях, в течение всего вечера, был „Сон в летнюю ночь“ Шекспира… Простите, – закончила леди Рондо, – мне болтовню женщины, только что разрешившейся от бремени ребенком!»
* * *
В древнем селе Архангельском под Москвою занесло тропки. Снег – ласковый, чистый, пушистый. И на нем по утреннику – следки: вот воробей рылся, тут кошка от кухонь пробежала, а человечий след – острый, глубокий, опасный… Это прошел, размышляя и мучаясь, опальный верховник – князь Дмитрий Голицын.
В сенях девки подбежали – обмести снег с валенок князя. Прошел в кабинет к себе, полистал сенатские дела, кои иной раз присылали к нему из Петербурга. Сына вот не стало рядом: отбыл князь Сергей Дмитриевич в Персию – послом к Надиру, и не с кем более печали с души отвести…
– Емеля! – секретаря кликнул. – Хоть ты приди!
Вошел Емельян Семенов с пером за ухом, держа в руках раскрытый том Боккаччо на итальянском, учтиво поклонился, выжидая.
– Прочти вот… Расходы российские!
Семенов с опаской глянул в реестрик, составленный Голицыным:
«2 600 000 рублей – на содержание двора Анны Иоанновны.
1 200 000 “ – на нужды флота российского.
1 000 000 “ – на содержание конюшен для Бирена.
460 118 “ – на жалованье чиновникам государства.
370 000 “ – на развитие русской артиллерии.
256 813 “ – на строительство Санкт-Петербурга.
77 111 “ – на родственников императрицы.
47 371 “ – на Академию наук и Адмиралтейство.
42 622 “ – на мелкие расходы Анны Иоанновны.
38 096 “ – на пенсии ветеранам, инвалидам войн.
16 000 “ – на народное здравоохранение.
4 500 “ – на народное образование».
– Я прочел, князь, – ответил секретарь.
– Со вниманием ли прочел, Емеля?
– Да, ваше сиятельство. Особливо сравнил я две цифры – самую первую с самой последней.
– А коли прочел, так положи листок на место. Но выводы из сей табели весьма поучительны для историков времен грядущих…
Тихо в селе Архангельском, до чего же тихо.
По вечерам из лесу темного набегают волки и, сев на тощие подмороженные зады, воют на огоньки боярской усадьбы. Уютно потрескивают в доме высокие печи, мягко колышется пламя свечей. В узорах сложных оконце. И, оттаяв стекло своим дыханием, старый князь Голицын глядит в ночь…
Страшна ночь на Руси! Сон русского человека в ночь зимнюю – не сравнить со «сном» шекспировским: чудятся Голицыну отрубленные головы предков и головы внуков его. Крадется старик в детские опочивальни. Спят внуки его, крепко спят. Еще ничего не знают!
Глава десятая
Кострома – полна ума! И с этой поговоркой никто на Руси не спорит… Вот что случилось в Костроме – от ума великого.
Чиновник Костромской духовной консистории Семен Косогоров (волосом сив, на затылке косица, на лбу бородавка – мета божия) с утра пораньше строчил перышком. Мутно оплывала свеча в лубяном стакане. За окнами светлело. В прихожей, со стороны лестницы входной, копились просители и челобитчики – попы да дьяконы, монахи да псаломщики. Косогоров уже к полудню взяток от них набрался, а день еще не кончился…
– Эй! – позвал. – Кто нуждит за дверьми? Войди следующий.
Вошел священник уездный. В полушубке, ниже которого ряска по полу волоклась, старенькая. Низко кланялся он чиновнику, на стол горшочек с медком ставил, потом гуся предъявил. Косогоров липовый медок на палец брал и с пальца пробовал. Гуся презентованного держал властно, огузок его прощупывая – жирен ли? И гуся того с горшком под стол себе клал, после чего спрашивал охотно:
– Кою нужду до власти духовной имеешь? И как зовешься?
На что отвечал ему священник так:
– Зовусь я Алексеем, по батюшке Васильевым. Нужды до власти духовной не имею, по смиренности характера, от кляуз подалее. Но прошу тебя, господин ласковый, ссуди ты меня бумагой для чистописания. Совсем плохо в деревне – негде бумажки взять.
– Бумажка, – отвечал ему Косогоров, – ныне в красных сапожках бегает. – И, гуся из-под стола доставая, опять наглядно огузок ему щупал и морщился. – Но… много ль тебе? И на што бумага?
– По нежности душевной, – признался Алексей Васильев, – имею обык такой вирши и песни в народе собирать. Для того и тужусь по бумажке чистенькой, дабы охота моя к тому не ослаблялась. Ибо на память трудно надеяться: с годами песен всех не упомнишь…
Косогоров вдруг обрадовался, говоря Васильеву:
– Друг ты мой! Я и сам до песен разных охоч. Много ль их у тебя собрано? Канты какие новые не ведаешь ли?
Священник тут же – по памяти – один кант начертал:
Да здравствует днесь императрикс Анна, На престол седша увенчанна. Восприимем с радости полные стаканы, Восплещим громко и руками, Заскачем весело ногами, Мы – верные гражданы… То-то есть прямая царица! То-то бодра императрица!– Чьи вирши столь дивно хороши? – спросил Косогоров.
– Сейчас того не упомнится. С десятых рук сам переписывал…
И священник, довольный бумагой и новою дружбой с человеком нужным, отъехал на приход свой – в провинцию. А консисторский решил почерком затейливым вирши новые в тетрадку перебелить, чтобы потом на манер псалмов их дома распевать – жене в радость… Поскреб он перо об загривок себе, писать набело приспособился, через дверь крикнув просителям, что никого более сей день принимать не станет. Первый стих начал в тетрадке выводить, и перо с разбегу так и спотыкнулось на слове «императрикс».
– Нет ли худа тут? – побледнел Косогоров. – Слово какое-то странное… Может, зложелательство в титле этом?
И – заболел. Думал, на печи лежа, так: «Уж не подослан ли сей Васильев ко мне? Нарочито со словом этим поганым, дабы меня в сомнение привесть? Может, враги-то только и ждут… Может, мне опередить их надобно! Да „слово и дело“ скорей кричать?»
От греха подальше он все песни, какие имел, спалил нещадно. А листок со стихами, где титул царский подозрителен, оставил. Благо, не его рукой писан. Две недели пьянствовал Косогоров, в сомнениях пребывая. Потом на улицы выбежал в горячке и закричал:
– Ведаю за собой «слово и дело» государево! Берите меня…
И взяли. В канцелярии воеводской били его инструментом разным, еще от царя Алексея Михайловича оставшимся. Вспомнил тут Косогоров, что доводчику, по пословице, первый кнут, но было уже поздно… Из-под кнута старинного Косогоров показал:
– До слова «императрикс» причастия не имею. А ведает о том слове священник Алексей Васильев, злодейски на титул умысливший!
Взяли из деревни Алексея Васильева, стали пытать.
– То слово «императрикс», – отвечал он искренне, – не мною придумано. А списывал я кант у дьяка Савельева из Нерехты…
Послал воевода людей на Нерехту, доставили они ослабшего от страха дьяка Савельева, и тот показал допытчикам, не затаясь:
– Слово «императрикс» с кантов чужих списывал, а сам причастия к нему не имею. Но был на пасху в гостях у кума, прапорщика Жуляковского, помнится, кум спьяна что-то пел зазорное…
Взяли Жуляковского-прапорщика – и на дыбу.
– Слова «императрикс» не знаю, – отвечал прапорщик. – Но был в гостях у купецкого человека Пупкина, и там первый тост вздымали за здоровье именинницы – хозяюшки Матрены Игнатьевны, отчего мне, прапорщику, уже тогда сомнительно показалось – почто сперва за бабу пьют, а не за ея величество…
Взяли купецкого человека Пупкина – и туда же подвесили.
– Слова «императрикс» не говаривал никогда, – показал он с пытки. – А недавно был сильно пьян в гостях у человека торгового по прозванью Осип Кудашкин. И тот Кудашкин, во хмелю весел будучи, выражал слова зазорные. Мол, у нашей государыни уседнее место вширь велико. Небось-де, Бирену одному никак не справиться!
Взяли Матрену Игнатьевну и поехали за Кудашкиным. Но Кудашкин был горазд умудрен богатым житейским опытом и потому заранее через огороды задние бежал в неизвестность… Делать нечего! Решили тряхнуть Матрену Игнатьевну, пока Кудашкин не сыщется.
– Охти мне! – отвечала баба на розыске. – Пьяна я была, ничего и не упомню. Может, экое слово «императрикс» и говорил кто, но я знать того не знаю и ведать не ведаю…
Бабу пока оставили, принялись опять за Пупкина.
– А в гостях у Осипа Кудашкина, каюсь, был и веселился. Когда же об уседнем месте ея величества пошла речь высокая, то подьячий Панфилов Семен, в гостях тамо же пребывал, отвечал Кудашкину словами такими: «Левенвольде-де да прочие немцы в помощниках тому делу графу Бирену служат…»
Поехали от воеводы с телегой, взяли Панфилова прямо из бани.
– Слову «императрикс» не учен, от вас, голуби мои, впервой его слышу, – отвечал Панфилов, чисто вымытый. – И сколь бумаги в жизни исписал, а такого слова не встречалось. При оговоре моем прошу учесть судей праведных, что ранее в штрафах и провинностях не сыскан, у причастия святого бывал исправно, что и духовный отец, Пантелей Грешилов, в церкви Страстей господних всегда утвердить может…
Взяли Пантелея Грешилова из церкви Страстей господних, но живым до розыска не довезли: у порога канцелярии воеводской он помер в страхах великих… Тогда всех арестованных, в железа заковав, повезли под стражей в Москву – прямо на Лубянку, где размещалась Тайная канцелярия под командой губернатора Семена Салтыкова, и писал Салтыков в Петербург Ушакову об этом слове:
«…явилась песня печатная, сочиненна в Гамбурге, в которой в титле ея императорьского величества явилось напечатано не по форме. И признавается, что она напечатана в Санкт-Питербурхе при Наук Академии, того ради не соизволите ль, ваше превосходительство, приказать ону (т. е. песню) в печати свидетельствовать…»
Кострома – полна ума, а Москва еще умнее!
* * *
Синие цветом, скрюченные монстры, разложенные по банкам и бутылкам, злорадно ухмылялись из голубого спирта. Давно уже монстры не видели в Академии барона Кейзерлинга, отъехавшего в Варшаву, но зато опять наблюдали серые уши Данилы Шумахера.
Господин Юнкер (профессор морали) фолиантом в телячьей коже треснул по башке господина фон Баксбаума (профессора политики). Академик Либерт трахнул академика Крафта палкой и расшиб зеркало казенное. Академик же Делиль в драку не мешался, ибо он считал, что Земля круглая и вращается, а это могли снова поставить ему в вину. Но тут, в самый разгар острой научной дискуссии, вошел секретарь Шумахер и взялся за дубину Петра Первого.
– Сия ужасная мебель, – сказал он на кухонной латыни, – да будет и впредь дирижировать науками российскими…
При дворе опять ломали головы, кто был самым умным на Митаве, но никого не находили – взамен Кейзерлингу… Тогда Шумахер своей волей предложил графу Бирену быть протектором – почетным президентом наук российских.
– Думайте, что говорите! – оскорбился Бирен. – После Петра Великого мне быть протектором?.. Да меня засмеет вся Европа, и будет права. Я не ищу научных званий. Но вот мой секретарь, Штрубе де Пирмон, и учитель детей моих – Леруа…
Шумахер сразу все понял:
– Ваше сиятельство! – И его серые уши порозовели. – Академия «де-сиянс» имеет немало стульев. Пусть придут ваши секретарь и учитель… Места академиков уже за ними!
Бирен махнул рукой, Шумахера отпуская. Сейчас его занимали горы Рифейские, за коими лежит Сибирь – страна пушных и горных сокровищ. В самом деле, если подумать, сколько добра пропадает! Голова пошла кругом, когда Бирен узнал, что требуется для производства только гранат и ядер: селитра и сера, скипидар и сулема, камфора и мышьяк, ртуть и ладан, колофония и антимония, деготь и янтарь, уксус и вино, сбитень и уголь крушины, масло льняное и конопляное… куда столько? Вечером в морозном воздухе были ослепительны звезды. Бирен, накинув шубу, поднялся на башню. В потемках возился возле трубы митавский астролог Бухер.
– Что ты видишь там, пьяница? – спросил его граф.
– Пречистая Венус спешит к востоку, ваше сиятельство. И тайные эфемериды опять складываются удачно для коновалов. Я вижу колесницу без Пегаса, а в ней корону Кетлеров, герцогов Курляндских… Еще пива, и тайное сейчас свершится!
– Ты пьян совсем, – не поверил ему Бирен.
– Я себя не помнил, когда предсказал герцогине Анне Иоанновне корону дома Романовых, а теперь я, чуточку похмеленный, предсказываю вам корону герцогов Кетлеров…
– Прости, – сказал Бирен. – Твои пророчества, и правда, всегда исполняются. Но… неужели?
Он спустился с башни. Лакей подал ему атласные туфли, и через тонкие подошвы Бирен ощутил тепло пола. Это в нижних залах затеплили сотни свечей. Жена-горбунья созывала гостей, и Бирен прошел к ней в туалетную. Бенигна сидела, укрытая пудермантелем, фрейлины осыпали ее жалкое тщедушие драгоценными камнями и алмазной пудрой. Резало глаза сверканием. «Сибирь… Сибирь!» – думал Бирен, пересчитывая драгоценности жены. Насчитал до семи миллионов рублей, потраченных на конопатую уродину, которая ему ни к черту не нужна, и, печально вздохнув, вышел…
– Лейба! – позвал он фактора. – Я, – начал Бирен, садясь возле камина, – очень недоволен, что ея величество, без совета со мною, отправила Татищева на сибирские заводы. Мало того, что он русский, он еще и преисполнен деятельности… Кто еще там?
– В Сибири еще Хрущов, креотур Волынского.
– Совсем не знаю такого… Однако Волынскому, видать, мало быть моим креотуром: он сам окружает себя креотурами… Еще?
– Еще там Бурцев, Рейзер и Жолобов.
– Жолобов? Уж не тот ли…
– Тот! А почему вас взволновало это имя, граф?
– Теперь, – заговорил Бирен, – Татищев сочиняет «Горный устав», я не знаю, что за штука получится. Но от такого вредного человека можно ожидать любой пакости. Меня тревожит, что Татищев расположен к коллегиальности…
– Но Берг-коллегия уничтожена, – утешил его Лейба Либман.
– Я знаю. Взамен ее надобно создать директориум. С директором во главе! И – все. При директоре коллегиальность невозможна. Берг-директор должен быть предан одному мне… В самом деле, – вдруг обиделся Бирен на весь мир, – почему Строгановым и Демидовым можно заводить заводы? Маленькая принцесса Мекленбургская, даже цесаревна Елизавета – все имеют при дворе доход от железа и меди. Один я, несчастный…
– Ваше сиятельство, – перебил его фактор, – саксонец Курт фон Шемберг уже спешит в Россию: он возьмет казенные заводы в аренду, и никто не узнает, что доходы потекут прямо к нам.
– Если так, – сказал Бирен, – я этого саксонца и сделаю берг-директором, и тогда Татищев может писать устав за уставом. Я знаю, что бюрократия всегда сильнее коллегиальности…
Вскоре президентом Академии наук был назначен барон Корф, и Анна Иоанновна наказала «безбожнику»:
– Там в чине президентском не совладать с разбойниками. Ученый народ стульями бьется и посуду колотит. А потому, для пущей важности, возьми ты эту арестантскую роту, и быть тебе в ней не «президентом», а – «главным командиром»… Да бога-то! Бога не забывай, барон…
Тут же забыв про бога, Корф сразу вспомнил о дьяволе.
– Несомненно, – сказал он, читая доносы академиков, – сам дьявол вселился в Шумахера… Что ж, начнем возрождение науки в России прямо с изгнания бесов!
Примерил он трость к руке своей и решил Шумахера бить. Благо он – командир, а не президент.
– Господин Шумахер, – начал Корф вежливо, – разве можно, чтобы канцелярия Академии взяла верх над самой Академией и наукой?..
Только он размахнулся тростью, как Шумахер завопил:
– «О пленении земель Рязанских от Мамая» – есть ли такое сочинение у вас, барон сиятельный?
– Нету, – заявил Корф, сияя жадными очами.
Шумахер прицелился точно: безбожника можно было подкупить только книгами, ибо ничего слаще книг Корф не знал (даже любовниц он не имел, ибо они отнимали время, необходимое для чтения)… Однажды Корфа навестил Карл Бреверн – тоже безбожник и тоже книжник.
– Барон, – сказал он Корфу, – не кажется ли тебе, что Кейзерлинг за свое краткое президентство поступил умно, заметив Тредиаковского? Нельзя в русской науке видеть одних лишь немцев! Так докажи же всем, что именно ты, а не Кейзерлинг был самым умным на Митаве.
– Бреверн, – ответил Корф, – не предвосхищай мои мысли. Именно с такими намерениями я сюда и явился…
Встретясь с Делилем, Корф подмигнул ему хитро.
– А Земля-то… круглая, – шепнул он. – И Коперник прав: черт побери ее, но она вращается, а мы еще не падаем на этой карусели. И вы, Делиль, можете беседовать на эту тему со мною. Но другим – ни звука. Только вы и я будем знать о Земли вращении…
С треском вылетела дубовая рама, посыпались стекла. От шутовского павильона ворвался в Академию снаряд фейерверка. Опять загорелись (в какой уж раз!) стены Шафировых палат, набежали солдаты с ведрами и кадеты-малолетки, чтобы спасать науку русскую.
– Убрать «театрум» от Академии! – бушевал Корф в запале. – Кончится все тем, что мы сгорим здесь вместе с Шумахером…
– …ништо им! – хохотала императрица. – А коли сгорят, то и ладно. Никто по ним плакать не станет. От этих ученых одни убытки терплю… Ну вот на синь-пороху нет от них никакой прибыли!
* * *
«…буттобы», – написал Тредиаковский и крепко задумался: так ли написал? Не ошибся ли?
– Будто бы, – произнес вслух, написание проверяя, и хотел даже продолжить, но тут его оторвали…
Вошла княгиня Троекурова, владелица дома на острове Васильевском, и, подбоченясь, поэта спрашивала грозно:
– Ты почто сам с собой по ночам разговариваешь? Или порчу накликать на мой дом хошь? Смотри, я законы знаю.
– Сам с собою говорю, ибо стих требует ясности.
– А ночью зачем дерзко вскрикиваешь?
– От восторга пиитического, княгинюшка.
– Ты эти восторги оставь. Не то быть тебе драну!
– Да за што драть-то меня, господи?
– Велю дворне своей тебя бить и на двор не пускать. Потому как ты мужчина опасный: на службу не ходишь, по ночам бумагами шуршишь, будто крыса худая, и…
Василий Кириллович, губу толстую закусив, смотрел в оконце. А там – белым-бело, трещит мороз чухонский, пух да пушок на деревьях. Завернула на первую линию карета – видать, в Кадетский корпус начальство проехало… Нет, сюда, сюда! Остановились.
– Матушка-княгинюшка, – сказал Тредиаковский, чтобы от бабы глупой отвязаться, – к вашей милости гости какие-то жалуют…
Барон Корф, волоча по ступеням тяжелые лисьи шубы, зубами стянул перчатку заледеневшую. Посмотрел на княгиню: щеки у ней – яблоками, брови насурмлены, вся она будто из караваев слеплена. И там у ней пышно. И здесь сдобно. А курдюк-то каков… Ах!
– Хотелось бы видеть, – сказал Корф, – знатного од слагателя и почтенного автора переложений с Поля Тальмана.
– Такие здесь не живут, – отвечала княгиня Троекурова. – И по всей первой линии даже похожих на такого не знаю.
– Как же! А поэт Василий Тредиаковский?..
– Он! – сказала Троекурова. – Такой, верно, имеется.
– Не занят ли? Каков? Горяч?
– Горяч – верно: заговариваться уже стал! А вот знатности в нем не видится. Исподнее сам в портомойне у меня стирает, а летом – на речку бегает…
– Мадам, – отвечал Корф учтиво, – великие люди всегда имеют странности. Поэт, по сути дела, это quinta essentia странностей…
Президента с поклонами провожали до дверей поэтического убежища. Тредиаковского барон застал за обедом. Поэт из горшка капусты кисленькой зацепит, голову запрокинет, в рот ему сами падают сочные лохмы…
– Простите, что обеспокоил, – начал любезный Корф (бедности стараясь не замечать, чтобы не оскорбить поэта). – Наслышан я, что от барона Кейзерлинга вы внимание уже имели… Над чем сейчас размышляете творчески?
– Размышляю, сударь, о чистоте языка российского, о новых законах поэтики и размера стихотворного. Наука о красноречии – элоквенция! – суть души моей непраздной…
– Типография в моих руках, – отвечал Корф, – отдам повеление печатать сразу, ибо все это необходимо!
Корф в сенях наказал княгине Троекуровой:
– Велите, сударыня, дров отпускать поэту, ибо у него собак можно морозить. Да шуршать и самому с собой разговаривать не мешайте. Ныне его шуршание будет оплачено в триста шестьдесят рублей в год. По рублю в день, княгиня! Он секретарь академический и меня российскому языку обучать станет…
Корф поэта с собою увез, в Академии Тредиаковский конвенцию о службе подписал. О языка русского очищении. О грамматики написании. О переводах с иноземного. И о прочем! А когда они уехали, дом княгини Троекуровой будто сразу перевернулся.
– Митька! Васька! Степка! – кричала княгиня. – Быстро комнаты мужа покойного освободить. Да перины стели – пышные. Да печи топи – жарче. Половик ему под ноги… Кувшин-рукомой да зеркало то, старенько, ему под рыло самое вешайте… О боженька! Откуда мне знать-то было, что о нем такие знатные особы пекутся?
Барахло поэта быстро в покои жаркие перекидали. Вернется секретарь домой – обалдеет. Княгиня даже запарилась. Но тут – бряк! – колоколец, и заекали сердца русские: ввалился хмельной Ванька Топильский из канцелярии Тайной, сразу кочевряжиться стал:
– Ну, толпа, принимай попа! Ныне я шумен, да умен… Мне, княгинюшка, твой жилец надобен – Василий, сын Кирилла Тредиаковского, что в городе Астрахани священнодействовал.
– Мамынька! Да его только што президент Корф забрал.
– Эва! – сказал кат Топильский (и с комодов что-то в карман себе положил). – С чего бы так? – спросил (и табакерочку с окна утащил). Огляделся: что бы еще свистнуть, и сказал: – Ныне жилец твой в подозрениях пребывает. И мне ихние превосходительства Ушаковы-генералы велели вызнать: по какому такому праву он титул ея величества писал – «императрикс?»
– Как? Как он титуловал нашу матушку пресветлую?
– «Императрикс»… Ну что, княгиня? Спужалась?
Троекурову от страха заколодило. А ну как и ее трепать учнут? Глаза она завела и отвернулась: пущай Топильский крадет что может, только б ее не тронул. Очнулась (Ваньки уж нет), затрепетала:
– Сенька! Мишка! Николашка! Где вы?.. Тащи все обратно в боковушку евонную. Сымай перины, да рукомой убери подале. И капусту, что выкинули на двор, поди снова в горшок ему упихачь обратно! Чтоб он подавился, треклятый! Я давно за ним неладное замечаю. Ныне вот и сказалось в титуле царском!..
Из Академии ехал поэт уже в казенной карете. Только не в академической, а в розыскной, от Ушакова за ним присланной.
– Ты што же это, каналья, – спросил его Ушаков, – титул ея императорского величества обозначил неверно? Мы ее зовем полностью в три слова (ваше императорское величество), а ты, сукин сын, одним словом, будто облаял ее… Императрикс-тыкс – и все тут. Сознавайся, на што титул государыни уронил?
– Каждый стих, – отвечал поэт, – имеет размер особливый, от другого стиха отличный. Слова «ея императорское величество» – это проза презренная. И три слова во едину строку никак не впихиваются. Потому-то и вставил я сюда кратчайшее слово «императрикс», высоты титула не роняя… Размер таков в стихе!
– Размер? – спросил Ушаков, не веря ему. – Чего ты мне плетешь тут? Ты размером не смущайся. Чем длиннее и красочнее титул обозначишь – тем больше славы тебе. А ныне вот, супостат ты окаянный, по милости твоей стихов любители из Костромы взяты. И драны. И пытаны… За то, что слово «императрикс» есть зазорно для ея величества! Какой еще такой размер придумал?
Опять стал рассказывать Тредиаковский «великому инквизитору» о законах стихосложения, о том, что при писании стихов слова не с потолка берутся, а трудом изыскиваются, что такое размер – объяснял, что такое рифма – тоже.
– Рифму знаю, – сказал Ушаков, внимательно все выслушав. – Рифма – это когда все складно получается. А насчет размера… Как бы тебе сказать? Изложи мне все письменно, к делу приложим.
Пришлось поэту писать подробное изъяснение:
«Первый самый стих песени, в котором положено слово „императрикс“, есть пентаметр. Слово сие есть самое подлинное латинское и значит точно во всей своей высокости „императрица“… Употребил я сие латинское слово для того, что мера стиха того требовала…»
Ушаков песочком изъяснение поэта присыпал.
– Ой, мудрено же пишешь, – удивился. – Ты проще будь, а не то мы тебя со свету сживем…
Пешком отправился поэт домой – на первую линию. Пуржило, колко секло лицо. Спиною к ветру оборотясь, шел Василий Кириллович, и было ему так горько, так обидно… хоть плачь! Он ли грамматики не составитель? Он ли од не слагатель? «Так что ж вы, люди, меня, будто собаку бездомную, рвете? Тому не так, этому не эдак. И любая гнида глупая учит, к а к мне писать надо…»
– Кого учите? – спросил поэт у ночной тишины.
Переходя Неву по льду, остановился над прорубью. Черный омут, страшный-престрашный, а в нем – звезд отраженье и небо.
Внемли, о небо! – Изреку, Земля да слышит уст глаголы: Как дождь, я словом протеку, И снидут, как роса, к цветку Мои вещания на долы…Глава одиннадцатая
Старики были мятые. Ветераны каторги. Их шихтой заваливало, их деревьями мяло, их в драках пьяных били друзья, и просто так – начальство секло. Теперь они тачку не возили. Прощай, дело рудное! Вокруг Екатеринбурга – вышки сторожевые. Вот они и торчали на вышках, сивобородые, недреманные. И тугоухо слушали вой лесной чащобы: не идет ли башкир с луком? И руки стариков караульщиков сжимали веревки колоколов…
Екатеринбург! Места гиблые. Когда пришли сюда, здесь туман плавал едучий. Лес брали штурмом, как берут шанцы крепостей. Трясло летом от дождей, пожирал людей гнус, а зимами стонала солдатская кость от лютости морозов. Не стерпели! Бросили все к бесу и ушли прочь. Остался в диком лесу один генерал де Геннин, мерз у костерка; обложился пистолями – от зверя и башкира. Нагнали тогда армию, секли беглецов и вешали, вернули из-под самого Тобольска обратно на Урал, чтобы Екатеринбург они достроили…
А теперь – глянь! – кабаки торгуют вином, сидят там люди добрые, мастера дела рудного, искатели, и меж собою судачат:
– Перво дело – дух. А дух тамо-тко е! Вышел я на речку и знак приметил. В лесу ямы издавна копаны. Не иначе, чудь белоглазая[25] уже работала там во времена прошлые.
На доски стола кабацкого из котомок бродяжьих падали куски – в блеске, в искрах, в жилах. И сдвигались над ними лохматые головы:
– Изгарь… медь… малахит… Золото!
– Цыц! Дух-от верной был, от земли так и прядало…
А вокруг – ночь и лес. Но здесь, в городе, людям уже все обыкло. И человек здесь – хозяин. Вокруг прудов-копанцев – фабрики и заводы. Шлепают в ночи водяные колеса, ухают молоты и мехи дышат. Под вальцами катится раскаленный пласт, облитый уксусом. Шипуче, горячо, смрадно… Выскочит из цеха горновой. Черной дыркой беззубого рта хватанет студеного воздуха, и – обратно.
– Засыпка! – кричит весело, и сыплется в печь руда.
Говорят здесь непонятные слова – шмельцер, фарфлауер, роштейн, – слова немецкие, пришлые. И тяжелонос Ванька Вырви Яйцо (сам из беглых), что сейчас тачку в шесть пудов катит, – зовется здесь «ауфтрайгер». А Николка Сисюк, ученик сопливый, – «грубенюнг»…
Грохот цехов не может победить тишины леса – жуткой и странной. Вглядываются в туман сторожа с вышек. Старые, они по ночам хлеб едят. Где зубом кусят, где десной отломят. Были когда-то и они молодыми: девкам проходу не давали, со штыком на шведа под Полтавой ходили, лес трещал, поваленный ими, медведей из берлог рогатиной поднимали. А теперь им одно осталось: «Слуша-а-ай!» – на черный лес покрикивать.
Такова печальная цепь жизни человеческой…
Чу! Брызнуло из-за леса огнями… факелы… шум… ржанье коней… Уж не башкиры ли? Нет, это катит на Екатеринбург новый начальник заводов, его высокопревосходительство Василь Никитич Татищев. Старики его хорошо помнят: он уже бывал в Сибири (тогда-то они и зубов при нем лишились). Однако не все бил – детишек отнимал и учил. «Хрен с ым, – думает страж, – дело господское!»
А на горе – дом с колоннами деревянными, и в окнах свет желтый, свечной – не лучинный. Там начальство высокое: генерал де Геннин дружески принимает Татищева, потчует Никитича домашними разносолами, по-русски говорит чисто:
– От тептерей и вогуличей подмоги тебе сыскать мочно. Ямы чудские, где во времена незапамятные руду добывали, они еще ведают. И греха таить нечего: мастеры немецкие при мне, стыдно сказать, ничего не нашли. А русский мужик – упрям и смел: он в черный лес идет с лозой, в рудах толк знает. Ты, Никитич, на них и уповай божией милостию. Беглых не обидь: потомству от сих беглых во времена будущие надлежит Сибирь поднять и освоить. А я уеду. Устал и состарился…
Де Геннин отбыл. Татищев взял круто: созвал горных промышленников и совет с ними держал, чтобы «Устав горный» коллегиально обсудить. Враг порчи языка русского, Василий Никитич упрямо Ектеринбург называл по-русски – Катеринском. «Сибирский Обер-Берг-Ампт» велел именовать «Канцелярией главного правления заводов сибирских». Чтобы рвение к службе в горнознатцах возбудить, Татищев чины горные к офицерским приравнял. Но и чуден он бывал иногда… С ревизией на Егошихинский медный завод приехал, чиновников собрал, на столе перед ними шахматы расставил.
– Умерли, – возвестил, – великие рыцари турниров шахматных: поп Иван Битка да Степан Вытащи! Более их не стало… Игра же сия – не карты сдуру шлепать. И не кости кидать – кому как выпадет. Тут разум побеждает, а ум изворотлив делается. Потому и наказываю: всем чинам горным каждодневно в шахматы сражаться, дабы в лени и пьянстве душами не закостенеть…
Скоро на Урале не стало от шахмат спасения. В кабаках, бывало, пьяный на пьяном лежит. А теперь все играют. Мальчишки из сучков уже не свистульки, а фигуры шахматные режут. По цехам, между засыпками, в часы обеденные, всюду видишь одно: доски расчерчены, короли да слоны движутся, свисают над досками головы патлатые. Бьются насмерть два рыцаря в турнире благородном: ауфтрайгер Ванька Вырви Яйцо с грубенюнгом Николкой Сисюком… А вокруг горят костры одичалые – текут по лесам люди беглые, гулящие да воровские. Иной раз заскакивали в города наездом тептери, вогулы да башкирцы мирные. Татищев велел таких наезжих хватать и крестить силком. Новокрещеным по пятачку давал. И сам в крестных отцах хаживал. Звериными тропами с дальних выселок и промыслов рудных везли солдаты в Екатеринбург детей. Бежали следом, волосы распустив, лица царапая, неутешные матери и бабки:
– Дитеночка мово отдайте! На што яму школа ваша? Ён ишо несмышленыш. Ой, горе мне, сирой! Ой, лишенько-то накатило…
В школах горных забивали детей насмерть. А кто выживает – тому в мастерах хаживать. Может и в чины офицерские выйти. Татищев охрип от криков, от ругани. От писания бумаг казенных перо натерло мозоль на пальце. «Народ к ученью палкой приучать, коли охотно того не желает!..» Далеко от Екатеринбурга уходили рудознатцы: иные возвращались с полными торбами образцов горных, а от иных и костей не сыщешь – навсегда пропадали, и леса молча смыкались за ними… навсегда, навсегда! Горы Рифейские – Пояс Каменный: Татищев их Уралом стал называть; заметил он, что звери и природа различны к востоку и к западу от Урала… «Вот, – решил он, – это, должно быть, и есть граница меж Европой и Азией».
Забрел как-то на огонек Бурцев, испросил чарочки.
– Согреши, Тимофей Матвеич, – отозвался Татищев охотно. – Да говори, каково в Нерчинске жилось тебе? Не обижал ли тебя губернатор иркутский Жолобов, за зверя лютого известный?
Бурцев пропустил через желтые зубы вино:
– Не! Жолобов меня не обижал. А вот от Егорки Столетова поношения я принимал по милости того самого Жолобова…
И рассказал: губернатор ссыльного пииту в рудник на Аргунь не гонит, кафтан ему подарил и шапку на пропитие кабацкое. И тот куролесит по Нерчинску с голытьбой катовской, шапкой Жолобова всюду хвастая…
– В церковь Егорку, – перекрестился Бурцев, – ведь не загнать. До того в безбожество уклонился, что в день тезоименитства ея величества… ну – никак! Хоть на аркане в храм его волоки!
– Не идет? – спросил Татищев, хитря.
– Уперся. Што мне короли да цари, говорит. Я, мол, и сам велик по дарованиям моим. А Жолобов, – бесхитростно поведал Бурцев, – тот иная статья: б а б ы, сказывал, городами не володеют. И от таких слов евонных, Василь Никитич, – печалился старый сибиряк, – я в большом тужении пребываю. Потому как Анна Иоанновна… тоже ведь баба!
– Эх, Матвеич, Матвеич, – понурился Татищев, – дурная башка твоя! Зачем ты мне «слово» сказал? Ведь я начальник здесь, и за мною – «дело». Могу ли умолчать, коли тобою донос сделан?
Бурцев от стола генерал-бергмейстера отпихнулся:
– Никитич! Да в уме ли ты? Разве я донос сделал? Я сказал тебе так – по приятельству… за чарочкой!
– Нет, Матвеич, мы этого дела так не оставим. Только я сам из инквизиции выпутался и вдругорядь бывать в ней не желаю…
– Да ничего я не говорил тебе… Ты сам пьян!
– Ты не говорил, да язык твой ляпнул… А я при дворе за вольнодумца слыву, и с меня спрос велик ныне! Ежели крамолу покрывать станем, то, гляди, как бы и нас с тобой не потянули…
Тимофей Бурцев, рудознатец и комиссар заводской, шапку поискал в сенях, нахлобучил ее до самых глаз и ушел, всхлипывая. А Татищев к столу присел и быстро застрочил:
«Вашему императорскому величеству всенижайше доношу… Сего декабря 6 дня, сидючи у меня ввечеру, разговаривал комиссар Бурцев со мною наедине о Нерчинских заводах… Есть-де тамо ссыльный Егор Столетов – совести дьявольской и самый злой человек… а паче того, видя, что вице-губернатор Жолобов обходился с ним дружески и дал ему денег 20 рублев…»
Наутро велел Татищев строить съезжую избу, в коей инструменты для пыток и огня приспособить. Хрущов Андрей Федорович (помощник Татищева) хмуро смотрел на этот новенький сруб.
– Никитич, – говорил, – на заводах и без твоей избы дыму много. На што люд сибирский тебе рвать? Он и без тебя весь рван-перерван – еще с России самой…
– Слово не воробей, – отвечал Татищев. – Вылетит – не поймаешь. Да и мне надобно оградить себя от козней придворных…
И зашагал Хрущов прочь с крыльца, бурча под нос себе:
– Оно и так, немцам на руку!
* * *
«Купание с райны» – не казнь, а мука людская. Райной зовется рея мачтовая. На страшной высоте, где паруса шумят, вяжут длинный канат. И канат тот под днищем корабля пропускают. Получается круг замкнутый, и в этот круг включают тело матросское. «Купание» началось… Медленно тянется канат от неба – к воде. Море все ближе, ближе. И вот уже вода сомкнулась. Плывет матрос под днищем корабля, ракушу спиной обдирая, а его продергивают на глубине рывками плавными. Прозелень воды разорвется над ним, глотнет он воздуха, а его уже наверх тянут – к райне. Потом второй круг следует. За вторым – третий. Коли умер матрос, захлебнувшись, его и мертвого продолжают крутить под корабельным килем…
К такому наказанию приговорили матросов с фрегата «Митау». А офицеров особо – «чрез расстреляние их пулями». Федор Иванович Соймонов навестил осужденных:
– Не бойтесь, ребятки. Прокурору флота российска, мне дана власть немалая. Я вас выручу, ибо знаю: вы в плен постыдный обманно попали… Ежели б ты, Петруша, – сказал он Дефремери, – не был французом, не так бы и придирались.
– Я честно служил флагу русскому, – отвечал Дефремери.
– Так-то оно так. Да поди ж ты… докажи теперь, что ты водку пьешь, а редькой закусываешь… А вот ты, Харитоша… – сказал он Лаптеву, – помнится мне, с Витусом Берингом ушел в экспедицию Дмитрий Лаптев… Кем он тебе приходится?
– Мы с ним братцы двоюродные, – понуро ответил Харитон.
– Вот бы и тебе, дураку, с ним уйти… Молод ишо, надо на дальних морях отечеству послужить, а потом уж в Питере отираться…
Случайно, сам того не желая, нос к носу столкнулся однажды флота прокурор с Волынским на улице; хотел было адмирал мимо пройти, вельможи не замечая, но Волынский руки широко распростер, будто обнять желал.
– Бежишь от меня, Федор Иваныч? – спросил ласково. – Ты погляди, как немцы дружно живут. Один с крючком, другой с петелькой. И так вот, один за другого цепляясь, карьер свой ловчайше делают. У нас же, у русских, радение оказывают лишь сородичам своим. А слово – русский! – для балбесов наших ничего уже не значит. Недаром как-то спросил я одного: из каких, мол, ты? А он ответил мне: из рассеянов, мол, свой корень вывожу.
– Верно говоришь, что мы не россияне, а рассеяны, – согласился Соймонов. – Единяться нам, русским, надо, то верно. Но меж нами, Артемий Петрович, разница… огромная! Я открыто борьбу веду. А ты Макиавеллевы способы изыскиваешь. Сам же ты, вроде Остермана подлого, плывешь каналами темными.
От такого упрека даже лоб покраснел у Волынского.
– Да я, ежели наверх взберусь, – похвалился он сгоряча, – так я Остермана и всех прочих пришлых с горушки-то скину!
– Может, и скинешь, – отвечал Соймонов. – Да ведь сам, заместо Остермана, и сядешь… Пусти. Не держи меня!
И прошел мимо, гордый. Волынский зубами скрипнул.
– Плохо ты меня знаешь, – крикнул вслед адмиралу. – Я даром словами не кидаюсь. Верю: быть мне наверху…
* * *
Под вечер, домой приходя, Татищев давал раздевать себя новокрещену – Тойгильде Жулякову: за переход в веру православную Василий Никитич ему ежедневно по копейке дарил.
– Ай, ай! – говорил Тойгильда. – Ты умная башка… Будет копейка – будет твой Тойгильда Исуське русскому молиться. Не будет копейка – шайтан лучше, шайтану кланяйся…
– За отступничество от веры православной, знаешь ли, что сожжем тебя на костре заживо?
Копейку получив, бежал новокрещен в кабак, покупал водки и водкой промывал гнойные глаза детишек своих. Дети кутятами слепыми в него тыкались, пищали. От водки глаза у них открывались трахомные – смотрели они на отца, его радуя…
Под вечер просвистели лыжи под окнами. Вошел в канцелярию вогул крещеный Чюмин, долго глядел на Татищева с порога.
– Твой генерал будешь? – спросил, на пол садясь.
– Ну, я… Так что? Или россыпи тайные знаешь? Или ямы чудские приметил? Говори – я тебе пять копеек дам.
– Дай рупь, – попросил Чюмин.
– Было бы за што рупь давать. За рупь мне целую гору железа или золото укажи… Тогда – дам!
Чюмин еще табаку просил, еще чаю просил:
– Знаю гору, вся гора из железа… Вся, вся!
…Ботфорты Татищева, подбитые стальными подковками, даже прилипали к горе. С вершины на сто верст (а может, и более) видны были окрестности. Руда из нутра горы столбами кверху выпирала. Отбил кусок, искрами брызнул железняк магнитный. Даже не верилось – чудо! Неужто вся гора сплошь из железа? На проверку так и выходило… Веками греби ее лопатой – никогда не исчерпаешь! Внизу карабкались по склонам штейгеры…
– Эге-ге-гей! – кричал им Татищев с вершины.
Гору эту, чудо природы уральской, он нарек именем Благодать (в честь царицы: Анна – благодать). И перед Анной Иоанновной он письменно хвастал: «…назвали мы оную гору Благодатью, ибо такое великое сокровище на счастие вашего величества по благодати божией открылось, тем же и вашего величества имя в ней в бессмертность славиться может…»
А на самой вершине Благодати рабочие вскоре нашли снегом занесенный труп человека с веревкой на шее… Татищев так и отпрянул от мертвеца: перед ним лежал вогул-новокрещен Степан Чюмин, и рубль в одеждах его оказался не истрачен. Убили его сами вогулы: заводская каторга гнала народы местные дальше, в леса непроходимые, на рубежи тундряные, к самому Березову…
Это была месть!
В далеком Петербурге граф Бирен сказал генерал-берг-директору фон Шембергу, из Саксонии прибывшему:
– Много ли мне нужно? Мне хватит и одной Благодати…
Глава двенадцатая
Шатались люди и – шли, шли, шли… Шли они против солнца и посолонь. Дул им сиверко в спину, и встречь ветру они шли тоже. Бежала Русь… расширялась Русь! Из горбыля березового соху новую мастерили наспех. И вонзала ее в землю пустошную, в землю ничейную. Широк простор! И – никого, только мы, хлебопашцы вольные, из России (в Россию же!) бежавшие от тягот разных…
Два года подряд навещал страну неурожай. Замученную поборами Русь выедал изнутри голод.
В городах не стало житья от нищего люда. На дорогах не проехать от разбоя великого… Чтобы спасти народ от вымирания, Анисим Маслов настоял на открытии хлебных магазинов для бедняков. Вот и на Москве такой магазин открыли. Естественно, бедные и голодные так и кинулись туда с торбами…
Послушал потом Волынский, как обер-прокурор в Сенате воюет, как трясет он там вельмож разных, как помещикам инквизицией угрожает, и даже притих. Долго думал и Маслова однажды тишком ущипнул за локоть.
– Анисим Ляксандрыч, – шепотком сказал (а у самого в глазах бесенята прыгали), – мы с тобою в дружках никогда не бывали. Всяк из нас в свою масть идет, до своей конюшни бежит резво. А скажу тебе, однако, по совести: стерегись за слова свои лиходейства вельможного… Уж больно ты горяч! Смотри, как бы тебя на зуб не положили да не щелкнули…
– Нет! – отвечал ему Маслов с гневом. – Это не я стеречься должен, пущай меня стерегутся. И тебе, Петрович, меня тоже бояться!
Волынский даже не обиделся, ибо каждый день жизни своей проводил ныне в праздниках. За участие в штурме Гданска Волынского отличили при дворе – дали ему чин генерал-лейтенанта. А под новый год Анна Иоанновна отвела Артемию Петровичу место в Петербурге под домостроение. Место было прекрасное, по соседству с графом Биреном, рядом бегут Конюшенные проулки к манежам, соседне Мойка течет, – так что по весне можно гондолою плыть куда пожелаешь…[26] Не успел с этой радостью свыкнуться, как его новая радость нагнала.
– Быть тебе, – велела Анна Иоанновна, – в моих генерал-адъютантах и службу нести при дворе моем исправно…
Волынский от покоя душевного даже телом полнеть стал. Лошади возили его цугом, сами каурые, а вальтрапы на спинах их золотые с гербами… Хорошо ему! Но временами и худо было – от тоски. Доколе кобыл случать? Доколе спиной гнуться? Пора бы уже заявиться во всей красе разума своего. Да не в Сенат (пускай там старики покашливают), а – прямо в Кабинет императрицы, где один Остерман за всю Россию дела вершит.
В эти дни сошелся Волынский с Иогашкой Эйхлером и Жаном де ла Суда – оба они при Остермане своими людьми считались. Люди они не знатные, но вполне разумные, и оба дружно Остермана презирали. Де ла Суда был образован и изящен, как истый француз, в языках докою был – от гишпанского до итальянского ведал.
– А депеши посольские, – выпытывал у него Волынский, – кто из шифров в слова составляет?
– Шифрами ведает лично Остерман, никому этого не доверяя. Иной раз заходит к нему Бреверн, но вице-канцлер и ему не верит. Он есть диктатор в политике русской, все делает на свой лад. Вот и сейчас русский корпус Ласси на Рейн загнали…
– Что деется? – рассуждал Волынский. – Куда на Руси не шагнешь, везде в Остермана, как в дерьмо, наступишь. И вонища округ такая – хоть святых выноси… А вы, сударики, меня не бойтесь. Я шумен бываю, верно. Но язык мой – не враг мне: пустое треплет, а нужное бережет, – утешал он Эйхлера и де ла Суда…
Он знал: при Остермане «сударикам» худо живется, и стал не спеша перетягивать их на свою сторону – на русскую, своими конфидентами их делал. Чтобы они в него поверили, чтобы Остермана они ему с потрохами предали. И в этом успевал…
А в одну из ночей, таясь часовых, неизвестный патриот подкинул к дверям Зимнего дворца проект «О экономических и промышленных нуждах России». Утром лакеи дворцовые случайно нашли эту рукопись и передали императрице. Анна Иоанновна таинственный проект этот перекинула из комнат своих в Кабинет и велела:
– Обсудить в генеральном собрании министрами и выборными, коих я назначу. И проекты всем им писать о том, как привесть империю мою в дивное благосостояние!
В число лиц, допущенных до писания проектов, попал и Артемий Петрович Волынский. На радостях он Кубанца своего целовал и говорил рабу верному слова такие – слова горячие:
– Базиль! Рожа твоя калмыцкая, чуешь ли? Теперь господин твой не мальчик уже, а муж государственный…
* * *
Вот уже много зим прошло, как Остерман не выходил из комнат своих – жарких, прокаленных и смрадных. Весь обложен подушками, в засаленных халатах, вице-канцлер империи лишь изредка выезжал во дворец. Тогда его заворачивали в шубы и одеяла. Он не дышал, боясь глотнуть русского ядреного морозца. Кабинетного министра империи клали в карету, простеганную изнутри мехами и ватой, и везли… В слюдяных окошках желтым казался снег, бежали желтые бабы, в громадной муфте покоились желтые руки вице-канцлера. А на штопаные кружева сыпалась желтая восковая пудра.
Сегодня Остерман сказал де ла Суда:
– Милый Жан, стерегитесь Волынского, я знаю, что вы у него бываете. И… обещаю вам следующий чин!
А вот Иоганну Эйхлеру он посоветовал другое:
– Продолжайте и далее, мой друг, посещать Волынского. Я буду рад, ежели вы передадите мне его тайные мысли. И… обещаю вам следующий чин!
Писание проекта застало Остермана врасплох. Конечно, можно начертать бумагу – столь туманную, что никто не поймет. А чтобы дурь свою не показать, все будут восклицать: «Великий Остерман!» Но сейчас проект станет читать сама Анна Иоанновна, и она сразу спросит: «А прибыль где?..» Правда, есть проверенный способ избежать писания любых проектов. Для этого надо натереть лицо сушеными фигами, вызвать врача, и пусть все знают – великий Остерман снова помирает. Однако этот способ – крайность: «Болезнь и смерть мою прибережем!»
Андрей Иванович Остерман понимал – ему грозит конкурс, и надо всех противников затмить своим разумом.
Перед свечой, с пером в руке, Остерман натужно вспоминал все, что знал. Он вспоминал Россию, какую видел изредка, – она вся желтая, желтый снег, желтые бабы несут кувшины с желтым молоком. Что написать? Конечно, он напишет. Лучше всех! Ему ли не справиться? Кто велик и славен? Он, Андрей Иваныч, а точнее: Герман Иоганн Фридрих Остерман, студиоз иенский, теософию изучавший… «О молодость! – невольно завздыхалось в тишине. – Где ты, моя молодость?»
– Страх божий, – произнес Остерман во мрак перед собой. – Этот страх и ея величество одобрит. А что еще может спасти Россию от вымирания? Вот и любовь к правосудию в народе русском… верно! И милосердие судей наших… Государыня сие одобрит!
Эти мысли он вставил в проект – как самые главные.
Опять же порядок в движении казенной бумаги. Каждую бумажку надобно нумеровать. А чтобы уголки не загибались, ее надо бережно в папочку особую вкладывать. Клей употреблять вишневый – от него пятен не остается. Бюрократиус – мать порядка! От сохранности бумаги казенной благосостояние России сразу возрастет и народы русские станут благоденствовать… И все это он аккуратно изложил – великий Остерман в своем великом проекте!
Желтое пламя свечи плясало перед ним, чадя желтым угаром.
«А еще-то что? – мучился Остерман. – Может, о подношениях? Справедливо. Подношения начальству от низших чинов надобно принимать. От этого возникают добрые отношения в канцеляриях… Пожалуй, и этот пункт государыня одобрит!»
И он записал – о подношениях (сиречь о взятках): благосостояние России находилось уже на верном пути. Еще немного, казалось, еще одно напряжение ума, скрытого под пышным париком, и… «Этого мало, – думал Остерман. – Государыне нужна прибыль!»
«Вот! – осенило вдруг его. – Тульские ружья надобно продавать за рубежи. От сего великая прибыль в доходах казенных предвидится. Политика экономии государственной сразу возрастет…»
Утром он передал проект Эйхлеру с наказом перебелить его.
– А что делает Волынский? – спросил, между прочим.
– Волынский пишет проект о благосостоянии России.
– Куда ему! – засмеялся Остерман, покривясь. – Лошадник, вор и бабник… горлопан! Где ему, дураку, написать?
* * *
Волынский сочинял свой проект на… кухне! Кубанец втащил на кухню два мешка. В каждом мешке – точно – было отмеряно по пуду зерна. Сообща они нагнали из одного пуда вина злого, хлебного. Из другого пуда намололи муки на ручном жернове. Кафтаны скинув, работали яростно. И потом из муки этой, фартуки повязав, испекли они хлебные караваи. Сложили все это добро на столе: светилась в бутыли водка хмельная, горой высились золотистые вкусные хлеба.
И, стол оглядев, почесался Волынский.
– Опыт сей, – рассудил он, – весьма и весьма показателен для нищеты нашей. Ну, Базиль, а теперь мне писать надо…
Хорошо писал. Могуче. Легко. У него был опыт жизни, опыт горький и сладкий – когда как! Посол в странах восточных, губернатор земель Астраханских и Казанских, Волынский немало повидал на своем веку. И от тяжелого и стыдного глаз не отворачивал. Смолоду нищим был, теперь помещик богатый, ведал Артемий Петрович – чем и мужик живет. Полба да полова, квасы да капустки – не раз им едались. Писал Волынский проект свой наскоро. Летели вкось брызги чернильные. Листы отметал он в сторону, стремглав исписанные…
– Горячей, – приговаривал, – горячей писать надо, чтобы жалилось и жглось! Дабы проняло сирых разумом… Мне ли не знать нужд отечества, сердцу моему любезного?
Вот и день настал, для Волынского день великий, – оглашение сочиненных проектов. «Как Россию привесть в благосостояние?»… Подтянулся он, кафтан надел светло-гороховый, платок шейный подвзбил попышнее, выбрит был и напудрен… Красавец мужчина! Туфлей нарядной вступил через порог мечтаний своих – вступил в Кабинет ея императорского величества. Сидели там авторы проектов: сам Остерман, конечно; князь Александр Куракин, горький пьяница и человек характера злодейского; граф Михайла Головкин, сын покойного канцлера… Рядом с ними уселся и Волынский.
Куракин сразу же подлость ему придумал.
– А что, Артемий Петрович, – спрашивал. – Платки шейные туго ли вяжешь? Дабы заранее к петле притерпеться? Или… как?
– Постороннего плодить не пристало, князь, – отвечал Волынский угрюмо. – Собрались для дела важного, касаемо нужд отечества, погибающего в нищете. А шутки бабам-молодицам оставь.
– Александр Борисыч, – сказал вдруг Остерман князю Куракину, – ай-ай… нехорошо! К чему обижать патриота истинного?
Иогашка Эйхлер глазом Волынскому знак сделал. Но к чему – не догадался Артемий Петрович и понял так, что здесь всего ему надо стеречься. На столе же перед ним поднос стоял, салфеткой крытый, что там было под салфеткой – всех интриговало ужасно. Хотели вельможи открыть и посмотреть.
– Нельзя! – говорил им Волынский. – Потом узнаете…
Вбежала в покои Кабинета остроносая собачонка. За нею, платьями шурша, императрица явилась. Поклон господам министрам учинив, села Анна Иоанновна на пышную кровать, для нее ставленную, и, подушки под собой распихав, сказала вельможам:
– С вас – спрос… Ну, с богом!
Волынский краем уха чужие проекты слушал. Молол что-то князь Куракин о ясаке и обидах да чтобы беглых с заводов обратно к помещикам забирать. Это понятно: у него мужиков много бежало, – замысел тут корыстный. Потом граф Головкин речь держал… От обилия слов туманных заскучнела Анна Иоанновна и, в кулак зевнув, прилегла. Шлепнулись на пол ее атласные туфли.
– Не-не! – сказала. – Это я так просто… Ишо не сплю!
Волынский слушал кабинетных, потаенно размышляя: «Вот оно – чистилище знатное, где машина правления всей России подпольно движется. Неужто я не возьмусь за это колесо да не разверну машину куда надобно? Ой, господи, образумь ты меня… Никак я опять забрал паче меры ума своего?»
– Петрович, – дремотно позвала Анна, – теперь ты скажи!
Встал Волынский и ощутил легкость в теле.
– Что писано у меня на бумаге, – сказал, – того честь не стану. У всех глаза имеются: сами потом прочтут. Позволь, великая государыня, словом живым описать непорядок наш… Государство наше лыково! Одни лишь мужики хлеб садят. Иные же, словно мыши, грызут его и взамен хлебу ничего не дают мужику для хозяйства нужного. Оттого, ведаю, и заводится нищета обычаем экономическим. Оттого же, от нищеты, и неправда растет… Много поездил я по дорогам худым, – возвысил голос Волынский. – Для удобства дорожного ландкарты надобны. Для экономии опять же, для политики! Почто Иван Кирилов, патриот разумный, на свои денежки Атлас печатал? У него еще два тома лежат – впусте. Почто Кабинет и высокие министры заботы не имеют, дабы атласы в свет поскоряе вышли? Рази можно государством таким, как наше, управлять разумно без знания географии страны своей? Николи нельзя… Мы говорим – Астрахань, а ведаем ли, какие пути туда ведут? Говорим – Нерчинск, а что мы знаем о нем, кроме того, что там – каторга?
Артемий Петрович и сам чуял, что речь его хороша, – глаза Анны Иоанновны оживились, дрему она с себя уже стряхнула, слушала внимательно…
– …мужика беглого трогать нельзя! – продолжал Волынский, на Куракина глянув. – Где сел – там и оставить его. Пущай пашет и кормится. Сытый мужик да баба в сытости, – глядишь, они новых хлебопашцев породят вскоре для нужд экономических. Вся сила России – в мужике! От земледельства происходит главный доход государства нашего. И так я мыслю: коли бежал мужик от князя Куракина – знать, ему худо было у князя Куракина. А на новом месте ему горазд лучше. А что мы с мужиком беглым делаем? Берем его за бороду и, вконец разорив, в цепях на худое место обратно же гоним. Живи там, где жил. А то место, за хозяина отсутствием, уже подурнело. Иной раз и леском заросло. Выходит, опять пашню подымай заново? А – чем? Кобылка – где? Сошка – где? Мы же у него все отняли… Вот и спрашиваю вас, господа высокие: льзя ли тако с народом обращаться? Нет, – чеканил Волынский, – нельзя! Грешно Россию с двух титек сразу сосать, да еще третью у ней, у бедной, требовать.
Анна Иоанновна ноги с постели скинула, почесала пятку, и собачонка к ней запрыгнула.
– Не горячись, Петрович, – сказала. – Тише едешь – дальше будешь. Во всем поспешать не надобно…
Волынский далее говорил – о заселении краев южных, где Новой России быть, и опять о ландкартах речь повел, о том, что в экономии русской не только взять, но иной раз и дать надо: потомству откупиться, нельзя единым днем жить – только дураки одним днем проживают!
– Сначала, – рассуждал дельно, – надобно возможное примерить на все лады, а потом требовать. А то, по-нашему, так выходит: дай, говорим мужику, с земли своей полтину в год. А земля тамошняя на гривенник родит. Сорок копеек долгу камнем виснут на хлеборобе. А след год уже с ножом к горлу лезем: дай полтину, да еще сорок копеек за прошлый год. Где взять? Мужик – в слезах. Чуть ночка стемнеет, лапти в руки – и пошел куда глаза глядят. Вот вам и убыток в хозяйстве российском! Оттого и говорю, что политика экономическая есть фундамент богатства и бедности народа нашего…
В азарт войдя, сорвал Волынский салфетку с подноса, и все увидели: стоят там чарки с водкой и лежат пять караваев – в румяных корках, испечены на диво искусно.
– Пункт пятый мнения моего. Вот он!
Тут все зубоскалить начали, издевки над ним строить. Хохотала и Анна Иоанновна, но Волынский был мужик не промах – он не смутился от смеха глупого. Он знал, чем угодить.
– Ваше императорское величество, – сказал он, – завсегда рад бокал выпить за здоровье ваше…
И, выпив, корочкой занюхал. Стало ему совсем легко.
– Теперь, – заявил Волынский, – дело по этому пункту… О винокурении и отраве винной! Видели вы, господа высокие, как я чарку сглотнул махом за здоровье ея величества?.. То мною пять хлебов зараз выпито! Я такой опыт произвел: из равных мер хлеба вина пересидел и караваи испек. И на каждую чарку у меня по караваю хлеба пришлось. Вот и разумейте: пьяница чарку выпил – знать, кого-то в отечестве хлеба на четыре дня лишил. Но что пьянице одна чарка? Ему вторую надобно… Вот он еще каравай хлеба съел! Давай теперь ему третью, скотине! Глядишь, в один день он, ничего не работая, у многих тружеников плоды труда ихнего отнял… Вот и утверждаю: водка – яд! И не токмо разум затмевающа, но и экономии государства нашего вредяща ужасно…
– А ты умен, бес! – похвалила его Анна и Остерману велела: – Ну, теперь ты, Андрей Иваныч, расскажи нам с высоты разумения своего, каким способом Россию в благосостояние привести?
Императрице с грустью отвечал Остерман:
– Писано тут мною… О бумаги бережении! Страх божий в сердца подданных вселять ежечасно… Опять же вот и ружья курковые, коли в Туле у нас производят… Их, я мыслю, продать можно подороже. Такоже и судьи вашего величества… от них в судах наших порядки большие предвидятся, ежели взятки брать станут открыто…
И вдруг затих: он понял, что потерпел поражение.
Из-под зеленого козырька, скатывая пудру, вытекли две громадные слезищи. Впервые в жизни Остерман плакал бесхитростно – от души. Глубоко страдая… На этот раз он плакал непритворно!
* * *
Вот когда началась схватка. Не на жизнь, а на смерть! Если хочешь выжить – убей Волынского: механик опытный, с рукою сильною, он за колесо ухватился и тянет машину Остерманову в иную сторону. Убить его! Распять его! Ибо – умен. Ибо – настырен. Ибо – до власти жаден и неспокоен… Вперед на врага! И боевая колесница Остермана вкатилась в покои императрицы.
Сказал твердо, заведомо зная, что его слово – закон:
– По смерти великого канцлера Головкина, на место упалое никак нельзя Волынскому в Кабинет входить, яко вору и смутьяну… Един есть претендент на это место – Ягужинский граф, коего, мыслю, из Берлина надобно срочно вызвать…
Острие пики Остермана было нацелено и в Бирена. Даром, что ли, Пашка кафтан ему шпагою распорол? Анна Иоанновна посоветовалась с обер-камергером, и Бирен кандидатуру Ягужинского поддержал. Но думал уже совсем иначе: «Ягужинский-то Остермана изничтожит…» Каждый по-разному, но целил на «самобытство» Ягужинского.
– А кого же в Берлин ставить? – спросила Анна Иоанновна.
– Ваше величество, – отвечал Остерман, – пора фон Браккеля карьерно выдвигать, яко человека вам верного…
– Хо! – сказал Бирен, смеясь. – Это славно придумано: все подлецы отлично уживаются в Берлине… Пусть Ягужинский едет к нам – в Петербург!
«А я его, – думал Остерман, – под столом здесь, будто собаку, держать стану… Конъюнктуры, судари мои, опять конъюнктуры!»
* * *
В эти дни Артемий Петрович жил, как во сне сладком. По домам ездил, проект свой читал. Хвалился:
– Это мнение – начало, судари. Я буду сочинять и далее, дабы отечеству нашему пользу принесть. И не может так статься, чтобы пользы народу от меня не было…
Волынский-то – вот дурачок! Разбежался в двери Кабинета, как министр. Но тут его встретил Иогашка Эйхлер:
– Артемий Петрович, вас до Кабинета допускать не велено. Остерман слово взял с ея величества, что вашей ноги здесь не будет. И зовут для приобщения к делам тайным из Берлина вашего врага старого – графа Павла Ягужинского.
– Пашку-то? – пошатнуло Волынского. – Это они ловко придумали. Плывут каналами темными, дьявольскими…
Кинулся Волынский за подмогой к графу Бирену:
– Ваше сиятельство, не дайте погибнуть… Остерман с Ягужинским давно по шее моей тоскуют!
– Мой нежный друг, – ответил ему Бирен. – Я ведь только обер-камергер… что я могу сделать? Я сам изнемогаю от этого проклятого вестфальского недоучки!
– Но Пашка… Пашка! – терзался Волынский. – Эта каналья давно до шеи моей добирается!
– Э-э-э, – ответил Бирен спокойно. – До вашей ли ему теперь шеи, если своя искривлена? Успокойтесь…
Выбежал Волынский на Мойку-речку да под откос – прямо к проруби. Волочились по снегу тяжелые шубы собольи. Плакал с горя, баб у портомойни не стыдясь, и в лицо себе ледяной водицею брызгал. Нехорошо ругался – матерно, будто мужик сиволапый.
– Базиль, Базиль! – позвал издали. – Подгони карету сюды…
Кубанец тоже скатился на речной лед, спрашивал:
– Господине мой добрый, кто обидел тебя?
– Я ли не старался? Я ли не говорил им доказательно и политично, каково Русь из нищеты вызволять? А они, гниды простоволосы, меня отшибли… И теперича зовут из Берлину на место упалое Пашку Ягужинского! А князь Куракин, злодей мой, тоже на шею показывает: мол, ссекут башку! О, горе мне, Базиль… горе! Поддержи хоть ты меня, раб мой верный… раб нелукавый!
И на груди раба своего, калмыка умного, рыдал Волынский посреди Мойки-реки, у самой проруби, возле портомоен дворцовых, где полоскали белье бабы пригожие, бабы веселые.
Эпилог
А городишко Саранск (губернии Казанской) – пески желтые, башни старые, вагоны козьи, лужи поросячьи – совсем захирел, порушенный в нищете и безмолвии. Спасибо зиме: прикрыла сугробами стлань крышную – теплее обывателям стало.
Под вечер, когда загнело Саранск поземкою, тихо стало в мире да моркотенько, вышел кузнец с поповским сыном Семеном Кононовым. И несли они бережно на себе чудеса какие-то… И попович крылья на могучие плечи кузнеца подвязал, перекрестил его и говорил:
– Уж ты, Севастьяныч, не выдавай. Лети, милок, не падая!
– А ты тоже не выдай, Сенька: коли угроблюсь, твой черед лететь за мною…
Под свист ветра, что тянул из-за леса, поднялся кузнец на колоколенку. Во страх-то где! Попович внизу кричит и руками машет… А чего кричать, коли уже обратной дороги не стало… Лететь так лететь! Хватит, уже походили по земле…
Встал кузнец на хрусткую крышицу, сказал:
– Господи, да неужто одним лишь ангелам твоим?..
И бросил себя вниз!
…Долго оттирал попович ему лицо снегом, отмывал черную грудь кузнеца от крови:
– Севастьяныч, да вить оно в самый раз! Нешто же не летел! Ведь было… Летел ты, милый! Потом скувырнулся и крыльями забрыкался. Миленький, да встанешь ли? Иль мне лететь черед?
Разлепил кузнец один глаз, снегом запорошенный.
– Не все ангелам, – сказал, – надо и людям! Погоди, Сенька: воспарим мы с тобой ишо. Все выше да выше! Унесет нас за леса к матери чертовой! И от небес самых напужаем мы всю Россию…
– Так, миленькой, так! Воистину говоришь ты…
Конец первой книги
Примечания
1
Камеральные науки – науки о государственных доходах. (Здесь и далее – прим. автора.)
(обратно)2
С. А. Салтыков (1672–1742) – родич Анны Иоанновны, мать которой была из рода Салтыковых; женат на Ф. И. Волынской, тетке адресата; отсюда и приязнь Салтыкова к А. П. Волынскому.
(обратно)3
Низ, Низовой корпус, Низовая служба – в областях, отвоеванных Петром I у Персии на Каспийском море, находились русские войска, которые спускались к месту службы в н и з по Волге (отсюда происходит и название).
(обратно)4
Впоследствии император Петр III (1728–1762), женатый на Екатерине II.
(обратно)5
Впоследствии Анна Леопольдовна (1718–1746), правительница Российской империи, умерла в заточении в Холмогорах.
(обратно)6
Фердинанд (ум. в 1737 г., герцог Курляндский) – приходился родным дядей герцогу Фридриху (ум. в 1711 г.), который был женат на русской царевне Анне Иоанновне. Герцог Фердинанд находился во вражде с курляндским дворянством и постоянно проживал вдали от Митавы – в Данциге, управляя Курляндией лишь номинально.
(обратно)7
Село Всесвятское находилось неподалеку от нынешней станции Московского метро «Сокол»; в описываемое время в этом селе находился дворец грузинского царя Арчила.
(обратно)8
Пора проталкивать себя в мир (фр.).
(обратно)9
Количество сторонников самодержавия, собравшихся в Кремлевском дворце, источники определяют по-разному: от 150 до 800 человек; некоторые говорят, что их было более 1000.
(обратно)10
Сослав Долгоруких, Анна Иоанновна приписала на себя сразу 25 000 крепостных душ (для сравнения напомним, что Петр I имел как помещик всего 800 крепостных душ).
(обратно)11
Котлы – родина Ореста Кипренского; ныне колхоз имени Г. Димитрова Кингисеппского района близ Ленинграда.
(обратно)12
Венден – ныне город Цесис, районный центр Латвийской ССР; в прошлом – старинная резиденция Ордена меченосцев.
(обратно)13
Напоминаю читателю, что Р. Левенвольде состоял платным шпионом Пруссии при русском правительстве.
(обратно)14
В. В. Долгорукий (1667–1746) – принадлежал к старобоярской партии, был врагом крутых реформ Петра I, за связь с царевичем Алексеем в 1718 г. поплатился ссылкой, генерал-фельдмаршал с 1728 г.; несмотря на консерватизм, был честным патриотом и храбрым воином. Советская историография высоко оценивает его боевые заслуги. В царствование Елизаветы князь В. В. Долгорукий, уже глубоким стариком, возглавлял Военную коллегию, и ему пришлось, после засилия немцев, заново восстанавливать армию на русских началах.
(обратно)15
В разговорной речи XVIII века Шлиссельбург, город и крепость, назывались Шлюшином.
(обратно)16
Именно за эти «горячительные» стихи Е. М. Столетов и был сослан при Петре I на каторжные работы в Рогервик, камергер же В. Монс поплатился своей головой.
(обратно)17
Пернов (ныне Пярну, город в Эстонии) – расположен в Рижском заливе на берегу Балтийского моря.
(обратно)18
Образ А.П. Ганнибала давно привлекал внимание историков именно тем, что пушкинский «арап Петра Великого» очень далек от подлинного Ганнибала. В 1937 г., к 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина, в советской печати были опубликованы материалы, которые подтверждают сложившееся еще раньше мнение историков о том, что гениальный правнук слишком идеализировал своего прадеда.
(обратно)19
Усадьба Р. Левенвольде находилась на месте нынешнего Ленинградского педагогического института имени Герцена; от тех времен остались некоторые деревья и аллея, ведущая к подъезду института.
(обратно)20
С. К. Нарышкин (1710–1775) в эмиграции скрывался под именем Тенкина. Впоследствии был видным дипломатом, известен дружескими отношениями с Дидро и Вольтером; организатор первого в России рогового оркестра; после ссылки А. Шубина был тайно обручен с царевной Елизаветой Петровной.
(обратно)21
Г. С. Балакирев является предком знаменитого русского композитора Милия Алексеевича Балакирева.
(обратно)22
Масонские выражения: венерабль – почтенный (в обращении); метр – мастер масонской ложи; профан – человек, не знакомый с таинствами масонства, или ученик масонской ложи; градусом в ложе называется степень познания секретов таинства. В разговоре между собой масоны называли себя «вольными каменщиками».
(обратно)23
Лучше гибель, чем разногласия (лат.).
(обратно)24
Ныне улица Льва Толстого на Петроградской стороне Лениграда; усадьба подворья Феофана Прокоповича находилась вблизи современной больницы имени Ф. Ф. Эрисмана.
(обратно)25
Чудью белоглазой назывались на Руси племена финно-угорской группы, населявшие когда-то северные края России.
(обратно)26
От этого дома и переулок получил название Волынского переулка, сохраняя название до наших дней (более 200 лет). Дом А. П. Волынского находился невдалеке от нынешнего здания ДЛТ.
(обратно)



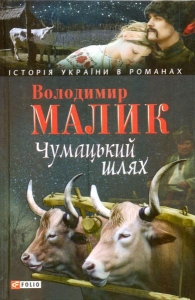

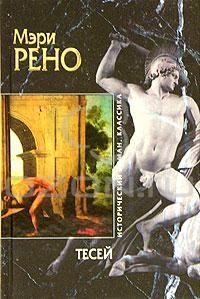
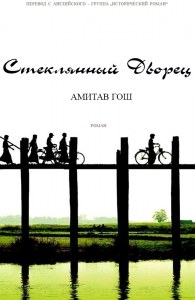
Комментарии к книге «Слово и дело. Книга 1. Царица престрашного зраку», Валентин Пикуль
Всего 0 комментариев