Валентин Пикуль Каторга
Часть первая Негативы
Издалека вели сюда —
Кого приказ,
Кого заслуга,
Кого мечта,
Кого беда…
Ал. ТвардовскийЗаочно приговорен к смерти
Пролог первой части
Я свободен, и в этом – мое великое счастье…
Никто не принуждает автора выбирать себе героя – хорошего или плохого. Автор вправе сам сложить его, как мозаику, из красочных частиц добра и зла. На этот раз меня увлекает даже не герой, а то страшное переходное время, в котором он устраивал свое бытие, наполненное страданиями и радостями, внезапной любовью и звериной ненавистью.
Наверное, герой понадобился мне именно таким, каким однажды явился предо мною, и мне часто делалось жутко, когда он хищно вглядывался в меня через решетки тюрем своими желтыми глазами, то пугал меня, то очаровывал…
Порою мне хотелось спросить его:
– Кто ты? Откуда пришел? И куда уводишь меня?
Но сначала нам придется побывать в Лодзи.
* * *
Это был «привислянский Манчестер», столица ткацкого дела, ниток, текстиля и тесемок, где в удушливой паутине фабричной пряжи люди часто болели и очень рано умирали. Недаром в пивницах Лодзи любили поминать мертвых:
Эх, пойду я к дедам в гости, Жбанчик водки на погосте Выпью, где лежат их кости, И – поплачу там…Лодзь входила в XX век как самый богатый и самый грязный город Российской империи: фабрики отравляли людей дымом и копотью, они изгадили воду в реках и окрестных озерах. Трудовой люд копошился в окраинных трущобах, где не было даже зачатков канализации, перед будками уборных выстраивались по вечерам дрожащие от холода очереди. Зато в этом городе сказочно богатели текстильные короли, а на Петроковской до утра шумели кафе-шантаны с доступными женщинами, полураздетые красотки брали по сотне рублей только за интимную беседу с клиентом. Здесь же, на Петроковской, в царстве золота и пороков, неслыханных прибылей и расточительства, высились монолитные форты банков, в которых размещали свои фонды капиталисты Варшавы, Берлина и Петербурга…
Стачки лодзинских ткачей уже вошли в историю революционной борьбы – как самые кровавые, полиция Царства Польского жестоко усмиряла бастующих. В подполье работала «Польская социалистическая партия» (ППС), к центру которой примыкал тогда и Юзеф Пилсудский, будущий диктатор Польши, который силился разорвать революционные связи русских и поляков. На самой грани нашего столетия в ППС появилось левацкое крыло «молодых», заявивших о себе отважными «боевками», где все решала пальба из браунингов, дерзкие экспроприации (сейчас таких людей называли бы «экстремистами»).
Был холодный ветреный день, домовые водостоки низвергали на панели буруны дождевой воды. В цукерне пани Владковской почти на весь день задержался молодой человек. Под вечер он щедро расплатился с лакеем и, еще раз глянув в окно, в котором виднелась громадина Коммерческого банка, вышел на Петроковскую – под шумный ливень. Раскрыв над собою зонтик, он проследовал в соседнюю цирюльню пана Цезаря Гавенчика, где был телефон. Приглушенным голосом им было сказано:
– Инженер? Это я, Злубый… где Вацек?
– Ушел, – донеслось в ответ. – Я тут с Глогером.
– Так передай им, что я с утра не вылезал из цукерни. Но, кроме городового у входа, не заметил даже наружных филеров. А что ждет нас в банке – никто не знает.
– Хорошо, – отозвался Инженер. – Я надеюсь, все будет в порядке, а Вацека я успокою. Итак, до завтра.
Покинув цирюльню, Злубый исчез во мраке кривых переулков, изображая крепко подгулявшего конторщика:
Ты лейся, песня удалая.
Лети, кручина злая, прочь…
В полдень следующего дня, когда ливень загнал городового в подворотню, возле Коммерческого банка остановились четыре коляски. Среди боевиков выделялся респектабельный господин лет тридцати, отлично выбритый – как актер перед генеральной репетицией. В руке он держал объемистый саквояж. Это был член «боевки», имевший подпольную кличку «Инженер».
– Все зависит от тебя, – шепнул ему Вацек, – и пан Юзеф обещал отсыпать тебе тысячу злотых в награду. Если кассир сам не откроет сейф, предстоит поковыряться! Мы будем удерживать банк, пока ты не возьмешь главную кассу.
Инженер встряхнул саквояжем, в котором железно брякнули слесарные инструменты. Он спокойно сказал:
– Не первый раз! Если не нарвусь на замок Манлихера, то с меллеровскими защелками управлюсь быстро…
У каждого боевика было по два браунинга, по четыре пачки патронов. Главные ценности банка хранились в сейфе секретной кассы, куда обязан проникнуть Инженер, а «боевка» тем временем возьмет выручку с общего зала. Не спеша поднимались по лестнице, внешне чуждые один другому. Швейцар все-таки насторожился:
– Вы, панове, зачем и к кому идете?
Вацек показал ему поддельный вексель:
– Получить бы кое-что с вашего банка…
Боевики проникли в общий зал, где публики было человек сорок, не больше. Они заняли места в очередях к кассирам, ожидая сигнала от Вацека. Следом за ними, позвонив куда-то по телефону, вошел в зал швейцар, и только тут Вацек понял, что он из внутренней охраны Коммерческого банка.
– Позвольте ваш вексель, – сказал он Вацеку.
– Получи! – выкрикнул тот, стреляя.
Старая еврейка метнулась к дверям – с воплем:
– Ой-ой, газлуним гвалт… воры пришли!
В дверях банка Глогер всех убегавших сажал на диван. Городовой, появясь с улицы, был убит его метким выстрелом.
– Всем посторонним лечь на пол! – орал Вацек.
Злубый, размахивая браунингом, звал его:
– Берем что есть, и пора отрываться.
– Не забывай об Инженере, который драконит сейф…
Со стороны директорских кабинетов вдруг разом откинулись окошки в дверях, как иллюминаторы в борту корабля. Оттуда выставились руки в ослепительных манжетах, украшенные пересверком драгоценных перстней. В этих изнеженных руках оказались револьверы – директора банка отстреливались!
– Ах, ах, ах, – трижды произнес Злубый, падая…
– Бей по дирекции! – не растерялся Вацек.
Но если боевики стреляли отлично, то служащие банка палили наугад, поражая публику. Началась паника. Люди, уже израненные, падали в очереди у касс, заползали под столы и стулья.
Банк наполнился криками, стонами, грохотом.
Вацек вложил в браунинг уже третью обойму.
– Глогер! – позвал он помощника. – Я прикрою ребят, а ты беги в кассу… поторопи Инженера, чтобы не копался! Напомни, что коляска ждет его на Вульчанской, а встречаемся, как всегда, на Контной – за костелом святого Яцека…
Глогер с разбегу споткнулся о мертвого кассира. Перед громадным сейфом стоял Инженер, почти невозмутимый. На стуле были разложены его инструменты, а свой элегантный пиджак он повесил на спинку стула. Глогер осатанел:
– Чего ты здесь ковыряешься? Нельзя ли скорее? Злубый уже истекает кровью, а Вацек давно с пулей в ноге.
– Держитесь, – с улыбкой отвечал Инженер и поправил на голове котелок. – Мне попался «меллер», но страховые «цугалтунги» держат замок крепко, как собака мозговую кость.
– Твоя коляска на Вульчанской, – напомнил Глогер.
– До встречи на Контной, – отвечал Инженер, и сейф тихо растворил перед ним свое нутро, набитое золотом.
Глогер вернулся в общий зал банка, где мертвые лежали уже навалом, а через окошки директорских кабинетов продолжали сыпаться пули. Вацек едва заметил Глогера:
– Ну, что? Взял он сейф?
– Взял.
– Тогда отходим. Берем Злубого… тащи!
Отстреливаясь, подхватили Злубого, потом бросили его:
– Да он уже готов… Скорее на выход!
Где-то вдали заливались свистки полиции и дворников, но все кончилось благополучно: через полчаса гонки на колясках запыхавшиеся боевики собрались на Контной улице.
– А где Инженер? – первым делом спросил Вацек.
– Его и не было, – ответил хозяин «явки».
* * *
Инженер не пришел на Контную – ни вечером, ни ночью. Напрасно ждали его несколько дней. Побочными каналами Глогер выяснил, что он не был схвачен полицией – ни живым, ни мертвым. Он попросту пропал – вместе с саквояжем.
– Глогер, ты сам видел, что сейф был уже открыт?
– Да, Вацек… в нем полно было золота.
Вацек с бранью распечатал бутыль с водкою:
– Помянем Злубого его любимой песней: «Ты лейся, песня удалая, лети, кручина злая, прочь…» Теперь все нам ясно, – сказал Вацек. – Пока мы там отстреливались, прикрывая раненых, Инженер увел с банка всю главную сумму и спокойно скрылся. Я счел нужным оповестить об этом Юзефа Пилсудского, который сказал, что отныне Инженер заочно приговорен к смертной казни. Кто бы из нас и где бы его ни встретил, должен привести приговор партии в исполнение…
Глогер ознакомил Вацека с берлинской газетой:
– Читай, что пишут немцы из Познани…
Познань тогда принадлежала Германской империи. Пресса оповещала читателей, что в одну из ночей ограблен познанский банк, причем – как подчеркивалось в газете – взломщик опытной рукой нейтрализовал предохранительные «цугалтунги».
– Это он… конечно, наш Инженер! – решил Вацек. – Теперь, законспирированный и вооруженный, обладающий изворотливым умом, он способен принести немало вреда. А потому приговор остается в силе – смерть ему! Только смерть.
– Клянусь: я убью его, – отвечал Глогер…
1. Ставлю на тридцать шесть
Вечерний экспресс прибыл во французские Канны, оставив на перроне пассажиров, жаждущих исцеления от хронических катаров, подагры, бледной немочи и прочих злополучных чудес. Среди них оказался и некто Глеб Викторович Полынов, прибывший из Берна, где он состоял при русском посольстве. О причастности его к дипломатии первой известилась Жанна Лефебр, случайно оказавшаяся его соседкою по купе. Впоследствии она показала, что у нее сложилось мнение о господине Полынове как об очень порядочном и религиозном человеке:
– Он говорил, что едет в Канны не ради процедур от малокровия, а лишь затем, чтобы насладиться голосами капеллы, поющей в православном храме великомученицы Александры…
Полынов нанял у вокзала извозчика и, кажется, был уже достаточно хорошо знаком с местными условиями:
– Отвезешь меня сразу на «Виллу Дельфин», что на Рю-де-Фрежюс, дом шестьдесят восемь. Кстати, что там профессор Баратат? Работает ли у него машина для электротерапии, которую он обещал в прошлом году выписать из Берлина?
Как выяснилось позже, немецкий клиницист Баратат, содержавший для богачей лечебный отель, не запомнил среди своих пациентов Полынова – по той причине, что тот к нему не обращался. Ничего не могли добавить и русские служители храма великомученицы Александры, ибо не видели дипломата среди молящихся. Зато прислуга отеля утверждала, что Полынов всеми повадками напоминал варшавского жуира и пижона, они даже слышали, как однажды он забавно мурлыкал по-польски:
Не играл бы ты, дружок, Не ходил бы без порток, Сохранил бы ты портки, Не залез бы ты в долги…Правда, вышеназванная Жанна Лефебр потом вспомнила, что видела Полынова еще раз, когда он проводил партию в теннис с одним англичанином на санаторном корте:
– Меня не удивило, что он легко беседовал по-английски, ибо все дипломаты хорошо владеют языками…
Очевидно, господина Полынова привлекло в курортные Канны нечто другое, более важное, нежели чистота голосов православной капеллы или новейшие достижения электротерапии. В этом не ошибся и солидный портье «Виллы Дельфин», подобострастно выслушавший от Полынова первый заказ:
– Завтра приготовьте билет на вечерний поезд, я решил навестить Монте-Карло… Сколько тут ехать?
– Поезд идет один час и сорок минут.
– Вот и хорошо…
Портье с поклоном проводил богатого русского дипломата, а затем позвонил куда-то по телефону:
– Завтра. Вечерним поездом. Да. Будет играть.
* * *
Сейчас трудно решить криминальный вопрос – глуп или умен человек, который, ничего не делая, желает иметь больше других. Наверное, именно для таких людей, для глупых или для умных, заманчиво жужжит в Европе зловещая каналья – рулетка. Сколько было охотников выявить «систему» выигрыша, какие только «теории» ни излагали ученые по вопросу «вероятности», чтобы обдурить скачущий по кругу дешевый костяной шарик, однако ничего путного из этих потуг не вышло… Читателю я напомню: с тех пор как Германия в 1873 году закрыла свою рулетку в Баден-Бадене, столицей международного азарта сделалось мизерное княжество Монако – с рулеткою в Монте-Карло, и тысячи авантюристов устремились к лучезарным пляжам Средиземного моря. Монако – это государство, в котором любой ресторанный оркестр гораздо больше всех вооруженных сил княжества. Впрочем, того нельзя сказать о тайной полиции Монте-Карло, всегда считавшейся самой виртуозной полицией Европы, и это вполне понятно, ибо где звенят большие деньги, там всегда можно сыскать преступника…
Полынов, появясь в Монте-Карло, не глазел по сторонам, как заезжий турист, напротив, он шагал уверенной походкой человека, который уже бывал здесь. Вот и казино! Дипломат равнодушно миновал его первые залы, где за столиками тряслась от алчности всякая мелкотравчатая «мелюзга», озабоченная жалким выигрышем в два-три франка, и сразу же устремился в центральный зал. Здесь шла такая большая игра, при которой можно задохнуться от счастья или застрелиться от неудачи.
Подойдя к рулетке, он произнес одно лишь слово:
– Bankoў!
– Вы сказали: bankoў? – переспросил Полынова крупье.
– Да. Играю на все, что у вас есть в кассе.
– Тогда назовите номер, мсье.
– Ставлю на тридцать шесть…
Среди публики возник невнятный шепот, прошуршали платья дам, спешащих к столу. На № 36 никто ведь не ставит, ибо на этой цифре рулетка кончается, а дальше – бездна отчаяния. Но в случае выигрыша удачника выплата ему составит колоссальную прибыль – тридцать шесть к одному!
Крупье внимательно всмотрелся в лицо Полынова:
– Пять лет назад вы были моложе, – вдруг сказал он.
– Какая память! – восхитился Полынов.
– Отличная, не спорю. Но это память скорее профессиональная. Тогда вы приезжали в Монте-Карло из…
– Берлина! – поспешил ответить дипломат.
– Вы ошиблись, сударь, и я вынужден вас поправить. Пять лет назад вы были здесь проездом из Петербурга. – Крупье замкнул лицо в непроницаемой строгости. – Впрочем, изволим играть. Итак, вам желательно ставить на тридцать шесть?
Он раскрутил колесо фортуны, шарик долго метался по кругу, ударившись в лунку под № 36, раздался общий возглас:
– Rie ne va plus: № 36.
– Сорван, – одним дыханием пронеслось в публике.
– Банк сорван, – бесстрастно провозгласил крупье, и широким жестом он закрыл рулетку плащом черного крепа, как закрывают павшего в битве рыцаря. Это значило, что за его столом игры не будет, ибо в кассе не стало денег…
Полынов даже не успел спросить, каков его выигрыш, когда к нему вдруг подошел служитель казино:
– Простите, мсье. Вас просят к телефону.
Что-то судорожно изменилось в холеном лице дипломата, он даже сделал шаг в сторону, но служитель, имевший комплекцию борца тяжелого веса, преградил ему дорогу к дверям.
– Вас просят… срочно, – повторил он.
– Хорошо. Откуда?
– Из Берна… из русского посольства.
Полынов двинулся в служебный кабинет, сопровождаемый громилой из казино. В кабинете его ожидал солидный господин, который сразу же протянул ему трубку телефона.
– Слишком серьезный разговор, – предупредил он.
В трубке раздался повелительный голос:
– Мсье Полынов, положите оружие на стол и…
Трубка полетела в голову солидного господина. Рука Полынова уже исчезла в кармане, но тут же была перехвачена верзилой, который покрутил выхваченным из руки револьвером.
– Вот и все, – сказал он. – Можно вписать в протокол: браунинг системы «диктатор». Калибр: шесть тридцать пять. Выпущен шведской фирмой «Гускварна»…
Солидный господин приложил к голове платок.
– Это вы сделали напрасно, – сказал он Полынову. – Сами осложняете судьбу. Однако я не откажу себе в удовольствии представиться: комиссар бельгийской полиции дю Шатле.
Полынов надменно выпрямился перед ним:
– Вы меня с кем-то путаете. Могу сразу предъявить дипломатический паспорт. Я уже второй год служу в Берне вторым секретарем российского посольства. Клянусь вам честью, комиссар, произошла какая-то нелепая с вашей стороны ошибка.
Комиссар потрогал рассеченную трубкой голову:
– Конечно, с вашей стороны была чудовищная ошибка ограбить почтовый вагон курьерского поезда Льеж – Люксембург…
Со звоном вылетело окно – Полынов, весь в сверкающем нимбе стекольных осколков, выпрыгнул со второго этажа. Это не произвело на дю Шатле никакого впечатления.
– Мы это учли, – сказал он. – Внизу наши люди…
Когда он спустился вниз, руки Полынова уже стянули обода наручников, его заталкивали в тюремный фургон.
– Послушайте, – сказал он комиссару, – я прошу об одном: у меня в отеле «Вилла Дельфин» остался саквояж…
– Э, об этом не стоит беспокоиться, – утешил его дю Шатле. – Ваш саквояж взят нами, и тех денег, что в нем обнаружены, вполне хватит расплатиться за ограбление нашего почтового вагона. Но мы еще не знаем, куда делись те денежки, что взяты вами из кассы германского банка в Познани!
* * *
Расшатанный микст-вагон мотало на поворотах, за окном купе пролетали желтые огни городов Прованса, потом нахлынула тьма, лишь где-то очень далеко угадывалось передвижение гигантских табунов лошадей. Комиссар полиции дю Шатле просил арестованного ложиться спать, но прежде велел ему снять штаны.
– Так вы не убежите, – сказал он…
Полынов покорно разместился на нижней полке, а в его усталой голове пульсировал, словно метроном, банальный мотив: «Не играл бы ты, дружок, не остался б без порток…»
– Мне вся эта история кажется забавной. Зачем мне ваш почтовый вагон, если я человек богатый и никогда в жизни не ездил в подобных «микстах», сразу за паровозом.
К оконному стеклу жарко прилипали раскаленные искры из трубы локомотива, рвавшегося на север Европы.
– Бросьте! – отмахнулся дю Шатле. – По прибытии в Брюссель вы расскажете мне все. И перестаньте изображать передо мною русского Талейрана, о потере которого будет скорбеть вся мыслящая Россия… Я ведь еще не спрашивал вас, кто вы такой и откуда вы свалились на попечение бельгийской полиции.
– Не мешайте спать, – резко ответил Полынов.
Он закрыл глаза, и ему виделся белый город на берегах великой русской реки. Вечером улицы наполняли визг и скрежет старого ржавого железа – это купцы, подсчитав выручку, запирали дедовские замки амбаров, и разом начинали лаять собаки, которых до утра спускали с цепи. А на фоне этого патриархального декора русской провинции вырастало сказочное видение образцового гроба, который мастер-искусник украсил резьбой и всякими завитками, как кондитер украшает праздничный торт цукатами и орешками. Наконец Полынову виделся и он сам, юный лицеист, вылезающий из этого гроба, наполненного стружками. А над конторой похоронных принадлежностей пыжилась вывеска: «Мещанинъ С. В. ПРИДУРКИНЪ. У него лучшие гробы в мире…»
Ничего не понятно! Но все прояснится потом.
2. Выдать его с потрохами
До создания международной полиции (ныне знаменитого ИНТЕРПОЛа) человечество еще не додумалось. Но в полицейской практике государств Европы уже существовал обычай делиться информацией о розыске преступников. Полиции любезно обменивались приметами рецидивистов, в их розыске уже применялось фотографирование, но дактилоскопия еще не завоевала должного авторитета среди криминалистов. Впрочем, в брюссельской тюрьме Полынова сфотографировали в фас и в профиль, даже взяли отпечатки пальцев. Однако полицейские архивы столиц Европы не подтвердили полыновских данных по своим картотекам. На проверку ушло немало времени, после чего дю Шатле пожелал видеть Полынова. На этот раз комиссар полиции выглядел явно озабоченным:
– Что вы делали в швейцарском Монтре?
– Когда?
– Весною этого года…
Полынов прежде как следует обдумал ответ:
– Я догадываюсь, почему вы спросили меня о Монтре… Да, там была уличная перестрелка, в которой оказался замешан какой-то русский. Но я ведь не русский, а выдавал себя за чиновника царского посольства для собственного удобства.
Дю Шатле, кажется, начинал устраивать и такой вариант легенды. Он угостил Полынова отличной сигарой.
– В конце-то концов, – сказал он, – правительству моего короля ваша судьба глубоко безразлична. Престиж бельгийской полиции не пострадает, если вы избежите когтей нашего кодекса. Тем более что содержимое вашего саквояжа уже полностью возместило потери того почтового вагона…
– К которому я не имею никакого отношения!
– Ладно, ладно, – примирительно проворчал комиссар. – Не старайтесь меня профанировать. Мы, бельгийцы, придерживаемся в Европе добрых отношений со всеми странами, и нам совсем не хотелось бы вызывать лишнее раздражение Берлина.
– Не понял вас, господин комиссар.
– Сейчас поймете. Эта прошлогодняя история с налетом на банк в Лодзи берлинским криминалистам кажется связанной с ограблением частного банка в Познани… А – вам?
Полынов неуверенно хмыкнул.
– Напрасно изображаете равнодушие, – заметил дю Шатле. – Вам предстоит потерять его, если узнаете, что берлинский полицай-президиум потребовал вашей выдачи – как рецидивиста, свершившего преступление в Германии, и мне жаль вас, – сказал комиссар, – ибо на Александерплац вас ждут серьезные испытания.
На этот раз Полынов путешествовал не в «миксте», а в немецком вагоне для арестантов, втиснутый в клетку, как опасный зверь. Берлина он так и не увидел, прямо из вагона перемещенный в тюремный фургон, а из фургона был сразу же пересажен в камеру. Возле двери этой камеры Полынов невольно остановился, задержав внимание на ее нумерации.
– Тридцать шестая? – удивился он. – Уж не расплата ли за игру в рулетку? Впрочем, я не рассчитывал на ваш юмор.
Свирепый удар кулаком в затылок обрушил его на асфальтовый пол, отполированный до нестерпимого блеска. Полынов оказался в знаменитой тюрьме Моабит, где очень высоко оценивали чистосердечное признание, не беспокоясь о том, какими способами это признание достигается от человека… Поднявшись с пола, Полынов вытер кровь с разбитого лица.
– Ставлю на тридцать шесть! – прошептал он себе. – А иначе и не стоит играть… Только бы не забыть этот дурацкий номер счета в банке Гонконга: XVC-23847/А-835…
* * *
После месяца допросов он был уже развалиной, и никто бы не признал в нем того импозантного господина, который выдавал себя за процветающего дипломата. Вместо лица образовалась разбухшая маска, губы едва двигались, а нестерпимая боль в ребрах не давала ему выспаться. Наконец следователь Шолль отбил ему почки, и однажды Полынов с ужасом заметил, что в его моче появилась кровь… Соседние камеры занимали два уголовника, которые, сочувствуя Полынову, надоумили его:
– Вас очень скоро доведут до крайности, потому лучше сознаться. Только не вздумайте объявлять голодовку, в Моабите таких нежностей не понимают. На пятый день вам загонят под хвост такой питательный зонд, что вы согласитесь жрать даже поджаренное дерьмо, поданное вам на сковородке.
– Мне не в чем сознаваться, – ответил Полынов.
– В этом случае выгоднее для здоровья придумать себе любое преступление, лишь бы избавиться от криминальных услуг Александерплаца… Вы, кстати, мало похожи на немца. Не лучше ли вам сразу потребовать выдачи на родину?
– Боюсь, что на родине я буду сразу повешен.
– Тогда… желаем сохранить мужество!
Следователь Шолль топтал Полынова ногами:
– Нам плевать на тот льежский вагон и на все, что случилось в русской Лодзи! Но мы должны знать, куда ты подевал наши деньги из познанского банка? Так отвечай, отвечай, отвечай…
Уставая бить Полынова, он потом говорил ему:
– Мне уже надоела возня с вами. Не забывайте, что улики против вас не требуют дополнений. Страховочные «цугалтунги» в сейфах банков как в Лодзи, так и в Познани были обезврежены одинаковым приемом. Бельгийский комиссар дю Шатле оказался столь расположен к нам, что переслал из вашего саквояжа… нет, не деньги! Мы получили от него набор инструментов, которым вы открывали сейфы, а все эти отмычки явно русского происхождения. Так я еще раз спрашиваю – кто вы?
Полынов вдруг страшно разрыдался. Кажется, начинался кризис, и Шолль, подойдя к нему, плачущему, постукивая его пальцем по плечу, внушал как педагог раскаявшемуся ученику:
– Мы догадываемся, что вы – поляк или русский. Но вы никак не должны надеяться, что газета «Форвертс» обеспокоится вашей судьбой. В глазах немецких политиков вы всегда будете оставаться только грабителем, презренным вором, недостойным даже примитивной жалости обывателя… Если у вас в России привыкли взрывать, убивать и грабить, то здесь, в старой добропорядочной Германии, этот номер не пройдет… Назовите себя!
– Я ничего не знаю. Мне очень нехорошо.
– Из какой ты страны, вонючая сволочь?
– Я ничего не помню, – отвечал Полынов рыдая…
Шолль бил его по голове тяжелым пресс-папье.
– Пойми! – доказывал он. – То, что случилось в Бельгии с этим экспрессом, нас мало волнует. Зато мы должны заверить нашу общественность, что преступление в Познани раскрыто, а преступник понес наказание… Ну? Пять лет тюрьмы… ты слышишь? Всего-то пять лет! Обещаю из Моабита перевести тебя в Мюнхенскую тюрьму. Отличная жратва. Вентиляция в камерах. Прогулки и переписка. Говори же… ну? Говори, говори, говори!
– Меня в Познани никто не видел, – отвечал Полынов…
Комиссаром по криминальным делам в Берлине был граф фон Арним – холеный аристократ, внешне напоминающий британского милорда. Невозмутимо он выслушал доклад следователя Шолля:
– С этим упрямым идиотом, мне думается, дело гораздо серьезнее, нежели с обычным взломщиком. Очевидно, у него имеются основательные причины для того, чтобы молчать о себе. Сейчас он уже полностью падшая личность, часто плачет на допросах и остается силен только в одном – в своем молчании.
– У вас сложились какие-либо выводы? – спросил граф.
– Подозрения! Я подозреваю, что это… провокатор, каких департамент тайной полиции Петербурга немало содержит в городах Европы для наблюдения за эмигрантами-революционерами. Но, кажется, он решил подзаработать на уголовщине, а теперь, пойманный, страшится разоблачения. Не здесь ли причина его упорного запирательства на допросах и ссылки на потерю памяти?
Граф фон Арним через окно оглядел Александерплац, где ерзали на повороте трамваи, спешили по своим обычным делам берлинцы, а дамы придерживали в руках края своих юбок, чтобы не подметать ими панели. Граф задернул на окне плотную штору.
– Не спорю, – было им сказано, – тут что-то есть… Сегодня я как раз ужинаю в «Альтоне» с господином Гартингом и надеюсь: он поможет нам разобраться в этом случае. Но, если он русский, как вы полагаете, нам предстоит выдать его на расправу в Санкт-Петербург… со всеми его отбитыми потрохами!
Гартинг в ту пору возглавлял работу царской «охранки» в Берлине, за что и получил недавно от кайзера орден Красного Орла. Гартинг согласился повидать преступника, чтобы рассеять сомнения своих германских коллег по ремеслу.
Свидание состоялось в камере для адвокатов.
– Нет, я не адвокат, – заявил Гартинг. – Я представляю солидную «Армендирекцион», попечительство о бедных не только в больницах Берлина, но и в тюрьмах. Насколько нам известно, у вас нет ближайших родственников в Германии, но мы крайне заинтересованы в их розыске, дабы помочь вам…
– Не старайтесь схватить меня за язык, – сразу пресек его Полынов. – Я плевать хотел на все ваши попечительства! А родственников у меня – как у серого волка в темном лесу…
Гартинг потом говорил фон Арниму:
– Нет, эта лошадка не из нашей конюшни, и под каким седлом она скачет – неизвестно. Скорее технически образованный взломщик, каких в Европе немало… Не исключено, – добавил Гартинг, – что лодзинские пэпээсовцы попросту наняли его для экса, чтобы он исполнил ту работу, на которую сами они не способны…
Полынов словно подслушал это мнение Гартинга, настойчиво требуя вызова к следователю. Шолль, конечно, не отказал ему в свидании, догадываясь, что дело идет к концу.
– Не хватит ли нам заниматься болтовней? Мне, честно говоря, давно жаль того гороха, который ты пожираешь с казенной похлебкой. Выдворить тебя из Германии ко всем чертям – вот лучший способ избавиться от лишних бумаг, и на этом давай дело закроем. Называй страну, которая произвела тебя…
Полынов сказал, что решил сознаться:
– Да, я – русский, и прошу выдать меня России, где, я рассчитываю, со мной разберутся лучше, нежели в Берлине.
– Давно бы так! – обрадовался Шолль. – Тем более между нашим кайзером и вашим царем имеется благородная договоренность о выдаче преступников. Мы просто не успеваем перекидывать через шлагбаум ваших социалистов…
Полынов – неожиданно! – проявил знание международного права, гласившего, что выдача преступника возможна лишь в том случае, «если деяние является наказуемым по уголовным законам как того государства, от которого требуется выдача, так и того государства, которое требует его выдачи».
– Отчасти я знаком с этим вопросом… как дипломат! – криво усмехнулся Полынов. – Хорошо извещен о решении королевской комиссии Англии от 1878 года, приходилось листать и Оксфордскую резолюцию о выдаче беглых преступников. Юридическая неразбериха начинается именно с того момента, когда уголовное преступление пытаются отделить от политического. Памятуя об ответственности, я снимаю с себя всякие подозрения в принадлежности к политике, желая осчастливить свое отечество возвращением лишь в амплуа уголовного преступника.
Следователю пришлось здорово удивиться:
– Послушайте, кто вы такой? Черт вас побери, но я впервые встречаю грабителя, который бы цитировал мне статьи международного права… Назовитесь хоть сейчас – кто вы такой?
Полынов в ответ слегка поклонился:
– Вы уже добились от меня признания в том, что я русский подданный. Так оставьте же для царской полиции большое удовольствие – установить мою личность.
– Хорошо, – призадумался Шолль. – Но я желал бы, чтобы у вас о нашей криминаль-полиции сохранились самые приятные воспоминания.
– В этом не сомневайтесь, – обещал ему Полынов.
Следователь, кажется, не проникся его юмором:
– Думаю, в России вас обработают еще лучше нас…
* * *
На запасных путях пограничной станции Вержболово немецкая криминаль-полиция передала его русской полиции. Снова тюремный вагон с решеткою на окне, но теперь в окне виделось совсем иное: вместо распластанных, как простыни, гладких шоссе пролегали жалкие проселки, вместо кирпичных домов сельских бауэров кособочились под дождями жалкие избенки. И над древними погостами усопших предков кружило черное воронье…
В двери вагонной камеры откинулось окошко, выглянуло круглое лицо солдата, он поставил кружку с чаем и хлеб.
– Ты, мил человек, не за политику ли страдаешь?
– Нет. Я кассы брал. Со взломом.
– Хорошо ли это – чужое у людей отымать?
– Затем и поехал в Европу, чтобы своих не обидеть.
– Тебя зачем в Питер-то везут?
– Вешать.
– Чаво-чаво?
– Повесят, говорю. За шею, как водится.
– Так надо бы у немцев остаться. Они, чай, добрее.
– Все, брат, добренькие, пока сундуков их не тронешь. Тут политика простая: мое – свое, твое – не мое.
– И я так думаю, – сказал солдат. – Ты мое тока тронь, я тебе таких фонарей наставлю, что и ночью светло покажется…
Поезд, наращивая скорость, лихорадочно поглощал нелюдимые пространства, и кружило над погостами воронье. «Bankoў, bankoў, bankoў», – отстукивали колеса, а в памяти Полынова навсегда утвердился загадочный № XVC-23847/А-835.
…Вацек не ошибался: этот человек способен на все!
3. В сладком дыму отечества
Молодой штаб-ротмистр Щелкалов встретил его в кабинете, стоя спиною к черному вечернему окну, в квадрате которого соблазнительно пылали фееричные огни Петербурга.
– Поздравляю с прибытием, – начал жандарм приветливо. – Как помнится всем из гимназической хрестоматии, «и дым отечества нам сладок и приятен». Итак, вы снова в любезных сердцу краях, а посему стесняться вам уже нечего. Конечно, вы ехали сюда, заранее решив, что говорить с нами не станете… Ведь так?
– Примерно так, – не возражал Полынов.
Щелкалов уселся в кресле, спросив душевно:
– Между нами. Как там условия в Моабите?
– Дрянные. Много бьют и мало кормят.
– А в наших «Крестах»?
– Лучше. Но похоже на монастырь для грешников.
– Что делать? Пенитенциарная система. Испытание человека одиночеством. Вас оно не слишком угнетает?
– Да нет. Спасибо. Я люблю одиночество.
– А почему любите, позволю спросить вас?
– По моему мнению, человек бывает сильным, когда становится одинок. Одиночка отвечает только за себя. В толпе же индивидуум обречен жить мнением толпы… стада! А лучшие мысли все-таки рождаются в трагическом одиночестве.
Щелкалов не стал ломать голову над сказанным ему:
– В некоторой степени все это отрыжка ницшеанства. Правда, я не большой знаток всяких там философий. Но кое-что, признаться, почитывал… Хотя бы по долгу службы. Можно я буду называть вас по имени-отчеству? Кажется, Глеб Викторович?
– А мне все равно. И вам тоже. Вы ведь, господин штаб-ротмистр, сами догадываетесь, что это мое фиктивное имя.
– Может, представитесь подлинным? Я, как следователь, обязан выяснить, кто вы такой… Наверное, социалист?
Эта фраза привела Полынова в игривое настроение:
– Избавьте! Социалисты желали бы создать такой государственный строй, при котором я буду для них попросту вреден, и таких, как я, они постараются сразу уничтожить.
– Согласен, – кивнул Щелкалов. – Но существует немало оттенков общего недовольства: безначальцы, махаевцы, анархисты и прочая «богема революций». Достаточно вспомнить взрыв ресторана «Бристоль» в Варшаве, взрыв бомбы в одесском кафе Либмана… Случайно не догадываетесь, ч ь я это работа?
– Вы меня в свою работу не впутывайте, – твердо произнес Полынов. – Да, я знаком с учением анархизма, но целиком эмансипирован от какого-либо партийного контроля. По натуре я крайний индивидуалист и не только государство, но даже семью считаю уздой для каждого свободного человека. Поверьте, что нет еще такой женщины, которая могла бы повести меня за собой.
– Угадываю штирнеровские мотивы с его постулатами священного эгоизма… Ваше образование? – вдруг резко спросил Щелкалов.
– Я самоучка, – отметил Полынов.
– Определите поточнее свое политическое лицо.
– У меня лицо благородного уголовника с тенденциями полного раскрепощения свободной и независимой личности.
– Удобная позиция! – сказал Щелкалов со смехом. – Обчистили банк по идейным соображениям, а денежки остались эмансипированы от партийного контроля… Вернемся к делу. Я не верю в иванов, не помнящих родства. Как мне называть вас?
– Не лучше ли остановиться на том имени, под которым я был задержан бельгийской полицией? Впрочем, я все уже выблевал из себя в Берлине, а дома я блевать не желаю.
Щелкалов водрузил длань на пухлое досье:
– Но по этим вот документам, присланным с Александерплац, из вас с трудом выдавили признание в национальности. Давайте не спеша разберемся в том, что произошло. Вас взяли за рулеткой, когда вы пожелали одним махом увеличить свои капиталы. Скажите, что двигало вами тогда? Для каких целей вы готовили это немалое состояние? Вы… молчите?
Полынов напряженно вздохнул:
– Я, конечно, глупо попался. Мне надо бы махнуть в Канаду или затеряться в Австралии, а я, как наивный глупец, полез прямо в Монте-Карло… Чего я там не видел, спрашивается?
– Вы не ответили на мой вопрос, а ведь он по существу дела, – напомнил Щелкалов. – Если вы добывали деньги, чтобы разъезжать по курортам, кутить с красивыми женщинами и наслаждаться – это статья чисто уголовная. Но, если вы шли на смертельный риск, дабы добыть средства для какой-либо революционной партии, – тут статья другая, и вы предстанете передо мною в иной ипостаси. Отчего меняется и мера наказания…
Ответ Полынова прозвучал иносказательно:
– У каждого из дьяволов есть собственный ад, и в этот личный ад не посмеет войти даже Вельзевул!
– Я все-таки склонен думать о ваших лучших намерениях, – настаивал Щелкалов. – Согласитесь, что эксы дискредитируют революции, заодно оправдывая в глазах обывателя все суровые репрессии правительства против революционеров.
– Логично, – согласился Полынов. – Но ко мне логика вашего жандармского мышления никак не относится.
– Из этого ответа я понял, что вам сейчас выгоднее остаться в облике взломщика, нежели предстать перед судом идейным человеком… Я не ошибся? – тонко подметил штаб-ротмистр.
Полынова даже передернуло.
– Оставим это! – раздраженно выкрикнул он. – Беру на себя почтовый вагон льежского экспресса, и этого достаточно.
Щелкалов нагнулся и достал из-под стола саквояж, из которого принялся вынимать воровские инструменты – они были на диво блестящими и отточенными, подобно хирургическим.
– Хорошо. От статьи политической возвращаемся к уголовной, и здесь я вынужден признать, что вы работали как опытный профессионал. С почтовым вагоном все ясно. Познань мы пока оставим в покое, как чужой для нас город… Но… Лодзь?
Полынов вдруг торопливо заговорил:
– Вы правы, лучше не касаться политики. Да, я принимал участие в налете на Коммерческий банк Лодзи, но, поверьте, никакого отношения к тамошним революционерам не имел. Просто они наняли меня как опытного взломщика для вскрытия сейфа, обещая мне три процента со взятой с кассы банка суммы.
– И после того, как эта касса банка вами была вскрыта, вы взяли все сто процентов выручки и скрылись?
– Не дурак же я, чтобы соваться в общий зал, где косили публику, как траву. А этих пэпээсовцев я, клянусь, знать не знаю, я даже лиц-то их не запомнил…
Щелкалов подумал и вдруг развеселился:
– Слушайте, вы случайно не ярославский ли?
– Почему вы так решили? – испуганно спросил Полынов.
– По выговору. На сегодня закончим…
Полынов поднялся и направился к дверям. Прямо в спину ему, уходящему, жандарм врезал одно лишь слово, но такое убийственное, словно всадил острый нож под лопатку:
– Инженер!
Полынов, уже берясь за ручку дверей, повернулся:
– Простите, это вы мне?
– Вам, вам, вам, – говорил Щелкалов, подходя к нему. – Не хватит ли врать? Или вам казалось, что после Брюсселя и Александерплац вам уже все нипочем? А здесь сидят русские придурки, которых вы обведете вокруг пальца. Я вытрясу из вас душу, но дознаюсь до истины. Вы там, в банке, оставили труп своего товарища. Да мы кое-кого уже взяли. Повесим! Так что не обессудьте, если веревка коснется и вашей шеи…
Вернувшись к столу, штаб-ротмистр наскоро записал на отрывном календаре: «Холодная жестокость. Изворотлив, аки гад подколодный. Первое впечатление даже хорошее, но оно испорчено противным взглядом. Впрочем, такие вот негодяи, очевидно, всегда нравятся женщинам – именно чистым и непорочным…»
* * *
Департамент полиции недавно возглавил Алексей Александрович Лопухин, человек умный и решительный (позже он передал революционерам данные о провокаторах, работавших в их подполье, был изгнан со службы, публично ошельмован и сослан, а закончил свою жизнь банковским служащим в СССР).
Через стекла пенсне Лопухин взирал на Щелкалова.
– Что за ерунда! – фыркнул он. – Убежденный человек идет на экс, рискуя башкой, а когда банк взят, удирает с наличными, как последний жулик… Выяснили, кто он такой?
– Молчит, будто проклятый, и боюсь, что в этом вопросе он всегда будет уходить от ответа. Попробую поднять архивы прошлых лет департамента, – обещал Щелкалов, – может, что-то и проявится существенное с этой «Железной Маской».
Поразмыслив, штаб-ротмистр навестил тюрьму «Кресты» на Выборгской стороне Петербурга, переговорил со старшим надзирателем, выведывая у него о настроении Полынова.
– Особенно ничего не замечено. Претензий не заявлял. Характер спокойный. От прогулок иногда отказывается, а гуляет подалее от политических. Вроде бы он сторонится их…
Щелкалов просил отвести его в камеру Полынова:
– В этой же камере когда-то уже сидел некто, который, подобно вам, желал остаться неизвестным. Он даже купил себе канарейку, чтобы она услаждала его духовное томление. Знаете ли вы, чем он расплатился за свое молчание?
– Чем?
– Мы просто сгноили его в одиночке. Не хочешь называть себя – ну и черт с тобой – подыхай, если тебе так хочется. Ваше счастье, что полицию возглавил Лопухин, и он, человек гуманных воззрений, не пожелает оставаться в истории вроде Малюты Скуратова, а вам я не советую оставаться самозванцем.
– Ну, – откликнулся Полынов, – если я и Дмитрий Самозванец, то, поверьте, не из захудалого рода дворян Отрепьевых…
Щелкалов вечером позвонил в «Кресты»:
– Доложите, каково было состояние моего подследственного после того, как я визитировал его в одиночной камере.
– Он вдруг развеселился и просил купить канарейку…
Щелкалов вскоре вошел к Лопухину с очередным докладом:
– Кажется, я ухватился за хвостик этой веревки. Как вам известно, при экспроприации в Лодзи был некто по кличке «Инженер». Теперь, перерыв архивы полиции, я обнаружил, что пять лет назад в «Крестах» сидел тоже некто…
– Кто же именно? – вопросил Лопухин.
– В столичном свете он был известен под именем Ивана Агапитовича Боднарского, а среди приятелей просто Инженер.
– Любопытно. Дальше!
– Боднарский приехал в Санкт-Петербург из какой-то провинции, владел языками, имел отличные манеры, пользовался большим успехом у женщин. Из рассказов же его получалось так, что он хорошо знает всю Европу, не раз бывал в Южной Азии и даже во французском или испанском Алжире…
– Дальше!
– В столице он держал частную техническую контору под вывеской «Чертежная», но брался за любое дело – вплоть до изготовления секретных замков и казенных штемпелей. Успех в обществе помог ему выйти в чин коллежского асессора.
– Дальше!
– На этом волшебная феерия закончилась. Известно лишь, что Боднарский оказался самозванцем. Никакого технического образования не имел. Но следствие так и не дозналось, откуда он взялся и каково его подлинное имя. В деле сохранились сомнительные догадки, что мать его, кажется, полячка из Гродно, урожденная пани Целиковская… Но это тоже предположение.
– Слишком много версий и ничего определенного, – сказал Лопухин. – А куда же этот самородок делся?
– Бежал с помощью уголовников. Но в делах по эксам мелькают клички: «Инженер», «Король», «Пан» и «Рулет».
Лопухин долго протирал стекла пенсне:
– Если это и роман, то должна быть сноска петитом, как указывают в журналах: «продолжение следует».
– Продолжение следует! Столичный доктор Бертенсон однажды повстречал Боднарского в Монте-Карло, где Инженер играл. Причем, как вспоминал Бертенсон, он ставил сразу на тридцать шесть, чего нормальный человек никогда делать не станет.
– Как сказать, – поежился в кресле Лопухин. – Может, на тридцать шесть и ставят самые нормальные… Все равно с этим пора кончать! Завтра я сам поговорю с ним!
Встреча состоялась, и Алексей Александрович даже не предложил узнику сесть, оставив его стоять посреди кабинета.
– Я не спрашиваю вас, почему вы впали в крайности уголовщины. Мне уже наплевать, кто вы – самозваный инженер Боднарский или же самозваный дипломат Полынов… Вопрос о вашей судьбе отлично разрешает статья девятьсот пятьдесят четвертая Уложения о наказаниях Российской империи, карающая за сокрытие имени, природного звания и места жительства.
– Благодарю – не ожидал! – усмехнулся Полынов.
– Не спешите благодарить, – ответил Лопухин. – В совокупности с этой статьей дарим вам статью, карающую грабительство со взломом. В общем итоге это составит наказание не в четыре, а уже в пятнадцать лет каторжных работ.
Полынов сказал, что у него есть просьба:
– Я согласен и на пятнадцать лет каторги, только избавьте меня от общения с политическими, болтовни которых о свободе, равенстве и братстве я органически не выношу.
Лопухин правильно рассудил, что у этого человека имеются серьезные причины избегать встреч с политическими ссыльными даже на каторге. Он поиграл портсигаром и сказал:
– Вашу просьбу исполню: вы будете сосланы туда, где политических считанные единицы. Сахалин – вот это место!
Щелкалов распорядился заковать Полынова в кандалы:
– Готовя салат, не следует забывать об уксусе.
– Вы правы, – ответил ему Полынов. – Но вы забыли, что любой вкуснейший салат можно испортить избытком уксуса…
Его заковывали перед отправкой в Одессу, но при этом Полынов хитрым «вольтом» сунул кузнецу сорок рублей.
– Чтобы на штифтах, – тихо шепнул он ему.
Тюремный кузнец, получив взятку, не стал заклепывать кандалы, а скрепил их штифтами, которые при случае легко вынуть, чтобы избавиться от кандалов. Но сделаны эти штифты были столь искусно, что выглядели очень прочными заклепками.
– Ты куда? – спросил кузнец, закончив работу.
– На Сахалин.
– Наплачешься там.
– Ничего. Люди везде живут.
– Ну, валяй с богом… живи!
Из допросов Полынов понял, что «боевка» Вацека разгромлена, а на Сахалине «политические» вряд ли его знают. Там он не встретит ни Юзефа Пилсудского, ни тем более Глогера…
4. Русский «великий трек»
Если у американцев был Дикий Запад, то у нас был Дикий Восток, и наш российский «великий трек» к Тихому океану выглядел опаснее и намного длиннее «великого трека» Америки, которая однажды, громыхая фургонами, устремилась к выжженным прериям западных штатов. За исторически краткий срок русские прошли всю Сибирь, освоили Колыму, Курилы и Камчатку, перемахнули океан под парусом и на веслах, стали соседями краснокожих на Аляске, граничили с испанскими владениями в Калифорнии…
Да, это был воистину «великий трек»!
Иностранцы не отрицают величия подвига русских землепроходцев, которые со времен Ермака быстро достигли тех мест, где сейчас буйно пульсирует жизнь американского Сан-Франциско. Оксфордский профессор Джон Бейкер писал, что «продвижение русских через Сибирь в течение XVII века шло с ошеломляющей быстротой… на долю этого безвестного воинства достался такой подвиг, который навсегда останется памятником его мужеству и предприимчивости, равного которому не совершил никакой другой европейский народ». Но остров Сахалин, лежащий, казалось бы, совсем рядом с Россией, мы, русские, освоили гораздо позже, нежели Аляску, Камчатку, Курилы и Калифорнию…
* * *
Наши далекие предки не сомневались в том, что Сахалин является островом, отделенным от материка узким проливом. Но карты старых времен затерялись (или были похищены), в Европе сложилось мнение, будто Сахалин – полуостров, и ученые Петербурга поверили в это. Знаменитый мореплаватель Лаперуз своим авторитетом утвердил невежество в географии, и только подвиг моряков Геннадия Невельского рассеял туман роковых заблуждений над кошмарною узостью Татарского пролива.
Впрочем, такое название – тоже ошибка! Отделяющий Сахалин от материка, этот пролив никакого отношения к татарам не имеет. Европа долгое время считала, что где-то у черта на куличках, далеко за Сибирью, процветает легендарная страна «Татария», и Лаперуз, веривший в эту мифическую страну, так и назвал пролив – Татарским. Правда, история позже внесла незначительную поправку: самое узкое место Татарского пролива нарекли проливом Невельского. Нас уже не смущает, почему на картах Дальнего Востока встречаются названия, странные для русского слуха. Когда Лаперуз проплывал мимо черного мыса (где позже светил кораблям маяк «Жонкьер»), он воскликнул, обращаясь к спутнику:
– Мичман де ла Жонкьер, вот мыс вашего имени…
Напротив Сахалина он отыскал удобную бухту.
– Лейтенант де Кастри, вот залив вашего имени…
Мы привыкли к этим названиям и не станем менять их, как не меняем и названий тех мест, какие давал Невельской – по именам офицеров своего корабля. Само же слово «Сахалин» – маньчжурское, так называли безлюдный островок, никакого отношения к нашему Сахалину не имеющий.
Кому же принадлежала эта странная земля?
В документах XVII века маньчжурской династии Цин, правившей в Китае, Сахалин не упоминается в числе китайских владений. Японцы же иногда приплывали на Сахалин, но только летом, а зимовать возвращались на теплую родину. Сахалин населяли гиляки (нивхи), орочоны и айны. Со слов этих аборигенов было известно, что в далекие времена средь них уже проживали русские. Туземцы даже сохранили листок из Псалтыря, на полях которого были перечислены в поминание православные имена: Иван, Данила, Петр, Сергей, Василий. Спутники Невельского нашли на Сахалине селения, в жителях которых внешний облик, язык и повадки, даже предметы быта чем-то напоминали родное – русское. Аборигены не отрицали, что их предки еще в древности породнились с русскими, пришедшими «Вон оттуда!» – и показывали руками на запад…
Айны называли японцев словом «сизам». Русским морякам они рассказывали: «Сизам спит, айно работает, айно не хотел работать – сизам его больно бил». Изредка в лесах встречались японские амбары, набитые ценными мехами, награбленными у местных жителей, на дверях висели замки, честность же гиляков и айнов была такова, что замок мог ржаветь годами, и никто его даже не тронул. В 1852 году на Сахалине побывал лейтенант Н. К. Бошняк и обнаружил там несколько выходов угля.
В 1857 году был заложен на Сахалине первый пост – Дуэ, началась добыча каменного угля для нужд русского флота. Отношение к природе на Сахалине было тогда самое хищническое, древние леса постоянно трещали пожарами, а жители острова даже не обращали на них внимания, говоря так:
– Велика ль беда? Догорит до речки и сам потухнет…
В царствование Александра II назрели две насущные проблемы, казалось, неразрешимые: отсутствие свободных земель, отчего в народе возникала бескормица, и нехватка тюрем, где узники спали буквально друг на друге. Министры докладывали императору:
– Тюремный вопрос в России – один из насущных вопросов современной жизни. Если остроги в Сибири уже перегружены арестантами, то никак не лучше положение и в каторжных тюрьмах европейской части империи. Нельзя, чтобы торжественный фасад великой державы открывался тюремными воротами. Требуется решение, дабы в корне изменить эту позорную и неприглядную ситуацию…
Вот тогда-то взоры сановников обратились к далекому Сахалину, и вскоре сложилось официальное мнение:
– О чем долго говорить? – рассуждали в сенате. – Французы заселили Новую Каледонию преступниками – и теперь там живут как у Христа за пазухой. Англичане всех своих жуликов выслали без лишних разговоров в Австралию – и теперь там возникла богатейшая колония, кормящая ту же Англию… Разве мы не можем повторить сей опыт на примере нашего Сахалина?
В 1869 году с кораблей сошли на берег острова первые каторжане, и, если верить очевидцам, многие из них горько рыдали, увидев, куда они попали. Но вместе с каторжанами заливались слезами и конвойные солдаты, их охранявшие… Чехов, подплывая к Сахалину, тоже испытал щемящее чувство тревоги, ностальгии, отчасти даже страха. В самом деле – картина была жуткая. Силуэты мрачных гор окутывал дым; где-то поверху, вровень с небесами, клокотали языки пламени от лесных пожаров; свет маяка едва проницал этот ад, а гигантские киты, плавая неподалеку, выбрасывали струи парящих фонтанов, кувыркаясь в море, как доисторические чудища. Но если было неуютно даже писателю Чехову, то каково было видеть эту картину каторжанам, которым предстояло здесь жить и умирать? Не тогда ли и сложились их знаменитые поговорки о Сахалине: «Вокруг море, а посередке – горе, вокруг вода, а внутри – беда…»
И если раньше в народе с ужасом произносили слова – Шилка, Акатуй, Нерчинск, Якутка, так теперь на Сахалине с содроганием говорили – Дуэ, Арково, Онор, Дербинка – это названия тюрем, вокруг которых быстро разрастались людские селения.
* * *
Но еще до появления каторжан на остров прибыли первые колонисты-добровольцы – вольные поселенцы, соблазненные обилием нетронутой земли, где нет исправника, нет и помещика. Эти наивные бедняги пришли сюда созидать новую жизнь – с детишками и женами, с сундуками и барахлом, им обещали каждому по корове, по мешку зерна, чтобы могли засеять первое поле. Судьба их оказалась трагической! Людей высадили с корабля не там, где следовало, им пришлось прорубать просеку в тайге, чтобы добраться до своих «выселок». Повалил снег, ударили морозы, зерна им не дали. Кресты над могилами детей и женщин, выросшие вдоль этой просеки, отметили путь к свободе и сытости. Проведя зиму в землянках, колонисты по весне тронулись назад – жаловаться начальству, но их погнали обратно в тайгу.
– Что за жисть! – горевали они. – Из деревни нас выживают медведи да варнаки с ножиками, а из городов начальство гонит. Куды ж нам теперича? Али помирать? Спать ложишься, так не знаешь, встанешь ли живым? Скотинку боязно на выпас выпущать – прирежут и сожрут нехристи окаянные…
Эти поселенцы всегда жаловались на оторванность от родины, на грабежи и убийства, но не могли скрыть восторга от земельной свободы, от изобилия в реках рыбы, а в лесах всякой живности. Но уже начиналась иная колонизация – насильственная! Там, где рельсы железных дорог России кончались, каторжных сгоняли в неряшливые колонны и гнали пешком через всю Сибирь, пока не дотащат ноги до берегов Тихого океана. В конце трехлетнего пути ослабевших везли уже на телегах; в гуще озлобленных людей зачиналось новое потомство; тут же, под кустами, рожали детей, на привалах резались ножиками, воровали друг у друга последние куски хлеба. Допотопные баржи выплескивали на берег Сахалина голодную толпу оборванцев с ошметками обуви на ногах, которые ненавидели Сахалин с того самого момента, как они разглядели его в пасмурной синеве моря.
В 1875 году Сахалин был признан законным владением России. С этого времени Сахалин спешно застраивался новыми тюрьмами, а полицейская бюрократия уже не могла справиться с огромной массой оголтелых преступников. Свистели в руках палачей плети, виселицы работали, кладбища росли, леса горели, звери разбегались, за бутылку спирта убивали. Россия и народ русский боялись Сахалина, как чумы, и осужденные на каторгу Сахалина часто калечили себя – только бы избавиться от ссылки. В ту пору даже смертная казнь казалась более легким наказанием…
Каторжный труд был рассчитан на истребление людей. Чтобы избавиться от непосильных работ, арестанты в зимние ночи высовывали через форточки руки, желая их отморозить, хлестали себя по голым телам жесткими щетками, дабы имитировать подозрительные сыпи на коже, настаивали чай или водку на махорке, после чего тряслись, как паралитики, а потом умирали. Каторга готовила могилы заранее – сотнями сразу, чтобы потом не возиться с каждым покойником отдельно, некрашеные гробы тяжко плюхались в болотную воду. Наконец люди на Сахалине часто сходили с ума, и на острове пришлось завести дом для умалишенных.
Нет уж, скажу я вам: ни Каледония, ни Австралия, ни даже зловещая Кайенна не могли идти ни в какое сравнение с Сахалином, из которого в Петербурге мечтали создать «райский уголок». Правда, и среди каторжан находились честные труженики, образованные люди, а среди приезжих попадались романтики, вроде агронома Мицули, видевшего в Сахалине богатую почву для разведения колоссальных плодов, каких уже не могла породить истощенная почва Европы. Но все это были одиночки, они погибали в условиях каторги, умертвлявшей в людях все доброе, все живое…
– Да уже лучше виселица или погост, – говорили каторжане, – нежели я тут за пайку хлеба горбатиться стану!
В 1881 году, недалеко от рудников Дуэ, вырос и оформился административный центр острова – Александровск, который местные остряки прозвали «сахалинским Парижем». Тогда же из Владивостока протянули по дну океана телеграфный кабель до Александровска, и теперь военные губернаторы Сахалина обрели возможность лично требовать от великой матери-России того, в чем больше всего нуждалась Сахалинская каторга:
– Хлеба! Когда пришлете транспорт с мукой? Поймите же, что ссыльнопоселенцы, уже освобожденные из тюрем, теперь толпами возвращаются обратно в тюрьмы… Да, да, я не шучу! Жить в тюрьме им кажется слаще свободы, ибо в тюрьме, худо-бедно, но миску баланды все равно получит. А на Сахалине он продал все, что имел. Иные продают своих жен, а матери торгуют дочерьми… Да я же не выдумываю вам сказки про белого бычка! Или вы сами не знаете, что такое каторга?..
Смертность людей, идущих по этапу через Сибирь, была столь велика, что впредь решили отправлять партии каторжан морем. Отправка на языке каторжан называлась «сплавом». На каждый год приходилось два «сплава»: весенний – для преступников мужчин, осенний – для преступниц женщин. Доставка арестантов на Сахалин была поручена кораблям Добровольного флота с военными командами, которые принимали свой груз в Одессе… Наверное, тогда-то и возникла эта отчаянно-залихватская песня:
Прощай, моя Одесса, веселый карантин. Мы завтра уплываем на остров Сахалин…5. Мы завтра уплываем…
Одессу наполнял тонкий аромат апельсинов из Яффы, жареных каштанов, завезенных из Сицилии, в саду Форкатти оркестр беспечально наигрывал мотивы из опер Доницетти. Приезжие навещали французскую ресторацию на Екатерининской улице в доме Бродских, где за один рубль каждому подносили шесть блюд, чашку турецкого кофе и полбутылки вина.
С начала весны в недорогом номере гостиницы «Лондон» поселилась семья Челищевых, приехавшая из Петербурга, чтобы проводить молоденькую Клавдию Петровну на Сахалин. Мать, убитая горем, уже не снимала черного платья, словно несла глубокий траур, она комкала в руке черный кружевной платочек.
– Не знаю, не пойму, – часто повторяла она. – Как можно с юных лет безжалостно уродовать свою жизнь?
– Мамочка, – ответила ей Клава, розовощекая и статная девушка, – ну стоит ли горевать? Нельзя же ведь жить только для себя. Сейчас, как никогда, Россия нуждается в том, чтобы мы, молодые, всюду сеяли «разумное, доброе, вечное».
– Так кто же мешал тебе сеять разумное и доброе в самой России? Зачем тебе взбрело в голову ехать на Сахалин?
– Ах, мамочка, как ты не понимаешь? Бестужевок в России и без меня хватит, но я решила прийти на помощь всем страждущим Сахалина, где живут самые несчастные люди…
Мать раскрыла ридикюль, машинально проверив – не затерялся ли билет на пароход «Ярославль», отплывающий завтра утром с партией арестантов. Впрочем, билет дочери был первого класса, а столоваться она будет в общей кают-компании.
В разговор вмешалась тетка, заметившая сурово:
– Несчастных полно и в самой России, так стоит ли отдавать свои самые лучшие годы бандитам, ворам и всяким там прохвостам? Об этом ты, кажется, не подумала…
Молодой кузен в мундире технолога добавил:
– Я думаю, Клавочка, если бы ты не окончила Бестужевские курсы, где профессоры на лекциях больше либеральничали, проливая слезу над бедным мужиком, тебе бы никогда не пришла в голову идиотская мысль о Сахалине… Порядочные люди не знают, как убежать оттуда, а ты едешь добровольно. Зачем?
К ним в номер заглянул молодой инженер-геолог Оболмасов, который за эти дни ожидания парохода сделался как бы своим человеком в семье Челищевых. Геолог тоже отплывал на Сахалин, но им управляла не бесплатная лирика сострадания к ближнему своему, Оболмасовым руководила, как он сам признавался, «осмысленная идея научно-экономического порядка».
– Сегодня очень хороший вечер, – сказал Оболмасов. – И не провести ли нам его совместно в саду Форкатти?
Мать поправила на его груди значок Горного института.
– Георгий Георгиевич… милый Жорж! – взмолилась она. – Я вижу в вас практичного и благородного человека. Ради всех святых, проследите за моей Клавочкой, помогите ей.
Оболмасов поцеловал руку матери, почти любовно он обозрел красоту и стать ее дочери.
– Анна Павловна, – отвечал он с выспренним пафосом, – положитесь на меня… Вы абсолютно верно выявили суть моей натуры, и я всегда останусь добрым рыцарем Клавдии Петровны, дабы оградить ее прелестную чистоту ото всего грязного и позорного, что будет окружать ее на Сахалине.
* * *
С утра раннего в порту Одессы полицейское оцепление сдерживало громадную толпу провожающих – жен, которые навсегда теряли мужей, матерей, которые уже никогда не увидят сыновей, невест, которым суждено выплакать глаза по своим женихам, отсылаемым на сахалинскую каторгу. Сколько тут было слез, истерик, выкриков, проклятий и заклинаний…
– Осади… осади назад! – покрикивали городовые.
«Ярославль» уже дымил у причала, иногда постанывая сиреной, словно желая поскорее оторваться от берегов. Наконец, портовые ворота распахнулись, в окружении конвоиров потянулась серая, галдящая, почти одноликая толпа арестантов. Слышалось надсадное бряканье кандалов, звон жестяных кружек у поясов, хохот и плач, матерная брань и нескромные прибаутки. Из толпы провожающих вырывались напутственные вопли:
– Сашенька, напиши сразу как приедешь!
– Никола, а ты сахарок не забыл ли?
– Поклон Юрке Жигалову, если его встретите.
– Сыночек, ждать буду… не помру без тебя…
– Осади! Осади назад!.. Я кому сказал?..
В этой громадной толпе, что растекалась сейчас по трапам и люкам, заполняя корабельные трюмы, были представители многих древнейших профессий: маравихеры – карманники, мокрушники – убийцы, блиноделы – фальшивомонетчики, торбохваты – базарные жулики, хомутники – душители, костогрызы – неопытные воришки, чердачники – похитители белья, самородки – взломщики несгораемых сейфов, сонники – кравшие у спящих пьяниц, лапошники – взяточники, фармазоны – продавцы стекляшек под видом бриллиантов, паханы – скупщики краденого, субчики – альфонсы и сутенеры, скрипушники – воры на вокзалах, маргаритки – мужчины-проститутки и педерасты, марушники – карманники по церквам и на кладбищах, шопенфиллеры – грабители ювелирных магазинов, халтурщики – ворующие из квартир, где имелся покойник, огольцы – дачные ворюги, наконец, в этой толпе были «от сохи на время» – воистину несчастные люди, невинно осужденные. А надо всей этой нестройной шатией, над «шпаною» и «кувыркалами» (мелочью, недостойной внимания), гордо возвышались рецидивисты и в а н ы – повелители тюрем и каторг, слово которых – закон для всех и которые готовы «пришить» любого, кто не исполнит их каприза. Вокруг же иванов, подобно адъютантам вокруг генералов, суетились жалкие «поддувалы» – на все готовые за пайку хлеба, всегда продажные, живущие крохами со стола своих озверелых суверенов…
– Шевелись, сволота поганая! – понукали конвоиры.
Клавдия Челищева и Жорж Оболмасов стояли в стороне, среди немногих пассажиров «Ярославля», ждущих посадки после погрузки арестантов, и, когда толпа каторжан миновала их, оставляя после себя дурной запах, Оболмасов сказал девушке:
– Ах, Клавочка! У меня определенные цели на Сахалине, потому в этой грязной массе преступных натур я усматриваю для себя лишь рабов для осуществления своих великих целей…
К пассажирам подошел любезный жандарм:
– Дамы и господа, одну минутку терпения. Сейчас доставят еще одного «самородка», после чего начнется ваша посадка.
Подкатила коляска, в которой преступник был стиснут по бокам двумя охранниками. На голове «самородка» расползлась мятая бескозырка, бубновый туз на спине халата был чуть ли не бархатный, а кандалы излучали нестерпимый блеск, начищенные, видать, от тюремной тоски – ради пущего арестантского шика.
Оболмасов авторитетно пояснил Клавочке:
– Кандалы-то у него какие! Сверкают – словно бриллианты от фирмы «Фаберже»… Сразу видно особо опасного преступника. Такой и родную мать придушит. Сама природа озаботилась, чтобы начертать на его лице следы жестокости и самых грязных пороков.
Это было сказано по-французски, и, к удивлению пассажиров, арестант живо обернулся. Кратким, но выразительным взором он сначала окинул Челищеву, затем приподнял над головой свою бескозырку, отвечая Оболмасову на отличном французском языке:
– Вы бездарный физиономист! Исходя из внешности Сократа, Цицерон считал его глупейшим женолюбцем. Простите, мсье, но на вашем самодовольном лице я свободно прочитываю следы дегенерации. Впрочем, советую на досуге почитать научный трактат «О выражении ощущений», написанный вели…
Тут конвоиры дали ему тумака по шее:
– Топай, топай… еще тары-бары разводит!
Арестант спокойно направился к трапу «Ярославля».
– Странный человек, правда? – спросила Клавдия.
– Интеллектуальная тварь, – ответил ей Оболмасов.
Инженер-геолог был отчасти шокирован тем отпором, который получил от преступника. Этим арестантом был, конечно же, наш Полынов, а конфликт между ними уже определился…
Черное море миновали спокойно, в Константинополе была краткая остановка, чтобы высадить русских мусульман, спешащих на поклонение в Мекку, после чего громадный транспорт Добровольного флота тронулся дальше, а жара усиливалась…
Офицеры транспорта, веселая и беззаботная молодежь, явно радовались присутствию в кают-компании юной образованной женщины, которая окончила Бестужевские курсы, а перед отъездом на Сахалин сдала еще и экзамен на фельдшерицу.
– Мы, – говорили ей мичманы, – высоко ценим «души прекрасные порывы». Поверьте, нам порою бывает до слез жаль эту публику, но… что поделаешь? Служба есть служба.
Слева по борту приветливо мелькнули огни богатого Бейрута, потом долго стелились безжизненные пейзажи Палестины и Синая, дышать в этом зное становилось все труднее. Офицеры советовали Челищевой одеваться полегче, сами же они, как англичане, ходили в коротких шортах, носили пробковые шлемы.
– Только бы протащиться Красным морем, а за Аденом станет чуть легче… Не спрашивайте, что творится сейчас в трюмах, если невозможно дышать даже под тентами на верхней палубе. Но вам, Клавочка, повезло! Мы покажем вам земной рай Коломбо и Сингапура, вы увидите то, что дано видеть не каждому…
По ночам с палубы слышался надсадный визг железа. Челищева долго не понимала, что это значит. Но однажды, поднявшись на палубу, она увидела мертвецов, с которых корабельные кузнецы молотами сбивали звонкие браслеты кандалов. Старший офицер корабля, кавторанг Терентьев, просил ее удалиться:
– Идите, голубушка, в каюту. Вас это не должно касаться. Сегодня лишь четыре человека, а вчера было еще больше…
В помещениях третьего класса, где резво бегали тараканы, ехали «добровольно следующие», как именовались они в казенных бумагах. Это были жены и дети каторжан, уже сидевших по тюрьмам Сахалина, и теперь родственники плыли на далекий «Соколиный остров», дабы облегчить их участь в семейном кругу. Закон гласил: арестант, который обзаведется на Сахалине семьей, механически освобождается от тюрьмы, переходя в разряд «вольнопоселенцев». Вот они и плыли – среди неряшливых узлов, среди жалких пожитков, собранных в дорогу. Одна из баб, укачивая на коленях младенца, горестно рассказывала:
– Говорила я сваму: не пей ты, не пей, не пей. А он – все за свое! Ну вот и пошел по убивству в драке-то деревенской. На праздник святого Николы Угодника – стакан за стаканом. Дома-то таперича все прахом пошло. Посуды мне жаль, уж таки горшки были ладные, вместях на ярмонке покупали… Нонеча пишет вот мне: прости, Агафьюшка, что не слухал тебя, а коли не приедешь, так удавлюсь, и грех на тебя ляжет…
Молодуха в цветастом сарафане, явно деревенская щеголиха и сластена, задорно щелкала семечки, взятые ею в дорогу:
– А мой-то пишет, что корову начальство дало. Коль я приеду, так порося сулятся дать. Огурцов там этих, репы да селедок – ешь не хочу! Теперь пишет, что уже полусапожки на московском ранте мне справил… прифасонюсь!
В кают-компании за обедом – иные разговоры. Сахалинский чиновник Слизов с некрасивой женой по имени Жоржетта возвращался из отпуска, рассказывая весьма откровенно:
– Будь он проклят, Сахалин этот, но… не оторваться! Уже засосало. Опять же, посудите сами, служи я в России, на двадцать восемь рублей жалованья ноги протянешь. А в Александровске – деньги бешеные, пенсия приличная. Положение в обществе. Дров сколько угодно. Попробуйте нанять прислугу в Москве – она с вас три шкуры сдерет, да еще обворует. А на Сахалине я бесплатно беру из конторы пять каторжан сразу: извозчика, садовника, водоноса, дровосека, кухарку и… даже портного для моей Жоржеточки. И все даром, заметьте! Это ли не жизнь?
Чиновники нанимались служить на Сахалине, где с каждым пятилетием службы им прибавлялось жалованье, улучшались удобства жизни. Развращающе действовал полуторный оклад и «амурская» надбавка к жалованью. Но Терентьев уже шепнул Клавочке:
– Не верьте вы этим трутням! Не в силах создать свою судьбу в нормальных условиях материка, как они могут на Сахалине исправить искалеченные судьбы других людей? Губернатор Ляпишев сейчас их всех немного приструнил, а раньше такие же вот Жоржеточки кухарок и прачек насмерть засекали…
Оболмасов среди пассажиров держался несколько загадочно, словно его ожидала на Сахалине секретная миссия, но Терентьев все же вынудил его разговориться, спросив напрямик:
– А вас-то, юноша, что влечет в каторжные края?
Оболмасов, отвечая, заметно приосанился:
– Видите ли, господа, я решил вырвать монополию на нефть у фирмы Нобелей, дабы создать на Сахалине новый Баку! Сколько же еще нам, русским, ковыряться с дровишками и закупками кардифа у жмотов англичан? С появлением двигателя внутреннего сгорания человечество перейдет на жидкое топливо. И мы, геологи, – упоенно говорил Жорж, – сейчас являемся передовыми разведчиками будущего. Мы уже видим Россию, фонтанирующую нефтяными скважинами, и тогда… К чему скрывать? – скромно сказал Оболмасов. – Я далеко не бескорыстен, как некоторые идеалисты. Я желал бы ворочать на Дальнем Востоке миллионами, как и Нобели на Кавказе, чтобы мой сахалинский керосин распалил лампы в избах мужиков – от Амура до самой Вислы…
С победным выражением геолог глянул на Клавочку Челищеву, а молодые мичманы даже похлопали ему в ладоши:
– Браво, брависсимо! Но комаров на Сахалине такая же толпа, как и публики перед театром, когда в нем поет Федя Шаляпин…
С мостика передали доклад вахтенного штурмана:
– Прямо по курсу открылись огни маяков Порт-Саида…
Клавочка рискнула спуститься в нижние палубы корабля – под отсеками третьего класса, и там ее сразу охватила противная липкая духота. Матросы с винтовками и сумками для патронов у поясов, стоя у зарешеченной двери, твердо сказали:
– Сюда, барышня, никак нельзя. Мы и сами туда не ходим. Прирежут! А кто сдох, того мы за ноги через люк вытаскиваем…
Все было продумано заранее, и в случае бунта каторжан трюмы наполнялись раскаленным паром из корабельных котлов, чтобы люди сварились заживо, как бобы в закрытой кастрюле.
* * *
Молодость чересчур любопытна. Клавдия Челищева впервые плыла на таком большом корабле, для нее был соблазнителен этот мир железных и гулких лабиринтов, уводящих в темноту люков, возносящих к небесам трапов, тайна загадочных коридоров. В носу «Ярославля» узенький коридорчик завел ее в тесный форпик, огороженный решеткой. Часовых здесь не было, очень ярко светила лампа, а за решеткой сидел человек… тот самый!
В первый момент девушка даже испугалась:
– Это вы, сударь? Почему вас держат отдельно?
– Очевидно, я опаснее других, – ответил Полынов. – Для таких хищников, как я, требуется особая изоляция…
Он приник лицом к прутьям решетки, и Клавочка вдруг обомлела от взгляда его глаз – золотистых, как мед, почти янтарных, а в глубине зрачков иногда вспыхивали отблески, словно человек давно сгорал изнутри и не мог догореть. Полынов спросил:
– Мадмуазель спешит во Владивосток к жениху?
– Нет, я плыву только на Сахалин.
– По какой же статье о наказаниях? – спросил он.
– По статье совести и гражданского долга.
– Но такой статьи в собрании имперских законов нет.
– Но она существует, даже неписаная, в душе каждого честного человека, если он желает быть полезен обществу.
Форпик размещался в самом носу корабля, и в нем было слышно, как форштевень сокрушает под собой волны.
– А вы не задумывались над вопросом, стоит ли наше общество того, чтобы ему услужали? Вот, например, я, – высказался Полынов, – неужели вы способны услужить даже мне?
– Мне вас очень жаль, сударь, – искренно ответила Клавочка. – Если угодно, я согласна помочь вам. Но… чем?
– Я был бы чрезвычайно признателен вам, если бы вы узнали, нет ли в партии арестантов политических ссыльных.
– Я сама спрашивала об этом господ офицеров. И если вы страдаете за убеждения, вынуждена огорчить вас: на «Ярославле» плывут одни лишь уголовники, а политических нету.
Полынов кивнул. Челищева улыбнулась ему:
– Впрочем, могу вас порадовать… Случайно на этом корабле плывет один политический, о чем никто не догадывается.
Полынов нервно отпрянул прочь от решетки:
– Кто он? По какому процессу? Русский или поляк?
– Это я, – вдруг ответила Клавочка…
Рев сирены заглушил ее слова: «Ярославль» уже втягивался в обширные гавани Порт-Саида, чтобы взять угля и пресной воды, пополнить запасы искусственного льда для кают-компании. Клавочка даже не пошла на берег, почти с ужасом ощутив, что она влюбилась в этого страшного человека, сидящего за решеткой форпика…
6. Приезжайте – останетесь довольны
С высокой колонны памятник Фердинанду Лессепсу как бы благословлял всех плывущих Суэцким каналом. Но для каторжан, которые уже не раз и не два – бежали с Сахалина, а теперь вдругорядь плыли этой же дорогой обратно, для них Лессепс означал новые страдания. Красное море встретило «Ярославль» сухими горячими ветрами, дующими из пустынь Аравии, мельчайший раскаленный песок забивал широкие сопла корабельных вентиляторов, дышать становилось труднее, с лиц матросов сползала кожа, а нежные губы женщин покрывались болезненными трещинами. Смертность среди арестантов в трюме сразу усилилась.
Старший офицер Терентьев, желчный и болезненный человек, удивлял Челищеву контрастами своей натуры: состояние мягкого добродушия иногда сменялось в нем порывами самой необузданной жестокости. Напрасно часовые в трюмах давали тревожные звонки на вахту мостиков, призывая забрать умерших, кавторанг не обращал на эти звонки внимания, объясняя так:
– Здесь район оживленного мореходства, а трупы могут всплыть, привлекая внимание иностранцев. Пусть уж валяются на своих нарах, пока не выберемся в океан… там и покидаем!
Оболмасов сказал Клавочке за столом:
– Представляю, какой аромат сейчас в трюмах…
По давней традиции судов Добровольного флота, в Красном море начинали расковку кандальных, потом до самого Цейлона каторжан брили заново. Рецидивистам обривали правую часть головы, а бродягам, не помнящим своего родства, – левую. Но в преступном мире всегда немало причин, чтобы из одной категории виноватых перейти в другую, и скоро все уголовники ходили с головами, выбритыми одинаково – как с правой, так и с левой стороны.
– Не понимаю, – возмущался Оболмасов за ужином, – неужели в трюмах не было обыска? Откуда у них взялись бритвы?
– Голь на выдумки хитра, – пояснил Терентьев. – Берется крышка от жестяного чайника. Один край ее оттачивается как лезвие. После этого – извольте бриться…
В открытом океане полуобморочных каторжан выводили из трюмов на верхние палубы, где матросы окатывали их забортной водой из пожарных «пипок». Так, наверное, на бойнях обмывают скотину, чтобы под разделочный нож мясника она поступала уже чистая. Каторжан стали выпускать из трюмов в отхожие места, расположенные наверху. Но охрана, вконец ошалевшая от жарищи, ленилась конвоировать людей поодиночке.
– Так чо я вам! – орали конвойные. – Или нанимался тута валандаться с вами? Дождись, когда другие захотят, тогда и просись. Меньше чем полсотни человек не поведу…
Тела каторжан покрывала тропическая сыпь, которая быстро переходила в злокачественный фурункулез. Все чаще шлепались за борт трупы, кое-как завернутые в куски парусины. При этом в машины давался сигнал «стоп», чтобы мертвеца не подтянуло в корму, где он сразу же будет раскромсан на куски работающими винтами… Вечером Клавочка Челищева поднялась на «крыло» мостика, чтобы полюбоваться звездами и величием Индийского океана. Терентьев сам подошел к ней и, облокотясь на поручни, долго помалкивал. Вода сонно шумела за бортом корабля.
– У вас есть на Сахалине друзья или родственники?
– Нет. Да и откуда им быть? – ответила Клавочка.
– На что же вы тогда рассчитываете, бедная вы моя? Нельзя же свой идеализм непорочной младости доводить до абсурда. Я шестой год «сплавляю» партии каторжан на Сахалин, и я лучше других знаю, каковы там условия… Вы же там погибнете, и даже винить некого, ибо каторга всегда остается каторгой!
Это пылкое признание пожилого человека даже смутило Клавдию Петровну, не сразу она нашлась, что ответить:
– Так не возвращаться же мне обратно.
– Теперь уже не вернуться… Сейчас, – продолжал Терентьев, – военным губернатором на Сахалине состоит Михаил Николаевич Ляпишев, генерал он добрый, насколько это возможно в сахалинских условиях. Он меня знает. Я напишу ему рекомендательное письмо, чтобы к вам отнеслись благожелательнее.
– Спасибо, – от души благодарила Клавочка.
– Но предупреждаю, что каторга смеется над слезами и клятвами. Если вы поверите кому-либо, вы погибнете тоже. Преступники, как никто, умеют вызывать в честных людях не только симпатию к себе, но даже сочувствие. В тюремном жаргоне бытует особое выражение – «дядя сарай», так называют всех людей, верящих тому, что им было сказано…
Мимо них пронесло в ночи ослепительный пароход, сверкающий от обилия электрических огней, до «Ярославля» донесло музыку корабельных баров и дансингов, где свободные люди флиртовали, развлекались выпивкой и танцами, даже не зная, что такое каторга. На миг девушке стало печально: этот пароход возвращался в Европу, и Терентьев с каким-то надрывом утешил Клавочку:
– Ладно! Зато мы скоро будем в раю Цейлона…
Пароход Добровольного флота еще плыл в Индийском океане, а в его трюмах, куда не достигали ароматы тропических фруктов, арестанты рьяно обсуждали, в какой тюрьме Сахалина надзиратель зверь, а какой продажен, сколько платить палачу, чтобы с одного удара не перебил тебе позвоночник, словно сухую палку.
Иван Кутерьма, человек бывалый, делился опытом жизни:
– На Оноре – великий мастер, плетью доску перешибет, а как треснет по табуретке, так она в куски разлетается. Зато сунь ему рубелек, он тебя так отгладит, так изнежит, будто живою водой ополоснешься и вскочишь с лавки еще здоровее…
Что им сейчас до райских красот Цейлона?
* * *
– Да, скоро и Цейлон, – сказал Полынов, когда Клавочка, движимая женским интересом, снова навестила его, одинокого узника в отдаленном коридоре носового форпика. – Советую вам сойти с корабля в Коломбо, и вы окажетесь в раю, где в древности блаженствовали Адам с Евой еще до их грехопадения…
Порою было трудно понять, когда Полынов говорит серьезно, а когда иронизирует. Но пришлось удивиться:
– Вы разве бывали и в Коломбо? – спросила она.
– Был. Но еще до своего грехопадения. – На этот раз Полынов сам высказал ей просьбу о помощи. – По вечерам из трюмов стали выводить на палубы всякую рвань и нечисть, чтобы она надышалась чистым воздухом. Я прошу вас найти случай передать Ивану Кутерьме, что я жду… Давно жду и очень жду…
– Чего вы ждете?
– Мандолину. Кутерьма поймет, что такое мандолина, а вам, милейшее создание, понимать такие вещи необязательно.
– Иван Кутерьма? А как мне узнать его?
– Гигант ростом. Верзила! На голове у него уродливый шрам от удара топором. Не узнать его просто невозможно.
– Хорошо. Я постараюсь, – обещала ему Клавочка…
Кутерьма выслушал девушку и проворчал в ответ:
– Ладно-кось, барышня. Завтрева же на эвтом месте…
На следующий день Иван подкинул к ее ногам маленький сверток, в котором было что-то тяжелое, и сделал это настолько ловко, что Клавочке даже не пришлось подходить к нему, а внимание конвоиров было отвлечено суматошной дракой, которую нарочно устроили в этот момент ивановские «поддувалы». Когда же девушка передала Полынову сверток, он сказал ей:
– Благодарю. До Гонконга осталось лишь восемь суток… Вы все-таки побывайте на берегу. Там есть отличный отель «Континенталь». Но снимите номер сразу на двоих.
– Кто же будет вторым? – оторопела Клавочка.
– Наверное… я! – рассмеялся Полынов, и было опять непонятно, то ли он говорит серьезно, то ли шутит…
В океане началась мертвая зыбь. «Ярославль», содрогаясь громадным корпусом, тяжело и плавно подминал под себя черную воду океана. Помимо каторжан, корабль имел торговые грузы, обязанный доставить их в порты назначения. От московской парфюмерной фирмы «Брокар» везлась большая партия духов и одеколонов для выгрузки в японском порту Нагасаки, а владивостокские магазины «Кунста и Альберса» давно ожидали прибытия закупленного ими в Лионе бархата.
– Вот и отлично, – рассуждал за ужином Оболмасов. – Значит, мы еще повидаем и танцы гейш Нагасаки… роскошная жизнь!
– Но вам, – язвительно заметила Клавочка, – кажется, больше всего понравилось пребывание в злачном Порт-Саиде…
Отношения между ними разладились именно с Порт-Саида, где Оболмасов торопливо скупал всякую непристойность. Теперь же его часто видели в отсеках третьего класса, там он любезничал с молодухами, плывущими на вызов своих мужей. Напрасно теперь геолог пытался оставаться перед Челищевой любезным кавалером, девушка решительно отвергла все его ухаживания:
– Тот опасный преступник на пристани в Одессе оказался хорошим физиономистом… И не старайтесь опекать меня, делая при этом вид, будто вы имеете на меня какие-то права!
– Не какие-то, а чисто моральные.
– Но я слишком далека от вашей морали…
Средь ночи Клавочку разбудила беготня матросов по трапам, а по металлу палуб цокали приклады винтовок караульной команды. Девушка накинула халат. В пассажирском салоне Оболмасов, стоя возле открытого буфета, наливал себе полный стакан виски. Он был бледен от испуга, виски проливалось мимо стакана.
– Что случилось, Жорж? – спросила его Челищева.
– Бунт… В котельных уже готовят подачу пара под высоким давлением, чтобы ошпарить всю эту сволочь в трюмах, как тараканов. Ужас! Ведь всех нас могли бы вырезать…
Он жадно выпил. Мимо них торопливо прошел заспанный мичман, пристегивая к широкому ремню кобуру с револьвером.
– Ничего страшного! – зевнул он. – Еще ни один рейс до Сахалина не обходился без фокусов… Идите спать. Сейчас все будет в порядке. Хорошо, что вовремя спохватились…
Где-то в глубине корабля грянул выстрел. Потом еще и еще. В салон ввели тюремного старосту, который сразу бросился на колени – стал молиться перед иконами:
– Слава те, хосподи! Нонеча самому батюшке-царю писать стану… может, и помилует? Страх-то какой, едва вырвался…
Оказывается, этот староста (тоже из каторжан) какой уже день выкидывал за решетку записки – для начальства: мол, готовится бунт. Но корабельные сквозняки тут же подхватывали мизерные бумажки, как негодный мусор, и часовые не обращали на них внимания. Наконец, один из них поднял записку старосты, но… не мог прочесть ее (по причине безграмотности).
– Нам усорили тут, паразиты, – сказал он.
Между тем в трюмах жить было уже невозможно. Никакая вентиляция не могла высосать из преисподней транспорта отвратные запахи пота и зловоние загнивающей пищи и блевотины укачавшихся людей, которые извергали свои нечистоты с третьего этажа нар на нижние, ноги арестантов скользили в этой мерзости, которая при качке переливалась с борта на борт. В этих кошмарных условиях иваны стали искать выход из трюма. Они обнаружили лазейку в узкий туннель, забранный решеткой, но прутья ее удалось раздвинуть. Иван Кутерьма одного из своих «поддувал» просунул башкою прямо в эту дырку:
– Вперед – за веру, царя и отечество! Ползи, покедова труба не кончится. Может, даст бог, и найдешь чего стоящего…
Иваны мечтали добыть оружие, чтобы, перебив охрану, завладеть кораблем и уплыть на нем куда-нибудь так далеко, где каторгой и не пахнет. Наконец из трубы туннеля выставилась голова верного «поддувалы». Он вернулся с разведки – пьян-распьян, но доставил в трюм два больших флакона.
– Там полно всего, – сообщил. – Теперь гуляем…
Иван Кутерьма ознакомился с этикеткой: «О-ДЕ-КО-ЛОН. НЕЗАМЕНИМЫЙ СПУТНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА. Освежает воздух в душном купе вагона, делая обстановку приятной. Бесподобен во всех отношениях как дезинфекционное средство. При покупке просим обращать внимание на фирменный № 4712. Остерегайтесь подделок!»
– Годится, – сказал Иван, опустошая флакон до дна. – Мы подделок не боимся…
Наконец одну из записок старосты случайно поднял машинист, человек грамотный, и доложил о ней старшему офицеру.
– Тревога! – объявил Терентьев. – Там уже все перепились. Но прежде любым способом выманите из трюма старосту…
Старосту вызвали из трюма якобы для наведения справок о заболевших. А на следующий день – как раз напротив цейлонского «рая» – устроили экзекуцию. Перепороть сразу 800 человек – на это сил никаких не хватит. Но уже сорок седьмой, не выдержав истязаний, выдал заговор, что подтвердили еще трое. Всех иванов заковали в кандалы и рассадили по разным клеткам корабельных карцеров. До Гонконга оставались сутки приличного хода, когда Терентьев сказал в кают-компании:
– А нам уже нет смысла навещать Нагасаки, ибо все духи и душистые притирания фирмы Брокара выпиты. Не знаю, что будет во Владивостоке, когда мы предъявим магазинам «Кунста и Альберса» куски лионского бархата, разрезанного на портянки…
Только он это сказал, как появился боцман:
– Ваше благородие, – козырнул он, – прямо как нечистая сила у нас завелась… Этот-то телегент, что отдельно в форпике сидел, куда-то исчез. Утром еще был, а чичас нету его…
Клавочка чуть не вскрикнула: это ведь о нем, о Полынове!
Боцман потряс перед офицерами связкою звенящих кандалов:
– Сам и расковался. Не на заклепках, а на штифтах были. Вот ведь сволочь какая… где ж у них стыд? Где ж у них совесть?
* * *
До Гонконга оставались считанные мили, а Полынова нигде не могли найти, и мичманы стали уже поговаривать, что он наверняка выбросился в море, чтобы плыть до берега. «Может, и так, – соглашались другие, – но каким образом он мог выбраться из своей секретной камеры форпика?» Чудовищные догадки приходили в голову Челищевой; она не хотела верить, что Иван Кутерьма передал ей отмычки для Полынова, которые и вернули ему свободу. Неужели она сделалась сообщницей преступников?.. На горизонте почти гравюрно проступили очертания берегов, а Полынов еще не был найден. Обшаривали все закоулки транспорта и при этом спешили, ибо близость Гонконга давала беглецу больше шансов скрыться с корабля. Вот и рейд, где можно отдавать якорь…
– Нашли! – раздался торжествующий голос боцмана.
– Где нашли? – резво вскочил Терентьев.
– Да в маяке нашли…
«Маяком» назывался медный пустой столб в рост человека, внутри его полыхал бортовой огонь, предупреждающий встречные корабли о возможности столкновения. Офицеры и пассажиры разом высыпали на палубу. Полынова обыскали, но «мандолины» при нем, конечно, не обнаружили. Терентьев был в бешенстве:
– Ты думаешь отделаться карцером? Нет, голубчик, я тебя запихаю обратно в маяк и закрою на ключ, поставив часового с оружием. Вот и будешь светить прямо по курсу… Сразу зовите сюда кузнецов! Заковать его по рукам и ногам.
«Ярославль» снова вышел в океан, солнце стояло в зените, а медный колпак маяка раскалился до такой степени, что на нем, как на сковородке, можно было выпекать лепешки. Страшно думать, что внутри этого столба замурован живой человек. Судовой доктор долго терпел, потом не выдержал, сказав Терентьеву:
– Вы, конечно, вправе наказывать людей, но вы лишены права убивать их. Я, как врач, публично протестую против этой варварской пытки, которую вы устроили человеку.
Старший офицер «Ярославля» отвечал:
– Почему, вы думаете, я не ставил в форпике часового? Там был замок решетки с секретом. Сначала надо сделать два поворота на закрытие, а потом уже открывать… Так он, гадина, и тут сообразил! И я не выпущу его из маяка, пока не сознается, откуда у него – после многих обысков! – оказалась своя «мандолина»? Не мог же он ковырять секретный замок пальцем…
Ото всех этих разговоров, обращенных, казалось, непосредственно к ней, виновнице добывания отмычек, Клавочка не знала, куда ей деться, и наконец она бурно расплакалась.
Терентьев положил сигару на край пепельницы и сказал:
– Ну, если и Клавдия Петровна плачет… выпустим!
Когда открыли дверку металлического столба, на доски палубы безжизненным кулем вывалился Полынов.
– В лазарет его… быстро! – командовал доктор.
В лазарете преступник обрел сознание, наконец он разглядел и лицо Челищевой… Губы его сложились в гримасе улыбки.
– Теперь вам понятно, – сказал он, – почему я просил снять в роскошном «Континентале» Гонконга номер на двоих?
– Не смейте делать из меня свою сообщницу!
Ответ был почти оскорбителен для девушки:
– Но ведь вы… политическая, не так ли?
– Но еще не каторжница! – в гневе отвечала Челищева.
Когда миновали Цусиму и вошли в Японское море, уже на подходах к Владивостоку, всем узникам «Ярославля» бесплатно выдавали конверты и бумагу, чтобы отписались на родину. Грамотеи писали домой сами, а потом собирали пятачки с неграмотных, просивших сочинить за них «пожалобней, чтобы до слез проняло». Рецидивисты хорошо знали сахалинские порядки: там не станут томить человека в тюрьме, если к нему приезжали жена и дети. Всю семью в тюрьму не посадишь, чтобы кормить ее от казны, а потому считалось, что арестанта лучше из тюрьмы выпустить – и пусть живет где хочет; отсюда и возникло типично сахалинское выражение – «квартирный каторжанин» (то есть живущий на вольных хлебах). Теперь в трюмах корабля опытные ворюги со знанием дела поучали плывших на Сахалин «от сохи на время»:
– Пиши жене, что корову уже получил, скоро верблюда дадут с павлином. Поросят и арбузов тута сколь хошь. А коли, мол, не приедешь, дура старая, так мне от начальства уже молоденькую обещали. У ней губки бантиком, попка с крантиком, а сама фик-фок – на один бок! Так и пиши, «дядя сарай»…
И – писали. Даже те, которые по церковным праздникам в деревнях увечили своих жен смертным боем, теперь обращались к своим супругам чересчур уважительно: «Драгоценные наши Авдотьи свет Ивановны! Как можно поскорее приезжайте ко мне отбывать веселую каторгу – останетесь премного довольны…»
7. Власти предержащие
Татарский пролив опасен частыми штормами. Якоря плохо держали корабли за каменистый грунт, и, чтобы не разбиться о скалы близ Александровска, суда подолгу дрейфовали в открытом море, они спешили укрыться в бухте Де-Кастри, искали убежища в Императорской (ныне Советской) гавани.
Многие селения Сахалина связывались с миром только зимою, а летом меж ними пролегали звериные тропы; через таежные реки природа сама навалила подгнившие деревья, словно перекинув мостики для пешеходов. На вершинах сопок, окружавших Александровск, и в глубине таежных падей до начала июля не таял снег, а в октябре выпадал уже новый. Июнь бывал отмечен инеем на траве, Сахалин рано испытывал заморозки. С маяка «Жонкьер», что светил кораблям от самых окраин города, тоскливо подвывала сирена да погребально названивал штормовой колокол. Александровск, эта убогая столица каторги, насчитывал тогда четыре тысячи жителей, и, как парижане гордились Эйфелевой башней, так и сахалинцы хвастались зданием тюремного управления:
– Гляди! Два этажа. Глянешь – и закачаешься…
Все постройки в городе сплошь из дерева, а по бокам улиц – мостики из досок, скрипучие. Дома обывателей в два-три окошка, возле них чахлые палисадники. Зелени и деревьев мало (все уже повырубили). Зато столицу украшали две церкви, мечеть, костел и синагога. Был приют для детей, брошенных родителями, и богадельня для ветеранов каторги, которые по дряхлости лет воровать и грабить уже неспособны. Была еще больница на 200 кроватей, а в селе Михайловке – дом для умалишенных. Вдоль речушки Александровки от самого базара тянулась Рельсовая улица, пока она не терялась в лесу, и на Рельсовой по вечерам одному лучше не показываться. С чего здесь живут люди – сам бес не знает, но они живут, и по вечерам, под тонкие комариные стоны, окна домишек оглашали азартные всплески голосов:
– Пять рублей мазу! Задавись ими, глот.
– Бардадым… я уже пас, катись налево.
– Держу шелихвостку… на ять дамочка!
Каторга умудрялась играть везде. Даже в удушливых штреках угольных копей Дуэ. Ради карт отдавали последнюю пайку хлеба. Азарт доводил до полного растления личности, до самоубийств. Когда играть было уже не на что, тогда ставили в банк свою поганую жизнь. Продували в штос жен и детей своих. Все шесть тюрем Сахалина обслуживали только мужчин. А женскую тюрьму пришлось закрыть после того, как все сидящие в ней арестантки оказались в интересном положении. После карт и женщин на Сахалине выше всего ценилась водка! Бутылка паршивого спирта, добытая в казенном «фонде» за 25 копеек, после всяческих спекуляций и авантюр, уже наполовину разбавленная водой, доходила в цене до десяти рублей. Зато вот личную свободу каторга ни в грош не ставила. Люди на каторге так и говорили:
– Свобода дома на печи лежать осталась, а здеся я всегда хуже пса безродного! И перед каждым фрайером, что в фуражке чиновника, обязан за двадцать еще шагов шапку ломать да с тротуара в грязюку полезать, кланяясь ему… Какая ж тут свобода, ежели на Сахалине этой штуковины даже скотина не ведала!
Это верно. Сами всю жизнь скованные, сахалинцы не давали свободы и своим животным. Какая бы добрая собака ни была – все равно сажали на цепь; куриц привязывали за ноги к заборам, а на шеи свиньям набивали тяжкие колодки. Самые последние корабли покидали Сахалин глубокой осенью, и не раз у трапов стояли плачущие люди, умоляя отвезти их в Россию. Это были каторжане, уже отбывшие срок наказания, уже свободные люди, никак не сумевшие скопить денег на обратный билет. Им говорили:
– Да пойми, как же я тебя без билета возьму?
– Мил человек, возьми меня. Где ж я тебе денег на билет наскребу? Нетто грабить да убивать кого? Посуди сам.
– Все понимаю. Сочувствую. Но без билета нельзя.
– Эх, мать вашу так! Выходит, тута и век пропадать, не сповидаю родимых детушек, не поклонюсь родным могилкам.
– Ну, валяй отсюда… много вас таких!
От самой тюрьмы Александровска, прижимаясь к ней, как дитя к нежной кормилице, далеко тянется Николаевская улица, на которой селилась «аристократия» каторжного управления. Здесь, в ряду казенных учреждений, дома чиновников, местный клуб с буфетом и танцзалом, квартиры семейных офицеров гарнизона. Между ними не возвышался, а лишь выделялся застекленной террасой дом военного губернатора всего Сахалина.
Михаил Николаевич Ляпишев, генерал-лейтенант юстиции, до Сахалина уже немало вкусил от судейской практики: он был военным прокурором в Казанском, затем в Московском военном округе. Сегодня он проснулся в дурнейшем настроении. Весна – время побегов; недавно каторжане разоружили конвой, отняв десять винтовок, а потом дали настоящий бой целому отряду.
– Совсем уже обнаглели, – проворчал губернатор.
Накинув мундир, но не застегнув его, Ляпишев сначала проследовал на кухню, где возле плиты уже хлопотал его личный повар из каторжан, знаток утонченной гастрономии – барон Шеппинг, имевший восемь лет каторжных работ за растление малолетних.
– Что за обед? – осведомился у него генерал.
Возле плиты с грохотом свалил охапку дров губернаторский дворник Евсей Жабин (10 лет каторги за святотатство).
– Тише, – поморщился Ляпишев, – люди еще спят…
К нему подошла чистенькая горничная Фенечка Икатова, его давняя пассия (12 лет каторги за отравление мышьяком барыни, которая вздумала ревновать ее к своему мужу).
– Михаил Николаевич, кофе или какава? – спросила она.
– Чай, – кратко отвечал Ляпишев…
Минуя канцелярию, где сидел писарь из князей Максутовых (15 лет за расхищение казенных денег), губернатор продвинулся в кабинет, там и застегнул мундир на все пуговицы. Потом он пригладил ладонью прохладную обширную лысину и, расправив бороду надвое, уселся за стол. Фенечка Икатова принесла ему не только чай, но и самые свежие сахалинские сплетни:
– Вчерась из Корсаковска японский консул заявился. Сказывали, что япошки, живущие в нашем городе, собираются фотографию открывать, всех на карточки сымать будут.
– Ерунда какая! – ответил Ляпишев. – Можно подумать, у нас все уже есть, только фотоателье не хватает.
– Ночью, – продолжала оповещать его Фенечка, – на Рельсовой одного сквалыгу пришили, сколько взяли – неизвестно, а на базаре мертвяка нашли. Прокурор Кушелев уже выехал…
Недавно Ляпишев спровадил на материк Софью Блюфштейн, известную под именем Сонька Золотая Ручка, которой приписывали на Сахалине генеральное руководство грабежами и убийствами, но и без этой аферистки число преступлений не убавилось. Тут явился заместитель Ляпишева по гражданской части статский советник Бунге, принеся скорбную весть: бежали 319 каторжан, а поймано лишь 88 человек… Бунге сказал:
– Я не знаю, как быть. Давайте в отчете на материк напишем, что бежало двести, а сотню уже переловили. Все равно ведь в нашей бухгалтерии сам дьявол не разберется.
– Да нет, – сказал Ляпишев. – Надо быть честным. От этих приписок и недописок не знаешь, где право, а где лево.
Бунге протянул ему газету «Амурский край». На первой же странице жирным шрифтом был выделен подзаголовок статьи: «САХАЛИН РАЗБЕГАЕТСЯ». Губернатор пришел в отчаяние:
– Не могу! Голова раскалывается. Вот уеду в отпуск и ей-ей уже не вернусь на Сахалин, чтоб он треснул.
– Раньше было проще, – посочувствовал ему заместитель. – Бежал. Поймали. Повесили. А теперь пошли всякие гуманные веяния. Развели сопливый либерализм… уж и повесить человека нельзя! Сразу поднимается вой: палачи, кровопийцы, сатрапы! А их бы вот сюда, на наше место… Кстати, Кабаяси в городе.
– Уже извещен. Что консулу надобно?
– А разве японцы скажут честно? Телеграф всю ночь работал, – доложил Бунге. – «Ярославль» уже на подходах к Владивостоку, Слизов со своей Жоржеткой возвращается из отпуска…
Вечером Ляпишев без всякой охоты принял японского консула. Кабаяси просил у него разрешения на открытие в селениях Сахалина магазинов с товарами фирмы «Сигиура».
– Господин консул, – устало отвечал Ляпишев, – вы часто просите у меня согласия на открытие магазинов. Я каждый раз даю вам разрешение. Но магазинов «Сигиура» до сих пор нет. А вы опять приходите ко мне с вопросом о разрешении магазинов.
Кабаяси с улыбкой выслушал губернатора:
– Мы, японцы, хотели бы выяснить насущные вопросы сахалинского рынка. Если мы хорошо изучили, что нравится женщинам Парижа или что любят китайцы в Кантоне, то мы никак не можем уловить потребности жителей вашего Сахалина.
– Конечно, – отвечал Ляпишев, – здесь неуместна распродажа вееров, как не нужны и кимоно для каторжанок. Но мы не откажемся от ваших фруктов, от вашего превосходного риса. А зачем вам понадобилась фотография в Александровске?
Кабаяси восхвалил красоту сахалинских пейзажей. По его словам, если издать альбом с видами Сахалина и местных типов, его мигом раскупят японцы, а выручку от продажи альбомов консул согласен поделить с губернским управлением Сахалина.
– Не надо нам выручки, – сказал Ляпишев, поднимаясь из-за стола. – Я не ручаюсь за красоту сахалинских пейзажей, но сахалинские типы… Лучше бы мои глаза их никогда не видели!
Он покинул кабинет, но задержался в канцелярии, где князь Максутов доложил, что принята телеграмма из Николаевска:
– На Амуре уже поймали четырнадцать беглецов… Может, вам будет угодно задержать отправку отчета в Приамурское генерал-губернаторство? Подождем, пока не выловят побольше.
– Я такого же мнения, – согласился Ляпишев. – Будем надеяться, что выловят еще многих.
Ляпишев прошел в свои комнаты и, сняв мундир, вызвал Фенечку:
– «Ярославль» уже на подходе… Куда мы распихаем еще восемьсот негодяев – ума не приложу! О господи, как мне все это осточертело, и не знаю, когда это все кончится…
* * *
Политическая каторга на Каре просуществовала до 1890 года. Незадолго до ее ликвидации возникла для «политиков» каторга на Сахалине, длившаяся 18 лет (1886–1903). За этот немалый срок через Сахалин прошел 41 человек, из них умерли пятеро, а трое покончили самоубийством, не выдержав издевательств местных сатрапов. Приравненные к разряду уголовников, революционеры недолго сидели в тюрьмах, ибо Сахалин всегда нуждался в честных и грамотных людях. Именно трудами «политиков» были заведены на каторге детские школы, метеостанция давала на материк точные сводки погоды, наконец, среди них оказались ученые, они много печатались в научных изданиях, их труды по этнографии Сахалина переводились на европейские языки. Ляпишев, не в пример другим губернаторам, говорил политическим «вы», он не боялся, в нарушение всяких инструкций, выплачивать «политикам» жалованье, не гнушался подать им руку, чего никогда не делали его чинодралы… Михаил Николаевич признавал:
– Если мне нужен начальник склада, я доверю его не своему чиновнику, а именно «политику», ибо он не разворует добро, а сохранит… Вообще, господа, если что и останется на Сахалине хорошего в памяти потомства, так это будет связано с именами непременно политических преступников!
Утром губернатор телефонировал за 600 верст в город Корсаковск – самый южный город Сахалина, где и климат благодатнее, где и жизнь привольнее. Он предупредил барона Зальца, тамошнего начальника, чтобы снимал с «Ярославля» всех каторжан, у которых сроки наказания не выше четырех лет:
– А всех с большими сроками пусть доставят на север – к нам, где условия надзора построже да и жизнь намного поганее, нежели у вас, почти курортников… Всего доброго!
Прибытие любого корабля из Европы, пусть даже плавучей тюрьмы, для чиновников Сахалина всегда событие «табельное», дамы заранее шили новые туалеты, а их мужья не скрывали желания навестить корабельный буфет. Был пасмурный денек, сеял мелкий дождик, когда телеграфисты сообщили, что «Ярославль» миновал траверз Императорской гавани и, если не помешают льды, выпирающие из Амурского лимана, то завтра его можно ожидать на рейде Александровска. С утра пораньше к побережью выступила конвойная команда, из города потянулись вереницы колясок с администрацией. «Ярославль» уже дымил на рейде напротив маяка «Жонкьер»; баржи с каторжными командами (из числа матросов военного флота) торопливо переваливали из трюмов корабля на берег отощавшую и крикливую массу арестантов, которых тут же запирали в карантинный барак. Сразу начинался медицинский осмотр всех прибывших, их регистрация. При этом диалоги были столь же выразительны, как и сами действия властей предержащих:
– Ну, называйся… по какой статье прибыл?
– Перегудов Иван… по бродяжничеству.
Тут же кулаком прибывшего по морде – бац:
– Ах ты, шкура дырявая! Ведь ты в позапрошлом годе уже бывал здесь под именем Филонова… бежал? Теперь заново перекрестили тебя? Эй, в кандалы его!
Давай следующего…
У стола комиссии парень из крестьян – его тоже в ухо.
– За что лупите, ваше благородие?
– А что же нам? Или орден тебе повесить?..
Вот стоит с мешком печальный русский интеллигент:
– Небось политика? Какой партии?
– Простите, я только вегетарианец.
– Знаем вас, паскудов. Начитались Левки Толстого, а теперь противу царя поперлись… А ну! Огурченко, дай-ка ему…
За Огурченко дело не стало: приказ есть приказ.
– Здоров! – кричат врачи, и печальный интеллигент, подкинув мешок на спине, отходит в сторону «годных».
– А тебя-то за что? – спрашивают его уголовники.
– Если бы знать, – следует невеселый ответ. – Наверное, виноват, что всегда отвергал мясную пищу…
Ляпишев в сером генеральском пальто стоял на пристани подле Бунге, когда к нему подошел молодой человек:
– Я желал бы представиться… Георгий Георгиевич Оболмасов! С отличием выпущен из Горного института, а теперь, как патриотически настроенный индивидуум, желал бы возложить свои благородные стремления на драгоценный алтарь отечества.
– Простите, – сразу перебил его сладкоречие Ляпишев, – если вам так уж понадобился алтарь отечества, то вы напрасно ищете его на каторге Сахалина. Какова цель вашего приезда, сударь?.. Ах, опять нефть! – сказал губернатор, выслушав геолога. – До сахалинской нефти уже немало охотников. Лейтенант флота Зотов давно сделал заявки, но успел разориться. А теперь на Сахалин едут всякие иностранцы, даже издалека ощутившие аромат сахалинского керосина и асфальта… Так что, извините, господин Оболмасов, но я вам – не помощник!
Геолог отошел, а Бунге спросил Ляпишева:
– Почему вы так строги к этому молодому энтузиасту?
– Я не слишком-то доверяю людям, которые публично распинаются в своем патриотизме. В подобных излияниях всегда улавливается некая фальшь. Недаром же на Востоке издревле существует поговорка: имеющий мускус в кармане не кричит об этом на улицах, ибо запах мускуса сам выдает себя…
Тут губернатор заметил Челищеву; девушка была в коротком меховом жакете, ее голову укрывала шапочка-гарибальдийка, какие были модны среди курсисток. Он предложил ей свои услуги:
– Из Корсаковска я уже извещен, что вы можете быть учительницей и даже фельдшерицей. Поверьте, что я рад помочь вам, ибо Сахалин нуждается в образовании. Учителей у нас – кот наплакал, а на сорок тысяч населения всего пять врачей. Мадмуазель, прошу в мою коляску! Будете лично моей гостьей…
Когда вновь прибывших арестантов вывели из карантинного барака и построили в колонну, двух каторжан недосчитались. Они остались в бараке – уже задушенные. Это были те самые горемыки, которые не выдержали порки на «Ярославле» и выдали иванов, таскавших в трюмы духи с одеколоном фирмы Брокара, стеливших на свои грязные нары лионский голубой бархат…
Михаил Николаевич натянул лайковые перчатки.
– Вот видите, – сказал он Челищевой, садясь в коляску подле девушки, – Сахалин имеет особый колорит! Этот каторжный колер невольно отложился даже на мне, на генерале юстиции. Я уже мало чему удивляюсь…
Ляпишев обладал большими правами. Он мог дать 100 ударов розгами (или 20 плетей), тогда как окружные начальники имели право лишь на 50 ударов розгой (или 10 плетей).
8. На нарах и под нарами
«Ярославль» еще бункеровался углем во Владивостоке, а каторжане в его трюмах уже имели точные сведения о делах на Сахалине. Им было известно, что Ляпишев, по мнению высокого начальства, «каторгу распустил», что режим ослаблен, побеги внутри острова (не на материк!) наказываются губернатором слабо. Иваны уже на корабле знали, в какой из тюрем Сахалина сидеть легче, как обстоят дела с водкой и картами, кого из надзирателей бояться, а на кого из них можно поплевывать… Напрасно в Главном тюремном управлении Петербурга ломали головы над тем, откуда поступает точная информация! Дело объяснялось просто. На телеграфных станциях Сахалина и Дальнего Востока работали сыновья бывших каторжан, от самой колыбели они усвоили для себя законы каторги. Отпрыски тюремных заветов, они-то и сообщали сведения по цепочке телеграфных станций, а конспирация у них была строгая, как в подполье масонских организаций.
…Начальство на казенных пролетках уже разъехалось по своим квартирам, а колонна вновь прибывших каторжан еще долго втягивалась в распахнутые ворота острога, минуя арку, поверх которой было начертано: «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КАТОРЖНАЯ ТЮРЬМА РАЗРЯДА ИСПЫТУЕМЫХ». Вдоль длинных коридоров тюрьмы – обширные камеры с нарами в несколько этажей; двери камер облицованы железом и при ударе гудят, как броня. Возле печки – параша ведра на три, которую называют с некоторым уважением – «Прасковья Федоровна». На окнах камер – решетки. Все стены разрисованы похабщиной, а по этим кощунственным рисункам бесстрашно бегали легионы клопов. По диагонали камер протянулись веревки, чтобы сушить на них барахло. На узенькой полке выстроились кружки, котелки для еды и чайники. Воняло по всей тюрьме застарелой баландой из рыбы с добавкой черемши. У всех надзирателей были синие галуны, а синие шнуры тянулись от их подбородков к револьверам. Они покрикивали:
– Впихивайся плотнее, местов более нету… давай, давай не стыдись! Чичас будет всем заковка в новые «браслеты», потом вас губернатор позовет к себе чай пить… Гы-гы-гы!
– Хе-хе-хе… хи-хи-хи, – заливались в ответ подхалимы.
Сразу от порога тюрьмы начинался штурм жилищных высот, ибо от положения на нарах каторга судит о достоинствах человека. Иваны занимали самые лучшие места, вокруг них располагались их «поддувалы», ударами кулаков и ног утверждавшие священные права своих сюзеренов от покушений всяких там «кувыркал». После иванов чинно освоили нары «храпы» – еще не иваны, но подражающие иванам, силой берущие у слабого все, что им нужно. За храпами развалились на нарах «глоты» – хамы и горлодеры, поддерживающие свой авторитет наглостью, но в случае опасности валящие вину на других. Когда высшие чины преступной элиты удовольствовались своим положением на лучших нарах, подалее от «Прасковьи Федоровны», тогда – с драками, с божбой и матерщиной – все оставшиеся места плотно, как сельди в бочке, заполняли «кувыркалы», высокими рангами не обладавшие. Наконец, для самых робких, для всех несчастных и слабых каторга с издевательским великодушием отводила места под нарами:
– Полезай! – хохотали с высоты нар. – Ишь гордые какие, еще сумлеваются… Ползи на карачках, хорь бесхвостый!
Жалкие парии, отверженные и забитые, лезли под нары – в слякоть грязи, в нечистоты прошлого, в крысиную падаль. А ведь тоже бывали людьми! Их нежно растили матери, показывали врачам, причесывали гребешком их кудри, они бегали в школы, влюблялись, трепетали от первого поцелуя, а теперь… Теперь из-под нар выглянет лицо бывшего человека, испуганно оглядит всех и снова скроется в мраке отбросов каторги.
Человек – это иногда звучит горько!
* * *
Вечерело над Александровском, который разжег на улицах керосиновые фонари. На крыльце столичного клуба губернатору Ляпишеву снова встретился Оболмасов, очевидно его поджидавший:
– Михаил Николаевич, ваше превосходительство… еще раз взываю к вам, дабы напомнить о своих лучших намерениях…
– Не стоит, – придержал его Ляпишев. – Я вам уже говорил, что заявки на нефтяные участки давно сделаны, но дальше заявок дело не сдвинулось. Людей для новых разведок нефти я вам не дам, ибо каторга – не частная лавочка. Оплатить же казне работу ездовых, носильщиков, лесорубов и землекопов вы из своего кармана не в состоянии. Так о чем разговор?..
Внутри клуба было тепло и уютно, над столами свисали фарфоровые абажуры типа «матадор» и грушевидные электрозвонки для вызова каторжных лакеев, которых ради услужения господам одевали в белые фартуки. Из глубин комнат доносилось щелканье бильярдных шаров, в клубном буфете слышались нетрезвые голоса чиновников. Здесь же были и местные дамы, которые, изнывая от лютейшей тоски, завистливо сравнивали свои туалеты, и, чем уродливее сидело платье на подруге, тем больше они им восхищались, зато жесточайшей критике подвергался любой удачный наряд, украшающий женщину:
– Ах, душечка! Где вас так изувечили? Да скажите мужу, чтобы он этого вашего закройщика разложил поперек лавки и всыпал ему плетей сорок, как в старые добрые времена…
Михаил Николаевич Ляпишев сам ввел в женский круг Клавдию Челищеву, рекомендуя бестужевку с самой лучшей стороны:
– Клавдия Петровна вынуждена остановиться в моем доме, ибо молодой девушке, и сами о том ведаете, не так-то легко с приличной квартирой в нашем сахалинском бедламе.
Он удалился к карточному столу, а Челищева была сразу же подвергнута детальному анализу со стороны сплетниц. При этом госпожа Маслова, жена полицмейстера, предупредила ее:
– Голубушка, вы поступили крайне опрометчиво, воспользовавшись любезностью Михаила Николаевича. Никто не спорит, что он замечательный человек, благородный и умный, но… В его доме не он хозяин, а всем заправляет каторжная стерва Фенечка Икатова, и вы будьте с нею осторожнее. Такая мерзавка не только обворует, но и во сне придушить может…
Клавочка, недолго побеседовав с дамами, убедилась, что их интересы ограничены каторгой: чиновницы со знанием дела обсуждали «лестницу наказаний», обругивали либерализм, восхваляя правила минувших годов, когда «все было проще»:
– Выдерут – и порядок! Куда смотрит Михаил Николаевич? При нем даже спать страшно: в окно влезут и зарежут.
– Вешать надо! Раньше вот вешали, и было спокойнее…
От вопросов каторги дамы незаметно перешли к предстоящему открытию магазинов японской торговой фирмы «Сигиура»:
– Кабаяси недаром же прикатил в Александровск и не станет водить нас за нос… Скоро здесь можно будет купить японские шелка, восковые цветы на шляпы, которые даже ароматизируют…
Клавочка заглянула в читальню, где газеты, прибывшие с «Ярославлем», просматривал поджарый, остроглазый штабс-капитан местного гарнизона. При появлении девушки он встал:
– Быков, Валерий Павлович… Слышал, что на Сахалин вас привело благородство ума и сердца. Так позвольте мне, старожилу, предостеречь вас от ошибок на будущее.
– Пожалуйста. Я вас слушаю.
– Если желаете выжить в наших условиях, воздержитесь отзываться о каторжанах положительно. Здешняя администрация живет с чужих страданий, кормится от чужого горя. Но все они ненавидят кормушку, из которой сами же насыщаются. Бойтесь проявить сочувствие к людям. Напротив, осуждая гуманизм, вы прольете сладостный елей на чиновно-тюремные души, и тогда они станут вашими союзниками. Иначе… иначе вас заклюют!
– Неужели здесь все так ужасно?
– Вы, наивное дитя, еще не знаете жизни, – продолжал Быков. – Вам, как и большинству русских бестужевок, приятно идеализировать жизнь, вы стараетесь видеть в человеке только хорошее. Должен вас огорчить. Не ищите романтики там, где ее быть не может. Каторга не признает благородства. Да и где тут быть благородству, если человека сознательно превращают в скотину?
– Но разве можно так жить? – воскликнула Клавочка.
– Можно, – ответил ей штабс-капитан. – И какая бы жизнь ни окружала меня, я сохраню честь своего мундира, как и вам я желаю оберечь от грязи свои прекрасные идеалы.
– Вы, я вижу, тоже идеалист?
– Извините, но я… карьерист! – честно признался Быков. – Я даже не стыжусь в этом признаться, ибо голубой мечтой моей жизни остается Академия Генерального штаба.
– Вот как? Так поступайте в эту академию.
– К сожалению, жизнь в гарнизоне сгубила меня своей рутиной, и вряд ли в условиях Сахалина я могу снова засесть за учебники, а без знания языков офицеру карьеры не сделать…
К этому времени, пока они там разговаривали, впавший в уныние Жорж Оболмасов одолел уже третью рюмку в буфете, еще трезво соображая, что тюремщики Сахалина, окружавшие его, даже не пьют водку – они ее попросту пожирают. Статский советник Слизов, с трудом удерживая на конце вилки розовый кусочек кеты на закуску, убеждал Оболмасова не горячиться:
– Ляпишев тоже не вечен! Уберут… за либерализм как миленького. Я уже пятерых губернаторов переслужил, и все – как с гуся вода. Придет другой, сделаете заявки, дадите нам керосину, и мы это дело как следует отметим… Ну, поехали!
Напротив Оболмасова вдруг оказался японец в европейском костюме, четким движением он выложил перед инженером визитную карточку, отпечатанную на трех языках – русском, японском и английском.
На столе сразу появилось шампанское.
– Такаси Кумэда! Я представляю торговую фирму «Сигиура»… У вас какие-то досадные неприятности с губернатором? Консул Кабаяси просил меня заверить вас, что наша японская колония всегда будет рада помочь вам. Если это не затруднит вас, то завтра навестите нашего консула в моем доме.
Оболмасова больше всего удивило, как чисто, как грамотно владел Кумэда русским языком, как великолепно сидел на нем полуфрак, как броско посверкивал алмаз в его перстне, какая обворожительная улыбка освещала его широкое доброжелательное лицо. С надеждой геолог принял его визитную карточку:
– Я с удовольствием навещу вашего консула…
Гостиниц в Александровске никогда не было, всяк устраивался где мог. Оболмасов временно ютился в доме Слизовых, куда его зазвала Жоржетта Иудична, не раз уже намекавшая:
– Обожаю читать Мопассана… такие страсти, такой накал! А вам не кажется, милый Жоржик, что в сочетании наших имен уже затаилась некая магическая связь? Я же по вашим глазам вижу, что вы, как и я, обожаете классическую литературу…
* * *
Иван Кутерьма имел на своей совести 48 убийств с грабежами, за что и получил «бессрочную» каторгу. Только такие вот бандюги, как он, имели право украшать ворот холщовой рубахи красными петушками, гордясь вышитым воротником, как генералы гордятся своими позлащенными эполетами. Теперь с высоты нар Иван Кутерьма лениво и дремотно надзирал за камерой, смиревшей под его взором, как воробьи, которые заметили полет ястреба на той высоте, какая воробьям никогда недоступна.
Ближе к ночи, когда в камере уже собирались спать, лязгнули затворы железной двери и надзиратель объявил:
– Потеснись, хвостобои! Тут еще один самородок…
Это был Полынов, уже в кандалах, он держал под локтем котомку. Вся камера притихла в ожидании – что он скажет, что сделает, где сыщет для себя место: на нарах или под нарами? Полынов ничего не сказал. Он молча вдруг подошел к Ивану Кутерьме и швырнул к нему свою арестантскую котомку:
– Ну ты! Сучье вымя… давай подвинься.
Камера затаила дух. Но Иван Кутерьма, не прекословя, подвинулся, уступая место подле себя, и социальное положение Полынова на каторге сразу определилось. Полынов оглядел притихшую камеру своими лучезарными глазами и сказал всем:
– Высокопочтенные джентльмены удачи! Сволочи, мерзавцы, ворюги, бандиты, гадины и подонки! Если кто из вас бывал в благословенной Швейцарии, тот, наверное, обратил просвещенное внимание на то, что над тюрьмами этой обожравшейся страны частенько реют большие белые флаги – в знак того, что в тюрьме нет ни одного заключенного. У нас же, в несчастной России, пора вывешивать над тюрьмами черные знамена – как символ того, что в тюрьме нам, бедным, уже негде повернуться…
Небрежным жестом он запустил руку в отвислый карман арестантского халата, извлекая оттуда портсигар, и, щелкнув его крышкою, протянул папиросы к самому носу громилы:
– Египетские, еще из Каира… прошу, синьор!
Камера натужно вздохнула. Один старый «шлиппер» сказал:
– Живут же люди… даже в тюрьме живут!
Когда камера уснула, Полынов приник к уху Кутерьмы:
– Слушай, Ванька, мне надо устроить «крестины», чтобы сменить имя. Сменить статью. Сроки каторги. Чтобы вылизать все прошлое дочиста и получить на руки «квартирный билет».
Иначе говоря, Полынов желал избавиться от тюрьмы, чтобы из категории «кандальной» перейти на «квартирное» положение, на какое имели право люди с малыми сроками наказания.
Кутерьма двинул могучей шеей, тихо ответил:
– Ша! Поищем похожего на тебя… обработаем. Твои пятнадцать лет на три годика сменим. Но дорого обойдется.
– Сколько? – спросил Полынов.
– Пять синек, и никак не меньше… Гляди сам, сколько здесь поддувал и глотов – всех напоить надобно.
(Пять «синек» – на языке каторги – это 100 рублей.)
– Сойдет, – сказал Полынов, наблюдая в потемках, как большой жирный клоп, упившись крови, медленно тащится по стене.
Иван раздавил клопа большим пальцем. Кутерьма знал Полынова еще с отсидки в петербургских «Крестах», где однажды Полынов, как знающий юрист, выручил его от большой беды, и с тех самых пор рецидивист ценил этого «валета», чуя в Полынове птицу высокого полета, способную парить на таких высотах, какие, пожалуй, недоступны ему самому… Каторга уснула. На нарах и под нарами, а кому не хватило места даже под нарами, те чутко дремали, сидя на параше. Ночью начинался прилив с моря, и речка Александровка на целых три версты возвращала свое течение назад, заливая при этом унылые окраины города, в котором никто и никогда не бывал еще свободен…
9. Люди, нефть и любовь
Дело было на окраине Александровска, в самом начале Рельсовой улицы, где стоял небольшой домик, окруженный жидким штакетником, за ним виднелись грядки огорода, приготовленные для посадки огурцов и картофеля. В этом убогом домишке проживал политический ссыльный Игнатий Волохов, социал-демократ.
Ольга Ивановна, жена его, сидела возле окна, прострачивая на швейной машинке «зингер» длиннейший шов заказного платья. Мужа дома не было – он давал уроки в школе, и женщина тихо плакала. С улицы скрипнула калитка, пришел товарищ ее мужа – Вычегдов, тоже политический ссыльный:
– Здравствуй, Оля… Ты никак плачешь?
– Не обращай внимания, – ответила женщина. – Просто у меня не стало сил терпеть это отвратительное хамство…
Они прошли в комнату. Вычегдов сел на стул.
– Все-таки, Оля, ты скажи, кто тебя обидел?
– Мне сегодня самым вульгарным образом надавали пощечин. Знаешь эту мерзавку Жоржетту Слизову? Так вот… Местные красотки раскритиковали ее новое платье. Я сегодня прихожу получить с нее деньги за шитье. Она швырнула в меня рублем, а потом… пришлось смолчать. Ради мужа. Ради детей.
– Правильно сделала. Только не плачь. Даже это пройдет, как проходит в нашей жизни многое… бесследно!
Вернулся из школы муж. Женщина накрыла для мужчин стол к обеду. Волохов пригляделся к товарищу по несчастью.
– Ты чем-то удручен? Я не ошибся?
Вычегдов выгнул плечи и резко опустил их:
– Не знаю, что и сказать.
– Так скажи то, чего ты сам не знаешь…
– Слушай! Недавно я встретил на улице партию кандальных последнего «сплава», которых гнали на работу. Сплошь уголовники! Но лицо одного из них мне показалось очень знакомым. Где-то я видел его раньше… да, встречал.
– Так что же тебя удивляет? – спросила Ольга.
– Кажется, он меня тоже узнал. Но при этом отвернулся столь преднамеренно, что это и насторожило меня. Если он из «политиков», то ему бы только радоваться, увидев меня… Убей бог, не могу вспомнить фамилию этого человека. Но из головы не выходит его подпольная кличка – не то «Техник», не то «Мастер», что-то в этом роде. Кажется, – досказал Вычегдов, – у него потом возникли какие-то связи с боевиками польской ППС.
Волохов спокойно дохлебывал из тарелки рыбный суп. Он сказал, что в этом случае надо быть крайне осторожным, дабы не подвести товарища излишним вниманием к нему:
– Он, может, и отвернулся от тебя нарочно, давая понять, что прибыл на Сахалин под другим именем и нам до поры до времени не следует с ним встречаться. Сам придет!
– Вполне возможно, – согласилась с мужем Ольга. – Сейчас в Варшаве проходит процесс по делу экса в лодзинском банке, и, если он связан с боевиками ППС, то ему выгоднее всего затеряться в массе всякого уголовного сброда.
– Ну ладно, – ответил Вычегдов, – я не стану искать контактов с этим человеком, но у меня есть связи с тюремной шпаной. Я постараюсь через них узнать, под какой фамилией он прибыл на Сахалин… Может, это просто роковое совпадение!
– Такое тоже бывает, – добавил Волохов.
И больше они к этой теме не возвращались.
* * *
Запах нефти Сахалина давно раздражал обоняние многих аферистов. С острова Суматра заявился некий ван Клейе, называвший себя голландцем; за ним в тайгу Сахалина проникли и другие иностранцы, жаждущие немыслимых прибылей. Теперь понятно, почему генерал-лейтенант юстиции Ляпишев отказал Оболмасову в поддержке, ибо во всех этих разведчиках нефти он усматривал банду проходимцев, желавших погреть руки под буйным пламенем будущих факелов, рвущихся из недр Сахалина…
Жорж Оболмасов с большим старанием завязал перед зеркалом галстук, взял в руки тросточку и сказал себе:
– Еще посмотрим! Где нефть, там и деньги. Уверен, что старик Нобель еще позеленеет от зависти к моим личным доходам…
В японской колонии его ждали. После множества бытовых неудобств, испытанных в доме Слизовых, было приятно ощутить благоустройство японского жилья. Две молоденькие японки низко кланялись молодому геологу. Такаси Кумэда сказал, что консул Кабаяси не замедлит явиться. Как и Кумэда, почти все члены японской колонии Александровска хорошо владели русским языком, мужчины держались молодцевато, с большим внутренним достоинством, но крайне вежливо… Один из них сказал Оболмасову:
– Мы, живущие в Александровске единой дружной семьей, конечно же, наблюдаем множество недостатков жизни на Сахалине, однако нам, посторонним наблюдателям, не пристало вмешиваться в чужие дела. Нравится нам это или не нравится, наша японская колония держится подальше от ваших дел…
После такого предупреждения появился сам Кабаяси.
– Мы очень огорчены теми неприятностями, которые доставило вам общение с губернатором… Вы уже знаете, – говорил Кабаяси, посверкивая очками, – что нам безразличны дела сахалинской каторги, но мы испытываем давнее беспокойство от появления на острове иностранцев, привлеченных запасами нефти. Россия и Япония – добрые соседи, и нам не может нравиться, что по следам вашего лейтенанта Зотова в тайгу пробираются всякие авантюристы типа инженера ван Клейе…
Оболмасов почтительно сложил на коленях ручки, еще не понимая, к чему клонится этот разговор и почему ему, вчерашнему студенту, оказывают столько неподдельного внимания. В соседней комнате японки тихо наигрывали на сямисенах, а Такаси Кумэда ловко разлил по бокалам французское шампанское.
– Нам, – сказал он с улыбкой, – приятнее видеть русские нефтяные промыслы на Сахалине, нежели наблюдать активность подозрительных пришельцев, что в будущем станет угрожать спокойствию наших границ. Мы уже выяснили: Клейе – это не ван Клейе, а фон Клейе, он просто немец, женатый на яванке, но приезжал на Сахалин от американской компании «Стандард Ойл».
– Я вас хорошо понимаю, – с важным видом кивнул Оболмасов, хотя в этот момент он показался сам себе таким жалким, таким ничтожным, ибо перед ним сидели энергичные деловые люди, знающие как раз то, о чем никогда не писалось в газетах.
– Господин Ляпишев, – продолжал Кабаяси, – обошелся с вами чересчур сурово. Нам хотелось бы, ради восстановления справедливости, исправить ошибку губернатора, но при этом мы совсем не желаем вызывать его недовольство. Что вы скажете, Оболмасов-сан, если мы предложим вам свою помощь?
– Как вы сказали? – сразу напрягся Жорж.
Такаси Кумэда наклонил бутыль над его бокалом:
– Господин почтенный консул выразился достаточно ясно. Мы, японцы, согласны субсидировать ваше предприятие по разысканию нефти. Дадим вам своих носильщиков, которые выносливее ваших недоедающих каторжан. Снабдим снаряжением и продуктами, чтобы вы, ни в чем не испытывая нужды, провели геологические разведки Сахалина в тех самых районах, на какие мы, японцы, уже знакомые с островом, вам и укажем.
Вино подогрело утерянные еще вчера надежды:
– А если я не сыщу залежей нефти именно в тех районах, на которые вы, японцы, мне укажете? – спросил геолог.
– И не надо нам нефти! – вдруг рассмеялся консул Кабаяси. – Плоды ваших трудов останутся в триангуляции местности, в нанесении на карты просек, лесных завалов, даже звериных троп, ведущих к водопадам, в отметках речных бродов и высот сопок… Кстати, с вами будет наш отличный фотограф!
– Зачем? – искренне удивился Оболмасов.
– Должны же мы, вкладывая средства в вашу экспедицию, иметь хоть малейшую выгоду от нее, – пояснил Кумэда. – Мы издадим в Японии красочный альбом с видами Сахалина, и появление такого альбома уже одобрил с а м губернатор Ляпишев.
Кабаяси нежно коснулся плеча геолога:
– Мы люди деловые, и наши дружеские отношения не мешает скрепить контрактом. Думаю, пятьсот рублей жалованья на первое время вас устроит. В контракте мы особо оговорим, что летний сезон вы можете проводить в пригородах Нагасаки, где для вас будет приготовлена дача с красивыми служанками…
Оболмасов совсем размяк: такой ледяной холод от русского губернатора и такое радушное тепло от солнечной Японии, еще издали посылающей ему улыбки сказочных гейш на пригородной даче, утопающей в благоухании нежных магнолий.
– Вы меня просто спасли! – отвечал он японцам.
Кумэда, как заправский лакей, открыл вторую бутылку.
– У русских, – сказал он, – есть хороший обычай любое дело фиксировать хорошей выпивкой. Мы, японцы, любим закреплять дружбу еще и фотографированием… на память!
Кабаяси отсчитал Оболмасову аванс в новеньких ассигнациях, которые даже хрустели, потом надел котелок.
– Это неподалеку. Совсем рядом, – сказал он. В уютном фотоателье ловкий японец сделал несколько снимков с группы японской колонии, затем Кабаяси усадил Оболмасова на стул, а по бокам его встали сам консул и Кумэда.
– Я душевно тронут, – расчувствовался Оболмасов, благодаря японцев. – Вы меня растрогали до самых глубин души.
Хрустящие ассигнации нежно шелестели в его кармане.
…Что ему теперь этот старый брюзга Ляпишев?
* * *
С тех пор как в доме Ляпишева появилась молодая и свежая, краснощекая Клавдия Челищева, горничная Фенечка Икатова ходила с надутыми губами, нещадно колотила посуду на кухне, раздавала пощечины кухарке и дворнику, всем своим поведением давая понять военному губернатору Сахалина, что…
– Совесть тоже надо иметь! Мы не какие-нибудь завалящие. Хотя и по убивству сюда попали, но себя тоже помним… не как эта задрыга! Приехала и теперь фифочку из себя корчит…
Статский советник Бунге, кажется, уже понимал, что лишние сплетни в городе никак не украсят карьеру Ляпишева новейшими лаврами, а Челищева явно подозрительна своим появлением на Сахалине, где никто не нуждается в ее гуманных услугах.
– Я, конечно, приветствую ваши благие намерения, – сказал ей Бунге. – Но, посудите сами, куда я вас пристрою? В таежные выселки вы сами не поедете, а в Александровске… Знаете что! – решил он. – По воскресеньям тут много бездельников шляется по улицам, всюду скандалы и драки… Не возьмете ли вы на себя труд устроить для народа воскресные чтения?
Михаил Николаевич Ляпишев горячо одобрил идею своего помощника, желая Клавдии Петровне всяческих успехов:
– Я со своей стороны накажу полицмейстеру Маслову обеспечить в Доме трудолюбия должное благочиние, а среди чиновников велю объявить подписку на граммофон. – Губернатор похлопал себя по карманам мундира, переворошил бумаги на своем столе: – Целый день ищу портсигар. Куда же он задевался?..
Клавочка со всем пылом юности увлеклась сама, увлекла и других в это новое для Сахалина дело. Среди каторжан нашлись отличные певцы, хор арестантов существовал и ранее; бестужевка выписала из Владивостока серию школьных картин на темы русской истории, развесила на стенах красочные картины с изображениями печени пьяниц, она старательно зубрила стихотворения из популярного сборника «Чтец-декламатор».
– Голубушка вы моя, – сказал ей Ляпишев, – все это замечательно, но я ведь, старый дурак, забыл о главном… Что же вы не просите у меня жалованье за старания свои?
– Я об этом как-то и не подумала. Извините.
– Не извиняйтесь. Одним духом святым не проживете…
Подозревать Ляпишева во влюбленности было бы несправедливо, но его опека Челищевой, почти отеческая, вызвала немало кривотолков в Александровске, где чиновные Мессалины радовались любой сплетне, порочащей кого-либо. Наконец в воскресный день Дом трудолюбия украсили изнутри ветками хвои, гулящий народ заглядывал с улицы, любопытствуя:
– А чего будет-то! Молиться заставят али еще как?
– Чтения будут! Читать нам всякое станут, а потом всыпят всем плетей по десять, чтобы мы себя не забывали.
– Лучше бы нам фокус-покус показывали. Я вот, когда в Москве жил, так завсегда балаганы навещал. Сначала фокусников посмотрю, потом у кого-либо кошелек свистну…
Народ все-таки собрался. Были и женщины из ссыльных, тут же баловались дети. Клавочка допустила большую ошибку, открыв первый вечер лекцией о климате Сахалина, которую попросила прочесть ссыльного интеллигента Сидорацкого, служившего на александровской метеостанции. Своей лекцией, начатой с теории атмосферного давления, он чуть было не загубил все дело с самого начала, тем более что сахалинская публика всегда испытывала лишь одно постоянное давление – от начальства, а на атмосферу пока еще не жаловалась.
– Ты нам глупости не заливай! – подсказывали из зала. – Уж коли мы тут собрались, так давай пляши…
Явно заскучав от картины ужасной борьбы между циклонами и антициклонами, публика потянулась к дверям, чтобы вернуться на базарную площадь, где кружилась праздничная карусель, где торговал трактир Недомясова и куражились пьяные. Но тут из глубин зала поднялся другой интеллигент, тоже из каторжных, но из уголовных. Он легко запрыгнул на сцену:
– Дорогие мои соотечественники! – обратился он к публике. – Я вам расскажу о климате Сахалина лучше этого умника. Судьба-злодейка распорядилась нами таким образом, что мы попали в удивительную страну, где никогда не было никакого климата, зато всегда была паршивая погода. Между тем, если взглянуть на карту, – он смело указал на плакат, изображающий перегнившую печень алкоголика, – то мы увидим, что Александровск затаился на одном уровне с Киевом, откуда повелась земля Русская, а каторжная тюрьма в Корсаковске – на широте блаженной Венеции, где итальянский народ, дружественный России, с утра пораньше, даже не позавтракав, отплясывает огненную тарантеллу. Считайте, что нам здорово повезло! Другие людишки, чтобы попасть в Венецию, тратят бешеные деньги на дорогу, а нас привезли в эти широты бесплатно, да еще бдительно охраняли, чтобы мы не разбежались… В прошлом году ссыльнопоселенец Степан Разин, тот самый, жена которого драпанула к господину исправнику в кухарки, снял со своего огорода сразу десять мешков отборной картошки. Среди нее попадались экземпляры величиною с тыкву, а на огороде Маньки Путанной вырос огурец неприличной формы, почему и был отобран для показа в музее, как небывалое чудо сахалинской природы…
Публика оживилась, а лектор сказал, что оваций не надо:
– Лучше угостите меня папиросочкой… найдется?
После такого «климата» Клавочке было нелегко перейти к декламации, но она уже шагнула на край подмостков:
– Друзья мои, я прочитаю вам стихи, какие хотите.
В первом ряду она заметила неопрятного старика с бельмом на глазу, который визгливым голосом требовал:
– Про любовь нам, барышня… про любовь бы нам!
– Хорошо, – сказала девушка, – слушайте о любви:
Я чувствую и силы и стремленье Служить другим, бороться и любить: На их алтарь несу я вдохновенье, Чтоб в трудный час их песней ободрить…Гражданские мотивы из Надсона не устраивали старика:
– Про любовь… про это самое… – взвизгивал он.
Но кто поймет, что не пустые звуки Звенят в стихе неопытном моем, Что каждый стих…И тут она заметила, что этот старец с бельмом, который так жаждал стихов «про любовь», уже запустил руку в карман ближнего своего и, не сводя глаз с Челищевой, очень аккуратно извлекал кошелек. Это было так мерзостно, настолько паскудно и отвратно, что Клавочка не выдержала:
– Какая подлость! – крикнула она вору. – Я вам читаю стихи о самом святом на свете, а вы… неужели не стыдно?
Старик пустил ее «вниз по матушке, по Волге»:
– А вот крест святой – не брал. Хучь обыскивайте…
Кошелька так и не нашли. Но бельмастого сама же публика выставила на крыльцо Дома трудолюбия, в зале было отчетливо слышно, как он орал от побоев, потом воцарилось прежнее благочиние, и один пожилой конокрад сказал Клавочке:
– Читай дале нам, барышня! Энтот хорь старый воровать по воскресеньям уже не станет, потому как мы все лапы ему в дверях перешибли. А про любовь нежную мы завсегда слушать согласны, потому как это – дело святое, и, пока мы живы, оно всех нас касается… Тебя, барышня, тоже!
10. Крестины с причиндалами
Сидя на нарах, Полынов доктринерски рассуждал:
– Конечно, тюрьма консервирует лучшие качества, с которыми человек вошел в тюрьму, но эта же тюрьма усугубляет все пороки, с которыми порочный человек вступает в тюрьму…
Последнее время он жил в обостренной тревоге. Полынов предчуял, что если ему выпадет «воля», то жизнь в городе не позволит сменить долгий срок на малый, сфабриковать для себя новую биографию вместе с новым именем будет гораздо труднее, нежели здесь, пока он сидит на нарах в «кандальной».
– Чего маешься? – спрашивал его Кутерьма.
– Не маюсь, а размышляю…
По законам Сахалина, осужденный на 20 лет каторги обязан отсидеть в «кандальной» (испытуемой) тюрьме 4 года, кто получил 15 лет – сиди 3 года, со сроком осуждения в 10 лет – два года «кандальной» и так далее. Но этот режим из-за нехватки мест в камерах постоянно менялся, и арестантов раньше срока переводили из «кандальной» в «вольную» тюрьму, а многих попросту гнали на улицу. Но таких снабжали сухим пайком от казны, каждый день они обязаны вернуться в тюрьму – на работу! Однако ловкачи отдавали свой паек голодным, которые за них трудились на каторге, а сами они занимались чем хотели.
– Кутерьма, – вдруг сказал Полынов, – я на днях встретил на улице человека, который с большим интересом вглядывался в меня. Не дай бог, если он еще не забыл мою фамилию и мою кличку… Мне нужно ускорить шикарные «крестины» по каторжному обряду со всеми причиндалами. Сам понимаешь!
– Ладно, – крякнул Иван, – я переговорю с майданщиком.
Майданщик на каторге – фигура знатная, и кто сильнее – иван или майданщик – этот вопрос разрешить трудно. Бывало и так, что иван, повздорив с майданщиком, сдыхал с ножом под лопаткой, а майданщик как ни в чем не бывало снова приходил в его камеру, словно коробейник с товарами:
– Налетай – подешевело! Вот и папироски скручены, вот и халва нарезана, а яички сольцою присыпаны…
Ящик, в котором майданщик разносил по тюрьме товары, имел двойное дно: под безобидной крышкой укрывались от глаз надзирателей бутыли со спиртом, колоды игральных карт и порции «марафета» (кокаина). Иваны, как правило, заканчивали свою житуху на кладбище Александровска, а майданщики выходили из тюрем Сахалина подпольными банкирами, становясь почтенными домовладельцами Владивостока, хозяевами лавок в Николаевске и магазинов в Хабаровске… Кутерьма неслышно подсел к майданщику:
– Ибрагим, выручи – нужен хороший «дядя сарай».
Для «крестин» требовался наивный простак, еще не потерявший дурную привычку верить всему, что ему говорят добрые люди. Кутерьма предупредил майданщика, что «сарай» нужен не старый, чтобы обязательно грамотный, чтобы его внешность ничем особым не выделялась, чтобы преступление у «сарая» было плевое, а срок каторжных работ пустяковым.
– Есть один такой. Эй, где тут семинарист Сперанский?
– Да эвон, «Прасковью Федоровну» кормит…
На параше расположился молодой смазливый парень, и Кутерьма, оглядев его, вернулся на свои нары – к Полынову.
– «Сарай» сгодится, – доложил он.
– А ты узнавал – кто он и за что на Сахалине?
– По мелочи пошел. Сам-то из духовных. Послали в деревню из семинарии псаломщиком. А там в церкви попадья – такая язва! Уговорила помочь ей от попа избавиться, чтобы не мешал любовь крутить. Вот он и вляпался… Шпана! Кувыркало поганое…
Пока Иван искал «дядю сарая», Полынов успел отрезать от халата пуговицы, внутри которых были зашиты деньги:
– Пять «синек» на всякие причиндалы, бери.
– Начнем «крестины» с божьей помощью. Нам не первый раз…
Бывший семинарист Сперанский еще ублажал «Прасковью Федоровну», когда удар кулаком обрушил его с параши на пол. Он вскочил, моргая глазами, подтягивая штаны:
– За что? Уже и подумать не дадут как следует.
– Тебе, может, еще и газетку почитать хоца?..
С этого момента жизнь превратилась в сущий ад. Преступный мир слишком жесток, а Сахалин до мелочей отработал гнусную систему «крестин», чтобы жертва звериных законов каторги нигде и ни от кого не знала спасения. Сперанского методически подвергали побоям, у него отбирали последнюю пайку хлеба, в кружку с чаем сморкались и плевали. Глядя на «поддувал», и вся камера включилась в травлю забитого человека, видя в его страданиях лишь веселое развлечение от тюремной тоски.
– Да что изгиляетесь-то? – плакал семинарист. – Рази ж я не человек? Поимейте ко мне хоть толику жалости…
С высоты нар, лениво покуривая, Кутерьма пристально наблюдал за жертвой, стараясь не прохлопать тот рискованный момент, когда человеку самая паршивая смерть от бритвы или веревки покажется слаще этой кошмарной жизни.
– Тока б не повесился, – рассуждал Иван.
– Следи, – напомнил ему Полынов, который, вроде постороннего наблюдателя, не вмешивался в процедуру «крещения».
Наконец Сперанский, уже не видя спасения от издевательств, стал взывать к милосердию тюремных надзирателей.
– Откройте! – барабанил он в железные двери. – Спасите меня, люди добрые… За что мне это наказание господне?
– Пора, – тихо скомандовал Полынов.
Одним гигантским прыжком Кутерьма пролетел от нар до дверей камеры. В его кулаке блеснуло хищное лезвие ножа, и все мучители прыснули по углам, как мыши при виде кота.
– Пришью любого, – пригрозил Иван. – У-у, глоты, шпана липовая… Что ж вы с парнем-то делаете? Ежели кто еще тронет его, тому не с ним, а со мной дело иметь.
Сперанский приник к плечу бандита, горько рыдая:
– Спасибо вам, хороший вы человек. Вступились! И маменьке напишу, чтобы она всегда за вас бога молила…
Кутерьма сунул ножик в свои опорки, обнял парня:
– Не бось! Мое слово верное. Жизнь будет у нас – во! Другие ишо позавидуют, каково мы жить-то станем… верь мне, верь.
* * *
Первым делом с высоты нар спихнули какого-то жулика, на его место с почестями разместили Сперанского, который совсем ошалел от внимания, когда у него появилась даже пуховая подушка.
– Во! Хорошего человека как же нам не уважить?..
Майданщик раскрыл свой волшебный ящик. Были у него кусочки ветчины, надетые на спички, колбаса кружочками. Семинарист, копейки за душой не имея, раньше только облизывался в своем убежище под нарами, взирая на такую гастрономическую роскошь, а теперь его под локотки представили Ибрагиму:
– Выбирай себе любое, как король на именинах.
– Курнуть бы мне, – скромно просил семинарист.
Самодельные цигарки, скрученные из газеты, стоили пятачок, а завернутые в папиросную бумажку – по гривеннику. «Поддувалы» с наигранным возмущением набросились на Ибрагима:
– Ты, жлоб, сам давись своим дымокуром. А мы тебе золотого человека показываем, имей уважение… Ты ему папироски гони! Давай, халвы отрежь. Ветчинка тоже сгодится…
В окружении новых друзей Сперанский сидел на нарах, после долгого голодания уплетал куски ветчины, ему поднесли стакан водки, налили еще. Отовсюду он слышал похвалы себе:
– Золотой парень! Ты ешь, ешь. Не стыдись. Надо будет, мы ишо достанем. И чего это ранее ты не дружил с нами?
Появились карты. Сперанскому говорили:
– Ты фартовый, сразу видать. Метнем, что ли?
Окосев от дурной водки и тяжелой пищи, семинарист шлепал по доскам нар замызганные картишки и сам дивился, как ему везло. Дали три «цуга», а карман уже раздулся от денег.
– Весь «мешок» увел… надо же, а! – говорили воры. – Фартовый, такой любую карту возьмет. Видно, что парень хват…
Семинарист уже сам покрикивал на майданщика:
– Эй… как там тебя зовут, кила казанская? А ну, крути машину, чтобы сразу бутылка на нарах была… гуляем!
Его опять хлопали по спине, дурили голову похвалами:
– Конечно, теперь чего не гулять? Из-под нар вылез, а видно, что любого ивана соплей пополам перешибет…
Утром следовало тяжкое пробуждение, но едва Сперанский оторвал голову от подушки, «поддувалы» стали кричать:
– Ибрагим! Аль не видишь, что человек мучается?
Стакан водки, настоянный для крепости на махорке, снова раскрасил каторжное бытие голубыми цветочками фальшивого счастья. Опять, как вчера, Сперанский пожирал кусочки ветчины со спичек, размачивал в чае пряник, даже загордился:
– А на что мне пайка тюремная? Пущай другие трескают…
Уже плохо соображая, видел он, что не так легко идет к нему карта козырная, карман болтался свободно, а всякие «храпы» и «глоты» хапали с банка деньги, утешая его:
– Да, брат, сегодня тебе фарта не стало. Ну, с кем не бывает? Ставь на бочку остатние, а завтрева отыграешься…
Утром Ибрагим потянул его с нар за ноги.
– Когда платить будешь? – спросил он.
– За что платить-то? – не понял его семинарист.
– Ветчина и колбаска кушал. Водка моя пил. Папироска моя курил. С тебя сорок рублей, отдай и не греши.
– Бога-то побойся! – тонко завыл Сперанский.
Майданщик покрыл его грязной бранью:
– Я твоего бога не знаю, у меня свой Аллах водится. И не Ибрагим я тебе, а – отец родной. С моего майдана вся тюрьма пил и кушал. Плати, если «темной» не хочешь.
Отовсюду слышались с нар возмущенные голоса людей, которые еще вчера доедали за семинариста его же объедки:
– Иль закона не знает? Давай, гони кровь из носу.
«Гнать кровь из носу» – на языке каторги значило расплачиваться с долгами. Сперанский еще не мог привыкнуть к мысли, что задолжал «отцу родному» 40 рублей, а его уже обступили со всех сторон всякие наглецы-«поддувалы»:
– Гони две синьки, чтобы из носу капало… Ты что, паскуда худая? Или забыл, что вчера продулся вконец? Ежели к вечеру не дашь кровь из носу, с «пером» в боку спать ляжешь…
Настал вечер. Сперанский взялся вынести парашу. Опорожнив ее над ямкой нужника, он обвил себе шею длинной бечевкой, чтобы оставить этот проклятый мир, но из мрака услышал голос:
– Чего ж ты, миляга, в петлю полез? Так дело не пойдет. Я ведь предупреждал, что на меня всегда положиться можно…
– Кто здесь? – испуганно вскрикнул семинарист.
Из потемок нужника вдруг выступил Иван Кутерьма, он привлек парня к себе и подарил ему в уста скверный поцелуй Иуды:
– Сейчас перекрестим тебя, только не пугайся… – Вот теперь начинался разговор уже по делу: – Есть один человек у меня, которому помочь надобно. Ему пятнадцать лет всобачили. Возьмешь на себя его срок вместе с фамилией. А ему отдашь свои четыре годика и свое духовное звание. Я, сам ведаешь, худого тебе не хочу. Мне, как бессрочному, все равно бежать следует. Будешь моим товарищем. Рванем с Сахалина вместе. Дорогу до мыса Погиби я уже изучил, лодку у гиляков стащим и махнем на материк, а там…
Матерый вор, он расписал будущее такими красками, что дух захватывало: огненные рысаки увозили их к московскому «Яру», самые красивые шлюхи расточали неземные ласки.
– Со мною не пропадешь, – заверял Иван Кутерьма.
Голова шла кругом, но и жутью веяло от мысли, что на него вешают чужие грехи, а пятнадцать лет каторги – это не четыре года. Кутерьма сразу заметил колебания Сперанского:
– Не рыдай! Деваться-то тебе все равно уже некуда. Вся судьба собралась в гармошку. Хошь, я тебе сразу деньги дам, чтобы пустил кровь из носу, и никто в камере тебя мизинцем не колыхнет. А ежели, сука, ты от моих «крестин» откажешься, тогда… Сам знаешь, каторга – это тебе не карамелька!
Только теперь Полынов подошел к семинаристу. Он не стал вдаваться в лирику, сразу перешел в энергичное наступление:
– Тля! Слушай меня внимательно. Ты берешь мое имя, берешь и грехи мои. Если спросят, за что получил пятнадцать лет, отвечать будешь конкретно – за три экса! Запоминай: сначала было ограбление Коммерческого банка в Лодзи…
– Боюсь, – расплакался семинарист.
Полынов жесткой хваткой взял парня за горло:
– Еще ты увел кассу бельгийского экспресса. Ну, а что касается экса в Познани, так я тебе этот экс прощаю, ибо в криминаль-полиции Берлина мое дело осталось недоказанным… Чего дрожишь, тля?
– Страшно мне, – признался Сперанский. – Да и не запомнить всех названий… Нельзя ли чего попроще?
– Проще не получится, ибо жизнь – слишком сложная штука. Еще раз повторяю: Лодзь, почтовый вагон и… Познань! А взяли тебя, сукина сына, за рулеткой в Монте-Карло.
– Да что я мог делать там, господи?
– Ты, дурак, ставил на тридцать шесть.
– Не бывал я там! Даже не знаю, где такой…
– Так и говори, что в Монте-Карло никогда не бывал. А тебе никто не поверит, ибо любой преступник всегда отрицает посещение тех мест, где он свершил наказуемое деяние. Осознал?
– Да ведь погубите вы меня.
– Не ври, – жестко произнес Полынов. – Ты сам несчастного попа загубил, чтобы с попадьей его выспаться. Так что не выкручивайся, а получи свои пятнадцать лет каторги и будь доволен, что еще легко от меня отделался…
Семинарист, схваченный за глотку, неожиданно встретился с взглядом желтых глаз, он заметил даже ухмылку на тонких губах Полынова, и тут он понял, что этот человек, отдавший ему свои преступления, выше всей уголовной камеры, выше даже его «крестного отца» – бандита Ивана Кутерьмы.
– Ладно, – обмяк семинарист. – Только отпустите меня…
И пальцы на его шее медленно разжались.
* * *
Сперанский (бывший Полынов) скоро вышел из тюрьмы, получив «квартирный билет», дабы существовать на свой счет, уже не надеясь на помощь от казны. Кутерьма остался на своих нарах. Бандит не знал, что придет срок – и он станет мешать Полынову, как опасный свидетель прошлого, а тогда Полынов, им же «перекрещенный» в Сперанского, должен будет убрать Кутерьму с этой грешной земли, дабы тот не мешал ему жить… В городе Полынов снял себе «угол» на Протяжной улице в квартире Анисьи, которая торговала на базаре протухшими селедками. Эта бой-баба, немало повидавшая на своем веку, не раз умилялась набожности своего постояльца, часами простаивавшего перед иконами:
– Господи, простишь ли и помилуешь ли меня, грешного?
Вызнав о грехах постояльца, Анисья даже пожалела его:
– Сама баба, так по себе ведаю, что все беды от нас происходят. Ты, мил человек, от нашего брата держись подалее…
Итак, «крещение» состоялось удачно. Полынов все рассчитал правильно и не учел лишь одно важное обстоятельство – благородных порывов Клавочки Челищевой, которая, кажется, влюбилась в него из чувства женского сострадания.
11. Коллизии жизни
Было утро. Дети еще спали. Ольга Ивановна Волохова поправила на них одеяло и снова вернулась к швейной машинке.
– Может ли быть что-либо гадостнее! – со вздохом сказала она своему мужу. – Я, получившая образование в Женеве, жена социал-демократа, убежденная сторонница женской эмансипации, теперь, чтобы заработать на кусок хлеба, вынуждена шить платье на заказ… И – кому? – с горечью вопросила женщина. – Для уголовной преступницы Фенечки Икатовой, этой строптивой фаворитки нашего стареющего губернатора.
– Ладно, ладно, – ответил Игнатий Волохов, собираясь в школу давать уроки детям каторжан. – Не пытайся, моя дорогая, подвергать анализу сложные коллизии сахалинской жизни… Кстати, – спросил он, застегивая портфель, – что пишут в газетах об этом процессе в Лодзи по поводу экса в банке?
Ольга Ивановна надавила педаль своего старенького «зингера», который давал вдоль шва четкую аккуратную строчку:
– Суд закончился. Главного повесили в цитадели Варшавы, остальным дали большие сроки. Не исключено, что кто-либо из боевиков ППС вскоре появится у нас на Сахалине.
Вечером Волохов застал жену в большой тревоге.
– Слава богу, что ты пришел, – сказала Ольга Ивановна. – А то ведь я уже хотела взять детей и уйти к соседям.
– В чем дело? И что случилось тут без меня?
– За нашим домом, кажется, ведут наблюдение.
– С чего ты это взяла?
– Я сидела вот так, лицом к окну, перед машинкой, когда заметила странного человека, который издали следил, кто к нам приходит и кто уходит… Мне страшно! – призналась женщина. – Кругом убийства, грабежи, насилия…
– Как он выглядел, этот человек?
– Еще молод. Строен. Чувствуется, что сильный. Одет же в обычный бушлат, какие выдают арестантам, когда они из «кандальной» переходят в «квартирные».
Волохов просил ее подавать ужин:
– Успокойся, Оленька, мы с тобой не такие уж богатые, чтобы нас грабить. Тут что-то другое… А вот и новость: на барахолке сегодня была облава с большим оцеплением.
– Что искали? Наверное, беглых?
– Да ерунду искали – портсигар с зеркальцем.
– Из-за портсигара такой шум?
– Портсигар-то увели прямо со стола губернатора, вот старик и взбеленился. Понятно его раздражение, если в кабинете губернатора бывают свои люди… Бунге ведь не утащит!
Волохов хорошо знал Сахалин, он был членом Русского географического общества, которое недавно просило его написать статью о низкой рождаемости на острове. Когда жена и дети уснули, ссыльный присел к столу, приподняв для яркости света фитиль керосиновой лампы. Отчет предназначался к публикации, а потому, чтобы цензура не очень придиралась, Волохов открыл статью цитатой из правительственного сообщения от 1899 года: «Трагический недостаток женщин порождает разврат, подрывающий семейные начала, без которых колонизация Сахалина невозможна… Вступив на остров, женщина перестает быть человеком, становясь безличным предметом, который выдается поселенцу вместе с коровой и свиноматкой, женщину могут отнять у него, продать, изуродовать, уничтожить». Что говорить о нравственности, – продолжал Волохов, – если на 8 мужчин приходится 1 женщина, отчего на Сахалине процветает откровенная полиандрия, а девочки с 10 лет вступают в половую жизнь, чтобы заработать на пропитание. Проституция снижает рождаемость…»
Волохов сильно вздрогнул! Перед ним темнел квадрат ночного окна, а в расщелине ситцевой занавески он увидел лицо неизвестного человека, в упор смотревшего на него. Волохов быстро задул лампу и шагнул прочь от окна, боясь выстрела. Он слышал, как тихо прошелестели удаляющиеся шаги, скрипнула калитка и снова наступила тишина. Рельсовая улица спала.
– Оля права, – сказал себе Волохов, – тут дело нечистое. Кто этот тип, что шляется по ночам? Что ему надо от нас?..
* * *
Было известно, что полицмейстер Маслов носит под шинелью стальную кирасу, ибо его уже не раз пытались зарезать. Ладно этот Маслов, ему сам черт не брат, а вот как сохранить жизнь Оболмасову? Проживание его в доме Слизовых затянулось, и хозяин поучал геолога, что вечером за калитку лучше и не высовываться. Оболмасова выручила Жоржетта Иудична Слизова, которая поднесла ему два тома – Боборыкина и Шеллера-Михайлова.
– Конечно, это не Мопассан, – с томным видом намекнула женщина. – Но я от чистого сердца дарю вам классиков.
– Благодарю, но этих господ я уже читал.
– Ах, Жорж! Как вы непонятливы. Боборыкиным вы укроетесь спереди, а Шеллер-Михайлов своим солидным переплетом сохранит вас от любого коварного нападения сзади… Отныне вы будете для меня – как кирасир, закованный в латы.
Спасибо ей: обвешавшись русской беллетристикой, Георгий Георгиевич теперь уже не так боялся ходить по улицам. Скоро он стал своим человеком в кругу местной бюрократии, его часто видели в клубе, где буфет с выпивкой заключал церемонию каждого вечера. Жорж легко тратил аванс, полученный от Кабаяси, ибо в порядочность японцев верил больше, нежели своим соотечественникам: «Трепачи! Насулят три короба, а когда придет время расплачиваться, так с них черта лысого не получишь…» В клубе Александровска все чаще говорили о намерении Ляпишева удалиться в отставку, но эта версия тут же отпадала, жестоко раскритикованная с позиций романтического реализма:
– Э, не первый раз! – говорил Слизов, накалывая на вилку кусочек селедки. – В прошлом годе он тоже клялся, что из отпуска не вернется. Мы, как последние олухи, объявили подписку на поднесение подарка «от благодарных сослуживцев», а к осени – глядь! – он вернулся. Ясное дело, что подарков сослуживцам не вернул. Так будет и сейчас…
– Конечно, – подхватил Еремеев, инспектор тюремного надзора, – в России таких окладов не бывает, как здесь, да и Фенечку Икатову тоже необходимо учитывать на весах местного благоразумия… Чего ради ему от Сахалина отказываться?
В среде этих господ Жорж Оболмасов быстро научился пить больше меры, легко усвоил от них презрение к каторге – главнейший закон чиновно-сахалинской морали, и на улицах Александровска, забронированный с фронта и тыла переплетами книг, он бдительно следил, чтобы не пострадал его престиж, чтобы вся каторжноссыльная дрянь за 20 шагов от него обнажала головы.
– Эй, – покрикивал геолог. – Кажется, от вас на Сахалине не так уж много требуют: всего-то навсего шапчонку скинуть. Так не ленись, братец, и скажи спасибо судьбе, что на интеллигента напал, а другой бы тебе такого «леща» поджарил…
Наивным сном казались теперь ему мечты юности, когда в аудиториях Горного института студенты сладко грезили о том, как прощупают недра России, выявив в их глубинах все, в чем нуждается русская экономика и промышленность. Жорж не сомневался, что именно на каторге станет новоявленным Нобелем! Сейчас в этой увлекательной сахалинской эпопее его угнетало лишь отсутствие женщины. Он боялся связывать себя с местными Цирцеями и Афродитами, о которых ходили ужасные слухи, а женщин, еще не испорченных каторгой, следовало ожидать до осеннего «сплава»… Оставалось благодарить Жоржетту Иудичну: когда муж удалялся по утрам на службу, эта старая грымза вовлекала квартиросъемщика именно в те приятные отношения, в каких он нуждался. Правда, иногда еще мнилось, что со времен встречи в Одессе он имеет некоторые надежды на чистоту и святость Клавдии Челищевой, геолог даже позванивал в дом губернатора, прося пригласить ее к телефону, но трубку телефона каждый раз почему-то снимала с рычага обнаглевшая Фенечка Икатова:
– Кто спрашивает? А чего вам от нее надо? Так у меня ноги-то, чай, не казенные, чтобы я за ней бегала…
Челищеву очень редко видели в клубе, она слишком увлеклась «воскресными чтениями» в Доме трудолюбия, куда раньше людей было не заманить, а теперь каторжане и ссыльные часами выстаивали на ногах, слушая чтение русских классиков, для них заводили граммофон «Тонарм» с мембраною фирмы «Эксибишен», и знаменитая Варя Панина с надрывом выпевала для них:
Стой, ямщик! Не гони лошадей.
Нам некуда больше спешить…
Но однажды Фенечка сняла трубку зазвонившего телефона, и мужской голос велел ей пригласить госпожу Челищеву:
– А у меня ноги-то не казенные… – начала было Фенечка с обычного в таких случаях афоризма, но голос мужчины на этот раз оказался неукоснительно резок:
– Слушай, ты… мразь в накрахмаленных кружевах! Не смей хамить и немедленно позови к аппарату госпожу Челищеву.
Клавочка взяла трубку, брошенную на стенной крючок.
– Простите, – услышала она, – вас беспокоит штабс-капитан Быков, Валерий Павлович… Может, вы меня помните?
– Помню вас и помню ваши предостережения. Но, как видите, мне раскаиваться еще не пришлось, и осенью я не собираюсь покидать Сахалин на транспорте «Ярославль».
– Рад за вас, – отвечал Быков; от имени гарнизона он просил ее выступить в казармах Александровска перед солдатами. – Вы сами знаете, что Карузо и Шаляпин не угрожают Сахалину своими бесплатными гастролями. А наши сахалинские солдаты, хотя и слуги отечеству, но жизнь у них тоже почти каторжная, они будут очень рады послушать и вас и ваш… граммофон!
Вечер в казарме сложился самым лучшим образом, а потом штабс-капитан Быков умолил девушку накинуть на свои девичьи плечи его офицерскую шинель:
– Не простудитесь! Снег в окрестностях нашего легендарного «Парижа» будет лежать на сопках еще долго, а дожди тут очень холодные… Впрочем, моя коляска к вашим услугам!
Клавочка без тени ложного смущения приняла его приглашение «на чашку чаю»; денщик задержал лошадей возле беленькой мазанки, похожей на украинскую, в переулке офицерской слободки. Внутри дома хранилась стерильная чистота, всюду был заметен порядок, свойственный только женщинам, о чем Клавочка и подумала про себя, но Валерий Павлович Быков с удивительной проницательностью разгадал ее потаенные мысли:
– Нет, я холостяк. Просто жизнь приучила меня к аккуратности в общении не только с предметами, но и с людьми… Я нисколько не жалею, что связал свою судьбу с русской армией, я сожалею только о том, что не в силах сдать экзамены в Академию Генштаба. Иногда мне кажется, что я окончательный тупица!
Денщик поставил самовар. Над офицерской тахтой висела карта Сахалина, и Быков обвел пальцем контуры острова:
– Заметьте, что Сахалин своими очертаниями напоминает большую стерлядь с раздвоенным хвостом на юге, это даже символично… Россия привыкла кормиться рыбой с Волги, а никто еще не подумал, что один только Корсаковск может дать народу рыбы как десять Астраханей… Мы – слепые раззявы! – говорил Быков. – Когда с океана идут рыбные косяки, то они столь необъятны, что миллионы тонн самой драгоценной рыбы с икрой выдавливаются прямо на берега Сахалина, образуя на них гекатомбы умирающей рыбы, которая потом отравляет воздух своим гниением. А у нас нет даже соли… Вот, попробуйте нашу селедку!
Клавочка попробовала и сказала:
– Да, в магазинах Елисеева такую не продашь даже беднякам, ибо россияне давно испорчены астраханским засолом.
Быков вызвался проводить ее:
– Вы бы знали, как тошно жить на этом острове, где мы все заранее прокляли, все изгадили, все оплевали, на все глядим чужими недобрыми глазами, будто Сахалин не наша земля, а сам дьявол прибил ее к берегам России. Японцы этим и пользуются – грабят, вывозят, хищничают. Вы когда-нибудь побывайте на путине в Аниве… это страшно! Будто Сахалин вообще не принадлежит нам, русским, а только им, японцам.
Клавочке штабс-капитан нравился – он не был похож на других обитателей Александровска, но в сердце бестужевки, давно настроенном на лирический лад, еще не угасал интерес к тому загадочному арестанту, который, как и офицер Быков, тоже не был похож на рядовых людишек… «Где же он, этот арестант с такими лучистыми, медовыми глазами?» Наверное, горюет в «кандальной» и смотрит на этот мир через решетку.
* * *
Приятно шелестящая кружевным фартучком, милейшее создание природы – Фенечка Икатова внесла в кабинет военного губернатора поднос с чаем и сливками. Сразу началась активная выгрузка самой свежайшей сахалинской информации:
– Слизова-то Жоржетка, кляча старая, живет с этим… Ну, с этим вот, что больно уж нефти от вас захотел.
– Оболмасов? Горный инженер?
– Он самый. Бессовестные люди… Слизов ему, как человеку, квартиру сдал, а он с его же кривомордой путается. Мало того, еще взял моду такую – сюда, в управление, названивать.
– Чего ему от меня надо? – возмутился Михаил Николаевич. – Я его грандиозным планам не слуга, уже было сказано.
– Да вы ему не больно-то и нужны, – хихикнула Фенечка, советуя Ляпишеву добавить в чай побольше сливок. – У него тут иные заботы… Видать, одной Жоржеточки ему мало, он по телефонам с госпожой Челищевой шуры-муры крутит.
– Да ну! Быть того не может, – ответил Михаил Николаевич, при этом послушно разбавляя чай сливками.
– Тоже хороша… штучка! – сказала Фенечка, наблюдая через окно, как два арестанта на длинной палке несли к базару гигантскую камбалу, похожую издали на старое застиранное одеяло, которое впору выбросить. – Тут не только Оболмасов! Она и с капитаном Быковым стала путаться. Мне на кухне барон Шеппинг сказывал, что уже видели, как она от него вечером выходила. Знаем мы таких. В благородство играют, а сами…
Ляпишев схватился за виски, уткнув в них два указательных пальца, словно приставил к ним стволы заряженных пистолетов, чтобы разом покончить со всеми земными радостями.
– Не могу! – простонал он, как раненый. – Наконец, я уже изнемог от зловония этих мерзких сахалинских помоев.
Фенечка все-таки досмотрела, как арестанты, свирепо ругаясь, долго пропихивали камбалу в двери трактира, чтобы пропить рыбину и больше с нею не мучиться.
– Как хотите… мое дело – предупредить, чтобы потом вы сами не раскаивались! – И, сказав так, Фенечка вильнула перед губернатором шуршащим от крахмала подолом.
Ляпишев тяжко вздыхал в одиночестве, тоже поглядывая в окно кабинета, и даже не удивился, когда из дверей трактира сначала вылетели, как пробки, избитые арестанты, а вслед за ними шлепнулась камбала невероятных размеров, и на мостовой камбала вдруг ожила, начиная шевелиться.
– О, боже праведный! – вздыхал Ляпишев. – Не лучше ли быть капитаном юстиции в Тамбове, нежели генерал-лейтенантом на Сахалине… жалко мне, до слез жаль камбалу! Она-то чем виновата? Хоть бы не мучили эту несчастную рыбину…
Губернатора искренно обрадовало появление Клавочки Челищевой, потому что ему, в общем-то доброму человеку, после всей грязи и сплетен, было приятно видеть возле себя эту строгую румяную девушку, на затылке которой большие русые косы были стянуты в тугой узел, украшенный сверху «гарибальдийкой».
– Портсигар нашелся! – сказал он, поднимаясь ей навстречу. – Оказывается, писарь моей канцелярии, князь Максутов, бывший офицер флота его императорского величества, экспроприировал его у меня и… пропил. На кого угодно мог бы подумать, но чтобы его сиятельство? Чтобы лейтенант флота?..
Беседуя с девушкой, он видел, как избитые арестанты стали заново прилаживать камбалу к своей длинной палке, чтобы тащить ее до следующего трактира Пахома Недомясова.
– Я, – говорил Ляпишев, – скоро отбываю в отпуск и вряд ли вернусь обратно. Скорее всего запрошу отставку. Пока власть над Сахалином в моих руках, я желал бы оставаться любезным с вами до конца… Говорите, что вам надо? С великим удовольствием я исполню вашу любую просьбу.
Клавочка поняла, что такой случай вряд ли еще представится ей, и девушка с большим чувством произнесла:
– Не о себе прошу – о несчастном… Если у вас найдется в канцелярии место, пожалуйста, прошу вас, вызволите из «кандальной» молодого человека, с которым я познакомилась еще на «Ярославле». Кажется, он осужден на пятнадцать лет. Фамилия его – Полынов, а зовут Глебом Викторовичем.
– Но способен ли он быть писарем, чтобы заменить князя Максутова, которого я уже отправил в «кандальную»?
– Судя по разговорам, – ответила Клавочка, – Полынов человек образованный, самых неожиданных познаний. Наверное, имеет и техническое образование, – добавила она, тут же вспомнив о вскрытии замка секретной камеры в форпике корабля.
Михаил Николаевич обещал исполнить просьбу Челищевой, но просил поручиться за порядочность Полынова.
– Ручаюсь головой, – заверила его Клавочка, – что этот человек на ваш портсигар никогда не польстится…
Отпустив девушку, военный губернатор вызвал Соколова, начальника конвоя, велев доставить из «кандальной» тюрьмы преступника Г. В. Полынова, сидящего по статье № 954:
– Если он закован, велите кандалы снять…
Ляпишев, конечно, не мог догадываться, как не догадывалась об этом и Клавочка Челищева, что вышенареченный Г. В. Полынов уже затаился в городе на «квартирном» положении, а вместо него из «кандальной» будет вызволен совсем другой человек.
12. Теперь жить можно
Ляпишев встретил его посреди кабинета.
– Пятнадцать лет? – строго вопросил он.
– Да, – еле слышно ответил арестант.
– Эксы?
– Имел к ним пристрастие.
– Ну ладно, – произнес Ляпишев, указав садиться за стол и приготовиться писать. – Не обижайтесь, но мне желательно проверить красоту вашего почерка и вашу грамотность. Записывайте следом за мной… Удаляясь на заслуженный отдых в отпуск, я, властью, данной мне свыше, приказываю считать статского советника Н. Э. Бунге временно исполняющим обязанности сахалинского губернатора, при этом всем подчиненным наставляю в прямую обязанность усилить бдительность в связи с летним периодом, когда побеги с каторги и… Успели записать?
– Так точно! – вскочил арестант со стула.
– Ничего, сидите, – разрешил Ляпишев, пробегая глазами текст своего приказа. – Ну что ж, почерк у вас разборчивый, синтаксис в порядке, так что, милейший Полынов, я не вижу причин для отказа в занятии вами канцелярского места. Но учтите, что за вас поручилась персона, которой я доверяю.
– Премного благодарны, – кланялся ему арестант…
Новоявленный Полынов робко уселся за массивный стол губернаторской канцелярии. В голове семинариста никак не укладывалось, откуда и по каким причинам на него вдруг свалилась такая роскошная благодать? Всюду тепло и чисто. С кухни сквозняки доносят запахи пищи, которую язык не повернется называть «баландой», нигде не слыхать кандального звона. В смятенном сознании семинариста медленно раскручивалась страшная догадка: не за тем ли и случились «крестины», чтобы возвысить его над этой каторгой, а виноват в его нечаянном возвышении именно тот человек, который столь жестоко похитил у него имя, его приговор суда сменил на другой – тяжкий, но более удачливый…
В канцелярию вошла чистенькая горничная. Это была Фенечка, которой было интересно глянуть на нового писаря.
– Чего лупетки-то свои выкатил? – сказала она. – Или еще не видывал порядочных женщин?.. Ничего, – продолжала Фенечка, – мне раньше-то и не снилась такая сладкая житуха, какая на каторге выпала. Теперь жить можно… с умом, конечно!
Семинарист с ужасом вспомнил, как залезал под нары.
– Да, теперь жить можно, – согласился он.
И на всякий случай он нижайше поклонился Фенечке Икатовой.
* * *
Иван Кутерьма не мог очухаться от удивления: этого сопливого семинариста, которого он сам недавно «перекрестил», теперь забрал из тюрьмы сам начальник губернаторского конвоя, причем увезли его на коляске Ляпишева – как барина…
– Не иначе как ссучился! – здраво решил бандит.
При этом страшные мысли ослепляли его: сейчас «крестник» расскажет всю правду, Ивана закуют в ручные и ножные кандалы, потом засадят в «сушилку» (так назывался карцер). Пока он там парится, власть над камерой и всеми арестантами заберут «храпы», а его, бедного, разжалуют в «поддувалы»…
Кутерьма нашептал в ухо майданщику:
– Ибрагим, как хошь, а мне надо срочно бежать.
(Он сказал это на жаргоне: «пора слушать кукушку».)
– Так валяй… слушай, – с ленцой отвечал майданщик.
– Так не полезу же я на пули да на штыки конвойных! – Было видно, что без денег Ибрагим не разговорится, и Кутерьма с досадой швырнул ему четыре последних рубля. – Держи, хапуга, но только скажи: какой из столбов искать в «палях»?
Высокие «пали», окружавшие тюрьму, имели лазейку, чтобы пронырнуть под ними на волю. Это был секрет всей каторги. Даже не все иваны знали, какой из тысячи громадных столбов ограждения заранее подпилен для выхода на свободу.
Ибрагим спрятал деньги в карман халата:
– Сорок восьмое бревно. Там густая крапива…
Ближе к вечеру Иван Кутерьма спорол «туза» на спине, а кандалы у него были давно подпилены и разрезы на металле заполнены мягким воском. Вот уже стали разделять по камерам порции хлеба к чаю. Арестанты таскали хлеб на носилках, на каких выносили и покойников из камер. А все довески к пайкам прикалывались деревянными лучинками. Кутерьма даже есть не стал.
Перед сном надзиратель оповещал камеру:
– Эй, а парашу я, что ли, за вас выносить стану?
«Прасковью Федоровну» обычно вытаскивали на тех же носилках, на каких разносили и порции хлеба. Два арестанта уже взялись тащить парашу на двор, но Кутерьма отстранил одного:
– Ты отдыхай! Сей день я сам прогуляюсь до ямы…
На дворе было уже темно. Спотыкаясь, они брели до выгребной ямы тюрьмы, невольно расплескивая зловонное содержимое. Затем, опорожнив бочку параши, Кутерьма заявил напарнику:
– А мыть ее сам будешь. Считай, что меня нету…
Иван неслышно растворился в темноте. Прочные бревна «палей», перевитые толстой проволокой, со всех сторон окружали тюрьму, внешне, казалось, непреодолимые. Кутерьма двигался вдоль этого забора, нащупывая одно бревно за другим. Он считал:
– …сороковое, сорок первое, сорок второе… это будет сорок шестое, вот и седьмое. Ага, сорок восьмое… стоп!
Ибрагим не обманул: здесь росла густая крапива. Кутерьма сунулся в ее обжигающие заросли, руками начал копать в земле глубокую яму, пока не достиг комля бревна, которое было уже подпилено. Бревно с натугой провернулось на железном штыре, и сразу открылась нора, выводившая на блаженную свободу… Кутерьма отряхнулся от земли, глянул разок на звезды и решительно зашагал прочь от тюрьмы, похожий на «вольного» ссыльнопоселенца, который задержался в гостях, а теперь спешит на свои клопяные полати, чтобы зарыться в рванье и спать.
Между базарных рядов медленно прогуливались громадные крысы, брезгливо обнюхивая острыми мордами мертвецки пьяного, уснувшего в яме. Кутерьма уверенно двигался закоулками, среди заборов и огородов, пока не вышел к дому торговки селедками. Тихо-тихо он постучался в стекло крайнего окошка. Занавески раздвинулись, в окне расплывчато забелело лицо.
– Инженер, открой… это я. Кукушка меня позвала!
Выразительным жестом Полынов дал понять, что сам выйдет к нему, и скоро появился на дворе, наспех одетый:
– Кукушка? Что-то некстати она закуковала.
– Все расскажу потом, а сейчас укрой меня… а? Мне надо пересидеть недельку-две, пока не перестанут искать… а? Долг платежом красен: я тебя «крестил», так выручай… а?
Полынов зевнул, поежившись от ночной сырости.
– Выручу, – обещал он. – Но у меня на Протяжной укрыться нельзя. Анисья – баба торговая, к ней с базара всякая шваль треплется, тебя здесь могут заметить… Что случилось?
– Да не мусоль ты душу мою! Все скажу потом, а сейчас веди куда-нибудь, чтобы меня не застукали.
– Спрячу в самом надежном месте. Есть такое. Тут недалеко, сразу за ручьем. Я сам провожу. Погоди меня тут. Со двора не уходи. Я быстренько оденусь, и тронемся…
Скоро они двинулись в сторону ручья по узкой извилистой тропе, и всю дорогу Кутерьма извергал ругань:
– …пусть не думает, что удавлю или зарежу. Это ишо не смерть, а так – карамелька с начинкой! Он у меня еще в ногах изваляется, замучаю, пока сам о смерти не взмолится…
Послышался шум ручья, Полынов предупредил:
– Осторожнее, здесь мостки… Видишь?
– Ага, вижу, – отвечал ему Кутерьма.
Рука следующего за ним Полынова вдруг обхватила его шею, голова запрокинулась назад. Всем весом своего грузного тела бандит сам нанизал себя на нож, глубоко пронзивший его.
– А теперь… вон туда, – толкнул его Полынов.
Сонно всплеснула вода и тина. Стало очень тихо.
Полынов вернулся в свое жилье. При свете керосиновой лампы еще раз пробежал глазами газетный отчет о судебном процессе в Лодзаи, потом улегся в постель. Вернее, он даже не улегся, а рухнул – как беспомощный человек, которого свалила в небытие нечаянная пуля из-за угла.
– Не смерть, а карамелька, – сказал он, задувая лампу.
* * *
Клавочка проснулась и долго не могла понять, почему у нее такое праздничное настроение. И тут она вспомнила о причине радости: ею сделано доброе дело, сегодня она может встретить в канцелярии губернатора того самого человека, которого сама избавила от кандалов и тюрьмы.
– Сегодня же навещу его… вот обрадуется!
Пробуждение чуточку омрачилось, когда ей подумалось, что с отъездом Ляпишева она останется на Сахалине под административной опекой статского советника Бунге, который давно излучал в ее сторону пугающий бюрократический холод.
– А что мне до него? – сказала себе Клавочка.
В приемной губернатора ей встретились судебный следователь с фамилией Подорога и полковник Данилов из Тымовского (иначе Рыковского) тюремного округа, обсуждавшие щекотливый вопрос о подписке для подарков генерал-губернатору Ляпишеву.
– Можно на худой конец подарить японскую вазу со всякими там страшными драконами, – говорил Подорога.
– Такую вазу подносили в прошлом году, а сейчас желательно что-либо поувлекательнее… Может, – размышлял Данилов, – орудийный салют при отплытии покажется Михаилу Николаевичу немного приятнее местных сувениров?
– Но деньги-то уже собрали! Не стрелять же теперь из пушек деньгами, собранными по подписке… Куда их девать?
С некоторым замиранием сердца Челищева направилась в канцелярию губернаторского присутствия, где за столом сидел какой-то белобрысый парень и, скривив рот от небывалого усердия, старательно перебелял казенную бумагу. Клавдия Петровна ожидала видеть Полынова, но писарь уже торопливо вскочил:
– Арестант Полынов из каторжных последнего «сплава»… Я весь к вашим услугам. Чего изволите? Я вас слушаю.
– Это не вы, – отшатнулась прочь от него девушка, и вдруг ей стало так нехорошо, что она опустилась на стул, не веря своим глазам. – Кто вы такой? Я вас не знаю… Откуда вы появились? – вдруг резко выкрикнула она, вставая. – Сейчас же и немедленно прекратите эту дурацкую комедию!
Писарь затравленно оглянулся на дверь, почти в молитвенном экстазе, как перед киотом, он складывал перед девушкой руки:
– Тише, тише… не погубите меня. Всеми святыми заклинаю – не выдавайте меня… Если в тюрьме узнают, что я разоблачен, меня ведь сразу придушат, как худую собаку…
Потрясение было столь велико, что Челищева долго пребывала в каком-то отупении. Только теперь она стала понимать случившееся, а сбивчивый рассказ писаря о том, как его «крестили», объяснил ей все остальное.
– Хорошо, – произнесла она. – У меня нет желания причинить вам зло. Наверное, у вас было его уже достаточно.
Писарь, плача, упал к ее ногам:
– Век за вас буду бога молить… Если б вы знали, сколько выстрадал я в тюрьме, пока не попал вот сюда! Так не ввергайте меня обратно – в пучину зла и ненависти.
– Встаньте, – велела ему Челищева. – Я обещаю молчать о том, что вы – это совсем не вы, а кто-то другой. Но, может, вы подскажете мне: куда делся этот «кто-то другой»?
Еще всхлипывая, писарь торопливо листал подшивки «квартирных билетов» и наконец объявил ей – почти радостно:
– Нашел! Этот человек жительствует у торговки Анисьи, которую вы сыщете в конце Протяжной улицы… там спросите.
Протяжная отыскалась с помощью прохожих, весьма подозрительно оглядывавших барышню в меховой «барнаулке» и в шапочке-гарибальдийке. В доме базарной торговки дверь отворилась с таким противным скрипом, будто качнули виселицу. Полынов при виде Челищевой пощелкал подтяжками, которые опоясывали его грудь, как приводные ремни бездушную машину. Кажется, он не очень-то удивился ее неожиданному появлению.
– Благодарю – не ожидал, – сказал с ухмылкою.
И эти банальные слова, как и эта ухмылка, показались ей настолько циничны и отвратительны, что рука поднялась сама собой… Клавочка надавала ему хлестких, оскорбительных пощечин с такою силой, какой даже не ожидала в себе:
– Вот вам… вот еще! Не смейте отворачиваться… Вы опутали меня своей ложью! – в гневе выкрикивала она. – Вы сделали меня причастной к своим преступлениям, в которых я не могу разобраться… Чего еще мне ожидать от вас?
Полынов-Сперанский расцеловал ей руки.
– Это мой давний принцип, – сказал он девушке. – Если нельзя укусить руку женщины, избивающую тебя, я стараюсь расцеловать эту руку… Благодарю – ведь я давно ожидал вас!
– Вы? Ожидали меня? Зачем?
– Вам не следовало влюбляться в меня…
Неожиданно заплакав, Клавдия приникла к его груди, перепоясанной бездушными ремнями подтяжек, а Полынов нежно гладил вздрагивающие плечи, говоря при этом очень ласково:
– Успокойтесь, прошу вас. Я никогда не воспользуюсь вашей минутной слабостью, ибо, подобно тигру, я никогда не возвращаюсь к добыче, если в первом прыжке однажды я промахнулся.
– Разве вас можно понять?
– А разве вы забыли, что было на подходах к Гонконгу?
Клавочка подняла к нему зареванное лицо.
– Кто вы такой? – со стоном спросила она.
– А вы не знаете?
– Не знаю. Но хочу знать.
– Я сейчас только семинарист Сперанский, имевший неосторожность придушить одного старенького попа… Мне, честно говоря, не совсем-то уютно в этой гадостной роли, но вы потерпите.
– Долго ли еще терпеть?
– Нет! – ответил Полынов. – Скоро я придумаю что-либо другое, более интересное для образованных женщин…
13. Не подходите к ней с вопросами
Приезжих с материка удивляло, что процент детской грамотности на Сахалине был выше, нежели в иных российских губерниях. В этом большая заслуга именно политических ссыльных, но следует отдать должное и военному губернатору Ляпишеву, который, заведомо зная, что детей с утра не покормят, узаконил раздачу в школах бесплатных завтраков.
Всем добрым начинаниям на Сахалине каторга обязана именно «политикам» и ссыльным интеллигентам. Педагоги выпрямляли в душах детей все то, что было искривлено пороками родителей, врачи отстаивали больных каторжан от плетей и тяжелых работ. Недаром же Михаил Николаевич говаривал с сарказмом:
– Спасибо нашим имперским судам: они шлют на каторгу так много замечательных людей, без которых Сахалин попросту погиб бы в поножовщине, в воровстве и блуде. Но вот что достойно особого внимания: взятые «от сохи на время», осев на землю, ничего не делают, у них летом даже огурца не купишь, а политические ссыльные, получив наделы, имеют прекрасные фермы, даже студенты-филологи снимают хорошие урожаи…
В период его губернаторства Сахалин населяли 46 тысяч человек, из них 20 тысяч считались уже «свободными», а для детей и молодежи Сахалин сделался родиной, и другой родины они не знали. Здесь им казалось хорошо, даже очень хорошо, ибо сравнивать свою постылую жизнь с жизнью других людей они не имели возможности. Но в быту трудящихся сахалинцев, своим горбом добывавших честную копейку, привились странные крайности. Выдоив корову, скосив траву, поймав рыбину или краба, собрав с огорода репу, сахалинцы все добытое старались поскорее продать, хотя при этом сами зачастую оставались голодными.
– С плохим здоровьем, – говорили ссыльные поселенцы, – жить еще можно, а ты вот попробуй поживи с пустым кошельком, тогда еще не так взвоешь. А коли срок ссылки закончится, так на какие шиши домой уедем?..
И не только они, завезенные на Сахалин силою, но даже чиновники, соблазненные «амурской надбавкой» к жалованью и пенсионными льготами, никак не могли ужиться на Сахалине, мечтая лишь поднакопить деньжат, а потом убраться на материк.
– Здесь и солнышко не так светит! – объявил Ляпишев, забираясь в коляску, чтобы ехать к пристани. Официально он отбывал в заслуженный отпуск. – Но уже иссяк душой и обессилел телом, – говорил генерал. – Так что прощайте, дамы и господа, из отпуска с материка я вряд ли вернусь.
Тут весь чиновный клир загудел, как шмелиный рой:
– Да мы без вас как без рук, с вами только и ожили…
На пристани Ляпишеву поднесли икону, подарки от частных лиц и сувениры, сделанные арестантами в тюремных мастерских. Были слезы, клятвы, поцелуи, объятия. Наконец распили два ящика шампанского, а могучая сахалинская артиллерия – аж все четыре пушки! – салютовала отплывающему губернатору. Потом длинная вереница казенных колясок возвращалась в Александровск, и чиновники строго разбранили того же Ляпишева:
– Надует! Опять надует… собрал с нас целый урожай подарков, а какая там отставка? Кто его, спрашивается, с Сахалина отпустит? Уж коли сюда попал, так сиди и не чирикай.
* * *
Бунге и генерал-майор Кушелев, главный прокурор Сахалина, вдруг пробили тревогу: в обиходе обнаружились фальшивые кредитки достоинством в 10 и 25 рублей. Обычно их фабриковала тюрьма. Кушелев собрал главных «блиноделов» каторги:
– Давайте по-честному: «блины» не вашей ли выпечки?
Опытные мастера этого тонкого дела (иные из граверов, окончивших императорскую Академию художеств по классу Иордана или Серякова) тщательно изучили поддельные ассигнации.
– Вообще-то, – сказали они, – российские деньги проще спичек, их любая корова напечатает. Но это не тюремная работа, мы этой «руки» не знаем, а вы нас в это дело не путайте…
Об этом стало известно в клубе, и капитан Быков, намеливая бильярдный кий, сообщил полковнику Данилову:
– Если англичане, чтобы досадить Наполеону, штамповали французские деньги, а Наполеон, чтобы подорвать экономику России, наводнил ее фальшивыми русскими ассигнациями, то, я думаю, почему бы самураям не перенять этот старинный способ, когда один сосед тихо и гнусно гадит своему соседу.
Данилов забил в лузу два шара подряд:
– Хотелось бы верить в японскую порядочность.
Быков обошел бильярд, примериваясь к удару:
– Мне тоже хотелось бы верить, что японская вежливость – не только улыбки. Однако если русских на Сахалине сорок шесть тысяч, то подумайте… Сколько уже японцев?
Вопрос был поставлен кстати. Санкт-Петербург, желая добрососедских отношений с Токио, все-таки допустил большую политическую ошибку, позволив японцам хозяйничать на Сахалине как у себя дома: вся дальневосточная рыба вывозилась в Японию, а мы, русские, по-прежнему наивно уповали на неисчерпаемость рыбных запасов Волги и Каспия.
– Так что, – заключил капитан Быков, расплачиваясь за проигрыш, – в армии японских рыбаков всегда могут найтись и явные негодяи, которые распространяют фальшивки…
– Вот такие, как эта? – раздался вдруг голос, и генерал Кушелев перенял из руки Данилова десятирублевку. – Господин Быков, откуда у вас эта кредитка? Неужели из жалованья?
Валерия Павловича Быкова даже в жар бросило:
– Прямо мистика какая-то… декадентство, черт побери! Только мы заговорили о фальшивых деньгах, и я сразу попался. – Он объяснил прокурору, что недавно заказывал себе новый мундир в «экономическом» обществе офицеров сахалинского гарнизона, где ему дали сдачи. – Вот этой десяткой.
Генерал-прокурор вернул ассигнацию Данилову:
– Не смею лишать вас законного выигрыша…
В это время судебный следователь Подорога уже перерывал кассу клубного буфета, выудив из нее фальшивую ассигнацию в 25 рублей. Он сунул ее к носу буфетчика, тот перепугался.
– Ей-ей, – поклялся буфетчик, – господины горные инженеры Оболмасовы тока что за шампань со мною расплачивались…
Жорж Оболмасов был искренно возмущен:
– В чем вы меня подозреваете? Я расплачивался из своего же бумажника. Честными деньгами. Мною заключен контракт с японским консулом на разведку нефти, и консул сам выплачивает мне жалованье. Или мне подозревать господина Кабаяси?..
Быков навестил гостиную клуба, где между кадок с засохшими пальмами посиживали дамы сахалинского бомонда, но госпожи Челищевой средь них не оказалось. Штабс-капитан заглянул в буфет, подсел к чиновнику Слизову, который кивком головы указал ему на Оболмасова, которого – с легкой руки мадам Жоржетты Слизовой – уже прозвали на Сахалине «кирасиром»:
– Активность у него поразительная! Не вышло с Ляпишевым, так стрижет купоны с японского консула. Допускаю, что нефть они сыщут. А что дальше? Ведь каждая бочка керосину, если ее везти в Россию, будет дорожать с каждой верстой.
– Все это схоже с аферой, – согласился Быков. – Да и Нобель не в дровах же родился: он сбавит цену на одну копейку с галлона, при этом сам ничего не потеряет, а Оболмасов вместе со своими самураями сразу останется без штанов… Кстати, какой сегодня день – среда или четверг?
Слизов предложил ему выпить и закусить.
– А шут его знает, какой сегодня день, – сказал он с унылейшим видом. – Это в России надобно точно знать, среда или четверг, а на Сахалине и без календаря прожить можно…
Быков про себя отметил, что давно ли появился Оболмасов на Сахалине, а молодого геолога было не узнать: набрякшие мешки под глазами, измятое серое лицо – все это подтверждало старую истину, что выпивать каждый день вредно. Подумав об этом, штабс-капитан лишь пригубил стопку и отправился домой – спать!
* * *
Когда русские стали обживать эти края и завели домашнюю скотинку, то хищники при виде овечек – удирали от них в тайгу без оглядки. Кто его знает, этого блеющего зверя? Может, возьмет да и съест бедного сахалинского волка? Медведи, уж на что были лютые, но и те обходили первые поселения стороной, чтобы не попасться на глаза коровам… Здесь поначалу все было шиворот-навыворот, иней на почве в летние месяцы губил посевы самой выносливой ржи, зато корнеплоды достигали невероятных размеров. Сахалин вообще поражал чудесами. Так, например, женщин-преступниц в тюрьмы не сажали, а спешили раздать их на руки поселенцам – наравне со скотом. Антон Павлович Чехов, посетив Сахалин, уже заметил, что женщина на каторге – не то избалованная капризная баба, не то какое-то тягловое существо, низведенное до уровня рабочей скотины, Чехов тогда же снял копию с прошения мужиков деревни Сиска: «Просим покорнейше отпустить нам рогатого скота для млекопитания и еще женского полу для устройства внутреннего хозяйства…»
Сахалин всегда с трепетом ожидал осеннего «сплава», когда с парохода сойдут на пристани Александровска преступницы и «вольные» жены, вытребованные мужьями. Сильный пол заранее воровал на складах и в магазинах, грабил прохожих на улицах, снимая с них шапки и галоши, чтобы предстать перед прибывшими женщинами в самом «шикарном» виде. А если у тебя еще завелась гармошка да способен угостить бабу конфетами, ну, тогда, парень, тебе в базарный день и цены нет! Для пущего соблазна слабой женской натуры женихи обзаводились цветными платками из дешевого ситца, держали наготове в кулечках мятные леденцы.
– А чо? – рассуждали женихи. – Платок-то на нее накину, на гармони сыграю дивный вальс «Утешение», конфетку в рот суну, чтобы пососала, а потом веди куды хошь… уже моя!
– Гадьё! – говорили женихам окружные исправники, вертя в руках синие шнуры от револьверов. – Ведь вас, хвостобоев, вусмерть увечить бы надо… Небось приведешь бабу, на гармони сыграешь ей, а потом сам же на улицу погонишь, чтобы она тебе, калаголику паршивому, деньги на водку добывала.
– А что? – говорили женихи, не стыдясь. – На то она и баба, чтобы с нее, со стервы, мужчина верный доход имел… Зря мы, чо ли, на энтих каторгах страдаем?
Оживлялась к осени и чиновная среда, чтобы под видом кухарок, поломоек и прачек заполучить от казны бесплатных наложниц, помоложе да покрасивее. Жорж Оболмасов, которому уже давно было тошно от утренних визитов Жоржеточки Слизовой, тоже надеялся снять с парохода женщину попригляднее. Но геолог боялся не успеть вернуться в Александровск к приходу «Ярославля», ибо японцы затягивали начало экспедиции.
– Господин Кумэда, – говорил он, – летний сезон уже подходит к концу, а где же ваши носильщики, где снаряжение?
– Скоро все будет, – обещал Кумэда…
Скоро появилось отличное снаряжение, закупленное в Америке, прибыла команда бравых японских парней в крепких башмаках; они закрывали лица сетками от комаров, четко исполняли приказы Такаси Кумэды, и экспедиция тронулась в тайгу, уже затянутую дымом летних пожаров, ежегодно пожиравших сахалинские дебри. Оболмасов был достаточно грамотным геологом, хорошо начитан в литературе о полезных ископаемых Сахалина, и поэтому он не всегда понимал, почему отряд кружит возле Александровска, словно выискивая подходы к нему со стороны Южного Сахалина.
– В чем дело? – говорил он Кумэде. – Если мы решили искать нефтяные залежи, нам следует сразу двигаться на север, даже за мыс Погиби, а не болтаться в Рыковском округе… Что мы здесь крутимся? И что найдем, кроме множества скелетов в ржавых кандалах, которые валяются еще с прошлого года?..
Но японцы строго придерживались каких-то своих маршрутов, а Кумэда резко пресекал все вопросы Оболмасова:
– Вы получаете от нас такое хорошее жалованье, которого вполне должно хватить для сохранения вашего спокойствия.
Неожиданно возросла и роль фотографа, взятого в экспедицию ради создания альбома с видами Сахалина; теперь уже не Кумэда, а сам фотограф казался Оболмасову в экспедиции самым главным, японцы-носильщики кланялись ему с особенным усердием.
– Оболмасов-сан, – заявил фотограф, – это правда, что мы заключили с вами контракт на поиски нефти, не спорю. Но мы ведь можем найти не только нефть, но и… золото! Наконец, мы, японцы, никогда не отворачивались от дикой красоты сахалинских пейзажей… Это ведь тоже большое богатство.
– Да я не спорю, – согласился Оболмасов, с трудом вдыхая влажный воздух через сетку накомарника. – Но мне хотелось бы не опоздать в Александровск… ведь скоро и осень!
Японцам это было известно, как и многое другое.
– Мы догадываемся о причине ваших переживаний, – сказал однажды Кумэда. – Но вы не должны волноваться: приход «Ярославля» в этом году на две недели задерживается, и, если вам понадобилась хорошая кухарка, вы успеете ее получить…
Внутри Сахалина было неуютно и жутко. От древнейших лесов и болот веяло дикой давностью; порою геологу казалось, что из вязкой заплесневелой трясины сейчас высунется, щелкая зубами, огромная пасть доисторического ихтиозавра. Некоторых лошадей, завязнувших в таких трясинах, японцы бросали погибать, не в силах вытащить их на сушу. Ради экспедиции они наняли у гиляков много собак, похожих на волков – ростом и повадками. Туземные собаки даже не лаяли, а завывали по-волчьи, и только отрубленные под самый корень хвосты давали понять, что это не волки, а «друзья человека». Впрочем, когда на Сахалине бывали голодные зимы, этих «друзей» быстро съедали.
* * *
Японцы не подвели его, и, пока «Ярославль» разгружал баржами свои трюмы от женского «сплава», Оболмасов успел побывать в кают-компании транспорта, где за офицерским табльдотом выпил три рюмки хорошего виски, а пароходный буфетчик охотно продал ему два великолепных цейлонских ананаса:
– Сам Елисеев таких не видывал… берите!
Геолога катером спровадили обратно на берег, где сахалинские мужья встречали жен с детьми, впрягались тащить прибывший с ними домашний скарб – прямо из деревни.
– Дура! – сразу начинали они лаяться с женами. – Ну ладно, самовар и утюг привезла, это ишо продать можно. А вот ухваты-то на кой хрен тащила? Ты бы и метелки свои прихватила…
Тем временем женихи уже обступали прибывших каторжанок, благородно уговаривая их связать с ними свою судьбу:
– На веки вечные, до гробовой доски! Потому как очень вы мое сердце пронзили, теперь я пылаю… В эвдаком серьезном случае могу персонально для вас исполнить на гармошке любимый романс нашего императора «Не подходите к ней с вопросами…».
Конечно, лучше не задавать глупых вопросов, по какой статье их сюда спровадили. Но выбор отравительниц, хипесниц, душительниц и воровок был на этот раз сказочно богатым: бери по любой статье, никогда не прогадаешь… Заметив колебания Оболмасова, который разглядывал женщин издали, полицмейстер Маслов подсказал ему:
– Коли желаете иметь не хахальницу, а жену верную и хорошую, так берите такую, которая пошла на каторгу за убийство мужа. Мы-то, полиция, уже знаем, что, если жена мужа вконец порешила, значит, ее муженек того и заслуживал…
Тут внимание Оболмасова привлекла одна бабенка, явная хипесница. Но до чего же хороша была, каналья! Возле нее неловко топтался парень из поселенцев. Кажется, он был из категории «от сохи на время» – трудяга, попавший на Сахалин случайно, а теперь работал как вол, создавая свое хозяйство. Теперь он неумело и косноязычно соблазнял молодуху ехать к нему на выселки, чтобы совместно горбатиться с утра до ночи на скотном дворе и на огороде. Платок он ей уже подарил, а теперь стыдливо расточал перед гадюкой самые нежные признания:
– Мне же рук не хватает, чтобы коров подоить, и хлеб испечь, и забор поправить. Фулиганье тут такое собралось, одни пакостники. Мимо забора не пройдут, чтобы доску не выломать… Ну? Вы не сумлевайтесь: сыты завсегда будете. Как зовут-то вас?
Молодуха назвалась Евдокией Брыкиной; она брала из кулечка мармеладинки, таскала их в широкий, как у лягушки, рот:
– А может, вы пьяница какой? Я мужчинкам этим самым давно не верю. У них завсегда на уме, как бы нас поскорей использовать, а потом-то с них фигу с маком получишь.
Для вящей убедительности она показала жениху кукиш.
– Вот те крест святой! – божился парень. – Хмельного в рот не беру, а ежели что, так лупите нас прямо в морду… ради эвдакой красоты, как ваша, мы на все согласны!
Подкинув в руках тяжелые колючие ананасы, Оболмасов решил вмешаться в этот матримониальный сговор. Он сказал девке:
– Шарман, шарман! Что ты сиворылого гужбана слушаешь? Охота тебе коров доить да картошку полоть. Оставь ты свой мармелад. Держи ананас! Будет и шампанское. Поехали со мною.
– Барин! – надрывно взмолился поселенец. – Да я ж по-божески… женою мне станет, а вы для блуда ее берете!
– Ничего. Потерпишь до следующего «сплава», – безжалостно ответил ему геолог, подсаживая хипесницу в коляску.
Бедняга «от сохи на время» долго смотрел, как увозят его несбыточное счастье в Александровск, потом сорвал с головы шапчонку и с яростной силой шмякнул ее об землю:
– Эх, люди, люди! Да пропади вы все пропадом…
14. Романтики каторги
Штабс-капитан Быков тоже навестил «Ярославль», где в команде у него были давние знакомства. К сожалению, купить ананасов не удалось, у буфетчика осталась последняя связка бананов. В кают-компании корабля было тесно и шумно от наехавших с берега чиновников, жаждущих вкусить от гастрономических благ Европы и Азии. Старший офицер Терентьев сказал Быкову:
– Ну, как у вас тут дела? Еще спокойно?
– Пока живем – не тужим, – отозвался Быков.
В открытом иллюминаторе виделась серая гладь моря, вдали – берега Сахалина, затянутые едучим дымом непогасших пожаров.
– Не тужите, ибо до вас ничего не доходит, кроме всякой ерунды. А в России все чаще поговаривают о войне.
– С кем?
– С японцами.
Валерий Павлович угостил себя рюмкой шартреза.
– А что нам с ними делить? Не Сахалин же!
– И я, – ответил Терентьев, – такого же мнения, что делить нам уже нечего. Все, что было спорного, все поделено еще при канцлере Горчакове. Но из Петербурга доходят слухи, будто в нашей дипломатии возник сомнительный кризис.
– Кризис? По какому вопросу?
– По корейскому. Наши сиятельные спекулянты развели на реке Ялу какие-то концессии, рубят там деревья, ставят бараки. Ну японцам это не очень-то нравится, ибо Корею они привыкли считать как бы своей наследственной вотчиной.
– Что нужно в Корее нашим сиятельным камергерам, – сказал Быков, – догадаться еще можно. Но вот что понадобилось в Корее самураям – этого я не знаю, хотя тоже догадываюсь. Будь я на месте нашего министра иностранных дел графа Ламздорфа, я бы принял такое решение: черт с вами, Россия уберет концессии с Ялу, но зато и вы, японцы, не получите прав на концессию по расхищению рыбных и пушных богатств нашего Сахалина.
– Во! – поддакнул Терентьев. – У вас хорошая голова, капитан, по этой причине вас и заперли в казармах Сахалинского гарнизона. Не желаете ли отсюда выбраться?
– Выбраться… как? – печально спросил Быков.
Он навестил дом губернатора, одарив госпожу Челищеву тяжелой связкой ароматных бананов. В разговоре, конечно, они коснулись и последнего «сплава». Клавочка спросила:
– Одни женщины? А мужчин разве не привезли?
– Да нет. Только одного политического.
– А по какому процессу, не знаете?
– Я не интересовался… Между прочим, – невесело улыбнулся Быков, – на «Ярославле» меня сегодня пожалели за то, что я лучшие годы своей жизни посвятил службе на Сахалине.
– Я тоже так думаю, – ответила Клавочка. – Мне кажется, вы и сами-то не слишком довольны судьбой, какая вам выпала. Впрочем, простите меня. Я задела ваше больное место. Надеюсь еще увидеть вас с аксельбантом генштабиста.
– Да, да! – сразу оживился Быков. – Если б не эти проклятые иностранные языки, без которых в академию не допускают. Но меня всегда привлекали возможности войск проходить там, где нормальные люди не пройдут… через болота, через лесные завалы, строя переправы через губительные реки. Наверное, я мог бы стать недурным штабным работником. Но… мечты, мечты!
Клавочке захотелось сделать ему приятное:
– Хотите, я помогу вам с французским?
– Каждый урок с вами для меня будет счастьем…
* * *
Судя по всему, Фенечка Икатова подслушивала возле дверей. Правда, она не совсем поняла устремлений штабс-капитана, желавшего ходить там, где нормальные люди не ходят, но кое-что из беседы мужчины с женщиной вынесла – для развития тактики:
– Еще ахнет, когда я начну уроки давать…
В один из дней, явно выживая Челищеву из губернаторского дома, она надерзила девушке, и Клавочка велела девке:
– Убирайтесь вон из моей комнаты!
– А она и не ваша, – ответила Фенечка, уперев руки в пышные бедра. – Ты сама отсель убирайся, потому как комната эта нужна Соколову, начальнику губернаторского конвоя… Если ты на параше еще не сидела, так у меня теперь насидишься!
Челищева еще не успела освоить смысл этих наглых угроз, а в дверь уже просунулся писарь из канцелярии:
– Господин статский советник Бунге… вас просят!
Бунге сидел за столом губернатора, идеально чистым, и не удосужился даже привстать из кресла при появлении девушки. Стекла его очков отражали холодное сияние свежевымытых окон кабинета. С олимпийским спокойствием он начал:
– Вы ввели нас в заблуждение… я бы сказал – даже опасное заблуждение! Из-за халатности и попустительства Михаила Николаевича, который привык не застегивать пуговицы на своем мундире и держать свои двери нараспашку… Он не только ввел вас в свой дом, но и ввел всех нас… э-э-э, в опасное заблуждение! – повторил Бунге. – «Ярославль» доставил не только партию арестанток, но и документы из департамента полиции… Садитесь!
Челищева села. Двумя пальцами бюрократ взял со стола коробок спичек, как берут с подноса вкусную тартинку.
– Итак, – продолжал он, – из документов явствует, что вы, милейшая, еще в Петербурге состояли под надзором полиции как политически неблагонадежная… Изволите отрицать?
– Нет. Я не отрицаю этого.
– Тогда позволено мне спросить: с какими целями вы приехали на Сахалин и кто вас сюда направил? Подумайте.
– И думать нечего. Я приехала по велению сердца. Да, это правда, – торопливо сказала Клавочка, – мы, бестужевки, активно участвовали в общественной жизни, устраивали сходки и митинги протеста. Я обучала рабочих грамоте на окраинах Выборгской стороны… Но я же – нессыльная!
– Извольте отвечать по существу, – сказал ей Бунге. – Как политически неблагонадежная, очевидно, вы затем и прибыли на Сахалин, дабы вести революционную пропаганду, а ваши «воскресные чтения» в александровском Доме трудолюбия есть еще одна попытка… э-э-э, к этой пропаганде.
«Не ты ли сам и придумал эти чтения?» – подумала Клавочка, отвечая чиновному балбесу как можно вежливее:
– О какой революционной пропаганде может идти речь, если я заводила граммофон, читая ссыльным стихи Полонского, Надсона, Плещеева и Фета? Все это давно одобрено нашей цензурой. Если не верите, я могу принести вам «Чтец-декламатор» за прошлый год, и там все это напечатано.
– Од-на-ко, – раздельно произнес Бунге, – я не считаю возможным разрешить вам и далее «воскресные чтения», как весьма опасные для нравственности населения…
– Но это же чушь! – возмутилась Клавочка. – Убивать и воровать на каторге можно, а читать из Надсона, что «пусть струны порваны, аккорд еще рыдает» – это уже нельзя?
– К сожалению, «Ярославль» выбирает якоря, и выслать вас я уже не могу. Но если спросите у меня отеческого совета, я вам его дам: найдите себе мужа, и тогда все завихрения бестужевских курсов погибнут возле кухонной плиты…
Клавочка вернулась к себе, а там все вещи были уложены в неряшливую кучу, поверх которой красовалась ее шапочка-гарибальдийка. Фенечка держалась с победным видом:
– Можете не проверять. Нам чужого не надобно, своего хватает. Мы не какие-нибудь там… не воровки!
С помощью писаря, который, кажется, радовался ее удалению, Челищева вынесла свои вещи на крыльцо, наняла коляску, еще сама не ведая, куда она поедет. Фенечка долго соображала, что бы сказать на прощание пооскорбительнее, но фантазия тоже имеет предел, и она крикнула первое, что пришло ей в голову:
– Извини-подвинься! В другой раз не попадайся…
Издалека, со стороны моря, послышался хриплый вой. Это «Ярославль» покидал Сахалин, чтобы вернуться следующей весной. Но до весны нам еще следовало дожить. А дожить было нелегко. Недаром слово «режим» каторжане заменяли более точным словом – «прижим». Ляпишев старался, чтобы виселицы на дворах тюрем пустовали, в период его губернаторства многие палачи, испытывая гнет безработицы, нанялись в няньки, таская по городу грудных младенцев, а каторжане говорили:
– Сейчас прижим не такой, как бывалоча раньше. Хотя и жмут, но терпеть можно. Вешать перестали, и то ладно!
* * *
Писарь Полынов (бывший семинарист Сперанский) сидел в канцелярии, срочно готовя для Бунге официальную справку о количестве беглых, которые, проблуждав по тайге и умирая от голода, осенью сами добровольно вернулись в тюрьму, когда дверь тихо скрипнула, и в кабинет вошел тот самый человек…
Писаря почти отбросило к стене – в ужасе перед ним.
– Нет, нет, нет… – забормотал он. – Христом-богом прошу… оставьте меня! Я ничего больше не знаю…
«Квартирный» каторжанин Сперанский (он же бывший Полынов) никак не ожидал, что вызовет такой страх своим появлением.
– Да что с вами… дорогой мой человек? – вдруг нежно произнес он. – Не пугайтесь вы меня, ведь я ничего дурного делать не собираюсь. Я просто пришел за справкой.
– За какой справкой? – малость утешился писарь.
Настоящий Полынов взял со стола справку для Бунге, прочел сведения о беглых и положил ее на прежнее место.
– Это меня не касается, – дружелюбно сказал он. – Я хотел бы осведомиться у вас совсем о другом: не доставил ли «Ярославль» с последним «сплавом» кого-либо из политических?
Писарь понял, что Полынов не сотворит с ним ничего страшного, и он даже успокоился, листая казенные бумаги:
– Да, один доставлен.
– Кто?
– Сейчас скажу… Зовут его – Глогер! Из Лодзи.
– Варшавский процесс?
– Да, осужден по варшавскому процессу…
Полынов вышел на крыльцо губернского правления.
– Глогер, – прошептал он. – Ладно, что не Вацек…
Последовал удар, и с головы кубарем слетела шапка.
– Ты что задумался? Или меня не видишь?
Перед ним стоял Оболмасов, узнавший его. Полынов нагнулся и, подняв шапку с земли, снова нахлобучил ее на голову:
– Я ведь думал, что вы только начали погибать в условиях каторги, но я… ошибся. Оказывается, вы уже погибли.
Оболмасов испугался, криком подавляя в себе страх:
– Бандит! Иди отсюда… проваливай, хамская морда!
Полынов не спеша спустился со ступенек крыльца:
– Вы не правы: я не хам – я лишь романтик каторги.
При этом он заглянул прямо в глаза Оболмасову – так змея заглядывает в глаза обреченного кролика. «Кирасира» вдруг охватила мелкая дрожь, а вместе с ним завибрировали – на груди и на спине – солидные классики Боборыкин с Шеллером-Михайловым, в романах которых, очевидно, еще никогда не возникало подобных ситуаций… Полынов пошел, но вдруг остановился:
– Вы мне сняли только шапку, а я сниму вам голову!
Читатель может не сомневаться: судьба Оболмасова решена. Полынов никогда не бросал слов на ветер…
15. Не режим, а «прижим»
Подлинный случай. Однажды по улице Александровска шла девушка. Шла и улыбалась. Навстречу ей двигался ссыльнопоселенец. Поравнявшись с девушкой, он расцеловал ее в губы алые:
– Уж ты прости меня, красавица! – сказал он.
И зарезал ее. А на суде говорил:
– Никогда раньше не видел ее, даже имени не знаю. Загубил ее жизнь, потому что она мне первой попалась на улице. Я в тот день свою родную мать пришил бы. Потому как обессилел на воле, будь она проклята, и хочу снова в тюрьму вернуться, чтобы на этой каторге больше не мучиться…
Итак, причина убийства – желание вернуться в тюрьму!
* * *
Ядовитая прострел-трава на Сахалине называлась «борец», и вряд ли какой каторжанин не имел при себе корешка этого растения, чтобы отравиться в том случае, когда для борьбы за жизнь сил уже не оставалось. Выжить на каторге трудно, особенно зимою. В четыре часа ночи пробуждались сахалинские тюрьмы. Звеня кандалами, арестанты выползали из камер, оглашая дворы зловещим кашлем, лениво строились в колонны – на «раскомандировку». Ни пурга, ни сильный мороз не могли отменить каторжных работ. Проклиная судьбу, люди прятали под лохмотьями, ближе к телу, хлебную пайку, чтобы она не замерзла, и люто завидовали безруким и безногим инвалидам, остававшимся в теплой тюрьме. Недоступной мечтой становилась для них болезнь – да такая, чтобы в больничном раю отлежаться под вшивым одеялом. Сотрясаясь от приступов кашля, они роняли краткие фразы:
– Васька-то Кошкодав уже год у врачей валяется.
– Везунчик, вот кому подфартило!
– А чо с ним? Чахотка, мабуть?
– Да рак нашли. Теперь жизни не нарадуется.
– Господи, пошли и нам экую хворобу…
Открывались тюремные ворота, партия «бревнотасков», минуя спящие улицы и деревни, удалялась в тайгу, заваленную сугробами. До лесоповала добирались верст за 10–15 от тюрьмы, там разводили костер, возле которого усаживались конвойные. Не выпуская из рук заледенелых винтовок, солдаты покрикивали в гущу леса, где в снегу до пояса утопали каторжане:
– Помни, что дерево надо мачтовое, а то на разбраковке не примут… Живей шевелись, паскуды!
От выбора дерева иногда зависела жизнь. Наконец коллегиальными усилиями, после долгих дискуссий и брани, находили сосну, валили ее. Очистив от сучьев, сосну опутывали тяжами, впрягались в лямки, как бурлаки. Тяжеленная, будто гранитный монолит, сосна не хотела покидать родимого леса, и – ни с места! Как ни тянут, она едва на вершок подвинется. А впереди еще версты и версты долгого пути… Конвоиры, топая отсыревшими пудовыми валенками, в таких случаях давали полезную команду расстегнуть ширинки штанов. Каторжане мочились на дерево, с минуту выжидая потом, когда морозище покроет сосну ледяной коркой.
– Берись разом! Теперича пойдет как по маслу…
Бревно трогалось с места, а над «бревнотасками» скоро валил пар, как над загнанными лошадьми. Жуть охватывала при мысли, как далека еще тюрьма, и тюремная камера казалась блаженным убежищем, где можно выпить кружку кипятку, развесить на веревках гирлянды мокрых от пота портянок, чуней и порток. День уже на исходе, когда «бревнотаски», тяжко дыша, дотягивали свою ношу до города. Еще на окраинах из домишек выбегали навстречу им ссыльнопоселенцы. Даже бабы, старики и детишки дружно впрягались в лямки, чтобы помочь ослабевшим. Общими усилиями, уже радостно пошучивая, каторжане вкатывали бревно во двор «браковочной» конторы. А там – чиновник, и, судя по всему, настроение у него было сегодня скверное.
– Вы что притащили? – кричал он. – Это же не бревно, а какая-то спичка… даже четыре шпалы не выйдет! Знаю вас, паразитов: вам бы что полегче… не пойдет: брак!
Люди уже отшагали верст 20–30, а теперь все начинать сначала. Конвоиры, осатанев, лупили арестантов прикладами: «Чтоб вы все передохли! Таскайся тут с вами…» И люди уходили обратно в морозный лес, но в тюрьму не всегда возвращались. Их находили потом возле погасшего костра, они лежали на снегу, держа возле сердца замерзшие пайки хлеба, а над ними истуканами застыли на пнях замерзшие конвоиры.
– Такое у нас часто бывает, – судачили каторжане.
Но, по мнению сахалинских жителей, каторга начинается лишь тогда, когда она кончается. Так и говорили:
– Кандалами-то отбрякать срок полегше. А ты вот попробуй не окочуриться после тюрьмы – на воле… Вот где настоящая каторга! Это тебе не бревна таскать из лесу…
* * *
Наверное, карательная система сознательно не держала заключенных в тюрьме, стараясь как можно скорее выпроводить их за ворота, заранее уверенная, что на «воле» жизнь воистину каторжная. Тюрьма – не дом родной, но она все-таки давала крышу над головою, место на нарах (или под нарами), примитивный уют и миску баланды с хлебом. Если же тебе стало невмоготу, а кончать жизнь корешком «борца» не желаешь, тогда осталось последнее средство – бежать! Палачи и плети, карцеры и побои, неистребимая тоска по свободе и родным, иногда же просто желание «насолить» начальству – вот главные маховики, которые из года в год раскручивали сахалинскую летопись побегов.
Осенью бегут только дураки, плохо знакомые с климатом острова, а зимою, когда бушуют морозные бураны, из тюрем вообще не бегают. Зато каждая весна зовет каторжан «слушать кукушку». Из Корсаковского округа, где за проливом Лаперуза затаилась Япония, мало кто удирает, ибо до материка далеко, а редких удачников, доплывших до Хоккайдо, японцы вежливо возвращают русским властям. Можешь выплывать сразу в открытый океан – в робкой надежде, что тебя случайно заметят с мачты американского китобойца. Если янки не лень с тобою возиться, они могут доставить беглеца в США, откуда еще ни один не возвращался. Так что все маршруты в сторону востока и юга для каторжан перекрыты, бежать следует только на север. Но сразу за околицами деревень Сахалин уже показывает человеку свои острые, свои безжалостные когти. Не только звериные тропы, но даже проселочные дороги заводят в такие буреломы, из которых не знаешь, как выбраться. Сучья валежника и жесткие ветви опутывают беглеца, как витки колючей проволоки. Под ногами чавкают алчные трясины, торфяные пади засасывают человека по самую шею, а мириады комаров устремляются к нему с такой поразительной точностью полета, будто у каждого гнуса имеется волшебный фонарь, указывающий плоть с сытной кровью, уже изнемогающую от немыслимых страданий. В редких становищах или выселках иногда по ночам слышат дикие вопли погибающих беглецов, облепленных тучами гнуса. Возможно, кто и перекрестит себе лоб, да проворчит спросонья:
– Сусе-христе, помоги ты ему поскорее отмучиться…
Редкие беглецы достигали материка, где часто становились добычей береговой охраны. Но иногда беглые даже и не пытались покинуть остров, образуя шайки, наводившие ужас на весь Сахалин. В таких случаях администрация не вмешивалась. Вчерашние каторжане, а теперь поселенцы, занятые крестьянским трудом, они просто сатанели, когда «пакостники» резали скот, портили огороды и насиловали женщин. Вся округа поднималась на облаву, и бандитов уничтожали без пощады, потому что второй коровы поселенцу никто уже не даст, как не найти ему и второй жены…
Ближе к осени, в предчувствии холодов, большинство беглых возвращались обратно в тюрьмы. Плетями и «сушилками» они расплачивались за те жалкие крохи свободы, которая поманила их первым цветком на поляне, первым пением птицы в лесу. Что же выгадывал беглец, вернувшись на свои нары, к своей баланде? Теперь он мог выбрать для возвращения не ту тюрьму, из которой бежал, мог назвать себя не своим, а чужим именем, и пусть начальство рыщет в архивах каторги, пока ему не надоест:
– А, разве тут найдешь? Сел на парашу – и ладно…
За каждого пойманного беглеца конвоир получал три рубля. Между конвоирами и каторжанами иногда возникал сговор:
– Слышь! Мы убежим с работы и за тем распадком укроемся. А ты вечерком приходи, стрельни для страху и бери нас.
– А сколько вас будет-то, нечистей?
– Шестнадцать голов.
– С головы по трешке, всего сорок восемь рублев.
– Ага! Половину нам отдашь.
– Не жирно ль вам будет?
– А твои двадцать четыре на земле тоже не валяются.
– Ладно. Бегите. Чтобы по-честному…
Иногда же совершались мнимые побеги, когда арестант оставался в тюрьме, но числился в разряде непойманных бежавших. Он брал свою неразлучную котомку и залезал с нею под нары:
– Коли меня на перекличках станут спрашивать, говорите, что я не выдержал – пошел «кукушку слушать»…
Под нарами он и догнивал заживо – в грязи и нечистотах, а имя его значилось в списках беглых. На него не отпускалось продовольствие; каторжане, сжалившись, иногда бросали под нары недоеденные корки, разрешали дохлебать из миски опостылевшую баланду. Крадучись, он выбирался по ночам из-под нар, чтобы посидеть на параше. «Беглеца» искали год-два, пока у него не кончалось сатанинское терпение. Тогда он сам вылезал наружу.
– Вот он я… мордуйте! – говорил надзирателям.
– Да где ж ты был, дерьмо такое?
– Под нарами валялся. Мне бы в баньку теперь.
– Ну, ступай. Сейчас будет тебе баня…
Отбыв срок в «кандальной» (испытуемой) тюрьме, арестант переводился в тюрьму «вольную» – название-то какое! Теперь он мог вообще жить где угодно, но в четыре часа утра обязан являться на каторжные работы. Тюрьма еще имела на него свои права, продолжая снабжать одеждой, выдавая ему продукты сухим пайком, и ты сам вари баланду себе – где придется и как придется. Наконец, арестант выходил в разряд ссыльнопоселенцев.
Вот тут-то и начиналась для него настоящая каторга.
– Ну, теперь навоемся, – говорили «свободные» люди…
* * *
Устроителям каторги на Сахалине казалось, что арестант, выпущенный из тюрьмы на поселение, начнет перевоспитываться с помощью труда. Никто не спорит: труд может исправить преступника. Но чиновная бюрократия никогда не была способна обеспечить правильный труд даже такого человека, который, покончив с прошлым, желает честно трудиться.
Начнем по порядку. Допустим, читатель, меня выпустили из тюрьмы. Теперь я, безмерно ликующий, получаю на казенном складе мотыгу, стекла для окон будущего дома, топор, веревки, гвозди, хомут для лошади и тулуп для себя. При этом, пока я радуюсь, быстро мелькают костяшки на счетах бухгалтера.
– Итого, – говорят мне, – ты обязан вернуть казне семнадцать рублей и три копейки. Запиши, чтобы не забыть.
Мне отвешивают мешок зерна для посева, пуд муки, пять фунтов крупы, десять фунтов солонины из бочки и обещают дать поросенка. Я, конечно, не будь дураком, спрашиваю:
– А где же скотина? Где лошадь? И где… баба?
На это мне отвечают, что корову дадут, когда я отстроюсь, лошадку покупать самому, а бабу ищи где хочешь.
– Но помни, – строго внушается от начальства, – если станешь волынить, пашню не подымешь, зерно сожрешь сам, а порося зарежешь, так с тебя взыщем… не возрадуешься!
С таким вот напутствием свободные ссыльнопоселенцы получали земельные наделы. Не сами они выбирали их, а следовали в те места, которые выделило начальство. Между тем начальники в тех краях никогда сами не бывали и не знали, что там творится. А климат Сахалина, подобно сложной мозаике, складывается из множества микроклиматов. В цветущей долине, где знойно жужжат шмели и порхают бабочки, поселенцы снимают добрый урожай, а за горою, в соседнем распадке, зловеще шевелятся хвойные ветви, из-под слоя зыбкого моха брызжет коричневая вода. Вот и живи! Выкорчевывай лес, осушай болото, мотыгой возделывай пашню, построй халупу себе, клади печку, чтобы не подохнуть от холода, потом запрись на крючок, чтобы тебя не ограбили бродяги, и до самой весны слушай, как воет метель…
Ясно, что крупа с солониной давно съедены. Если дали тебе поросенка, так он уже зарезан. Осталось зерно для будущего посева, но, размолотое первобытным способом, оно тоже съедается. Долг казне в 17 рублей возрос до 40 рублей, и с чего отдавать – бог ведает! Наконец, наступает момент, когда человек не выдерживает безумия одиночества, когда он скажет себе:
– Больше не могу – в тюрьме было лучше! Так уж новый грех возьму на душу, только бы снова в тюрьму вернуться…
Крайность! Но бывали и другие крайности сахалинского бытия, когда режим с «прижимом» оставались бессильны, когда беззаконие поднималось выше любого закона.
16. «Деньжата прут со всех сторон»
Пьянство и преступление – два уродливых близнеца. Но если картежная игра на Сахалине преследовалась, то пьянство не возбранялось. Наш знаменитый ученый-ботаник А. Н. Краснов, исследуя флору Сахалина, заметил и важное социальное явление: само начальство каторги методически спаивало каторжан, имея от этого немалую личную прибыль…
Ночь. На перине сладчайше опочил статский советник Слизов, обнимая кожу да кости своей ненаглядной Жоржеточки, а на кухне до утра бодрствует их дворник, и там идет незаметное для других накопление капиталов. Вот раздался условный стук с улицы, и дворник, отворив форточку на окне, гудит басом в ночную темень:
– Е! Гони пять рублев.
С улицы слышится ответный шепот:
– Вчерась-то по два брали.
– Так это днем. А по ночам – пятерка.
– Во, жабы! Креста на вас нетути.
– Зато спирт е – плати или отчаливай…
Арестантская пайка на каторге шла за мелкую разменную монету, зато бутылка с водкой считалась самой устойчивой валютой. Впрочем, водки на Сахалине никогда не бывало, ее заменял разведенный водою спирт, а чиновники усовершенствовали порочную систему «записок», делавших спирт даже бесплатным. Если поселенец из ссыльных нанимался колоть дрова или убрать снег с улицы, труд его не оплачивался. Чиновнику, нанявшему его, легче нацарапать записку: «С/п Иванову – 1 бут. (подпись)»:
– Возьми, братец, и ступай до казенки…
По записке чиновника «Экономический казенный фонд Сахалина» обязан выдавать на руки бутылку спирта. Возле фонда с утра пораньше толпились ссыльнопоселенцы – кто с записками, а кто и без оных, рассчитывая проехать на «шармака».
– У меня завтра день ангела, – говорил один из них.
Диалог развивался по всем правилам психологии:
– Так у тебя ангел-то на прошлой неделе был.
– Это мой, а теперь у жены подпирает.
– Не ври! У тебя и жены-то никогда не было.
– Обещали выдать… для развития хозяйства.
– Так вот ты сначала заведи ее себе, расспроси, когда у нее именины, тогда и приходи… Следующий!
А на базарной площади Александровска торговал трактир Пахома Недомясова, бывшего майданщика из каторжан. Сюда захаживали не только базарные воры и уличные девки, но и господа чиновники. Хотя вино оставалось под запретом в торговле, но люди, вбегающие в трактир Недомясова трезвыми, умудрялись выползать оттуда пьяными, оглашая гибельные задворки сахалинской столицы дружным хоровым пением:
Отец торгует на базаре. Мамаша гонит самогон. Жена гуляет на бульваре. Деньжата прут со всех сторон.* * *
В первых числах сентября начался «бархатный» сезон на Сахалине – приударили заморозки, трава, покрытая инеем, громко похрустывала под ногами прохожих. В один из ветреных и холодных дней, когда улицы Александровска заметало шуршащей поземкой, к мысу Жонкьер подошла номерная миноноска из Владивостока, доставившая из отпуска военного губернатора. Известие о возвращении Ляпишева никак не удивило местных обывателей:
– А что я вам говорил? Вернулся. А нам на следующий год опять делать подписку по сбору подарков от благодарного населения… Он же только пугает нас своей отставкой!
Однако, выехав на пристань, местный бомонд горячими криками «ура» приветствовал возвращение Ляпишева, а госпожа Жоржетта Слизова даже прослезилась от умиления:
– Михаил Николаевич, без вас так плохо… Мы все тут изнылись: неужели не вернется наш мудрый и добрый губернатор?
– Дамы и господа, совместная служба продолжается! – Усаживаясь в пролетку, Ляпишев спросил Бунге: – Надеюсь, на Сахалине все нормально. А чего тут хорошего?
– Да что с каторги ожидать хорошего?
– Ну а плохое… было без меня?
– Появились фальшивые деньги.
– Так они появились даже в Иркутске, их изымают из касс Владивостока и Харбина… это не новость!
Новостью для Ляпишева явилось то, что в своем доме он не увидел госпожи Челищевой, и он, конечно, спросил Фенечку:
– Не понимаю. Разве ей плохо жилось у меня?
– Я в эти дела не впутываюсь, – отвечала красотка. – Они там с Бунге поцапались, а поручик Соколов из вашего конвоя обрадовался – давай вещи из комнаты выпихивать.
Михаил Николаевич строго выговорил Бунге:
– Николай Эрнестович, зачем в мое отсутствие вы обидели славную девушку, нашу милейшую Клавдию Петровну?
– Милейшую? Да тут из Питера такое резюме на нее свалили, что я эту барышню не только к себе в дом не пустил бы, а загнал бы в самый тупик Рельсовой улицы…
– Что такое?
– Замешана.
– Во что замешана?
– В политику, вестимо. Как и положено всем этим бестужевкам в белых кофточках, которые спят и видят не женихов с пышными букетами алых роз, а себя на баррикадах.
– Но так же нельзя! – возмутился Ляпишев. – Если поднять досье на мою генеральскую персону, то выяснится, что смолоду я тоже намолол языком всякого… как и вы, наверное?
– Ни-ко-гда! – загордился Бунге.
– Ну и не хвастайтесь этим… Конечно, глуп человек, который в старости не сделался консерватором, но еще глупее тот, кто в юности никогда не был революционером.
Он велел отыскать Челищеву, и ее нашли, но Ляпишев, дабы не портить отношений с Бунге, не стал возобновлять «воскресные чтения» и, чтобы не вызвать недовольства Фенечки, не рискнул удалить из комнаты поручика Соколова.
– Я отечески обязан заботиться о вас, – сказал он Клавочке, – а посему предлагаю вам культурное место корректорши в нашей губернской типографии. Я давно удручен множеством грубейших опечаток, повергающих меня в уныние. Вместо «попрание» прав человека там печатают «запирание», мою «репутацию» переделывают в «репетицию», а «бытие» Сахалина обращают в примитивное «битие»… Тридцать рублей жалованья, – обещал Ляпишев, – я надеюсь, окажутся для вас хорошей поддержкой.
По случаю возвращения губернатора в клубе был устроен банкет. Жоржетта Слизова удостоила Жоржа Оболмасова испепеляющего взора сахалинской «тигрицы».
– Изменщик! – прошипела она ему. – Честную порядочную женщину, жену статского советника, променяли на приезжую шлюху…
Оболмасов удалился в буфет и потому не видел сцены появления консула Кабаяси, которого сразу обступили дамы.
– Господин консул, – наперебой щебетали они, – ну когда же вы порадуете нас открытием фирменного магазина с японскими товарами? Нашим бедным мужьям уже давно надоело отпускать нас летом на материк, где мы делаем покупки.
– Все будет исполнено для вас, – заверил дам Кабаяси; затем консул поднес Ляпишеву макет будущего альбома с видами Сахалина. – Но прошу лично вас составить к альбому предисловие.
Кабаяси добавил, что для полноты впечатления альбому не хватает портретов сахалинских типов:
– Желательно бы представить известных рецидивистов, прикованных к тачкам, – это так экзотично! Хорошо бы дать фотографии и преступно-политической интеллигенции.
Ляпишев задумался. Раньше, когда здесь еще была Сонька Золотая Ручка, местные власти здорово наживались на продаже фотооткрыток, изображающих сцены заковывания ее в кандалы. Эти снимки были тогда популярны в России.
– Я распоряжусь, – сказал губернатор консулу, – чтобы заковали в кандалы старых уголовников, они будут позировать вместе с тачками. Экзотика пусть остается экзотикой! Но политические… Вообще-то, их фотографировать запрещается. Впрочем, – разрешил Ляпишев, – можете сделать один снимок с писаря моей канцелярии Полынова, замешанного в очень крупных экспроприациях на пользу русских и польских революционеров…
Оболмасов задержался в буфете. К его столику тихо подсел улыбчивый Кабаяси, вручивший ему конверт с деньгами:
– Наше консульство не отказывается даже в зимний сезон регулярно выплачивать вам жалованье, которое вы отработаете летом в новой геологической экспедиции по розыскам нефти.
Нефтью и не пахло, но зато пахло прибылью.
– Ваша щедрость меня убивает! – умилился Оболмасов. – Тем более осенью я обзавелся чересчур пылкой кухаркой последнего «сплава», которая вызвала непредвиденные расходы…
Оболмасов покинул буфет, сильно покачиваясь. Полицмейстер Маслов недреманным оком ястреба усмотрел, что из-под пиджака геолога высовывается переплет какой-то книги.
– Поправьте, – сказал он, – иначе упадет на пол.
– Это Боборыкин, а спереди меня бережет Шеллер-Михайлов… Вам-то, полицмейстеру каторги, хорошо. Вы без панциря никуда, а мне приходится постоянно обращаться к классикам.
– Послушайте, – вдруг обрадовался Маслов, – у меня жена прямо без ума от романов Боборыкина… дайте почитать!
– А как же я? Кто же оградит меня сзади?
Маслов высмеял книжные латы «кирасира»:
– Разве это оборона? Какой-то там Боборыкин всего страничек на триста? Зато я обещаю подарить вам шестой том «Великой реформы» – во такой кирпичина! Никакая пуля не прошибет…
На следующий день писарь Полынов (бывший семинарист Сперанский) отправился в японское фотоателье, где симпатичный фотограф-японец сделал с него несколько снимков.
– Я ничего вам не должен за это? – спросил писарь.
– Напротив, это мы должны вам…
Занавеска, разделявшая съемочную комнату от лаборатории, вдруг раздвинулась, и появился Такаси Кумэда, вручивший бедному писарю ассигнацию достоинством в двадцать пять рублей.
– За что мне такие деньги? – обалдел писарь.
– Это ваш… гонорар. Благодарим, что соизволили согласиться позировать для снимка, который в скором времени станет украшением великолепного альбома с видами и типами Сахалина. А теперь прошу, распишитесь… вот тут, внизу.
Семинарист расписался внизу длинной и узкой бумаги, сплошь усеянной японскими иероглифами, в значении которых он ничего не смыслил, и японцы снова благодарили. Фотограф с глубокими поклонами проводил писаря до крыльца. Потом Кумэда сказал ему:
– Это не Полынов из «боевок» ППС… это кто-то другой! Надо узнать, кто он, и тогда жалкий, запуганный писарь губернатора будет делать для нас все, что мы ему прикажем…
…Японская разведка на Сахалине работала идеально.
* * *
Настоящий Полынов устроился на службу в метеостанцию Александровска. Дело было нехитрое, а ежедневная возня с барографами и гигрометрами вносила в душу приятное успокоение. Однако прожить на пятнадцать рублей жалованья было нелегко. Правда, у него кое-что оставалось в пуговицах арестантского бушлата, но все пуговицы недавно пришлось срезать, чтобы купить хороший браунинг. Сейчас он оставался по-прежнему невозмутим – это драгоценное качество выработалось в нем еще со времени подпольной жизни. Но, как опытный игрок-профессионал, Полынов обдумывал главные козыри в предстоящей большой игре. Вечерами его частенько видели в базарном трактире Пахома Недомясова, который исподтишка уже начал приглядываться к своему странному клиенту. Полынов никогда не унижал себя добыванием «записок» от чиновников, чтобы получить из «фонда» спиртное. В трактире он ни разу не осквернил себя алкоголем. В ответ на вопросительные взгляды трактирщика всегда просил одно и то же:
– Мне, пожалуйста, стакан молока.
– Молочко-то на Сахалине больно кусается.
– Я знаю, что молоко дорогое. Но я плачу…
С этим стаканом молока Полынов и сидел часами, внешне безучастный, слушая выкрики пьяных забулдыг, шушуканье базарных жуликов, отворачивался от призывов продажных женщин:
– Благодарю, мадам, но вы меня совсем не волнуете.
Потаскухи прямо шалели от подобных ответов:
– Так что же тебе еще надо? Или сиськой помахать, чтобы ты разволновался… тоже мне, псих ненормальный!
К ночи над Сахалином разбушевалась пурга. Пахом Недомясов выставил за дверь последних клиентов и, получив с Полынова за выпитое им молоко, присел к нему за столик.
– Вижу, что ты человек рискованный и раскованный. Много я знать не хочу, но спрошу: по какой статье здесь?
– По нечаянной… По… тридцать шестой.
– Ясненько.
– Дело! – потребовал от него Полынов.
– Вишь ли, из-под прилавка спиртишком торгую.
– Я это уже заметил, – сказал Полынов.
– Потому и говорю тебе как на духу… Возить спирт с Николаевска морем иль на собаках через пролив накладно. А тут многие самогон варят из онучей с портянками. Такой крепости, ажно дух захватывает, коли нюхнешь. Может, сговоримся?
– В чем?
– Ты мне – самогон, а я тебе – деньги.
– Сколько дашь за бутылку?
– Ну… рупь.
– Три! – потребовал Полынов.
– Без ножа режешь.
– Как угодно. Могу и без ножа.
– Ну, два… по рукам?
Полынов прикинул выгоды этого предложения. Обладатель спиртного на Сахалине всегда подобен банкиру, державшему пакет ценных акций. В каторжных условиях алкоголь давал человеку такую власть, перед которой сразу меркли все авторитеты надзирателей с их револьверами… Полынов сказал Недомясову:
– Хорошо. Согласен быть личным поставщиком двора вашего кабацкого величества… Но прошу аванс!
– Пардон, а это на что? – удивился кабатчик.
– Ради творческого вдохновения, иначе сюжет моей жизни рассыплется еще на первых страницах… гони, гад, «синьку»!
Пахом Недомясов был уже не рад своей откровенности:
– Да я тебя знать не знаю. Сунь тебе «синьку» в хайло, ты на улицу шмыгнешь, только тебя и видели.
– Тогда договор считаем расторгнутым.
– Постой, постой… А-а, подавись ты ею! – неожиданно шмякнул Недомясов на стол ассигнацию в 25 рублей.
Полынов изучил ее против света керосиновой лампы:
– Сразу видно иностранную работу. Правда, вот тут со штриховкой сплоховали, а в подписи кассира главного казначейства точка поставлена чуточку ниже. Хорошо бы жарить по утрам яичницу на костре из таких вот японских ассигнаций… Откуда?
– Губернаторский писарь забегал выпить. От него!
– Это который зовется Полыновым?
– Да, он самый. Уже при галстуке бегает.
– Тогда мне все понятно, – сказал Полынов настоящий, аккуратно укладывая полученные 25 рублей в бумажник. – Но если на спирте наживается даже крупное начальство Сахалина, то мне, каторжной морде, сам бог велел не забывать о себе.
Полынов собрался уходить, застегивая арестантский бушлат на все пуговицы. Высоким и чистым баритоном вдруг он пропел:
Эй, лейся, песня удалая!
Лети, кручина злая, прочь…
17. Развитие сюжета
Весь день бушевала пурга, заметая Александровск сугробами сыпучего снега; хлесткий ветер громко колошматил листами жести, сорванной с крыш, где-то на углу Рельсовой улицы со звоном разбился уличный фонарь. Но к вечеру все разом притихло, чистое небо развесило над сахалинской юдолью гирлянды созвездий.
– Если мы звали гостей, – сказала Ольга Ивановна мужу, – так нехорошо, если они застрянут в сугробах. Ты бы оставил свои газеты да расчистил дорожку от калитки до крыльца…
Волохов взял деревянную лопату и раскидал возле дома снежные завалы, чтобы могли пройти гости. Они ждали сегодня Вычегдова, их обещал навестить и поляк Глогер, появившийся на Сахалине с последним «сплавом». Ольга Ивановна заранее застелила стол холстинной скатертью, услышала скрип калитки.
– Открой, – велела она, – кажется, идет Вычегдов…
Разматывая на шее вязаный шарф, Вычегдов почти весело оглядел стол супругов Волоховых, украшением которого была большая сковородка с жареной картошкой.
– Я первый? – спросил он. – Вот и хорошо… А вы не слышали новость? Вчера вечером прямо напротив губернского правления кто-то напал на конвоира. Выкрутил у него из рук винтовку и скрылся. Сейчас ищут, а найти никак не могут.
Этот случай не был исключительным в жизни Сахалина, да и сами «политические», пообжившись на каторге, тайком обзаводились оружием – ради личной безопасности, ибо на защиту полиции рассчитывать не приходилось: тут люди сами привыкли отбиваться от грабежей и насилий.
– Садись. Наверное, скоро подойдет и Глогер.
– Мне жалко Глогера, – сказала Ольга Ивановна, поднимая крышку от сковородки. – Еще молодой парень, а уже озлоблен на весь мир и похож на волка, оскалившего зубы…
Вычегдов вступился за Глогера:
– Ну, Оля! Отсидеть в цитадели Варшавы, каждый день ожидая веревку на шею, тут характер не станет шелковым. А вообще-то, вся эта история с эксом в Лодзи какая-то нелепая. Там у них что-то произошло… очень некрасивое с деньгами!
– Кстати, – спросил Вычегдова хозяин, – ты выяснил: кто был этот человек, повстречавшийся однажды тебе на улице?
– Нет! Как мне объяснила тюремная шпана, это обыкновенный «куклим четырехугольной губернии круглого царства». На общедоступном языке, если перевести с уголовного на русский язык, это человек, не открывший на допросах ни своего подлинного имени, ни своего положения. Так что каторга его не знает…
В дверь кто-то постучал – три раза подряд.
– Открой, – сказала Ольга мужу. – Это Глогер.
– Который всегда опаздывает, – заметил Вычегдов.
Дверь распахнулась – на пороге стоял человек, при виде которого все застыли в изумлении. Первой опомнилась женщина:
– Я узнала вас… да, да, это вы наблюдали за нашим домом… Что было нужно от нас? Кто вы?
– Мне ваше лицо знакомо, – сказал Волохов. – Не вы ли однажды ночью подкрались к моему окну, заглядывая с улицы?
– А в прошлом году, – добавил Вычегдов, – я видел вас в партии «кандальных», но вы отвернулись от меня…
– Во всех трех случаях это был я! – улыбнулся – Полынов. – Я извещен, что вы ждете Глогера, который имеет привычку опаздывать. Я хотел бы сразу сознаться, что именно по моей вине в Лодзи произошло нечто… очень некрасивое с деньгами!
– Что-о-о? – закричал Вычегдов. – Вы разве дьявол?
– Нет, я ангел! Но падший ангел. И прежде, чем войти в чужой дом, я должен знать, что обо мне говорят…
* * *
С первых же слов Полынов откровенно признался, что – да! – он вел наблюдение за домом Волоховых, где часто бывают политические ссыльные, ему хотелось выяснить, нет ли среди них поляков из ППС, причастных к делам в Лодзи, а сейчас он, зная о появлении Глогера на каторге, желает с ним встретиться.
– Глогер прикончит вас, – сухо заметил Волохов.
– Сначала пусть он спросит у меня: желаю ли я быть приконченным? – спокойно возразил на это Полынов.
Вычегдов выразился чересчур конкретно:
– Ваша судьба решена. Если не желаете крупных неприятностей для себя, вам с Глогером лучше бы не встречаться… Именно со слов Глогера, я уже догадался, кто вы такой.
– Кто же я?
– Инженер! И вот мой добрый совет: наденьте шапку, застегните новенькое пальто и убирайтесь отсюда к чертовой матери.
Полынов снял шапку и, расстегнув пальто, сбросил его со своих плеч. Игнатий Волохов подивился его наглости:
– Мне такие герои уже попадались! Сначала идейный экспроприатор, а потом вульгарный вор. Кончали они, как правило, тем, что жестоко глумились – над прежними своими идеалами, мечтая в конце концов сделать экс или эксик лично для себя на такую сумму, чтобы потом стать зажиточным рантье.
– Вы недалеки от истины, – согласился Полынов. – Из боевой партии ППС я легально перешел в партию СПС, что легко расшифровать в трех словах: «партия – сам по себе».
– Какой цинизм! – возмутилась Ольга Ивановна. – Зачем вы пришли, не боясь нашего общего презрения к вам?
– Я же объяснил, что пришел повидать Глогера…
Отчаянно скрипнула калитка, послышались шаги.
– Так берегитесь – ГЛОГЕР ИДЕТ, – произнес Волохов.
Глогер сильно изменился, он даже постарел. Полынов, легко поднявшись, сам подошел к нему с первым вопросом:
– Так что там случилось с нашим Вацеком?
– Повешен! Но еще до разгрома «боевки» мы успели вынести тебе приговор, какого ты и заслуживаешь… Рекомендую вам замечательного подлеца! – с гневным смехом сказал Глогер, указывая на Полынова. – Пока мы в банке добывали злотые, проливая кровь за свободу будущей Речи Посполитой, этот сукин сын обчистил кассу в свою пользу… Я удивлен, что вижу его снова! Пусть он знает, что приговор партии остается в силе.
Полынов взял папиросу из пачки Вычегдова, и только этим жестом он выдал свое волнение.
– Выслушай меня! – резко заявил он Глогеру. – Я не признаю приговора, сфабрикованного в ресторане на Уяздовских аллеях самим Юзефом Пилсудским между рюмкою коньяка и бокалом шампанского. Еще до вынесения мне смертного приговора пан Пилсудский разложил всех вас налетами на банки и кассы, смахивающими на обычную уголовщину. А в преступном мире могут быть только банды, но никогда не возникнет никакой партии…
– Перестань! – грозно потребовал Глогер.
– Нет, – настоял Полынов. – Сейчас не ты мне, а я вынесу приговор, более страшный и более убедительный… Мне жаль бедного Вацека. Но мне жаль и тебя, Глогер!
– Замолчишь ты или нет?
– Не замолчу, – ответил Полынов. – Задумался ли ты хоть раз: во имя чего жертвовал своей жизнью, добывая в эксах деньги для того же пана Пилсудского?! Не он ли в партии польских социалистов проводит свою личную политику, а эта политика Пилсудского станет губительна для всей Польши.
– Не смей так судить о патриотах! – осатанел Глогер. – Кто ты такой, жалкий москаль, впутавшийся в наши дела?
– Да, я русский, – ответил Полынов. – Но мать у меня полячка, потому мне одинаково дороги интересы и Польши и России. Я не впутался в ваши дела, ибо всегда считал, что задачи революции для русских и для поляков останутся равнозначны…
Ольга Ивановна, закрыв рот ладонью, как это делают женщины из простонародья, слушала перебранку разгневанных мужчин, и она очень боялась именно конца их спора.
– Прекратите! – взмолилась она. – Убирайтесь оба на улицу и там разбирайтесь, кто прав, кто виноват, кому служит Пилсудский, а кому служите вы… Мне это все уже надоело!
Волохов и Вычегдов поддержали женщину:
– В самом деле, шли бы вы на Рельсовую…
Лицо Глогера уже перекосилось от гнева, он на свой лад понял это приглашение и выхватил револьвер из кармана:
– Не слушайте его! Этот человек способен любого опутать своей клеветой, и еще никакому Цицерону не удалось его переговорить. Но приговор партии не отменяется: смерть!
Ольга Ивановна с криком кинулась между ними, повиснув всем телом на руке Глогера, громко плача:
– Только не здесь! Только не в моем доме… пощадите меня и моего мужа… моих детей, наконец!
Глогер опустил револьвер, извинился:
– Добже, пани. Ради вот этой женщины, ради ее детей и мужа ее, которому осталось два года каторги, я откладываю исполнение приговора. Но ты не уйдешь от меня… не уйдешь!
И только сейчас он заметил, что из рукава Полынова за ним давно и пристально наблюдает жуткий зрачок браунинга.
– А ты большой дурак, Глогер! – сказал Полынов. – Я ведь, едва ты вошел, уже держал тебя на прицеле. И ты наверняка помнишь, что я обладаю счастливой способностью стрелять на полсекунды раньше других… Спрячь свое пугало! Мне жаль всех вас, сделавшихся жертвами убеждений пана Юзефа Пилсудского.
– Уберите оружие! – потребовала Ольга Волохова.
Мужчины спрятали его по карманам. Полынов взялся за пальто, кое-как набросил на голову шапку. Резко отвернувшись от Глогера, он неожиданно обратился к Вычегдову и Волохову:
– Вы правы, что в Лодзи была некрасивая история. Что же касается денег из Лодзинского банка, то я их… верну! Не сейчас, конечно, а гораздо позже, когда я буду убежден, что эти деньги пойдут на пользу народу… Прощайте!
За ним хлопнула дверь, и все долго молчали.
– А зачем он приходил? – вдруг спросил Вычегдов.
– Наверное, за моей пулей, – усмехнулся Глогер.
– Вряд ли он ее испугался, – ответил Волохов. – Этот человек слишком осторожен. Он осторожнее и хитрее тебя…
Вычегдов заметил, что картошка давно остыла.
– Такие Полыновы всегда будут опасны для общества, – сказал он, – и в этом вопросе я целиком на стороне Глогера.
Ольга Ивановна достала из кармана передника шпульку с нитками и стала прилаживать ее к швейной машине:
– Мне-то, матери с детьми, каково жить в этом мире?
* * *
Полынов доставил в трактир немало бутылей с самогонкой, и Недомясов был обрадованно удивлен его успехом:
– Ну, парень… с тобою можно делами ворочать. Откедова же нахапал столько? Где раздобыл?
– Не столь важно. Считай, что сам на пне высидел.
– Как бы мне за тебя на параше не сидеть.
– Гони кровь из носу! – велел Полынов.
Недомясов честно расквитался с ним, как и договаривались ранее, затем открыл одну из бутылок, принюхался:
– Вроде шибает! По такому-то случаю не грех и выпить за нашу коммерцию. Давай сразу по стакану дернем.
– По стакану молока, – отвечал Полынов.
Со стаканом молока он прошел в общий зал трактира, крикнув на кухню, чтобы для него поджарили яичницу с колбасой. Потом взял стопку газет, недавно прибывших с материка. «Новый край» писала, что правительство бухает сейчас миллионы на освоение Дальнего Востока, и потому делом ближайшего времени станет создание в этих диких краях условий, при каких человек не чувствовал бы свою оторванность от метрополии. Но тут внимание Полынова отвлек поэт из каторжан, обещавший за рюмочку спирта прочесть целую поэму о своих любовных страданиях.
– Не надо. Лучше ответь: за что на Сахалин угодил?
– Я убил ее, торжествующий! – провозгласил поэт.
– Кого убил?
– Изменницу.
Скомкав газету, Полынов отбросил ее от себя:
– Хорошо ли убивать женщину, которая ушла к другому, надеясь, что другой окажется лучше тебя, кретина?
– Как же так? – возопил поэт, трагически заламывая руки над головой. – Когда в театре шекспировский Отелло душит Дездемону, весь зал рукоплещет гордому ревнивцу. А я расплатился за измену с неверной, и меня за это на каторгу… Где логика? И почему я не слышу оваций восхищенной толпы?
Полынова даже передернуло от брезгливости:
– Знаешь, катись-ка ты… со своей поэмой!
К его столику приблизился другой сахалинец, завороженный запахом пищи, всем своим видом он вызывал жалость, и Полынов сразу передвинул к нему сковородку с яичницей:
– Я сыт. Доешь, брат. По какой статье?
Ответ голодного человека потряс его:
– А у меня статьи никогда и не было. Это у жены была статья. Вот я за ней и потащился на Сахалин, чтобы долг супружеский до конца выполнить, потому как любил ее, сударь.
– Ну?
– А что «ну»? Ее отправили на Сахалин пароходом, а «добровольноследующих», как я, казна не учитывает. Вот и топал по этапу. Пешком! Заодно с кандальными. Она-то скоро сюда приплыла. А я лишь через три года до Сахалина добрался. Вот, надеялся, радость-то для нас будет: снова мы вместе…
– Ну?
– Прибыл, а она, гляжу, уже с другим… Белый свет померк в глазах. Ничего не надо. Пожрать бы да выспаться в тепле.
– Куда ж ты теперь? – посочувствовал Полынов.
– Не знаю. Коли сюда попал, не выбраться. Да и на какие доходы? Не живу, а мучаюсь. Кому я нужен?
Полынов дал ему денег:
– Этого хватит, чтобы миновать Татарский пролив с почтой, которую возят на собаках до Николаевска гиляки каюры. Ну а там, на Амуре, заработаешь на дорогу до родимых мест. Только не плачь, брат. Даже не благодари меня. Не стоит…
Неподалеку пристроился аккуратный старичок, который, заметив щедрость Полынова, уже весь заострился, и было видно, что он выискивает предлог, дабы разжалобить этого «дядю сарая». Но Полынов не обращал на старикашку внимания.
– Меня-то! – тонко взвыл старичок, не выдержав. – Меня пожалей. Кой денек крошки во рте не бывало.
– А за что ты, труха, на каторге оказался?
Старик живехонько пересел ближе к Полынову.
– Всего за пять рублев с копейками страдаю.
– Что-то дешев твой грех. Расскажи.
– А жил, как все люди живут. Свое берег, на чужое не зарился. Семья была. Достаток. Сыночка ажно в гимназию пропихнул. Нанял я тут бабу одну – прислужницей. Деревенскую. Она возьми да и стащи у меня деньги. В комоде лежали. Под исподним своим их прятал. Кому ж, как не ей, подлой, взять? Ну и давай я бабу стращать. Уж я стегал ее, стегал, сам измучился. Увечил как мог. Всякие пытки ей придумывал. Даже кипятком ошпарил. Нет, гадюка, не сознается. А потом бельма-то свои бесстыжие закатила и померла. Тут меня и взяли. Где ж правда на энтом свете? Ведь сознайся она по совести, что взяла деньги, нешто б не простил я ее? А теперь извелся… по ее же вине! Хоть вешайся, да не знаю как. И веревки-то порядочной нигде нету, не ведаешь, за что и зацепиться.
– Хочешь, научу? – деловито спросил Полынов.
– Окажи божецкую милость, родимый.
– Берешь полотенце. Лучше всего казенное. Оно жестче. Завязываешь на шее, а другой его конец – за ногу.
– Так-так, родненький. Золотые слова твои.
– Потом ногу от себя постепенно отодвигаешь, а петля тем временем на шее затягивается. Считай, что ты уже в раю.
– Просветил! Дай бог тебе здоровьица. За науку эту ты бы еще деньжат мне дал, чтобы веселей было.
– Без деньжат вешаться легче. Ступай.
– А благодарности не будет? За рассказ мой?
– Иди-иди, живоглот поганый. Бог тебе подаст…
Полынов покинул трактир, облегченно вдохнул в себя чистый морозный воздух. Темнело. На крыльце ему почудилось, что кто-то впопыхах оставил лежать неряшливые узлы тряпья, но это были люди. Изможденная женщина, поникшая от невыразимой беды, сжалась на ступенях от холода, а с нею была и девочка-подросток, закутанная в немыслимые отрепья.
– Вы чего здесь? – спросил Полынов.
– Продаю, – глухо отозвалась женщина.
– Что продаешь?
– Дитя свое… Купи, добрый человек, будь милосерден. Все едино с голоду подохнет, ежели так оставить.
Южнее, со стороны Дуэ, стали лаять собаки.
– Ты какого же «сплава»?
– Осеннего.
– По статье или…?
– К мужу. Вот, приехали. Дом бросили. Соседи набежали, все растащили. Привезли нас, а его-то и не нашли.
– Как не нашли?
– А так, господин хороший. Искали его тут чиновники всякие, по бумагам казенным вроде и был такой. А все тюрьмы пересмотрели, говорят – не значится…
Полынов послушал, как заливаются лаем собаки.
– А ты на кладбище-то бывала ли?
– Нет и в мертвеньких… Купи! – разрыдалась она.
Полынов взял девчушку за подбородок и резким жестом вздернул ее голову повыше, чтобы разглядеть лицо. На него в испуге смотрели большие глаза, а в каждом зрачке – по звездочке.
– Как зовут? – спросил он.
– Веркой, – не сразу отозвалась мать.
Хрустя валенками по снегу, мимо них прошел конвоир, прикладом пихая в спину бродягу – в сторону недалекой тюрьмы:
– Шевелись давай! Гнида ползучая.
– Да не брал я… не брал, – оправдывался бродяга. – Чтоб мне света не видать, я же в сторонке стоял… Ну? Отпусти. Не я, а другие все раздергали, а мне за всех отвечать, да?
– Тащись, стерва, пока не пришиб я тебя…
Они удалились, продолжая ругаться. Мать осталась неподвижной, убитая таким горем, какое случается только в этих краях, проклятых каторгой. А девочка, запрокинув лицо, снизу вверх выжидательно смотрела на человека, который может ее купить. Полынов долго и напряженно думал. Потом откинул полу своего нового пальто, наугад отсчитал из бумажника, наверное, рублей около сотни и сложил их на коленях женщины:
– Не рыдай – я не обижу ее, верь мне…
Взяв девочку за руку, как отец любимую доченьку, Полынов отвел ее на Протяжную улицу, там размотал на Верке тряпье и, заметив вшей, побросал его в печку. Он сказал, что купит ей красивое платье и сапожки со шнурками, а сейчас чтобы шла умываться, после чего они станут ужинать:
– А спать я постелю тебе вот здесь… на лавке.
Полынов засветил на столе лампу, чтобы получше рассмотреть свое приобретение, и заметил, что девочка была хороша, но ее портили чуть оттопыренные уши. Он сказал ей:
– Со мною ты ничего не должна бояться. Запомни это и впредь никогда ничего не бойся. Пусть мои слова станут для тебя первым заветом…
Когда они легли спать, настала гнетущая тишина, и в этой тишине едва прошелестел внятный голос:
– Дядечка, а что ты будешь делать со мной?
– Буду делать с тобой все, что хочу. Пройдет срок, и я сделаю из тебя… королеву!
Снова стало тихо, девочка не сразу спросила:
– А королевой разве быть хорошо?
– Наверное… при таком короле, как я!
В сознании Полынова, будто внутри арифмометра, сработал четкий механизм, и в памяти, словно из табло, проявилась та цифра, которую не следует забывать: XVC-23847/А-835.
– Это будет в Гонконге, – прошептал он, засыпая, но во сне раскрутилась рулетка, снова указывая ему роковой № 36.
18. В конце будет сказано
Японский фотограф, навестив канцелярию губернатора, как бы между прочим заглянул в кабинет писаря, сказав ему, что он напрасно не приходит за своими фотокарточками:
– Вашим престарелым родителям будет приятно убедиться, что их сын даже на каторге выглядит очень радостным…
Но в фотоателье пришлось общаться не с фотографом, а с самим господином Кумэдой, который заявил:
– По должности писаря губернской канцелярии вы можете быть нам полезны. Для начала я прошу вас сообщить нам количество штыков в военном гарнизоне Сахалина.
Бывший семинарист Сперанский, а ныне мнимый Полынов, даже не сразу сообразил, что требуют от него японцы.
– Зачем? – ошалело спросил он.
– Затем, что вы уже согласились помогать нам. И даже не бесплатно, как вам известно, – напомнил Кумэда.
– Я ничего не обещал вам, – растерянно отвечал писарь, – и никогда не соглашался шпионить на вас.
Кумэда показал ему длинный столбец написанных иероглифов, внизу которого красовалась подпись по-русски:
– Это ведь вы расписались в получении денег?
– Помню. Когда сымали меня на карточку.
– Здесь ваша подпись?
– Моя.
– Подтверждаете ее подлинность?
– Подтверждаю. А… что?
– В этом случае я позволю себе зачитать вслух текст этого договора, переведя его на понятный вам русский язык. Слушайте: я, нижеподписавшийся, обязуюсь служить доблестной армии японского императора, в божественном происхождении которого у меня нет никаких сомнений, а в случае, если я откажусь исполнить ее приказ, меня постигнет страшная кара… В конце же договора написано: аванс в размере двадцати пяти рублей мною получен, в чем и заверяю читавших своей личной подписью.
– Знать ничего не знаю! – попятился парень к дверям.
Такаси Кумэда свернул бумагу в тонкую трубочку.
– Необдуманный ответ, – улыбнулся он писарю, – есть признак душевной грубости, а нам, поверьте, совсем не хотелось бы грубо обращаться с вами. Извините, пожалуйста.
Сказав так, Кумэда ткнул пальцем куда-то в бок, вызвав в теле писаря приступ невыносимой боли, которая и свалила его на пол. Со стоном он просил отпустить его.
– Вы желаете уйти от нас на покаяние? Так уходите, мы вас не держим, – сказал Кумэда. – Но что нам стоит позвонить по телефону генералу Кушелеву или следователю Подороге, чтобы спросить их: куда же делся настоящий Полынов, фамилию которого Сперанский таскает на себе, как чужой пиджак? Уверен, что после такого вопроса вы завтра же снова очнетесь под нарами…
– Не выдавайте меня! – попросил Сперанский.
Кумэда ушел. Но тут же появился из-за ширмы фотограф:
– Мы вас не выдадим, если вы нас не подведете…
На следующий день, истерзанный бессонницей, подавленный, даже не поднимая глаз, Сперанский стыдливо принес для Кумэды список военнослужащих Сахалинского гарнизона:
Корсаковская команда – 296 чел.
Александровская – 479 чел.
Дуйская (в Дуэ) – 335 чел.
Тымовская (Рыковская) – 317 чел.
Кумэда заплатил писарю сто рублей, он угостил его хорошим шампанским и очень просил беречь здоровье:
– Для нашей работы нужны крепкие, бодрые люди…
Этот список он переслал Кабаяси в Корсаковск, где консул проводил зимний сезон в более мягком климате – поближе к берегам Японии. Кабаяси сверил цифры со своими данными.
– Пока все верно, – сказал он. – Сюда надо бы добавить четыре пушки устаревшей системы, а пулеметов у них нету… Великие события близятся! Скоро на всех картах мира зачеркнут название «Сахалин» и напишут японское слово – «Карафуто»! Сахалин сделается землей великого японского императора…
Часть вторая Амнистия
Взгляни на первую лужу, и в ней найдешь гада, который геройством своим всех прочих гадов превосходит и затемневает…
М. Е. Салтыков-ЩедринЧерная жемчужина России
Пролог второй части
Если бы Сахалин не был отдан на откуп каторге, наверное, иначе бы сложилась судьба драгоценной «черной жемчужины», как в России называли этот остров наши ученые…
В первые годы Советской власти жители острова постановили: отныне Сахалин не будет знать преступлений, мы станем созидать новую жизнь на добрых началах, а всех нарушителей законности и порядка следует судить высшей мерой наказания:
– Бандитов и воров ссылать… на материк!
Многие из узников царизма не покинули остров, где и поныне проживает их потомство в третьем и четвертом поколениях. Навсегда связал свою жизнь с Сахалином самый последний каторжанин Станислав Бугайский. В 1920 году ему не раз предлагали квартиру в Москве, но он отказался покинуть остров. В 1941 году, как раз накануне Великой Отечественной войны, на экраны нашей страны вышел документальный фильм о Бугайском. Последний из могикан сахалинской каторги, он скончался в 1944 году, и в Михайловке его именем названа центральная улица.
Теперь Сахалин украшен многими памятниками. И тем, кто пал на этой земле, «замучен тяжелой неволей», и тем, кто пал за эту землю – в жестокой борьбе с японскими захватчиками.
Славную историю Сахалина издавна омрачала каторга!
Скажем честно: освоением Сахалина мы, русские, вправе гордиться, зато каторга Сахалина – это позорная страница сахалинской истории, однако изучать ее все-таки следует.
Царизм вложил в создание сахалинского «рая» колоссальные средства, ожидая притока неслыханных прибылей, но… министрам было стыдно докладывать о результатах колонизации:
– Ваше величество, Сахалин представил на Нижегородскую ярмарку свои природные экспонаты: полозья для саней, одну кустарную сковородку, деревянное ведро, доску для игры в шахматы, набор обручей для бочки, дверные петли, защелки для окон, набор сапожных шил, три лопаты и… простите, два утюга.
– И это все? – грозно вопросил Александр III.
– Увы! Пока все…
Почти ничего не давая стране, каторга за каждый шаг в тайге, за каждый мешок угля, за каждую сосновую шпалу взимала с людей страшный подоходный налог – кровью, страданиями, жизнями. А. П. Чехов записал рассказ о смотрителе Викторе Шелькинге, который сотню человек довел до самоубийства. Онор остался для Сахалина слишком памятен. Настолько памятен, что Антон Павлович желал бы его забыть – так ужасна была «онорская» каторга! От Рыковской тюрьмы через непролазные дебри каторжане прокладывали дорогу на юг – к заливу Анива, а где-то среди буреломов затерялось это гиблое место – Онор! Здесь с утра до ночи свистела плеть палача, конвоиры прикладами ломали людям ребра и руки, выбивали им зубы. Ослабевших пристреливали, а если агония замедлялась, человека добивали даже не пулей, а палками. Арестантов так обкрадывали на Оноре, что они молились на хлебную пайку, как на святыню, они пожирали мох под ногами, грызли кору деревьев, каторжане выли по ночам, облепленные тучами комаров, наконец, на Оноре началось людоедство…
Когда Ляпишев явился на Сахалин губернаторствовать, он еще застал в живых отмирающие реликты этого дикого прошлого, эти страшные уникумы сахалинской каторги. Уже освобожденные от работ, заросшие седыми патлами, битые-перебитые, забывшие всех своих родственников, старики Онора сидели на кроватях сахалинской богадельни, не скрывая, что питались человечиной:
– Ну, кушал, да… так и што с того? Бог простит. Тоже ведь мясо. Наткнешь на палочку, у костра и поджаришь. Потом ел. Не мой то грех, а тех, кто довел меня до греха… Теперь чего уж там вспоминать? Одно слово – каторга!
* * *
Сахалин по размерам вдвое больше иного европейского государства, его политический строй – тюремнокаторжный, а надо всем этим «государством» доминировала тюрьма, забиравшая у людей не только их физическую силу, но даже таланты и знания. Если ты ничего не знаешь и ничего не умеешь, будешь копать канавы, валить деревья, таскать бревна, чистить нужники. Но в тюрьмах работали кузнечные, слесарные, мебельные, переплетные мастерские, в которых иногда создавались подлинные шедевры – для начальства, для продажи, просто для души. Захудалый инженер, в России мостивший улицы или чинивший водопроводы, попав на Сахалин, мог сделаться автором грандиозных проектов, осуществить которые можно было лишь в условиях каторги.
Каторга не умела ценить время, она никогда не щадила людей. По этой причине каторга бралась осуществить любой проект – хоть полет из пушки на Луну, лишь бы занять людей работой, пусть даже бессмысленной. Отсюда и возникали на Сахалине идеальные просеки, вдоль которых гнили скелеты в кандалах, но тайга тут же губила усилия людей, и об этих просеках забывали. Сооружались диковинные каланчи, с высоты которых нечего было высматривать. Это в России, где труд оплачивался деньгами, не станут просто так, за здорово живешь, проделывать дырку в скале, а Сахалину безразлично – к чему эта дырка и куда она приведет. Начальству хочется иметь дырку – и вот на Сахалине появился грандиозный туннель, в котором никто не нуждался. Он, правда, сокращал расстояние от Александровска до шахт Дуэ, но люди погибали в нем во время прилива, когда туннель захлестывало море… Зато тратить силы с выгодой для себя, с прибылью для государства Сахалин тогда не умел. Рыбу ловили не удочкой, а руками; невод каторжанам заменяла простая рубаха – и при таком изобилии рыбы завозили селедку из Николаевска, а каторга так и не освоила метод засаливания рыбы. Миллионы тонн зернистой икры выбрасывали на свалку как ненужные отходы. К икре здесь относились даже с отвращением, считая ее негодными потрохами. Правда, гиляки икру ели, делая из нее своеобразный салат – пополам с малиной и клюквой. А русские хозяйки иногда жарили «икрянки» (оладьи из картофеля с икрою). Но готовить икру не умели и не хотели. Редко кто из сахалинцев запасал бочонок икры на зиму. Так же и с хлебом! Люди каждый год пахали и сеяли, а хлеб клянчили у России, его закупали даже в Америке: своего не было. Как у бедняков Ирландии, главным украшением сахалинского застолья была картошка…
Каждый сахалинец, даже работящий и непьющий, оставался должен казне сорок-пятьдесят рублей. Каждый из них понимал, что, если не построит хибару, если не засеет поле, каторга не отпустит его на материк – никогда. Поэтому осенью, когда урожай бывал собран, поселенцы изо всех сил старались доказать властям, что они свои закрома доверху засыпали хлебом. Обычно в ту пору по деревням и выселкам разъезжали чиновники-бухгалтеры, составлявшие смету для губернатора – об успехах в землепашестве. Поселенцы заранее накрывали стол с выпивкой, староста держал наготове взятку. Суматошной толпой бедняги обступали чиновника.
– Ты уж не подгадь… пиши! – взывали они, чуть не падая на колени. – Пиши, что мы сей год с плантом управились. Урожай-то – аховский! Так и пиши, не стыдись: мол, засеяли пять пудиков, а собрали все полтораста.
– Жулье! – ярился чиновник, оглядывая стол с закусками, а заодно озирая и румяную Таньку, кусающую край платочка. – Да ведь сами с голодухи пухнуть и околевать станете… Где эти ваши полтораста пудов, если с каждого из вас портки валятся! Да и с меня за эти приписки потом взыщут.
– Пиши! – кричала толпа, выдвигая вперед ядреную Таньку. – Потому как без твоих приписок нам света божьего не видать, здесь и околеем. А мы уж, сокол ясный, постараемся: какую хошь девку для удобства твоего ослобоним. Знай наших!
Староста уже активно распоряжался:
– Танька! Теперь твоя очередь… в прошлом годе от Петрищевых девку брали, а ныне ты постарайся для обчества. Чтобы, значит, подушки взбивать для господина бухгалтера.
Танька закатывала глаза:
– Охти мне! Да ведь Степан-то меня приколотит.
– Не, – говорили поселенцы, – не посмеет. Потому как ты не для себя, а для обчества. А мы Степану за это бутылку поставим, чтобы он не мучился… Тащи подушки в избу!
В губернской канцелярии, изучив смету, гражданский губернатор Бунге оставался очень недоволен ее результатами. Ему давно уже пора бы получить Анну на шею, а тут эти негодяи не могли для развития его карьеры собрать урожай побольше.
– Почему так мало? – негодовал Бунге. – Из Петербурга вправе спросить: ради чего мы тут сидим? Как хотите, господа, но в этой смете придется нам приписать лишку… накинем пудиков! Иначе, чего доброго, и нашу каторгу прикроют.
Ляпишев подмахивал бумагу своей подписью, заведомо зная, что в ней ни слова правды, и это несусветное вранье о небывалых достижениях колонизации Сахалина отправлялось в далекую столицу. А там солидные бюрократы восхищались:
– Смотрите, какие наглядные успехи достигнуты нами! В прошлом году урожай был сам-пятнадцать, а ныне уже сам-двадцать. Вот вам и каторга! Прямо чудеса там творят, да и только… В самом деле, наша колонизация приносит удивительные плоды!
Этим сановникам из Главного тюремного управления было не понять, почему губернатор Сахалина вскоре же станет просить, чтобы прислали хлеба, ибо население голодает. Вот тут бы и показать им деревенский стол с убогими закусками да вывести бы перед ними стыдливую Таньку, страдавшую ради «обчества»…
* * *
Русские ученые – вслед за нашими моряками – проделали большую работу по изучению богатств Сахалина, и за рубежом следили за их трудами более внимательно, нежели мы думаем. «Черная жемчужина» отражала в своей глубине благородно мерцающий отблеск сокровищ, что затаились в недрах острова.
Судьба сахалинского угля сложилась трагично! Угольные копи Дуэ снабжали топливом эскадру в Порт-Артуре, корабли Сибирской флотилии, порт Владивостока, паровозы Уссурийской железной дороги. По своим превосходным качествам сахалинский уголь мог бы соперничать с донбасским, местами встречался и антрацит – тяжелый, как самородки золота, почти не пачкавший рук. Сотни каторжан угробили свою жизнь в штреках копей Дуэ, но уголь год от года становился хуже. В чем дело? Дело в подневольном труде, а каторге безразличны его результаты. Потом уголь брался лишь сверху, какой попадется, а на больших глубинах, где он был высокого качества, выработка прекращалась. Арестант наломает тонны любой породы, лишь бы в конце дня не миновала его миска казенной баланды… Заезжие геологи в ужасе наблюдали, как на отвалы из шахты уголь поступал пополам с пустою породой, которая способна лишь забивать пламя в котлах. Капитаны кораблей, бункеруясь на Сахалине, разносили по свету молву о слабом горении русского угля. Между тем в Японии знали истинное положение в Дуэ, адмирал Того дальновидно рассуждал:
– Наши японские угли не выдерживают конкуренции даже с дурными австралийскими, даже с китайскими, а Сахалин может дать уголь не хуже британского кардифа, и в будущем, я надеюсь, наш флот должен ходить на сахалинских углях. Наконец, сейчас, когда для мира уже назревает проблема жидкого топлива, мы должны заранее подумать об источниках сахалинской нефти…
Легенды о нефтяных болотах, в которых увязали олени и медведи, давно блуждали по Сахалину, гиляки иногда привозили в Николаевск бутылки с подозрительной «керосин-вода». Лейтенант русского флота Григорий Зотов первым застолбил нефтеносные участки на севере острова. Проламывая стенку казенного равнодушия, он не прочь был, кажется, соперничать с самим Нобелем, но ему всюду отказывали в поддержке «по причине занятости соответствующих должностных лиц». Объяснение отказа – прямо как у Салтыкова-Щедрина («а на дальнейшее сказано: посмотрим!»). Лейтенант Зотов навестил Петербург, где Нобель чересчур настойчиво набивался ему в компаньоны.
– Без меня вы разоритесь сами и разорите свою семью. Да, нефть сулит большие прибыли, но прежде она забирает гигантские расходы… Все равно, – пригрозил Нобель, – стоит Сахалину брызнуть первым нефтяным фонтаном, и ваша нефть сразу же станет моей. Не верите, господин лейтенант?
– Не запугаете! – обозлился Зотов. – Я бухаю в нефтяные скважины свои личные средства, но сахалинскую нефть не считаю лично своей, потому что, верю, со временем она будет принадлежать только русскому народу, только моей отчизне…
Еще недавно, в 1950‑х годах, в Москве проживала его дочь – Зоя Григорьевна Зотова-Гамильтон; она рассказывала:
– Отец, имея от моей матери немалое приданое, мог бы жить в свое удовольствие, как жили тогда все богатые люди, но он разорил себя и разорил нас, осваивая как раз те места, где сейчас выросли вышки города сахалинских нефтяников – О х а!
…«Черная жемчужина» Сахалина таила роковой блеск.
* * *
В жизни каждого поколения каторжан выпадает хоть одна амнистия, дающая им свободу. Коронационные торжества Николая II в 1896 году избавили Сахалин от «помилованных», которые убрались на материк, а теперь каторжане с обостренным интересом следили за приростом в доме Романовых, ибо появление наследника престола сулило новую амнистию. К сожалению, императрица Александра Федоровна родила четырех дочерей подряд, и каторга с возмущением крыла царя на все корки:
– Да что он там не может справиться со своей Алиской? Нетто не может поднатужиться, чтобы наследника сварганить? Что же нам? Так и подыхать тут, ежели у них одни девки лезут!
Грамотные прикидывали «табельные» даты в истории монархии, возлагая надежды на амнистию никак не ранее 21 февраля 1913 года. Безграмотные спрашивали грамотеев:
– А что будет-то в этот день?
– Трехсотлетие царствующего дома Романовых.
– Ну-у… нам не дотянуть. Сдохнем!
Каторга все-таки дождалась рождения наследника, но это случилось еще в том году, когда сахалинцам было не до праздников – даже не до амнистии… Сахалин подстерегала беда.
1. «Сахалин – это Карфаген!»
Аппетиты японских самураев уже выразил профессор Томидзу, предрекавший т р и войны с Россией: «В первой войне нам нужно дойти до Байкала, во второй войне с Россией мы водрузим знамена победы на высотах Урала, но будет еще и третья война, когда наша кавалерия напоит лошадей водою из Волги!» В самом низу газетной полосы «Ници-Ници», среди рекламных объявлений и фотографий популярных гейш в траурных рамках, трудно было заметить зловещий призыв: «Вперед же, пехотинцы Ниппона, вперед и вы, кавалеристы Страны восходящего солнца!»
Переговоры между Токио и Петербургом продолжались, когда в клубе господ выступил японский банкир Шибузава:
– Если Россия будет упорствовать в нежелании идти на уступки, если она заденет честь нашей страны, тогда даже мы, миролюбивые банкиры, не будем в силах долее сохранять терпение, и все мы выступим с мечом в руках!
Русская дипломатия размахивала над столами политических конференций оливковой ветвью, а русская армия еще хранила меч в ножнах. Между тем наши чересчур удалые аферисты, камергеры и статс-секретари его величества рубили лес в Корее на берегах Ялу, а где лес рубят, там и щепки летят… Положение осложнялось, и тут на Дальнем Востоке появилась очень живая, выразительная, противоречивая и отчасти попросту бестолковая фигура военного министра – генерала Куропаткина.
* * *
Если бы славу можно было выиграть по лотерейному билету, наверное, их скупали бы целыми пачками, не жалея денег: как же, это ведь слава – не фунт изюму…
Куропаткин выиграл в «лотерею» все, что другие люди добывают трудом, мышлением, героизмом, пролитием крови. Обладая славою ординарца Скобелева, умея понравиться царю, он быстро поднялся ввысь. Мещанин во дворянстве, подобно бойкому журналисту из провинции, военный министр, любил щеголять хрестоматийными фразами о том, что Карфаген должен быть разрушен, а мавр сделал свое дело, не забывая при случае помянуть и гоголевскую вдову, которая сама себя высекла. Появясь на Дальнем Востоке, министр не посмел уничтожить лесные концессии на реке Ялу, форты Порт-Артура он назвал неприступными твердынями и наметил посещение Сахалина, говоря при этом:
– А за этот островной Карфаген волноваться не стоит. Пусть только кто попробует сунуться – с нами крестная сила!
Михаил Николаевич Ляпишев срочно созвал совещание ближайших советников – как военных, так и гражданских, просил усилить бдительность, стараться, чтобы ссыльные не докучали высокому гостю подачею прошений лично в руки министра:
– Алексей Николаевич славится добрым сердцем, он человек отзывчивый на любое страдание, но все-таки не стоит его деловой визит обращать в процедуру принятия прошений…
Александровск охватила предпраздничная суматоха, каторжане воздвигали возле тюрьмы триумфальную арку с трогательной надписью «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ»; дамы спешно готовили новые туалеты.
– Михаил Николаевич, а бал… дадите нам бал?
– Дам, душеньки, дам! Как же можно оставить вас без бала, если Сахалин посещает столь значительная персона.
В лавках Александровска появились рахат-лукум и апельсины; дамы бегали в магазин примерять модные шляпы, офицеры гарнизона покупали хрустящие портупеи, меняли на погонах поблекшие звездочки на новенькие – блестящие. Постояльцам тюрем и карцеров было в эти дни объявлено, что в честь визита военного министра Куропаткина будут варить рис, а не картошку, обещали дать суп с мясом, и все шесть тюрем Сахалина взволнованно гудели голосами изголодавшихся людей:
– Почаще бы наезживали к нам… всякие! А то ведь с этой тухлой кеты да с гнилой картошки уже пухнуть стали…
Куропаткин прибыл! В его честь был выстроен почетный караул, Ляпишев – как военный губернатор – отдал ему деловой рапорт, приняв который министр соизволил указать:
– У вас не застегнута пятая пуговица сверху.
– Извините, я взволнован.
– Ничего, бывает…
Военный оркестр сыграл бодрый короткий туш. Куропаткин обходил шпалеры войск гарнизона, ряды надзирателей тюрем и солдат конвойных команд, незаметно шепнув адъютанту:
– Ну и рожи! Словно переодетые каторжники…
Парадная тройка с бубенцами уже стояла наготове. Куропаткин уселся подле Ляпишева, любезно козыряя в сторону дам, кричавших ему «ура». Министр с удовольствием обозрел массивную фигуру ямщика, опоясанную малиновым кушаком.
– Ямщик-то у вас, Михаил Николаевич, какой внушительный. Так и кажется, что сейчас лихо гикнет и помчит нас к московскому «Яру», чтобы мы до утра слушали цыганок.
– Таковым и был на Москве, – отвечал Ляпишев. – Отвозил купцов к «Яру», а потом шестерых зарезал в Сокольниках.
– Ай-ай, кто бы мог подумать!
– Зато большие деньги взял, – дополнил свое пояснение Ляпишев, отчасти уже проникнувшись настроениями каторги…
Вечером на улицах было устроено гулянье; средь публики сновали лотошники, продавая орешки и кулечки с карамелью; детвора глазела на леденцовые петушки; мужчины воровато приценивались к штучным папиросам. Среди бушлатов каторжан и армяков ссыльнопоселенцев резко выделялись господа, прилично и модно одетые, все в котелках, при тросточках, у иных же напоказ были выпущены на животы цепочки от золотых часов.
– Наверное, приезжие? – спросил Куропаткин.
– Какое там! – отозвался Ляпишев. – Майданщики из местных. Отбрякали свое «браслетами», теперь лавочки содержат, бани семейные, где своруют, где приторгуют… Здесь страна парадоксов, и все, что видите, это как декорация в балагане.
Для министра было устроено учение пожарных. Сначала они зачем-то с небывалым проворством разломали соседний забор, произвели маневры с приставлением лестниц к стенам домов, прыгали с крыши на крышу, как гимнасты в цирке, а в конце учения дали напор на шланги. Куропаткин подивился их бодрости:
– Сразу чувствуются мастера своего дела! Где вы, Михаил Николаевич, набрали таких ловких пожарных?
– Из числа каторжан, осужденных за поджоги… Тут принцип четкий: если умеешь поджечь, сумеешь сам и потушить.
В саду губернатора разместился хор сахалинских каторжан. Солист, выступив вперед, отличным голосом исполнил начало:
Много за душу твою одинокую, Много людей я сгубил. Я ль виноват, что тебя, черноокую, Больше всей жизни любил.Хор убийц и грабителей разом открыл пасти, могучими басами он поддержал солиста добрым припевом:
Эх, будешь ходить ты, вся золотом шитая, спать на парче и меху. Эх, буду ходить я, вся морда разбитая, спать на параше в углу…Кажется, военному министру на Сахалине понравилось. Хотя бы потому, что с такой экзотикой он еще никогда не встречался. Ему захотелось сделать Ляпишеву приятное, и он сказал:
– Наверное, даже Иисус Христос, будь он назначен губернатором в Иерусалиме, не смог бы так угодить Пилату, как угодили вы мне своим управлением на Сахалине… Хвалю, хвалю!
Адъютант тут же достал карандаш, сделал запись в блокноте. Теперь послужной список Ляпишева будет украшен выразительной фразой: «В мае 1903 г. удостоен похвалы высшего начальства».
* * *
Серьезный разговор начался между ними, когда все фейерверки погасли, а улицы Александровска опустели, сразу сделавшись мрачными, жуткими, почти зловещими. Ляпишев, наверное, был неплохим юристом, но большой профан в военных делах. Однако даже он начинал чувствовать, что назревают события, которые сейчас еще трудно предвидеть. Он сказал Куропаткину, что сооружение Великого Сибирского пути еще не завершено до конца: эшелоны через Байкал переправляются на паромах.
– Сейчас, как мне говорили, поезд от Челябинска до маньчжурского Ляояна тащится двадцать суток. Если японцы и начнут войну с нами, они постараются начать ее еще до того, как мы закончим прокладку круговой Северобайкальской дороги. Среди офицеров сахалинского гарнизона поговаривают, что лучше сразу эвакуировать войска из Маньчжурии, нежели залезать в войну, к ведению которой ни армия, ни флот России не готовы.
– Мы готовы! – бодро отвечал Куропаткин. – Да и не посмеет крохотная Япония задеть великую Россию. Как и с какими глазами мы можем уйти из Маньчжурии, если только на создание города Дальнего нами расходовано девятнадцать миллионов рублей, а ведь строительство еще только начинается… Покинуть сейчас Маньчжурию – значит расписаться перед всем миром в слабости русской армии и русского флота. Я не пророк, – сказал Куропаткин, – но смею утверждать, что один наш солдат выстоит в бою противу пяти-десяти японских мозгляков.
– Дай-то бог, – согласился Михаил Николаевич.
– Нежелательные настроения в сахалинском гарнизоне следует решительно пресекать, – наказал Куропаткин. – Если мы гордимся неприступностью такого Карфагена, как Порт-Артур, то вам-то, сахалинцам, чего бояться? Сахалин отгорожен морем, он не имеет рокадных дорог, зато одни ваши комары да болота чего стоят… Да ведь Сахалин – это тот же Карфаген!
– Однако, простите, комары на болотах обороны не построят. В нашем каторжном Карфагене, – уныло отвечал Ляпишев, – всего четыре пушки времен царя Гороха, которые я хоть завтра согласен отправить в музей. О пулеметах мы даже не мечтаем.
– Михаил Николаевич, – сразу оживился Куропаткин, – вы заставили меня вспомнить ту гоголевскую вдову, которая сама себя высекла… Как можно даже помышлять о нападении японцев на Сахалин, если мы, случись война, сразу же свяжем их по рукам и по ногам удалецким боевым натиском у берегов Японии… Им ли будет до вашего Сахалина, где каторжники даже без помощи гарнизона исколотят их всех своими кандалами!
На следующий день разговор был продолжен. Куропаткин нехотя коснулся январских совещаний в верхах, когда министры царя высказались за modus vivendi – временное соглашение, пока не выработан долгосрочный договор. Дипломаты при этом указывали, что все последнее время Япония ведет себя с нарочитой заносчивостью, почему нам, русским, не следует раздражать Токио излишней боевой бравадой. США и Англия давно и очень активно натравливают японцев на Россию, а Россия – увы! – остается пока что в политическом одиночестве. В сентябре 1903 года решено вывести войска из китайского Цицикара, но…
– …не приведут ли эти уступки к потере престижа русской военной мощи? В нашем правительстве, – рассказывал Куропаткин, – немало людей, искренно желающих войны с Японией. По их мнению, маленькая победа на полях Маньчжурии способна предотвратить большую революцию в самой России.
Михаил Николаевич ответил министру, что в любом случае он, как военный губернатор, обязав заранее озаботиться обороною острова – независимо от того, будет война или нет.
– Пожалуйста! – согласился Куропаткин. – Согласуйте свои планы обороны с планами приамурского генерал-губернатора Линевича и присылайте прямо в Петербург… мы их немедленно рассмотрим. Поправим, если надо. Наконец, и – утвердим!
– Простите, Алексей Николаевич, – скромно заметил Ляпишев, – но, как бы ни был хорош план обороны, он полетит к чертям, если оборону не подкрепить людьми и боевой техникой.
Очевидно, Куропаткину это прискучило:
– С такими вопросами лучше всего советоваться вам с Линевичем, который поделится с вами амурскими резервами…
Ляпишев не стал утомлять министра дальнейшими рассуждениями, и вечером Куропаткин открыл бал в паре с госпожой Слизовой, которая обомлела от такого внимания. Музыканты из каторжан, укрытые от публики ширмою, оглушали танцевальный зал клуба тревожными всплесками старинного вальса; в воздухе кружилось нарядное конфетти, осыпая оголенные плечи кружившихся в танце женщин, взлетали упругие кольца серпантина, а в бокалах сахалинской элиты вспыхивало золотистое шампанское.
– Хорошо живете! – восторгался Куропаткин. – Вот уж не думал, что на каторге возможна такая веселая жизнь…
Он готовился к отъезду в Японию, мечтая там предаться любимому занятию – посидеть на берегу с удочкой. Последние дни пребывания министра в Александровске были посвящены церковным службам, посещениям казарм и музея. Как ни пытались местные власти оградить министра от подачи прошений на его имя, все равно – где бы он ни появился, за ним постоянно тянулся длинный хвост людей с бумагами в руках. Стоило в оцеплении министра появиться лазейке, как в нее моментально проныривал либо жалобщик, либо индивидуум из породы вечных искателей правды. Вот и сегодня Куропаткина настиг какой-то мужичонка, назвавшийся Корнеем Земляковым:
– Ваше… ваше сяство, окажите милость. Прошеньице у меня до вас. Не откажите в своем усердии.
– О чем просишь, братец? – вежливо спросил министр.
– Потому как четвертый год маюсь. Все есть, слава богу. Скотинка своя. Двор поставил. Все бы хорошо. Только вот начальство до сих пор бабу не выделило для обзаведения.
Куропаткин пожал плечами:
– Извини, братец. Я ведь военный министр и в каторжных делах ничего не смыслю. Где же я тебе бабу достану?
Но поселенец Земляков от него не отставал:
– Потому как вы столичными будете, законы всякие изучили. Не обижайте. Я ведь не то чтобы так. Я ведь свое прошу.
Куропаткин, чтобы отвязаться, сказал адъютанту:
– Прими от него бумагу, иначе не отстанет.
Адъютант взял у Корнея прошение, сложил его вчетверо, сунул в фуражку, а фуражку надел на голову:
– Принято! А теперь будь здоров, не мешай.
Корней Земляков, обрадованный, ушел. Прошу читателя не удивляться, если этот Корней станет нашим героем.
* * *
Наступил день прощания. Куропаткин покидал Сахалин, чтобы навестить Японию с визитом вежливости (и на все время его визита в японских школах запретили распевать антирусские песни, которые очень нравились детям своим красивым мотивом). На прощание военный министр сказал Ляпишеву:
– Ваши опасения за судьбу Сахалина напрасны, и вот почему. Существует международное право, в одном из параграфов которого ясно и четко сформулировано: местности, употребляемые для ссылки и наказания преступников, не могут являться театрами военных действий, не подлежат вторжению неприятеля и будут застрахованы от всяческих оккупаций.
Тут в Ляпишеве проснулся знающий военный юрист:
– Все это было бы очень мило, – сказал он, – но только в том случае, если бы Япония признала этот параграф. Но японцы его не подписали, как бы заранее оставляя за собой право вторжения на Сахалин – в нарушение всяческих прав!
2. Страдания сахалинских вертеров
О положении женщины на каторге историки пишут, что, «вступив на остров, она переставала быть человеком, становясь предметом, который можно купить или продать». Женщин обменивали на водку, их проигрывали в карты. Превращенная в товар, сахалинская женщина отомстила за свою честь паразитическим тунеядством: «Если бы сожитель вздумал требовать от нее серьезной работы и взвалил бы на нее обязанности жены крестьянина, она сразу бросила бы его и ушла к другому». Правда, бывали очень счастливые браки, возникшие из случайной связи, когда муж и жена, соединив свои судьбы по прихоти начальства, горячо любили друг друга. Но общая статистика браков на Сахалине была жуткая: в среднем на одну женщину приходилось семь-восемь мужчин, отчего на Сахалине бытовала безобразная полиандрия. Сами же тюремщики хвастались перед приезжими:
– У нас баб не бьют! Это в России лупят их чуть не оглоблей или дерут вожжами, а здесь даже пальцем не тронут.
– Зато, слыхать, у вас женщин убивают?
– Это правда. Убить бабу – пожалуйста, это можно, а трепать их нельзя, иначе к соседу убежит. Потом ведь волком извоешься, пока другую найдешь…
Почти все дети на Сахалине были незаконнорожденными. Чтобы хоть как-то упрочить семьи, администрация на каждого ребенка выдавала один продовольственный пай, какой получали и арестанты в тюрьме. Зачастую именно этот пай закреплял сожительство, создавая некое подобие семьи. Возникал немыслимый вариант семейной жизни: не родители кормили своего ребенка, а младенец, еще лежащий в колыбели, уже являлся кормильцем своих родителей. Ребенок становился спасением от голода, он «делался выгодным и дорогим приобретением, и таким путем создавались новые семьи, конечно, весьма непрочные», – писал ботаник А. Н. Краснов, проникший в тайны сахалинского быта.
Да, повторяю, Сахалин знал чистую, добрую любовь, даже в каторжных условиях люди создавали нерушимые любовные союзы. Но мы не станем проливать лишних слез над судьбою преступниц, сосланных на Сахалин за убийства и воровство, – иногда мне, автору, хочется пожалеть и мужчин, которым выпадала горькая доля делаться мужьями таких вот жен!
* * *
Корней Земляков попал на Сахалин за участие в крестьянском бунте, когда мужики стали самовольно запахивать пустующие земли. Он не был героем – его увлекла общая стихия деревенского возмущения (таких, как он, на каторге звали «аграрниками»). Отсидев срок в Рыковской тюрьме, Корней вынес на волю отвращение к уголовному миру. Он вышел на поселение, оставалось два года отсахалинить – и можно перебраться на материк свободным человеком. Не в пример другим «аграрникам», которые, покинув тюрьму, пьянствовали, живя случайными заработками, Корней, осев на земле, все жилы из себя вымотал, чтобы наладить «справное» хозяйство. Сам доил коров, задавал корм поросятам, сам полол гряды на огороде. Трудился и даже радовался:
– Это ль не жисть? Еще бы где бабу сыскать…
Все эти годы ему не хватало женской улыбки, женского плеча, на которое можно опереться в невзгодах. Уж сколько он обил порогов по разным канцеляриям, просил «бабу» – все нет да нет. Не раз, прифрантившись, Корней выходил на пристань встречать «Ярославль», но всех «невест» расхватывали другие «женихи», а у Корнея не было нахальства, чтобы предстать перед слабым полом в наилучшем виде – пижоном с гармошкой.
Наконец, весною его вызвали в Рыковское:
– Есть тут одна лишняя, да не знаем, возьмешь ли ее! Она из прошлого «сплава», на содержании была у господина Оболмасова. Так она этому господину такой «марафет» навела, что сам не знал, как от нее избавиться… Можешь забирать!
«Невесту» наглядно представили. Евдокия Брыкина, одетая в жакетку из черного бархата, сидела на казенном стуле, широко расставив полные, как тумбы, ноги. Она грызла орехи, а избраннику сердца сразу же заявила:
– А нам-то што? Бери, коль начальство приказывает. Не ты, так другие кавалеры меня завсегда расхватают…
Корней Земляков шепнул чиновнику:
– Уж больно они серьезные. Нельзя ли чего попроще?
– Здесь тебе не ярмарка, чтобы выбирать. Скажи спасибо, что у Дуньки Брыкиной глаза, руки и ноги на месте.
День был солнечный, приятный, пели птички, пахло дымом пожаров. Корней подогнал свою лошадь к правлению, с почетом усадил на телегу Дуняшку, дал ей сена:
– Вы сенца-то под свою персону подложите, потому как дорога дурная, шибко трясет. Вам же лучше будет.
– Ладно. Поезжай… деревенщина!
– А вы никак из городских будете?
– Живали в городах. Разных клиентов навидались…
Всю дорогу Корней рассказывал, какой он хороший, как он старается, сколько у него кур несутся, какое жирное молоко дают коровы. Лошадь, прядая ушами, волокла телегу по ухабам. Дуняшка сумрачно оглядывала местность с обгорелыми пнями, розовые поляны, зацветающие кипреем, наконец сплюнула:
– Сколь дворов-то в деревне твоей?
– Тридцать будет, живем весело, народу много.
– Давиться мне там, на веселье вашем?
– Зачем давиться? Коли вы с добрым сердцем едете, так у нас все наладится. Не как у других… шаромыжников!
– Много ты понимаешь, – отвечала баба. – Эвон, я у Жоржика-то жила, так он мне какаву в постель таскал, нанасами встретил еще на пристани. Ежели что не по ндраву мне, так я ему такой трам-тарарам устраивала…
– О каком Жоржике говорите?
– Об инженере этом – Оболмасове! Попадись он мне, сквалыга такая, я ему глаза-то бесстыжие выцарапаю. Честную женщину использовал, а потом, вишь ты, на улицу вытолкал…
На въезде в деревню сидели поселенцы, издали оглядывая бабу, полученную Корнеем Земляковым от начальства.
– Ты выходи вечерком… покалякаем, – звали его.
– Ладно, – откликнулся Корней.
Гордый от сознания, что теперь у него все есть в хозяйстве, имеется и хозяйка в доме, вечером Корней надел жилетку, натянул картуз, навестил односельчан, судачивших о том о сем на завалинке. Довольный своим успехом, он даже прихвастнул:
– Это наши ничего не могут! А вот Куропаткин, хоть и министр, он меня сразу оценил. «Езжай, говорит, Корней, до дому, а уж я для тебя все сделаю. Ежели тут станут волынить, ты мне пиши. Адрес такой: Зимний дворец в Петербурге, лично в руки императору. А мы с царем каждый вечер чай из одного самовара дуем, он мне твое послание передаст…»
– Ну-ну! А дальше-то что?
– Ну, пришел я. К нашим-то. Они так и забегали, будто настеганные. Выводят сразу дюжину девок из последнего «сплава». Видать, где-то берегли про запас. Просят любую выбирать. Ну, я посмотрел и говорю: «Ладно, этих вот себе оставьте, а я Дуняшку беру». Так вота и обзавелся. Баба она ладная. Правда, как приехали, легла и больше не встает. По мне, так лежи. Я ведь понимаю. Устала она… бедненькая! Ее какой-то инженер какавой опаивал, теперь в себя притти не может.
Семейная жизнь началась. Дуняшка Брыкина как завалилась на постель по приезде, так больше и не вставала. Иногда только глянет в оконце, где скучились серые избенки поселян, вдали шумел лес, из леса выбегали рельсы узкоколейки-дековильки, по которой каторжане гнали в сторону Александровска вагонетки с дровами, и, наглядевшись на все это убожество, Дуняшка в сердцах произносила с презрением:
– Во, завез! Тут и марафету стрельнуть не у кого…
Услышав о «марафете», Корней даже испугался: он знал, что это – кокаин, который за бешеные деньги продают в тюрьмах майданщики. Корней с утра уже на ногах, подоит коров, заглянет в избу, где валяется его ненаглядная:
– Дунечка, может, булочки хошь?
– Не-а.
Корней задаст корм свиньям, снова прибежит:
– Может, до лавки слетать, пряничка тебе?
– Не-а.
Корней уберет навоз, прополет огород, растопит печь.
– Дуняшечка, уж не больная ли ты?
– Не-а.
В полдень щи сварены, Корней просит откушать.
– Не-а.
– Так какого тебе еще рожна надобно?
– Какавы желаю… чтобы с нанасом!
Даже Корней, уж на что был кроток, и то взбеленился:
– Порченая ты, как я погляжу. Нешто на Сахалине можно о таком помышлять? И не стыдно тебе слово-то экое поганое произносить? Нанас… выдумают же проказники! Тьфу…
Печальный, выходил вечерком Корней к мужикам-односельчанам, лениво крутил цигарку; его спрашивали:
– Ну, какова молодуха-то? Небось жируете?
– Не до жиру, быть бы живу, – отвечал Корней, понурясь. – Испортили ее господа всякие по городам разным. Они там нанасы трескали, а отрыгивать за них мне приходится…
Мужики, сочувствуя, дали практический совет.
– Как хошь, Корней, а придется поучить ее маненько, чтобы себя не забывала. Коли вопить станет, мы всем сходом подтвердим, что худого знать не знаем, ведать не ведаем.
Удрученный горем, Земляков вернулся к себе. Дуняшка вдруг изогнулась перед ним на постели животом кверху, руки назад откинула, словно больная в падучей, разрыдалась:
– Любви хочу… с марафетом! Чтобы неземная страсть была, чтобы кавалеры меня вениками опахивали…
Корней намотал ее волосы на руку и дернул:
– Уймись, тварь! И не стыдно безобразничать? Я ведь тебе не какой-нибудь кандибобер, чтобы неземное показывать…
И уж совсем стало невмоготу Корнею, когда однажды, приехав из Рыковского, застал у себя господина исправника. Не стыдясь мужа, он не спеша натянул на себя мундир с синими кантами тюремного ведомства, а Корнею выговор объявил:
– Евдокия-то Ивановна жалиться на тебя изволят! Худо ее содержишь. Гляди, Корней, ты меня знаешь, я всегда за порядок стою… Коли что не так, заберу сожительницу от тебя. Мне как раз кухарка нужна. Береги Дуньку! Баба что надо…
На прощание он оставил Дуньке кулечек с мармеладом. Тут Корней не сдержался. Для храбрости осушил косушку:
– Ты долго еще, подлюга, изгиляться надо мной станешь? Я тебе сейчас таких нанасов накидаю, что вовек не забудешь…
Только он это сказал, как Дуняшка прыснула из дверей на улицу, оглашая сахалинские окраины жалобным воем:
– Ой, люди добрые, и где тут полиция? Убил меня изверг-то мой. Моченьки моей больше не стало… помираю!
Корней тянул бабу с улицы, чтобы не позорила его:
– Рази можно экий срам на меня наговаривать? Я ведь попугал только тебя… О господи, вот беда-то! Полежи, отдохни.
– У-убил! Измучилась с ним… марафету хочу!
Не было совести у бабы, совсем не было.
– Дунька, ты лучше уходи, – однажды сказал ей Корней.
Евдокия Брыкина так и села на постели.
– Эва… полюбуйся! – показала она кукиш Корнею. – Нешто дурочку нашел, чтобы я так и ушла? Прежде ты, сокол ясный, пять «синек» вынь да положь, тады и сама уберусь.
Корней завыл, плача. Были у него скоплены сто сорок рублей, чтобы купить билет для отъезда на материк, когда выпадет воля или даст царь амнистию с рождением наследника. Так не отдавать же теперь свои кровные, чтобы эта стерва на них «марафету» нанюхалась? Мужики стали жалеть Корнея:
– Дурак ты, дурак! На что польстился-то? Лучше бы взял кривую да корявую, на каких и собаки не лают. Вот и корячился бы с нею душа в душу, она бы любой конфетке радовалась. А с этими финтифлюшками какое же хозяйство? Одна погибель…
* * *
С тех пор как Полынов взвалил на себя множество забот о девчонке, купленной им по дешевке, жизнь обрела новый смысл, но зато сделалась намного тревожнее. Теперь он боялся не только за себя, но становился ответствен и за Верочку, которая быстро обретала повадки и капризы подрастающей девушки. Уходя дежурить на метеостанцию, Полынов всегда запирал ее на ключ, строго наказывая не высовываться даже в окно, чтобы глазеть на Протяжную улицу. Его отношение к ней было почти отцовским, но с претензиями на что-то более значительное…
– Будущая королева, – сказал он ей как-то, – ты обязана стать образованной женщиной… с шармом! Я всю жизнь учился, и теперь я желаю, чтобы ты прошла полный курс тех познаний, которые необходимы людям. Ты где-нибудь училась ли?
– В уездном училище.
– Какого уезда? Какой губернии?
– Козельского уезда, а губерния моя Калужская…
Сунув руки в отвислые карманы казенного бушлата, Полынов однажды шагал по скрипучим мосткам. Издали заметив его, «кирасир» Оболмасов торопливо перебежал на другую сторону улицы, и это даже развеселило Полынова.
– Правильно поступили, – крикнул он, когда они поравнялись. – Я ведь не забыл, что ваша голова уже в моих руках, как не забыли, наверное, об этом и вы сами…
Опытный подпольщик, Полынов умело проследил за Оболмасовым, который вдруг прошмыгнул в двери японского фотоателье с таким же проворством, с каким пьяницы заскакивают в двери трактира. Вряд ли геолог загорелся желанием сфотографироваться на память. Скорее он сознательно скрылся с улицы, дабы избежать дерзостей от Полынова или… «Или у него свои дела с японцами!» Недаром же в Александровске давно поговаривали, что Оболмасов «ловко объегорил» самого губернатора Ляпишева, поступив на службу японской колонии, руководимой консулом Кабаяси. «Если это так, – призадумался Полынов, – то в этом случае…»
– Вы почему не снимаете шапку? – последовал окрик.
Полынов не сразу заметил офицера, который скорым шагом вышел из переулка на Николаевскую, и теперь можно ожидать оплеухи, чтобы шапка сама по себе покинула его голову. Офицер в чине штабс-капитана спокойно ожидал ответа.
– Приношу свои извинения, – сказал ему Полынов.
Офицер огляделся: Николаевская была пустынна.
– Со мною-то ничего, – улыбнулся он. – Я не сторонник унижения человека, и без того униженного. Но вы могли бы наскочить на самодура, который слишком щепетилен в поддержании своего авторитета… Штабс-капитан Быков! – назвался офицер. – А вы, очевидно, уже прошли через чистилища тюрьмы и теперь поселенец? У вас хорошее лицо русского интеллигента. Вряд ли ошибусь, если скажу, что вы… из политических?
– Нет. Я служу на метеостанции.
– Честь имею! – отозвался Быков, подтянув на левой руке перчатку. – Желаю вам порадовать Сахалин хорошей погодой.
– К сожалению, сие не от меня зависит…
Полынову, апостолу эгоцентризма, доведенного до нелепых крайностей, теперь нравилось неподдельное оживление Верочки, когда он возвращался домой. Ощутив ее внимание и отличную память, ничем еще не замусоренную, он постоянно разговаривал с нею, как учитель с одаренным учеником. Ему хотелось передать свои знания, привить свой характер, свое понимание жизни. Потому он чересчур щедро, как невесту цветами, осыпал девушку фактами, именами, событиями, много рассказывал ей о чужих городах и странах. Полынов добывал книги, а затем побуждал задумываться над прочитанным.
– Я сделаю из тебя королеву, – посмеивался он.
Полынов часто прижимал ее оттопыренные уши, которые почему-то раздражали его, подолгу всматривался в девичье лицо:
– Скоро ты станешь очень красивой. Но мне совсем не нравится твое имя… Отныне ты будешь моей Анитой!
– Зачем?
– Так лучше.
– А разве можно менять человеку имя?
– Я менял много раз, и, поверь, с каждым новым именем я обретал прилив новых сил и новый интерес к жизни…
Не раз живший с поддельными документами, менявший имена с легкостью, с какой брезгливый джентльмен меняет перчатки, Полынов не видел ничего дурного в том, что крестьянская девка Верка станет носить гордое имя – Анита.
– Пришло время расстаться со всеми обносками. Пойдем со мной, я хочу, чтобы моя Анита была самой красивой на свете.
Ольга Ивановна Волохова никак не ожидала видеть этого странного человека в своем доме на Рельсовой улице, а тем более, когда он появился не один, а вместе с девчонкой.
– Вы ко мне? – удивилась она.
– Да. Я знаю, что вы лучшая портниха в Александровске, обшиваете всех дам нашего сахалинского «Парижа». Я привел к вам свою Аниту, чтобы вы принарядили ее… как принцессу!
Волохова вначале отказала ему в этой услуге:
– Мне противна даже мысль, что вы, в прошлом революционер, купили у какой-то несчастной женщины ее дитя… Для каких целей? Неужели даже вы, человек, кажется, достаточно интеллигентный, не можете обойти стороной грязь сахалинских обычаев?
– Заверяю вас, Ольга Ивановна, что я взял эту девочку с улицы, дабы избавить ее от грязи. Не знаю, как сложится моя судьба, но сейчас я вижу свой гражданский долг только в одном – оберегать это чистое существо ото всего позорного, что она может встретить на этом проклятом острове.
– Однако в городе уже ходят всякие сплетни.
Волохова невольно повысила голос, и Анита, чего-то испугавшись, доверчиво вложила свою ладошку в сильную руку мужчины, будто искала у него защиты. Полынов сказал Волоховой:
– Сплетни? Не будем бояться сплетен. Гораздо опаснее свирепое молчание, которое иногда окружает человека, и в этом молчании чаще всего вершатся самые подлейшие дела…
Речь Полынова звучала столь убедительно, что Волохова поверила и тут же стала снимать мерку с худенького, еще угловатого тела девочки-подростка. Полынов сказал, что хотел бы одеть свою воспитанницу как можно наряднее, готовый нести расходы за платья из самых лучших материй. Ольга Ивановна ответила ему вопросами:
– Сколько же платят вам за службу на метеостанции?
– Пятнадцать рублей.
– Так, простите, как же вы собираетесь расплатиться со мною, делая заказ рублей в сорок, не меньше?.. Или у вас какие-то потаенные доходы с этой каторги?
– Нет, мадам, я не стану грабить сахалинское казначейство, – усмехнулся Полынов, намекая на сложные обстоятельства былой жизни. – Но ваша работа будет хорошо оплачена мною…
* * *
В одну из ночей, когда Анита уснула, Полынов осторожно отодвинул кровать, за которой прятал винтовку (подобную тем, с какими конвоиры сопровождают арестантов на каторжные работы). Он тихо перевел затвор, и в этот момент Анита проснулась. С минуту они молча смотрели друг на друга: она чуть испуганно, а он – выжидательно. Безмолвие слишком затянулось.
Полынов вставил в оружие цельную обойму.
– Привыкай молчать, – сказал он, – иначе нам с тобой долго не выжить. И никогда ничему не удивляйся! В жизни любого человека всегда будут назревать странные положения… Спи.
Анита спала на лавке, а Полынов занимал постель. Но однажды он согнал ее с лавки, велев перебраться на кровать.
– В самом деле, – сказал он, – как же я не подумал об этом раньше? Ты ведь будущая женщина, потому валяться на лавке должен я сам. Спокойной ночи вам, моя королева…
3. Еще стакан молока
Поселенцы меж собой толковали, что Куропаткин – орел, затем, наверное, и летал в Японию, чтобы застращать самураев своей лихостью. В другой раз Корней Земляков охотно побалакал бы на эту тему, но сейчас – ему было не до того… У него пропала Дуняшка Брыкина, а куда делась подлая баба – где узнаешь? Сунулся Корней в подпечник, где меж кирпичей давно прессовал неприкосновенные сто сорок рублей, но денег на месте не оказалось. Украла! В глазах потемнело от обиды:
– Так на какие же теперь шиши выберусь я отселе? Неужто и до смерти сахалинить, не сповидав родины?..
Проездом из Рыковского к нему заглянул местный исправник, на пороге избы долго соскребал грязь со своих сапожищ.
– Дунька-то твоя, знаешь ли, где ныне?
– Иде?
– На хуторе в Пришибаловке, где иваны всякие жительствуют. Как хошь, Корней! Я туда не езжу, ножика под ребро кому получать охота? Езжай сам, ежели тебе жизнь не дорога…
Пришибаловка (хутор из трех бесхозных дворов) лежала в стороне от дорог, там никогда не пахали, не сеяли, а жили припеваючи. Это глухое урочище облюбовали всякие громилы, уже отбывшие «кандальные» сроки, там находили приют и беглые, потому в эту «малину» начальство без конвоя с оружием даже не заглядывало. Корней стукотнул в окошко крайней избы, но там шла игра, слышались полупьяные голоса бандитов:
– Ставлю дюга хруст.
– Попугая тебе под хвост… Вандера!
– Сколько в мешке?
– Два шила и одна синька.
– Пошли в стирку. – И банк был сорван…
От уголовного жаргона картежников Корнея аж замутило: вспомнил он, как жил под нарами, а над ним «несли в стирку» (то есть в игру) деньги бандиты. Но тут выскочил из избы один из игроков и стал мочиться прямо с крыльца.
– Ты кто? – спросил он, вдруг заметив Корнея.
– Жена моя у вас. Дуняшка Брыкина.
– Кого там еще принесло? – послышалось из избы.
– Да тут деревенский «дядя сарай» приперся. Гляди-ка, муж какой верный сыскался – за Дунькой своей пришкандыбал.
– Пусть заявится, – последовал чей-то приказ.
Ударом кулака по шее Корней был сопровожден в избу, где невольно заробел перед грозным синклитом иванов, наводивших ужас на всю округу грабежами и поножовщиной. Здесь сидели сам Иван Балда, Селиван Кромешный и Тимоха Раздрай.
– Ну? – сказали они. – Теперь дыши в нашу сторону…
– Сказали, что Евдокия Брыкина, сожительница моя, от начальника мне даденная, у вас гуляет. Вот и приехал…
Иваны переглянулись, а Кромешный лениво перебирал колоду карт. Ворот его рубахи был с вышивкой, свидетельствующей о высоком положении в преступном мире. Он слегка двинул плечом, сбрасывая с себя армяк, и одежду тут же подхватили верные «поддувалы» – Гнида, Шпиган и Бельмас.
– Дунька здесь, – сказал Кромешный. – Вчера похорил ее, а сегодня спустил в штос Балде, вот с него и спрашивай.
Раскинули карты, и Балда подвинулся на лавке.
– Чего тебя, дурака, обижать? – сказал он Корнею. – Садись рядком, может, и пофартит тебе – тады забирай свою лярву, я за кошелек ее держаться не стану… Ежели не веришь, так эвон отодвинь занавеску – тамотко красотка твоя валяется.
Корней отодвинул ситцевую занавеску, увидел измятую постель, на которой дрыхла его ненаглядная. Было видно, что тут без водки и марафета не обошлось. Громадный синяк под глазом Дуняшки отливал дивным перламутром.
– Все равно, – заявил Корней, – какая б она ни была, а мне ее дали, и потому забираю от вас… Я как знал, что добра не будет, потому и приехал за ней с телегой на лошади.
Сказал он так и понял, что не будет у него ни телеги, ни лошади. Так и случилось: Гнида, Шпиган и Бельмас избили его безо всякой жалости, обшарили все карманы, даже поясок отняли и выставили прочь с хутора, пригрозив:
– Если еще разок пришляешься, пришьем сразу. Скажи спасибо, что живым выпустили тебя… «сарая» безмозглого!
Всю обратную дорогу убивался Корней:
– Господи, и отколе такая сволота берется? Я ли не для нее старался? Я ли не голубил ее? Ведь, бывалоча, сам не съем, а все в нее пихаю… На что мне наказанье такое?
Он еще не знал, что впереди его ждет беда пострашнее.
* * *
Правила хорошего тона (старых времен!) не допускали, чтобы мужчина целовал руку девушке, но не возбранялось лишь намекнуть на поцелуй, едва донеся девичью руку до своих губ. Штабс-капитан Быков именно так и поступил, навестив Клавочку Челищеву в типографии, где она держала корректуру официальных бумаг сахалинского губернаторства. Валерий Павлович был сегодня в белом кителе, он поднес девушке белую розу.
– Какая прелесть! – восхитилась Клавочка. – И откуда вы достали розу на Сахалине, где за любым ветром всегда следуют холодные проливные дожди?
И хотя голос ее звучал радостью, штабс-капитан заметил, что Клавочка чем-то расстроена, даже подавлена.
– Вы сами видите, – призналась она, – вместо того, чтобы нести людям свет добра и помощи страдальцам, я теперь осуждена вылавливать, словно блох, опечатки в служебных бумагах. Наверное, моя бедная мамочка недаром так много плакала в Одессе, провожая меня в эти каторжные края…
Валерий Павлович краем глаза глянул в типографские оттиски, выхватив из их текста главную суть: оборона Сахалина, в случае высадки японцев, должна иметь лишь два опорных узла – возле Александровска (на севере) и у Корсаковска (на юге).
– Клавдия Петровна, – сказал он, – это же секретные документы… Почему они валяются вот так, поверх стола, любой заходи с улицы и читай их сколько угодно. Неужели никто не внушил вам опасений за сохранение тайны?
– Нет, никто, – ответила Челищева.
«Ну, конечно! Что взять с наивной бестужевки?..»
– Простите, а кому же поручено забирать оттиски приказов из типографии и относить их в канцелярию губернатора?
– За ними приходит писарь… Сперанский!
Быков заложил ладонь за тугой ремень портупеи.
– Странные порядки! – недоверчиво хмыкнул он. – Ведь эти вот наметки будущего плана обороны Сахалина не имеют цены… Кабаяси заплатил бы за них чистым золотом.
– Неужели это так серьезно? – удивилась девушка.
– А как вы думали? Когда японцы кричат: «Корея – для корейцев», за этими словами звучит иное: «Корея – для японцев!» Но одной Кореей самураи не ограничат свои аппетиты.
– Неужели правда, что будет война?
– Вот этого я не знаю, – ответил Быков.
Челищева вышла проводить его на крыльцо типографии. Штабс-капитан отдал ей честь, но задержался. Он сказал:
– Чувствую, что ваше терпение истощилось, и признаюсь: мне будет нелегко пережить, если вы уплывете на «Ярославле» обратно, а я больше никогда не увижу вас.
Челищева закрыла губы белою розой.
– Не надо об этом… – попросила она.
– Надо! – четко произнес офицер. – Я ведь вижу, что вы одиноки здесь, как и я. Но у меня есть хотя бы казарма с солдатами, а вас окружают мертвые души… чиновников да каторжан. Я не осмелюсь торопить вас с ответом, но все-таки примите мое предложение. Мне думается, – добавил Быков, – мы могли бы стать хорошей супружеской парой… Вы молчите?
– Я почему-то так и думала, что это будете вы… Именно от вас я ожидала этих слов, и я услышала их. Я тронута вашим вниманием и вашим предложением. Но стоит ли мне сразу давать ответ? И нужно ли вам настаивать на моем ответе?
Он ушел. Клавочка вернулась в свою конторку, закрылась изнутри на крючок, чтобы не слышать шума типографских машин, и здесь, сидя над приказами Ляпишева, она дала волю слезам…
* * *
Сознательно спаивая сахалинцев, спекулируя пресловутыми «записками» о выдаче спирта, чиновники при этом жестоко карали самогоноварение, с которым всегда связано что-то темное, что-то преступное. Лето было уже в разгаре, когда в таежном распадке, что называется Мокрущим, неподалеку от Александровска, три матерых бандита – Кромешный, Балда и Раздрай – решили нагнать для себя побольше самогона. Далекие от знания физики и химии, они приспособили для выгонки «первача» громадный бидон, похищенный ими с электростанции города. Нелюдимая тайга надежно укрывала их ухищрения от людских взоров. Преступники вели себя в лесу совершенно свободно, не догадываясь, что за ними – через плотную сетку накомарника – давно следят острые, безжалостные глаза человека с винтовкой. Уверенные в полной безнаказанности, бандиты прихватили с собой и Дуньку Брыкину, которая, подобно кухарке возле плиты, больше всех суетилась над бидоном, в котором бурлила закваска вонючего пойла.
– Первач! – возвестила баба. – Давай кружку.
Затвор винтовки, продернутый уверенной рукой, уже дослал до места первый патрон. Мушка прицела сначала нащупала кадык на запрокинутой шее Кромешного, алчно глотавшего из кружки, потом нащупала сердце второго бандита.
– Балда, – слышалось от бидона, – сосай, милок…
Грянул выстрел, и Балда сунулся головой в пламя костра, его волосы ярко вспыхнули. Дунька Брыкина в растерянности застыла с кружкой в руке, но тут рухнул Тимоха Раздрай.
– Ы! Ы!.Ы! – выстанывал Кромешный, получив свою пулю.
Из трубки еще вытекал самогон, и баба, не сразу уразумев, что произошло, стала хлебать «первач». Наконец, и до нее дошло, что смерть неизбежна – надо спасаться.
– Люди добры-ые-е!.. – завопила она.
Вот тогда Полынов встал во весь рост и откинул с лица сетку накомарника. Три бандита валялись мертвыми, а женщина с криками убегала вдоль таежной тропы. Полынов вскинул винтовку в одной руке, словно это был пистолет, и последний выстрел гулко расколол тишину лесной долины. Под ногами Полынова громко похрустывал пересохший валежник. Запах алкоголя всегда был несносен ему, но Полынов все же дождался, когда бидон с бурдою отработал наружу весь спирт. Затем, сорвав крышку с бидона, он как следует промыл его в ближайшем ручье.
Темнело. Где-то близко прокричала сова.
Взвалив на себя бидон, в котором плескалась самогонка, Полынов долго пробирался через кочкарник, преодолевая болото, пока не выбрался на опушку леса, откуда уже виднелись желтые огни деревенских оков. На рельсах «дековильки», среди разбросанных дровяных плашек, стояла вагонетка-дрезина с ручным управлением. Полынов укрепил на дне вагонетки бидон с самогонкой, замотал оружие в тряпье. А сверху набросал дров и как следует разогнал дрезину, чтобы она набрала скорость, потом вспрыгнул в нее на ходу и взялся за рычаг, работая изо всех сил. Рельсы пошли под уклон, дрезина мчалась стремительно. Мимо неслись штабеля дров, мелькали кусты и коряги пней, хибары сторожей и огородников. Наконец, в вечерних сумерках сверкнули огни Александровска, и Полынов нажал тормоз…
Условный стук разбудил трактирщика Недомясова.
– Ты? – спросил он, вглядываясь в черное окно.
– Открывай… да помоги. Тяжело.
Вдвоем они втащили бидон с самогонкой.
– Ох, попутаешь ты меня, – перепугался Недомясов.
– Заткнись! У нас в России, слава богу, все очень дешево, только деньги у нас дорогие… Клади пятьсот!
– Грабитель ты мой, – завздыхал Недомясов.
– Давай, кулацкая харя. И не притворяйся бедненьким. Ты с этого бидона четыре раза по пятьсот сдернешь. Ну? Живо.
Пахом Недомясов отсчитал ему деньги.
– Лучше б я с тобой и не связывался. Тоже не дурак, понимаю, что тут первач такой пошел – пополам с кровью.
– Молчи! Да будь сам умнее. Этот самогон попридержи в подвале, пока не утихнет. Деньгу зашибить всегда успеешь.
Полынов неторопливо пересчитал деньги:
– Все правильно! Но с тебя еще стакан молока…
4. Берегите жизнь человека
Пробуждение было ужасным. За окном чуть светало, а над Оболмасовым возвышался с громадным ножом в руке каторжанин Степан, недавно нанятый в услужение по личной рекомендации господина Слизова. И не было на груди «кирасира» шестого тома «Великой реформы», чтобы загородиться спереди, как не было и романа Шеллера-Михайлова, чтобы укрыться от ножа сзади.
– Побойся бога! – тонко проверещал Оболмасов.
– А чего мне его бояться? – сурово отвечал старый душегуб, придвигаясь к изголовью молодого человека.
Жорж забился в угол постели, тянул на себя подушки:
– Ты что задумал, окаянный? Ведь я жить хочу!
– Вестимо дело! Кто ж из нас жить не хочет!
– Пожалей меня, Степанушка, брось ножик.
– Эва, чего захотели! – отвечал Степан, испытав остроту лезвия на своем ногте. – Без ножа в нашем деле рази можно? Вот и решил спросить вашу милость: как резать-то мне?
– Степаша, миленький, не надо резать!
– Вот те новость! – удивился Степан. – Да как же не резать, ежели на сковородке все не уместится? Вот и пришел спросить. Коли желательно вам рыбки жареной, тады…
Оболмасов с облегчением отбросил подушки:
– Фу-ты, нечистая сила! Нельзя же так людей пугать. Чего ты подкрался с ножом на цыпочках, будто злодей?
– Да не злодей я. Насчет рыбки зашел справиться.
– Иди ты к черту! Делай как знаешь…
Утренний сон, самый сладостный, был прерван; приходилось начинать деловой день. Впрочем, никто не принуждал его добывать хлеб в поте лица своего, а ранний визит Такаси Кумэды сулил приятное получение очередного жалованья. Оболмасов накинул шелковый халат, подаренный ему Кабаяси, с показным равнодушием он принял конверт с деньгами.
– Я так издергал нервы среди этих мерзавцев и негодяев, что теперь нуждаюсь в обществе вежливых людей. Надеюсь, господин консул помнит о моем желании отдохнуть в Нагасаки?
Кумэда ответил, что отдых на даче в Нагасаки ему обеспечен, но предстоит провести еще одну экспедицию на Сахалине.
– Желательно начать ее от истоков реки Поронай, которая впадает в залив Терпения… Вы готовы ли в путь?
Оболмасов разложил на столе карту Сахалина:
– Странно! Вы опять отвлекаете меня от главной цели. Не лучше ли искать нефть там, где ее залежи уже доказаны прежними экспедициями? Для этого совсем необязательно страдать от комаров в кошмарной долине Пороная. Впрочем, – торопливо добавил геолог, заметив в лице Кумэды недовольство, – я, конечно, не настаиваю на своем маршруте, но…
– Но, – подхватил Кумэда, – экспедиция должна иметь чисто научное значение. На этот раз с вами будет наш ботаник, который сравнит достоинства сахалинского бамбука с японским. От берегов залива Терпения советуем спуститься далее к югу Сахалина, закончив маршрут в заливе Анива. А в Корсаковске вы погостите в доме нашего консула, после чего отплывете в Нагасаки.
Жорж Оболмасов неожиданно призадумался:
– Все это очень хорошо, но позвольте спросить вас: насколько справедливы слухи о войне с вами?
– С нами? – удивился Кумэда смеясь. – Но ваш министр Куропаткин оказался смелее, и в Японии, если верить газетам, он каждое утро сидит на берегу с удочкой. О какой же войне может идти речь? Правда, – согласился Кумэда, – дипломаты в Токио нервничают, но только потому, что излишне взволнованы политики Петербурга. Такова уж их профессия… Подумайте сами: если бы нам угрожала война с Россией, разве стали бы мы приглашать в гости Куропаткина? Разве стали бы показывать ему свои корабли и дивизии, не скрывая от высокого гостя всех недостатков в нашем вооружении? Да ваш Куропаткин и сам видит, что Япония слишком дорожит дружбою своего великого соседа… Пересчитайте деньги! – этой деловой фразой Такаси Кумэда резко закончил свой пышный монолог о миролюбии самураев.
– Что вы? – ответил Оболмасов. – Я ведь вам верю…
Он пересчитал деньги, когда Кумэда удалился, после чего прошелся по комнате, весело пританцовывая:
– Шик-блеск, тра-ля-ля… тра-ля-ля!
* * *
Фенечка вошла в кабинет Ляпишева, с нарочитым старанием начиная сметать пыль даже там, где ее никогда не было.
– Небось слыхали? – последовал поток свежайшей информации. – Кабаяси опять из Корсаковска приехал, наверное, в этот раз откроют японский магазин для наших дурочек.
– Не мешай, – поморщился Ляпишев, продолжая писать.
– А я и не мешаю, только разговариваю. Полицмейстер Маслов с утра из города выехал… Говорят, в Мокрущем распадке сразу четыре трупешника обнаружили. С ними и баба какая-то была.
– Ты разве не видишь, что я занят?
Фенечка недовольно взмахнула тряпкой.
– Новость! Можно подумать, что я без дела сижу…
Памятуя о советах министра Куропаткина, губернатор все последние дни трудился над планами обороны Сахалина, согласовывая их с мнением приамурского генерал-губернатора Линевича, который квартировал в Хабаровске. Наверное, только теперь Михаил Николаевич в полной мере осознал, что его, генерал-лейтенанта юстиции, могут с почтением выслушивать следователи, прокуроры и тюремщики, но среди офицеров гарнизона он воинского авторитета не имеет.
– В этих военных вопросах не с кем даже посоветоваться, – жаловался он Бунге. – О войне еще мыслят офицеры от поручика до штабс-капитана, а те, что достигли чина полковника, считают, что главное в их жизни сделано, скоро, глядишь, и на пенсию, так пусть за них думают генералы… Но какой же я генерал? Помилуйте. Самому-то смешно, как подумаю…
Телеграфный кабель от Сахалина стелился по дну моря, он тянулся через таежные дебри до Николаевска и Хабаровска, откуда все тревоги Дальнего Востока вызванивали в проводах небывалое напряжение, о котором еще не подозревала Россия, по-прежнему белившая в избах печи, качавшая в колыбелях младенцев, возносившая свадебные венцы над прическами стыдливых невест, громыхавшая броней крейсеров и дверями тюремных казематов. Но здесь, в гиблой сахалинской юдоли, чадившей дымом лесных пожаров, иногда было очень трудно распознать гибкие маневры дипломатов Петербурга; губернатору казались насущнее, роднее и ближе лишь его местнические интересы.
– Ну что там стряслось? – спросил Ляпишев полицмейстера Маслова, когда тот появился в его кабинете.
Маслов доложил, что трое иванов, убитых в Мокрущем распадке, были поражены пулями винтовочного калибра именно в тот момент, когда варили самогон. Их убийца, очевидно, человек небывало хладнокровный, даже не стрелял, пока не заметил, что из аппарата стал вытекать «первач»:
– Тут он и уложил всех трех, нисколько не утруждая самого себя процессом изготовления этого смердящего пойла. Все убиты, кажется, из той самой винтовки, что в прошлую осень была похищена неизвестным при нападении на конвоира.
– Час от часу не легче! Имена убитых выяснили?
– Судебный следователь Подорога уже произвел опознание. Это оказались известные рецидивисты с хутора Пришибаловка, родства своего, как водится, не помнящие, но по суду они проходили под кличками Иван Балда, Тимоха Раздрай, а третий остался не опознан… Стоит ли жалеть об этой нечисти?
– Но ведь с ними была и женщина?
– Ее опознали сразу: это марафетная проститутка Евдокия Брыкина, осужденная за давний хипес, которую прямо с трапа «Ярославля» подобрал горный инженер Оболмасов, она обворовала его с ног до головы, после чего ее передали в сожительницы к ссыльнопоселенцу Корнею Землякову.
– Это дело следует раскрутить, – велел Ляпишев. – Ибо в преступлении замешана винтовка нашего конвоира.
– Не волнуйтесь, – утешил полицмейстер. – Следователь Подорога уже выехал, чтобы арестовать убийцу.
– И на кого же пало подозрение?
– Да на того же поселенца Корнея Землякова… Ясно, что тут ревность взыграла – из-за Дуньки Брыкиной он уложил всех наповал да еще бидон с самогонкой прихватил!
Маслов, усталый с дороги, проследовал в канцелярию, где набулькал из графина стакан воды и жадно выпил до дна. При его появлении никак не осмелился сидеть писарь Полынов (бывший семинарист Сперанский), который встал перед Масловым и угодливо-подобострастно спросил его:
– А вдруг этот Земляков не сознается?
Маслов крякнул, наливая себе второй стакан воды.
– Ну, это фантазия! – отвечал он. – Мы тоже всяких философий начитались, так все знаем. Еще великий Спиноза в один голос с Вольтером утверждали, что в этом поганом мире именно битие определяет сознание… Вот станут вашего Землякова бить, так тут любой Добрыня Никитич сознается!
Писарь в ответ льстиво захихикал:
– Совершенно справедливо изволили заметить…
Кажется, этот негодяй уже позабыл, как ночевал под нарами, даже фамилию свою потерял, крещенный заново в каторжной купели. А теперь писарь приоделся эдаким франтом, нагулял жирок с начальственной кухни, лицо лоснилось от сытости. Кому и каторга, а кому – шик-блеск, тра-ля-ля! Сиди за столом, пописывай, даже мухи не кусают. И, наверное, узнав о чужой беде, он думал: «Вот с другими-то как бывает, а мне хоть бы что… все трын-трава! Слава те, хосподи, ведь даже на каторге можно в люди выйти». Эх, если бы он только знал, что за ним уже наблюдают хищные глаза человека, еще недавно глядевшего на свои жертвы через прицельную прорезь винтовки!..
* * *
Корней Земляков ничего не понимал: вдруг приехали стражники на лошадях, скрутили руки ему и погнали в город, изба осталась незаперта, а скотина – некормлена… Теперь он лежал на полу, выплевывая из разбитого рта зубы, а над ним стоял следователь Подорога, размахивая массивной табуреткой:
– Сейчас как долбану по черепушке, и дело с концом… Ты будешь сознаваться? Отвечай, грязная скотина!
Среди арестантов «от сохи на время» не раз говорили о невинно замученных, но Корнею всегда казалось, что это может случиться с кем угодно, только не с ним.
Плача, он с трудом прошамкал разбитым ртом:
– За што терзаете?
– Сознавайся!
– Да в чем сознаваться-то мне?
– Не прикидывайся деревенским пентюхом. Ты сам знаешь, кто положил четырех в Мокрущем распадке за городом.
Корней достал из-под рубахи нательный крестик:
– Вот крест святой целую, именем Христовым клянусь, что не был я там… никого не губил. Любого на деревне спросите, всяк скажет, что Корней в кошку камня не бросит.
– Ты на хутор Пришибаловку ездил?
– Был… Да, не скрою… за курвой своей ездил.
– А где взял винтовку?
– Не видал я никакой винтовки. Помилуйте, где мне взять винтовку? Я и стрелять-то из нее не умею.
Подорога с каким-то неистовым упоением стал бить его ногами в живот, пока поселенец не затих в углу, судорожно размазывая ладонями кровь по чистым половицам кабинета.
– У меня и не такие орлы здесь бывали, – сказал Подорога, открывая несгораемый шкаф; он извлек из его железных недр графин с коньяком и отпил из него прямо через горлышко. – Все равно распоешься, как петушок на рассвете, – сказал следователь, закусывая ломтиком кеты. – И не рассчитывай, что амнистия выпадет. Я тебя засуну в петлю раньше, чем ея императорское величество соизволит родить наследника престолу…
Корней Земляков сел на полу, качаясь:
– Что вы со мною делаете… люди! Я ведь не могу больше, моченьки моей не стало. На что родила меня маменька?
– А вот сейчас выясним, – сказал Подорога, освеженный коньяком, и, продолжая жевать кету, он схватил Корнея за волосы, трижды ударив головой о стену. – Говори, говори, говори…
Корней от этих ударов едва пришел в себя:
– Так убейте сразу, зачем же так мучить? Не виноват я… не убивал никого… самогону вашего и в рот не брал…
К вечеру Корней Земляков изнемог. Он сдался:
– Пишите что хотите. Мне все равно!
Подорога живо присел к столу ради писания протокола:
– Итак, путем бандитского нападения на конвоира ты его разоружил, присвоив себе казенную винтовку…
– Присвоил, бог с вами, – ответил Корней.
– И убил людей из ревности к своей бабе?
– Да, взревновал… проклятую!
– И самогонки выпить захотелось?
– Ну, выпил… все едино пропадать!
– Грамотный?
– Учили. В церковноприходской школе.
– Тогда распишись вот тут, и отпущу на покаяние…
Корней Земляков расписался внизу страницы:
– А что теперь будет-то?
Подорога громко щелкнул застежками портфеля:
– Повесим! И не надейся, что защищать тебя сам Плевако приедет, кому ты нужен?.. Эй! – окликнул он конвоира. – Тащи в «сушилку» его, пусть немного подсохнет.
Корнея загнали в карцер. Следователь, помахивая портфелем, походкой человека, уверенного в том, что свято исполнил свой долг перед царем и отечеством, вернулся домой.
– Устал, как собака, – сказал он жене. – Писатели эти, трепачи поганые… Чехов да Дорошевич! Развели тут всякую жалость. Им, видите ли, каторжан стало жалко. А вот о нас они не подумали, когда гонорарий за свою трепотню получали. Это нас пожалеть надо! Это мы живем хуже каторжных.
– Не кричи, и без того голова раскалывается.
Следователь сразу превратился в заботливого мужа:
– Ах, душечка, надо бы доктора пригласить. Хочешь, я за ним пошлю… Почему ты совсем не думаешь о своем здоровье? Так нельзя. Жизнь человеку дается однажды, и ее надо беречь…
5. Погодные условия
Александровская метеостанция Сахалина регулярно давала сводки в Главную физическую обсерваторию страны в Петербург, она же обслуживала и китайскую обсерваторию Циха-вэй в окрестностях Шанхая.
Работу станции возглавлял Сидорацкий – желчный человек из старых народовольцев, но от политики давно отошедший в нейтральную зону циклонов и антициклонов. Полынов – под фамилией своего «крестника» – взял на себя наблюдение за облачностью и влажностью воздуха, работая с психрометром Асмана и гигрометром Соссюра. Сидорацкий заранее предупредил его, что классификация облаков требует знания латыни.
– Не волнуйтесь, – ответил Полынов. – Я не перепутаю цирростратус, перисто-слоистые облака, с альтокумулюс, облаками высококучевыми… В латыни я разбираюсь как аптекарь.
Метеостанцию однажды посетил Ляпишев, который, как бы подтверждая свою репутацию либерала, не погнушался протянуть свою руку «политическому» Сидорацкому:
– Порадуете ли нас хорошей погодой?
– Плохая для нас, она всегда будет хорошей для природы. Мне давно уже все безразлично на этом свете, я знаю, что на Земле бывал ледниковый период, а посему стоит ли ломать голову над улучшением человечества, если ледниковый период все равно повторится, а тогда выживут одни лишь микробы.
Михаил Николаевич ответил, что будущее планеты его мало волнует, зато, как юрист, он вынужден улучшать человеческую породу – посредством кандалов, тачек, карцеров и прочих воспитательных инструментов, изобретенных ради гуманных целей.
– Не я же это придумал! – обидчиво сказал губернатор. – Еще ваш любимый герой Робеспьер высказал блистательный афоризм: «Щадить людей – значит вредить народу…» А у вас, я вижу, новый сотрудник? – заметил он Полынова.
Полынов ответил четким кивком головы, резко вскинув подбородок в конце поклона, что очень понравилось губернатору.
– Вы, случайно, не были офицером?
– Нет. – После краткого раздумья Полынов добавил, что ему пришлось воевать: – На стороне буров в Африке, там сражалось немало русских, помогая бурам вколачивать первый громадный гвоздь в пышный гроб викторианского величия.
– О! Вы, наверное, отлично стреляете?
– Буры… да, – скромно отозвался Полынов.
Ляпишев справился о его образовании. В чужой скорлупе семинариста Сперанского было слишком неуютно, потому Полынов, кажется, решил вылезать из нее, придумывая себе новую биографию, в которой правда перемежалась с выдумкой:
– Я получил политехническое образование.
– Где, в Петербурге?
– Нет, в Брюсселе.
– А за что угодили в мои владения?
– Да так, нелепая история, – вроде бы смутился Полынов. – Конечно, не обошлось без рокового вмешательства женщины.
– Сочувствую вам, – сказал Ляпишев. – Весьма сочувствую…
Сидорацкий извинился, что коснется политики:
– Как бы я ни презирал это занятие для престарелых швейцаров, любящих от скуки читать газеты, все-таки мне любопытно знать: не грозит ли России война с японцами?
– Многое зависит от позиции англичан. Лондон – вот главный рычаг, толкающий самураев к войне. Впрочем, ваш научный коллега, наверное, не испытывает особых симпатий к англичанам.
– Да, ваше превосходительство, – отвечал Полынов. – Я до сих пор сожалею, что Наполеону не удалось высадить свою армию на берегах Альбиона! Этот парень с челкой, как у хулигана с питерской Лиговки, вправил бы мозги милордам, после чего, смею надеяться, они не смотрели бы на людей другой национальности, как чистоплюи глядят на поганую сороконожку.
Михаил Николаевич искренно расхохотался.
– Вы мне нравитесь, – сказал он.
И снова, как в первом случае, последовал четкий кивок головой, и человек, по суду лишенный чести, выпалил:
– Честь имею, ваше превосходительство!
Полынов вернулся домой. Анита ожидала его перед зеркалом, и голова у девчонки кружилась от красоты ее новых нарядов. Но однажды, когда Полынов менял на себе рубашку, она вдруг заметила на его теле два звездообразных шрама.
– Что это? – испуганно спросила девушка.
– Это было в Монтре… пришлось отстреливаться.
– Бедный ты мой, – пожалела его Анита.
– Почему вдруг я стал бедным? – расхохотался Полынов. – Ведь никто еще не знает, какой я богатый… и какая богатая ты!
* * *
Преступный мир жесток, даже слишком жесток, а смерть на Сахалине – явление чересчур частое. Но каторга боится смерти, ибо каждый хочет остаться живым, чтобы выбраться на материк – домой… Прекрасные конспираторы в условиях заключения, уголовные преступники, покинув тюрьму, сразу теряют чувство контроля над собой и потому недолго держатся на свободе, скоро возвращаясь на свои нары, снова садясь на «Прасковью Федоровну», извергающую зловоние в углу тюремной камеры.
Иное дело – люди, страдающие за политические убеждения, смысл жизни которых очень далек от карт, выпивок и женщин. Старые политкаторжане, дожившие до революции 1917 года, пришли к выводу, что их выживаемость в условиях надзора как в тюрьме, так и на воле была намного выше, чем в уголовном мире, благодаря особой бдительности и жесткой самодисциплине.
Полынов смолоду обладал умом, склонным к анализу, умел заранее предугадывать события, ему, уже прошедшему суровую школу подполья, оставалось теперь четко суммировать накопленные факты. Обостренная наблюдательность, усиленная практическим опытом бурной жизни, заставила его разобраться в случайностях, на которые никто даже не обратил внимания.
Русская контрразведка пребывала тогда в первобытнейшем состоянии, почти беспомощная, и Полынов не собирался выполнять работу за других. Но, уже подозревая недоброе, он сначала провел осторожное наблюдение за Оболмасовым, выявив его связи с японской колонией Александровска. Новенькие ассигнации достоинством в двадцать пять рублей, явно фальшивые, могли попасть в кошелек горного инженера только одним путем – через Кабаяси! В научность экспедиций Оболмасова не верилось: скорее всего самураям просто понадобились хорошие карты Сахалина.
Оболмасов с японцами ушел в долину реки Поронай и надолго выпал из наблюдения. Но тут – вот небывалая неожиданность! – в сферу тайного наблюдения угодил сам писарь губернской канцелярии Сперанский, носивший теперь его фамилию… Для Полынова это был удар! Ошеломляющий удар. Если Оболмасова можно вывести на чистую воду, придумав что-либо для удаления его с Сахалина на материк, то… «Что можно сделать с этой гнидой? А гнида опасная, – рассуждал сам с собой Полынов. – Но, разоблачая этого писаришку, я невольно разоблачу сам себя, и тогда… Тогда – прощай воля, прощай и ты, моя Анита!»
Задача была не из легких. Полынов вспомнил, как разделался с Иваном Кутерьмой, даже его предсмертные слова о «карамельке». И пришел к выводу, что от Сперанского можно избавиться, как от гниды, самым простонародным способом – раздавить его!
…Они встретились в трактире Недомясова, и Полынов был подчеркнуто вежлив, называя писаря на «вы»:
– Я очень рад за вас! Видите, как удачно сложились ваши «крестины», – начал беседу Полынов, нынешний Сперанский, обращаясь к Полынову, бывшему Сперанскому. – Наверное, мой дружок, когда вы с попадьей совместно душили несчастного священника, чтобы потом услаждаться любовным «интимесом», вы, наверное, тогда и не рассчитывали, что вас так высоко вознесет каторжная судьба. Я не завистлив, – сказал Полынов, – и я не заставлю вас отрыгивать все, что было съедено вами с кухни губернатора.
Писарь ощутил угрозу именно в вежливости своего «крестного»; невольно заерзав на стуле, он уже поглядывал на дверь. Но тут же перехватил упорный взгляд собеседника и присмирел, как воробей перед ястребом. Полынов – отличный психолог! – сразу распознал этот момент ослабления воли своего противника.
– Честно говоря, – продолжал Полынов, – мне перестало нравиться в вас только одно… Только одно! Вы, кажется, решили продолжать м о ю биографию, но обогатили ее такими фактами, к которым я не хотел бы иметь никакого отношения.
При этом он оглядел писаря своими медовыми, почти пленительными глазами, окончательно парализуя его слабую волю.
– Что-то я не понимаю вас, – пробормотал писарь.
– Сейчас поймете… Прошу не забывать, что я дал вам свою чудесную фамилию, пусть даже взятую мною с потолка, но все-таки мою, совсем не для того, чтобы вы таскали ее, как швабру, по грязным лужам и помойным ямам… Почему японцы платят вам так мало? – в упор поставил вопрос Полынов.
– Разве мало? – вырвалось у писаря.
Полынов тяжко вздохнул. Потом запустил руку во внутренний карман пиджака писаря, извлекая оттуда бумажник, в котором, как и следовало ожидать, нежным сном покоилась фальшивая ассигнация. Полынов громко захлопнул бумажник, как прочитанную книгу, которая не доставила ему никакого удовольствия.
– Вы не только предатель родины, – резко объявил он. – Я сейчас могу навесить на вас еще одну уголовную статью, жестоко карающую распространение… вот таких «блинов»!
– Христос с вами, – побледнел Сперанский, – да я побожиться готов, что ни ухом ни рылом… Что вы? Какие «блины»?
Полынов щелкнул пальцами, и Пахом Недомясов, покорно семеня ногами в шлепанцах, поставил перед ним стакан с молоком. Величавым жестом Полынов велел ему удалиться.
– Это еще не все, – рассуждал Полынов. – Когда вы забираете из типографии свежие оттиски секретных бумаг касательно обороны Сахалина, вы почему-то не сразу идете с ними в канцелярию. Прежде вы навещаете японское фотоателье. Не думаю, чтобы вы были таким любителем сниматься на память об этих счастливых днях. По моим наблюдениям, – развивал суть обвинений Полынов, – вы задерживаетесь в ателье минут десять-двадцать. У меня вопрос: что вы там делаете это время?
– Ничего не делаю.
– Правильно! – кивнул Полынов. – Вы ничего не делаете. Вы просто сидите и ждете, пока японцы снимают фотоаппаратом копии с тех материалов, что взяты вами из типографии…
Глаза писаря блуждали где-то понизу:
– Чего вы от меня хотите? Чтобы я делился с вами выручкой? Так я поделюсь… хоть сейчас! Чего вам еще от меня надо?
Этими подлыми словами изменник подписал себе приговор.
– Мне от вас требуется сущая ерунда, – сказал Полынов. – Вам предстоит повеситься, и чем скорее вы это сделаете, тем это будет лучше для вас. В противном же случае, если вы станете цепляться за свою поганую жизнь, я сделаю так, что любая смерть, самая страшная, покажется вам… карамелькой!
Полынов разложил лист бумаги, перешел на «ты»:
– Слушай, мерзопакостная гнида! Прежде чем ты станешь давиться, я заставлю тебя сочинить предсмертную записку. И в ней ты напишешь не то, что тебе хотелось бы написать своей попадье, а лишь то, что я тебе продиктую…
Что-то холодное и тупое вдруг уперлось в живот писаря, и он увидел браунинг, целивший в него из кулака Полынова:
– Хватит лирики! Давай, пиши… красивым почерком.
* * *
Генерал-майор Кушелев, губернский прокурор Сахалина, даже не разрешил сесть судебному следователю Подороге.
– Скажите, вы умеете хоть немного мыслить логично? Надо же совсем не обладать разумом, чтобы напортачить в таком деле! – сердито выговаривал генерал-майор. – Взяли невинного человека, изувечили его и прямым ходом тащите на виселицу.
Речь шла о Корнее Землякове.
– Простите, но его преступление доказано. Обвиняемый сам подписал протокол, признав убийство, и…
Прокурор Сахалина был человеком честным:
– Так бейте меня с утра до ночи, я вам за черта лысого распишусь с удовольствием, – обозлился он.
– Убийство-то из ревности, – оправдывался Подорога.
– Да бросьте! Не станет жалкий «аграрник» убивать грязную потаскуху с ее хахалями, чтобы получить в приговоре петлю на шею. Такие безответные мужики тянут лямку каторги, как волы, и всего на свете боятся. Они могут от голода стащить кусок хлеба, но чтобы марать себя чужой кровью… нет!
Подорога переложил портфель из одной руки в другую:
– Самогон-то в цене! Вот и польстился.
– Чушь собачья, – отвечал ему Кушелев. – Корней Земляков в пьянстве сельчанами никогда не был замечен, а на шкалик ему всегда хватило бы… Опять же вопрос к вам! Откуда, черт побери, возникла в деле винтовка боевого калибра?
– Достал.
– Где мог достать ее Корней Земляков?
– Ясно. Совершил нападение на конвоира.
– А вы сами видели этого конвоира?
– Нет, – сознался Подорога.
– Так полюбуйтесь. У него морда – как этот стол, а ручищи вроде бревен. Он бы этого Корнея в землю втоптал… Не-ет, – решил Кушелев, – во всем этом деле чувствуется рука опытного злодея. Бесстрашного и сильного! Он уложил трех бандитов возле костра, а Евдокия Брыкина найдена за сотню шагов от ручья. Вывод: преступник владел оружием с таким мастерством, каким не обладают даже наши конвойные офицеры.
Портфель еще раз из одной руки переместился в другую.
– Так что теперь? Выпускать из «сушилки»?
Кушелев, не ответив, снял трубку телефона:
– Соедините с проводом губернатора… Михаил Николаевич? Добрый день, это я, генерал Кушелев… С этим убийством в Мокрущем распадке ничего не выяснилось. Ни-че-го! Лучше свалить дело в архив и больше не мучиться… Подорога? Так вот он тут, стоит передо мною… перестарался. А теперь сам не знает, как поумнее объяснить свою глупость. Ага, и все передние зубы «аграрнику» высвистнул. А винтовка, похищенная у конвоира, наверное, еще где-то выстрелит… Хорошо, Михаил Николаевич! Я понял. Ладно, ладно. Вечерком увидимся… – Кушелев повесил трубку на рычаг аппарата: – Ну что вы стоите как пень?
– Да вот… жду ваших распоряжений.
– Выпускайте! Пусть едет к себе в деревню. Земляков очень старательный крестьянин. Побольше бы нам таких, как он…
Подорога сам же открыл двери одиночки-карцера:
– Вылезай, мать твою так…
Корней Земляков поначалу даже ослеп от яркого света.
– Уже и вешать меня, да? – затрясло Корнея.
– Иди, иди. Ошибочка с твоей стороны вышла. Незачем было тебе, дураку, протоколы подписывать. Тоже мне, герой нашелся! Конечно, других бы, а не тебя вешать надо, да ведь их, сволочей, разве поймаешь? Так изловчились, что даже следов не оставят. Давай, топай до деревни своей… будь здоров.
* * *
Утром Фенечка Икатова вошла в канцелярию и не сразу поняла, что случилось. Прямо над столом, нависая над ним и почти касаясь ногами чернильницы, висел в петле писарь губернского правления. А под ним, посреди стола, лежала предсмертная записка, обращенная лично к губернатору Ляпишеву:
ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО!
В смерти моей прошу никого не винить, а кончаю с собой из-за несчастной любви к ВАШЕЙ ПРЕКРАСНОЙ ФЕНЕЧКЕ.
– Кара-а-у-ул! – завопила Фенечка, быстро убегая.
6. Тук, тук, тук, только тук…
– Мы вот у себя дома, на Сахалине, не научились рыбу ловить и засаливать, а самураи всю нашу рыбку побрали у нас и даже не едят ее, а переводят на удобрение полей. Теперь, вы слышали, японский рыбопромышленник Инокава покатил в Астрахань, чтобы поучиться у наших, какие чудеса можно делать из рыбы… Между тем переводить драгоценную лососину на удобрение полей – это все равно что в порошок растолочь бриллиант, дабы получить жалкую щепотку алмазной пудры!
Так уже не раз говорил прокурор Кушелев, но разговорами все и кончалось. Рыба самых ценных пород валом валила у берегов Сахалина, запруживая низовья рек, отчего даже поднимался уровень воды в речных верховьях. Рыба шла нереститься столь плотными косяками, что сама задыхалась в немыслимой теснотище и погибала миллионами тонн. Но сахалинцы, пребывая в слепоте казенного равнодушия, предпочитали не ловить, а покупать рыбу, закрывая глаза на то, как быстро обогащается на русской же лососине императорская Япония…
Однако летом 1903 года военные власти Сахалина были явно встревожены. Невзирая на упорные слухи о близости войны, самураи двинули на Сахалин целую армаду рыболовецких шхун. Сезон нереста был в самом разгаре, когда в заливах Анива и Терпения японцы высадили громадный десант своих рыбаков – дисциплинированных и здоровых, как солдаты регулярной армии.
– Это напоминает тихую оккупацию, – говорил Ляпишев. – Если все население Сахалина составит сорок шесть тысяч человек, то японцев на Сахалине уже сорок тысяч. Не хватает им только оружия! Но самураи могут перебить нас палками, а нам с нашими кандалами и розгами от этих гостей не отмахаться.
– Так сделайте что-нибудь, – подсказал Бунге.
– А что я могу сделать? У меня в гарнизоне нет таких сил, чтобы спихнуть грабителей в море…
Ляпишев все-таки позвонил по телефону Кабаяси:
– Господин консул, я крайне недоволен тем, что ваши рыбаки перегородили неводами устья наших рек, черпая рыбу ковшами, а нашей бедной рыбке уже не пройти в верховья для нереста. Не забывайте, что внутри Сахалина немало туземцев, айнов и гиляков, которые именно в верховьях рек ловят рыбу, делая запасы юколы на зиму. Если рыба по вашей вине не пройдет вверх по рекам, ответственность за голод среди туземцев я возлагаю лично на вас, лично на японское правительство…
«Вот и все, на что я способен как военный губернатор», – подумал Ляпишев, прекращая разговор с японским консулом.
Японцы – это известно всем – очень любят природу, а рыба на их столе – главный продукт питания. Они свято оберегали рыбные богатства возле своих берегов, японское законодательство строго карало рыбаков и промышленников за любые нарушения лова. Каждая японская семья считала нужным содержать в домашнем прудке зеркального карпа, к которому взрослые и детишки относились с таким же вниманием, как в русских семьях относятся к любимой кошке или собачке. Но это похвальное усердие распространялось лишь на воды японской метрополии. Попав в чужие воды, самураи превращались в ненасытных хищников, калеча и убивая все живущее в воде. Им не нужна была даже сахалинская рыба, чтобы ею питаться. Они превращали ее в тук, который вывозился в Японию для удобрения рисовых полей, как у нас в России весною вывозят на поля навоз!
Японцы, попавшие на Сахалин, не трогали даже крабов, они оставляли в покое креветок и осьминогов. Им нужен был тук, тук, тук, только тук… Еще издалека слышался странный шелест, напоминавший шум дождя в лиственном саду. Это шла к Сахалину рыба, и кета, раздувшаяся от икры, была толще полена. После штормов берега обрастали баррикадами выброшенной на берег краснорыбицы, которая лежала навалом в рост человека и погибала здесь же, отравляя окрестности миазмами гниения…
Самая деликатесная рыба, самая питательная сельдь, заодно с икрой, попадала в гигантские котлы, под которыми японцы разводили жаркие костры и варили добычу до тех пор, пока она не превращалась в противное вонючее месиво. Потом эту рыбную кашу отжимали от сока, спрессованную, ее просушивали на рогожах, упаковывали в мешки, ставили клейма фирм – и в Японию поступал тук! Многие миллионы особей краснорыбицы губились самым беспощадным, самым варварским способом, чтобы удобрить рисовые поля… Вот точные данные статистики того времени: русские получали лишь одну сотую часть рыбного улова, а девять десятых рыбного урожая японцы перемалывали в тук…
Вечером Ляпишев играл в карты с Кушелевым.
– Пока мы тут почесываемся, – сказал прокурор, – в Японии уже завели институт «Суисон Кошучио», один из факультетов которого готовит мастеров по отлову рыбы в океанских глубинах. Пока они снимают с нашего моря пенки, а что будет, когда их лапа станет выгребать сокровища из темной бездны?
– У меня пики, – ответил Ляпишев. – Я знаю, что будет. Всю нашу кету и семгу японцы переварят в тук, а через полсотни лет в морях Дальнего Востока не останется даже икринки.
– Я пас! – сказал прокурор. – Страшно вас слушать, Михаил Николаевич: чем же наши внуки станут тогда закусывать?..
* * *
Штабс-капитан Быков, вернувшись со службы домой, расстегнул воротник мундира, теснивший шею, велел денщику ставить самовар, и тут с улицы постучали в дверь его мазанки.
– Пусти, Антон, – велел Быков денщику.
Явился поселенец, заранее снявший шапку, и Быков узнал в нем человека, которому однажды учинил на улице выговор.
– А теперь что привело вас ко мне?
Поселенец сказал, что у него возникли некоторые сомнения, которые, пожалуй, лучше всего разрешить в общении с человеком военного звания:
– С вами! Вы запомнились мне своим добрым отношением, когда я не успел за двадцать шагов до вас скинуть шапку.
– Садитесь. Я вас слушаю… Антон, тащи самовар.
За чашкой чаю Полынов спросил штабс-капитана:
– Вы знакомы с горным инженером Оболмасовым?
– Отчасти. Не раз встречались в клубе. Но он более близок к компании наших пьяниц и, кажется, на глазах у всех быстро спивается… А почему вы меня о нем спрашиваете?
– Если бы геолог был связан только с пьяницами, я бы не имел повода навещать вас. Мне желательно высказать перед вами свои подозрения об этом молодом человеке, который намусорил тут «блинами»…простите, деньгами! Вряд ли Оболмасов агент японской разведки, для этого дела у самураев есть свои люди. Но в том, что геолог закуплен ими, как подставное лицо для сокрытия японских замыслов, в этом я не сомневаюсь.
– Возможно. Но… где же факты?
Полынов изложил перед Быковым свои подозрения:
– Ясно, что японцы под видом поисков нефти ведут геодезические промеры Сахалина, а этот олух Оболмасов, пьющий больше чем надо, служит для них надежным прикрытием. Вот у вас, офицера сахалинского гарнизона, есть ли карта с измерениями сахалинской местности? – спросил Полынов.
Быков показал карту острова, висевшую над постелью, где Сахалин изгибался в форме большой стерляди:
– Вот висит, а другой нету. А что внутри острова, как там пройти, как проехать, в гарнизоне мало кто знает.
– Зато знают японцы, которые в прошлом году бродили в лесах Тымовского округа, а сейчас они взяли Оболмасова и решили спуститься на лодках вдоль реки Поронай…
Валерий Павлович долго думал. Потом сказал:
– Давайте честно: кто вы такой? Вы мало похожи на уголовника, но я не встречал вас и в обществе политических.
– Это на Рельсовой? – криво усмехнулся Полынов.
– Да, на Рельсовой, в доме Волоховых.
– Так я бывал там. Но к политическим себя не причисляю. Считайте, что я разочаровался в революции.
– А я все больше убеждаюсь в необходимости революции, – ответил Быков. – Как же вы объясните свое разочарование?
– Мне приходилось подолгу жить за границей. Там я наблюдал за работой всяческих партий. Их лидеры – карьеристы и торгаши, которые, чтобы пролезть в парламент или рейхстаг, выкручиваются, словно змеи, щедро суля избирателям златые горы и реки, полные вина… За пышной фразой о свободе и демократии они скрывают свой личный эгоизм и, добившись власти, забывают обо всем, что они раньше наболтали! В этом случае мне гораздо понятнее наши Плеве и Победоносцевы, которые хороши уже тем, что не притворяются друзьями народа. Слишком велик разброд и среди русских революционеров. Если же каждая из религий считает самой правильной только себя, значит, все они ошибаются!
Быков решил не спорить с этим отщепенцем:
– За что же вы попали на Сахалин?
Но Полынов не дал ему точного ответа:
– Стоит ли объяснять причины, по которым люди НЕ могут НЕ попасть в тюрьму, и все-таки они туда попадают…
Разговор закончился. Быков обещал:
– Я вышлю на Поронай команду добровольцев. Пусть возьмут лодки у гиляков и хотя бы испугают эту японскую экспедицию, возглавляемую Оболмасовым. С моей стороны это будет актом своевольства, которое может покарать полковник Тулупьев, а у меня с начальством и без того скверные отношения…
* * *
Еще Чехов заметил, что на Сахалине большинство селений названы в честь генералов, навещавших остров. Чего там ждать, пока соберутся назвать твоим именем улицу в Москве или площадь в Петербурге, если сахалинское начальство вмиг это устроит. Высокий гость, заехавший на Сахалин в служебную командировку, только намекнет, что желал бы увековечиться, как его скромное желание тут же претворялось в жизнь, – оттого-то на Сахалине дважды, а иногда и трижды поминалось на географических картах имя какого-либо заезжего «гастролера»…
Оболмасов смотрел, как скрылась за поворотом Пороная гиляцкая лодка, в которой сидела вся семья и было свалено все имущество семьи, а по берегу бежали собаки, впряженные в ременные гужи, и тянули лодку против течения, как в России бурлаки тянут баржу с товаром. Меж дерев прыгали белки, на путников посматривали сахалинские соболи, шкурки которых охотно покупали китайцы.
Внутри острова – иная жизнь, еще дикая, почти первозданная. Долина Пороная раскрывала свои красоты, а достижения цивилизации были наглядно представлены самогонными аппаратами в каждом туземном доме, и в аппаратах булькало варево из японского риса. Именно из японского, отчего казалось, что самураи заинтересованы в спаивании аборигенов не меньше сахалинских чиновников. Оболмасов наблюдал, как гиляцкие дети, пососав грудь матерей, раскуривали трубки с табаком. Не раз он видел в стойбищах айнов женщин, выкармливавших медвежат своим молоком, как в старой России крепостные бабы выкармливали породистых щенят для барской псарни. Если гиляков и орочонов самураи даже за людей не считали, то айнов они всячески закабаляли экономически, издавна прививая им вкус к японскому рису, и айны, завидев японцев, еще издали низко им кланялись, зато на Оболмасова они даже не обращали внимания.
– Кто эти волосатые люди? Откуда они взялись?
Кумэда, сидя в носу лодки, охотно пояснил:
– Айны – загадка ученых всего мира. Но у нас, в Японии, сохранилось древнее поверье, будто все айны произошли от связи собаки с японской принцессой, которую в этих самых краях море выбросило на берег после крушения корабля. Наверное, – досказал Кумэда, – потому-то все айны кланяются именно нам и высоко чтут священную особу нашего великого микадо.
– Простите, но язык айнов скорее напоминает итальянский, и уж никак не вяжется с вашим – японским! Сирароко, Анива или Поро-ан-Томари – чем не латынь? – спросил геолог.
– Это ничего не значит, – ответил Кумэда. – Со временем они забудут свой язык и будут говорить на японском.
Очень редко в глухомани Сахалина попадались «станки» (избушки), обжитые поселенцами из каторжан, о которых, очевидно, даже начальство давно забыло. Многие женились на гилячках, их уже не трогали поляны с голубыми ирисами, плевать им было на трели поющих птиц; заросшие волосами до плеч, они, завидев русского, тянули к нему с берега свои черные руки:
– Слышь, браток! Кинь хлебца… тока рис да рис!
Почти нигде не виделось запашки земли, и с чего жили тут люди – один бог знает. В звенящих и стонущих тучах комарья, преодолевая речные завалы, экспедиция продвигалась к югу, и вдруг японцы разом стали кричать, чем-то встревоженные. Их нагоняла по реке лодка с вооруженными людьми.
– Эй, что за люди? – окликнул их Оболмасов.
С реки донеслось ответное – вместе с выстрелом:
– Какие мы тебе люди? Мы солдаты.
Среди японцев, обычно сдержанных, началась паника. Оболмасов ничего не понимал в их перебранке, но с чужой лодки на корму японской вдруг перепрыгнул бравый фельдфебель.
– Кто такие? Чего вам тута понадобилось? А?
– Исследуем… научно, – решился объяснить Оболмасов.
– Я тебя, пучеглазика, самого исследую… тоже научно! – начал фельдфебель. – Ишь какие ученые выискались… Знаем мы такую науку: соболей да белок на спирт меняете?
Кумэда тянул к нему бумаги, подписанные консулом Кабаяси, но солдаты даже не глянули на эти документы:
– Чего суешь нам филькину грамоту?
– Вот иероглиф почтенного японского консула.
– Плевать мы хотели на всех консулов! Ты покажи нам воистину русскую бумагу, чтобы она была подписана по всем правилам самим губернатором Ляпишевым. – Убирайтесь отселе! – кричал фельдфебель.
– Куда ж нам убираться? – спросил его Оболмасов.
– А катись, чтобы наукой тут и не пахло…
И все время, пока экспедиция не вошла в устье Пороная, японцы сидели притихшие, изредка перешептываясь о чем-то своем, потаенном. Близ залива Терпения чернолесье уже сменилось чахлым болотистым кустарником, показались крыши русского селения Тарайка, разбухшие от дождей и ненастий, словно грибы в отсырелом лесу. Просто уму непостижимо, как и почему ее не переименовали в какую-нибудь Ляпишевку, Бунговку или Куропаткинск, – Тарайка оставалась под собственным именем, чтобы и далее прозябать в своем убожестве. Вокруг жалких избенок – ни огорода, ни садика, только на задворках ветер с моря пригибал к земле вялую картофельную ботву. Но зато в Тарайке была своя телеграфная станция, и Такаси Кумэда сразу отправил в Корсаковск тревожную телеграмму на имя консула.
В заливе же Терпения Оболмасову показалось, что он заехал в совсем чужую, незнакомую страну. На целых триста верст вдоль побережья тянулись камышовые бараки, магазины и амбары, мастерские и сетесушилки, деловые конторы и бухгалтерии японских фирм, а возле причалов море неустанно раскачивало флотилии кораблей. Здесь всюду слышались песни японских рыбаков; гигантские котлы, подобно вулканам, извергали в облаках пара нестерпимое зловоние тука. А вечером все японцы парились в бочках с горячей водой, из бочек торчали их довольные лица.
Вот он, тук! Тук, тук, тук, только тук…
Казалось, Сахалин уже завоеван этими пришельцами.
7. Время отпусков
Удивительная была эта последняя мирная осень – теплая и сухая, в сентябре даже листья не пожелтели на Северном Сахалине, а горы Пиленгского перевала по-прежнему дымились пожарами.
– На вашем месте, – сказал Кушелев, – я в этом году пренебрег бы отпуском. Время для Сахалина тревожное.
– Какой отпуск! – горячо возразил Ляпишев. – На этот раз я с материка не вернусь, подам в отставку. – Хватит! Проведу собеседование с офицерами гарнизона и… уеду.
Ради совещания в Александровск заранее прибыли – кто морем, кто верхом, а кто на телегах – офицеры из Рыковского, из Аркова, с Онора, даже из дальнего Корсаковска. Зал офицерского собрания наполнился гулом голосов, скрипением кожаных портупей, брюзжанием пожилых обер-офицеров и тихими смешками юных поручиков. Быков был рад встретить своего давнего приятеля Юлиана Гротто-Слепиковского, служившего на юге острова в чине капитана.
– Интересно, что скажет сегодня Ляпишев?
– Да ничего не скажет, – ответил Быков. – Михаил Николаевич недурной человек, но не дай-то бог, если когда-нибудь ему придется командовать людьми… всех погубит!
– Неужели всех нас? – засмеялся Гротто-Слепиковский.
– И себя в первую очередь, – добавил Быков.
Громыхая длинными лавками, все встали, когда на просцениум собрания поднялся сам губернатор. Но тут же явился полковник Тулупьев, неся стул, который водрузил подле кресла Ляпишева, и расселся, оглядывая зал с видом триумфатора.
– Господа! – начал губернатор. – Во время визита министра Куропаткина мы вкратце обсудили вопрос касательно обороны острова. По совету Линевича, в стратегических талантах которого никто не сомневается, мною продуман вариант обороны наших главных административных центров – Александровска и Корсаковска. Однако, что мы имеем в наличии, господа?
Он сказал, что на севере Сахалина наберется тысяча сто шестьдесят человек, а для защиты Корсаковского округа едва триста тридцать человек.
– Вы сами понимаете, что с такими ничтожными резервами невозможно оградить всю территорию острова, даже если привлечь к обороне наличный состав тюремного ведомства. После такого печального пролога я рад открыть свободные прения…
Тулупьев мог бы и помолчать, но желание показать офицерам свою близость к губернатору было слишком велико.
– Мне кажется, – солидно прокашлявшись, сказал он, – план в основе безупречен, и мы, не сомневаясь в стратегических талантах Линевича, выразим нашему военному губернатору полное доверие к его способностям не только превосходного администратора, но и… отличного тактика!
– Болтовня, – не выдержал Быков.
– Терпи, – тихо ответил Гротто-Слепиковский.
За первым полковником выступил второй – Болдырев, которому было обидно, что он остался сидеть на лавке, и по этой причине Болдырев решил побыть в роли лидера оппозиции.
– О каком отпоре врагу тут говорили? При наших четырех пушках, без единого пулемета… много ли мы навоюем? Сейчас надо требовать с материка вооружение и резервы, а уж потом можно рассуждать о планах… несомненно талантливых!
Тут пожелал выступить капитан Таиров, которого Быков недолюбливал за его пристрастие к банальному фразерству. На этот раз, вульгарно разбранив Японию и всех японцев, Таиров закончил свою речь официальным афоризмом:
– Пусть попробуют! Мы, наследники славы Суворова и Кутузова, не уступим врагу ни единой пяди своей земли.
– Дельно, капитан, дельно, – одобрил его Тулупьев.
Гротто-Слепиковский пытался удержать Быкова:
– Не лезь хоть ты в эту говорильню.
– Нет, я должен сказать! – Валерий Павлович встал и, подтянув шашку на поясе, заговорил о насущном: – По моему мнению, никакие планы, даже согласованные с министром, не могут превратить Сахалин в неприступный Карфаген. Оборона острова возле Александровска и Корсаковска заранее обречена на неудачу, ибо с моря мы не будем иметь никакой поддержки. Отнюдь я не утверждаю, что борьба с противником невозможна. Она возможна даже с малыми силами, но лишь партизанскими методами!
Послышался оскорбительный смех обер-офицеров:
– Быкову захотелось славы Дениса Давыдова! Но партизанщина давно сделалась дедовским анахронизмом…
Ляпишев велел не мешать Быкову говорить:
– Но прежде я сам желаю спросить вас: как же вы рассчитываете вести партизанскую борьбу, если войска гарнизона обязаны остаться частями регулярной армии, а населения не хватит, чтобы устроить самураям подобие двенадцатого года?
– Не хватит населения свободного, зато у нас достаточно заключенных. Ради отпора врагу следует вооружить арестантов и всех крестьян из ряда ссыльнопоселенцев.
Лавки заскрипели под возмущенными офицерами.
– Да что он говорит? Дай этим мерзавцам оружие, так они из нас все кишки выпустят и разбегутся кто куда…
– Именно такой реакции, господа, я и ожидал, – сказал Быков. – Но если преступников, выразивших желание вступить в ополчение, воодушевить амнистией, то многие из них охотно возьмут оружие… Да, конфликты с каторжанами возможны, – не отрицал этого Быков, – но они могут возникнуть в сведении личных счетов с тюремщиками. А мы, офицеры регулярной армии, составляя гарнизон Сахалина, защищаем не каторгу, а свое отечество. Неужели и каторжане не проникнутся этой мыслью?
После чего губернатор Ляпишев сказал Быкову:
– История не знает такого примера, чтобы узник, сидящий в тюрьме, с оружием в руках отстаивал честь своей тюрьмы от нападения. Ваша неожиданная для всех точка зрения на оборону Сахалина вносит в мои планы столь существенные поправки, что я буду вынужден доложить о них в Хабаровск и надеюсь, что из Хабаровска ваше оригинальное мнение будет доложено еще выше. А теперь, господа офицеры, я позволю себе откланяться, ибо на этих днях отбываю в заслуженный отпуск.
Повторялась прошлогодняя история: Ляпишев клятвенно заверял всех, что из отпуска не вернется, тюремно-бюрократическое общество Сахалина готовило ему памятные сувениры.
– Опять надует! – говорили они меж собой. – Где он еще найдет такую синекуру, как на Сахалине? Да и Фенечку разве оставишь? Это ведь штучка. Это петарда. Это почти картинка!
Ляпишеву поднесли приветственные адреса в бюварах, красиво оформленных в тюремных мастерских, и генерал-лейтенант юстиции даже прослезился. В клубе Александровска местными усилиями был поставлен «Ревизор» Гоголя, при этом Хлестакова талантливо изобразил вор-карманник, а роль городничего с блеском исполнил давно спятивший казнокрад, которого на время спектакля доставили в клуб из дома для умалишенных.
– Браво! – восклицал Ляпишев, бурно аплодируя. – Дамы и господа, поверьте, что служба с вами навсегда останется самым светлым пятном в моей многолетней юридической практике…
В день отъезда Ляпишева все казенные лошади были в разгоне, публика провожала губернатора до пристани, где ему поднесли икону, а генерал-майор Кушелев испортил настроение словами:
– И все-таки вы поступаете крайне легкомысленно, покидая Сахалин, которому предстоят разные испытания. Но я, как и другие, думаю, что еще вернетесь… хотя бы к зиме.
– Никогда! – отвечал Ляпишев, поднимаясь по сходням на палубу парохода, и оттуда он послал Фенечке воздушный поцелуй.
* * *
Корней Земляков, выпущенный из «сушилки», недолго прозябал в стольном граде Александровске. По наивности он сначала навестил лазарет, надеясь, что последствия казенных побоев казна и залечит. Долго стоял в очереди, дыша в затылок мрачному курду, баюкавшему свою гангренозную руку. «Рэзать надо… рэзать!» – иногда выкрикивал курд, сверкая громадными белками глаз. Большие жирные мухи, вылетая в коридор из палаты умирающих, с гудением бились в окна больницы, а потом, очумелые от контузии, ползали по подоконнику, где их с успехом раздавливал пальцем стражник с револьвером и шашкой.
– А тебе чего? – от скуки завел он беседу с Корнеем.
– Да вот, все отбили, и зубов не осталось.
– Покажи, – велел стражник и, заглянув в рот Корнею, пропустил его в амбулаторию без очереди. – Только зубов у нас не вставляют… для этого надо во Владивосток ехать!
Врач был огражден от больных решеткой, через эту решетку он выпытывал признаки болезни, через решетку же ощупывал больным печень и селезенку, велел дышать глубже или совсем не дышать, а потом возвращался к столу, над которым его осеняли портреты великих российских клиницистов Боткина и Захарьина.
– Без зубов жить можно, – утешал он Корнея. – А вот что касается внутренних органов, то… Небось ногами били?
– Всего истоптали. Ребро за ребро задевает.
– Ну, здесь тебе не курорт… Следующий!
Через догорающий лес Пиленгского перевала Корней кое-как дохромал до Рыковского, где переспал в ночлежке, а утречком поплелся в свою деревню. Шел и думал: «Сколько было трудов, по солнышку вставал, позже всех ложился, да вот подвела меня сила нечистая – баба проклятущая!» В деревне его изба стояла с заколоченными окнами, в коровнике – пусто, не квохчут куры на сеновале, а в кормушку для свиней кто-то высыпал битые стекла. Погоревал Корней, посидев на крылечке, но в избу даже не зашел – зачем лишне бередить душу?
На завалинках, как всегда, калякали поселенцы.
– Мы, Корней, твоего не трогали, – сказали они. – Ныне завелись хулиганы. Это по-иностранному, а по-русски они – просто пакостники! Ежели что сожрать или пропить не могут, все изгадят, все изломают… А ты куда ж теперь?
– Мне бы уголок потише найти. Чтобы меня не трогали.
– Э, дурень! Таких уголков нонеча не осталось…
Но в Рыковском, куда он вернулся, ночлежка была переполнена бездомными. Корней иногда нанимался таскать воду на кухни местных чиновников, а потом, стоя под их окнами, тоскливо ожидал, когда кухарка вынесет ему остатки обеда:
– Эй, мозгляк! На, дохлебай… Ложки-то нету, ты уж так. Все уже растаскали, только попади вам в руки.
– Да я не из этих. Я из «аграрников».
– Все вы хороши. Послушать вашего брата, так одни только херувимы на Сахалин слетелись… Схлебал? Ну, ступай.
Корней возвратился в Александровск, где народу побольше, где работенку найти легче, где объедки чаще встречаются на чиновных помойках. Два дня он грузил на пристани уголь в бункера английского парохода, пришедшего на Сахалин за лесом. Околачивался в базарных рядах, высматривая – не надо ли кому поднести что-либо до дому? Но офицерские жены приходили с денщиками мужей, а чиновные дамы имели прислугу из каторжан, и никто в услугах Корнея не нуждался.
Дошлые бродяги не раз говорили горемычному:
– А чего ты здесь валандаешься? На твоем месте надо бы до Корсаковска двинуть. Там подсобие всегда сыщется. К кулакам можно наняться батрачить. Японцам в бухте Маука морскую капусту собирать граблями. Мы бывали в Корсаковске, там не жисть, а рай…
Наконец, обессилев, Корней сказал себе:
– Хошь не хошь, а тюрьмы не избежать…
Когда вечерело над Сахалином, возле тюремных ворот собирались толпы жаждущих крова и крыши над головой. Они слышали с улицы знакомые звуки: как разносили по камерам баланду, как звякали ложки о края мисок, и завидовали счастливцам, сидящим в тюрьме, – на своем законном месте. Наконец, в воротах показывался красномордый надзиратель, зазывая весело:
– Ну, голодранцы! Кому жрать да спать приспичило – заходи в дом родной, гостем будешь… Ха-ха-ха! Го-го-го!
Толпа бездомных ломила по темным коридорам тюрьмы, ныряя в двери камер, где и без них тесно, забивалась под нары, рассасывалась по всяким нежилым закутам, согласная переспать даже в карцерах. Но теперь узник-доброволец получал уже не законный паек, а лишь те жалкие крохи, которые оставались после ужина арестантов. Для Корнея Землякова тюрьма, столь ненавистная раньше, казалась теперь лучше всякой «свободы». Он лежал под нарами, а над ним до утра резались в штос тюремные «глоты» с «кувыркалами». Корней не забывал при этом о боге:
– Слава те, боженька: сподобил устроить меня…
Вот тут и подумаешь: тюрьма – не дом ли родной?
* * *
Из залива Терпения японцы на своей шхуне доставили Оболмасова в Найбучи, где Кумэда дружески посоветовал нанять местного ямщика из поселенцев, чтобы довез его до Корсаковска:
– А консул Кабаяси уже извещен о вашем приезде.
На юге Сахалина многое напоминало Россию: из лесов вытекали тихие речки, благоухали поляны с цветами, сладко пахло скошенным сеном и гудели шмели. В деревнях ощущался уют и порядок, какого не было в северных поселениях. На окнах, убранных занавесками, иногда тюлевыми, краснели герани, внутри изб были развешаны сытинские календари и лубочные картинки, а на крылечках сидели сытые коты и намывали гостей лапками. Жизнь в Корсаковском округе была вольготнее, сытнее, укладистее. Пшеница тут росла выше взрослого человека, а в крапиве можно было заблудиться, как в дремучем лесу. На почти банной духоте произрастал бамбук, вызревали гроздья винограда и орехи, белели рощицы сахалинских пробковых ясеней.
Возница попался интеллигентный – из актеров.
– Жить можно! – рассказывал он Оболмасову. – А почему живем лучше александровских, знаете? Так еще Антон Павлович Чехов писал, что корсаковские устроились от начальства подальше. Если бы сюда наслать свору чинодралов из Александровска, так через полгода тут куска хлеба не стало бы, настолько велика мудрость всех начальственных инструкций.
– А вы, простите, за что на Сахалин попали?
– Режиссера придушил! Как раз на генеральной репетиции… Приехал я в Москву из Саратова, где был любимцем публики. Из-за меня три дамы мужей бросили, а четыре гимназистки спичками отравились. Ну, приехал. У нас в Саратове, знаете, было принято играть как бог на душу положит… Талант-с! Вот что главное. А тут мне этот дуралей говорит: встань так, пройдись иначе, здесь притуши голос до шепота, а тут наяривай. Я ему сначала по-хорошему говорил: отстанешь ты от меня или нет? А он все свое, все свое… Ему, оказывается, не талант мой нужен, а воплощение образа! Ну, крепился я сколько мог. Потом не выдержал. Накинулся на него, повалил вместе с декорациями, сам сверху на трепача этого сел, а когда встал, мне и говорят: «Гениально сыграл! Одна лишь беда – режиссер-то, гляди, уже не дышит». Вот так я послужил святому искусству, после чего дураки судьи мне десять лет Сахалина втемяшили…
Скоро запахло морем, вдали рассыпались светляки огней Корсаковска. Кабаяси встретил геолога Оболмасова с исключительным радушием, но утром он наказал секретарю:
– Телеграфируйте в Японию, что этот русский свое дело уже сделал, а теперь способен только мешать. Сажайте его на первый же пароход, что будет отходить в Нагасаки.
За время ожидания парохода Оболмасова познакомили с курляндским бароном Зальца, корсаковским окружным начальником, любившим проводить аналогии между Германией и Японией:
– Как нас, немцев, так и японцев не может не тревожить быстрый прирост русского населения: к началу века в России число жителей увеличилось до ста двадцати девяти миллионов. Японцы тоже биологически здоровая нация, им уже тесно на своих островах, как в переполненном трамвае. Правда, сейчас они ищут для своей диаспоры теплые страны с рисовой культурой питания, но со временем им понадобятся и «рыбные» земли – вроде Камчатки и Сахалина…
Судя по всему, барон не слишком-то жаловал русских, а каторжников и подавно. Стиль его отношений с жителями был скопирован с привычек тюремных надзирателей.
– Всех заставлю ершей с хвоста обгладывать! – обращался он к мужчинам, после чего преподносил комплименты женщинам: – Что брюхи свои оттопырили? Родите ежей против шерсти…
Скоро японский пароход доставил Оболмасова в страну вежливых людей, где не надо было таскать на себе шестой том «Великой реформы» 1861 года заодно с беллетристикой почтенного Шеллера-Михайлова. Услужающие ему японки ходили мелкими шажками, в старинном саду одуряюще ароматизировали магнолии. Оболмасов иногда вспоминал жуткие ночи в Александровске, внутренне содрогаясь при мысли, что ему, наверное, еще предстоит туда вернуться… Здесь же, на казенной даче в Нагасаки, ему привелось услышать мнение японцев:
– Война начнется еще до цветения вишен…
Барон Зальца в Корсаковске давно знал об этом!
8. Бывают же хорошие люди
Полынов вышел на берег моря – далеко за маяк «Жонкьер», чтобы подумать в одиночестве. Был час отлива, и на прибрежном песке виднелись отпечатки легкого шага оленя, оттиск тяжелой лапы медведя. Здесь, в тишине и безлюдье, стоило подумать… об Аните! У него, господина и повелителя своей судьбы, вдруг обнаружилась госпожа, способная стать его повелительницей. В чем же великая тайна этого внезапного превращения, когда в довольной усмешке девичьих губ он уже распознал победу над ним, над мужчиной? Не тогда ли стрелки его путей нечаянно передвинулись, и судьба, словно разогнавшийся локомотив, закувыркалась кверху колесами, и вот она – катастрофа, название которой Полынову не хотелось бы произносить.
– Куда же делось мое гордое одиночество? – спросил он себя и тут же проверил свою память на номере: XVC-23847/А-835.
Опечаленный, он вернулся на метеостанцию, чтобы взять технические замеры влажности в атмосфере. Сидорацкий, сидя над картами изобар, отражавших районирование одинаковых давлений, сказал, что теплая осень обманчива:
– Издалека надвигается холодный фронт. Зима на Сахалине в этом году будет очень морозной, а Охотское море подарит нам небывалые ураганы… Как у вас, коллега?
Полынов объяснил: влажность воздуха увеличивается, что, несомненно, вызовет сильные перепады в давлении.
– Но вы, кажется, хотели спросить меня о другом?
– Вы не ошиблись, коллега. Я действительно хотел бы спросить вас: зачем вы завели себе эту девчонку?
Вопрос был сделан в форме достаточно деликатной.
– Благодарю, – ответил Полынов, – что вы, в отличие от иных людей, не заподозрили меня в низменных побуждениях. Анита – это мое будущее, и потому я заранее, как ювелир, отграниваю первобытный алмаз до состояния фамильного бриллианта. Нет, – решительно досказал он, – я не обрел права относиться к ней как к женщине и еще раз благодарю вас за то, что вы поверили в мою порядочность.
– Так кого же вы из Аниты готовите?
– Сейчас она только захудалая принцесса, но со временем должна стать королевой, – невозмутимо ответил Полынов.
– У вас какие-то бредовые фантазии!
– Возможно, – согласился Полынов. – В мире уже не осталось свободных земель, как нет и вакантных престолов, чтобы посадить на него королевой дикую русскую девчонку, случайно купленную на улице за несколько жалких рублей. Королевства для нее еще не существует, но зато для его престола мною уже готовится прекрасная королева…
Сидорацкий за долгие годы, проведенные на каторге, наслушался столько всяких ахиней, что даже не счел нужным продлевать этот странный разговор. Полынов тем временем завел тугую пружину психрометра Асмана, собираясь выйти на улицу, чтобы взять пробы воздуха.
– В русской жизни, – сказал он, – принято вывешивать объявления о том, что посторонним вход воспрещен, которые подкрепляются созерцанием массивных запоров. Но вчера какие-то пакостники опять проникли в метеостанцию и вылакали спирт из наших приборов… Не пора ли завести сторожа?
– Давно пора! – согласился Сидорацкий. – Но с этим делом я уже бывал у Бунге, а он выставил меня за дверь, ибо у них на все деньги есть, но сторожей оплачивать нечем.
– Позвольте, оплачивать сторожа буду я сам.
– С ваших-то пятнадцати рублей жалованья?
– Но если я недавно купил граммофон, значит, деньги у меня найдутся. Заранее прошу вашего согласия, что человек, нанятый мною в сторожа, будет утвержден в должности.
– А кто он такой? – спросил Сидорацкий. – Ваш личный друг? Или интеллигент, исстрадавшийся на тюремных нарах?
– Нет, просто несчастный человек, случайно попавший на каторгу. Недавно он пострадал невинно… за других!
* * *
Не успел Ляпишев отъехать, как Тулупьев и Бунге устроили грызню из-за того, кому ездить на губернаторской тройке. Бунге справедливо указывал, что после губернатора он второе лицо на острове, но полковник уже взгромоздился в коляску:
– У вас в подчинении гражданская часть, а у меня военная, и побед ждут не от вашей каторги, а от моего гарнизона…
Неизвестно откуда возник сомнительный слух, но сахалинцы теперь всюду говорили, что война с Японией начнется именно 28 сентября. Недоверчивые сомневались.
– Да с чего вы взяли? И почему именно двадцать восьмого? День какой-то не табельный – ни то ни се.
– А вот увидите! – отвечали им. – Двадцать восьмого сентября японцы начнут высаживаться на Сахалине.
– Этого нам еще не хватало, – ворчали пожилые чиновники. – Что нам делать-то? Куда вещи вывозить? Я тут, знаете, за пять лет поднакопил всякого… жалко, если пропадет.
Тихо отлетали листки календарей: вот уже 26 сентября, кануло в Лету и 27 сентября, настал туманный день.
– Ну что? Где война? Где японцы? Кого нам бить?
– А вон… уже идут!
По улице Александровска, помахивая тросточкой, весь в черном, словно церемониймейстер на похоронах, вышагивал консул Кабаяси, а за ним – в одинаковых черных цилиндрах – торжественно маршировали пятнадцать высоких и здоровущих самураев, которые ласково улыбались. Только теперь узнали, что ночью приходил из Корсаковска японский пароход – с этими вот японцами, всю ночь они разгружали из трюмов товары.
– Да кто они такие? Чего им нужно?
– Приказчики! Кабаяси все-таки сдержал свое слово, и двадцать восьмого сентября не будет никакой войны, зато фирма «Сигиура» открывает на Сахалине свои магазины…
Слизов испытал огромное душевное облегчение:
– Ну вот! А что я вам говорил? Поменьше газет читайте, умнее будете. Выдумали какую-то войну с японцами, а у меня дома иная война идет: жена сорок рублей забрала, пока я спал, чтобы истратить их в «Сигиура»… Вот самурайка какая!
Сахалинские дамы пребывали в состоянии закупочной эйфории, близкой к помешательству.
– Конечно, – рассуждала мадам Слизова, – в кимоно на базар за селедкою не поедешь, но зато в интимных условиях… так удобно! И если еще черепаховый гребень в прическе, а при этом распахнуть веер и закрыть им глаза со словами: «Ах, больше не говорите мне о чувствах… я так устала жить!»
Каторжницу Фенечку, хотя она и числилась в ранге губернаторской фаворитки, эти дамы в свой круг, конечно, не допускали. Но она раньше Слизовой успела побывать в японском магазине, откуда и вернулась – злющая, как разъяренная кошка.
– Прохиндеи! – говорила она. – Прямо как издеваются… глоты несчастные. Да в тюрьме у любого майданщика товаров больше, чем у этой запселой фирмы «Сигиура»… Чем соблазнить хотели? Булавкой для шляпы? Или консервами из ананасов? Так не на такую напали… мы уже кое-что видывали!
Женщины испытали горькое разочарование: уж сколько раз Кабаяси распинался перед ними о беспошлинной торговле японскими шелками, а в лавках «Сигиура» вообще не оказалось японских товаров. Пятнадцать дюжих молодцов выстроились у прилавков, настойчиво предлагая всякую европейскую заваль и дребедень, которую постеснялись бы продавать даже на «блошином рынке» приличного города. Смотреть не хотелось на катушки ниток, на дешевые расчески, протирания от перхоти на голове, на порошок от потливости ног. Под потолком же высились тысячи консервных банок с ананасами, завезенные из Гонконга и Сингапура… Сахалинские дамы с возмущением покидали магазин, а госпожа Слизова устроила фирме самый настоящий скандал, размахивая зонтиком, как опытный фехтовальщик рапирой:
– Что вы мне глаза-то замазываете? Хоть бы постыдились людей обманывать. Какие ж вы купцы? И кто ваши приказчики? – Конец ее зонтика уперся в грудь высокого японца. – Вот! Четыре года назад я встречала его в Тяньцзине, но тогда он был в мундире майора японского генерального штаба! А теперь уговаривает меня купить катушку зеленых ниток для штопки мужских носков. Я не какая-нибудь там гейша, чтобы вы из меня дурочку делали… я этого так не оставлю! Пусть все знают, что обмануть меня не удастся.
Все учел генеральный штаб Японии, но никак не ожидал гнева госпожи Жоржетты Слизовой, точно указавшей на приказчика, скинувшего мундир офицера, чтобы превратиться в магазинного приказчика. Кабаяси быстро свернул торговлю, испытывая при этом желание придушить крикливую русскую чиновницу. Консул спешно загрузил «приказчиков» яблоками, велел ехать в самые отдаленные селения Тымовского округа, где яблокам всегда рады:
– Экспедиция Кумэды и Оболмасова в этом году была прервана вмешательством военных властей. Вы обязаны завершить разведку местности в Тымовском округе.
Тымовский округ назывался двояко: Тымовский – по реке Тымь, или Рыковский – по тюрьме, основанной надзирателем Рыковым в семидесяти верстах от моря.
* * *
Полынов с метеостанции отправился на Протяжную улицу; по дороге домой ему встретился штабс-капитан Быков, идущий под руку с Клавочкой Челищевой. Полынов, как и положено (за двадцать шагов до «свободных» людей), мигом сорвал с головы шапку и отступил на обочину. Быков сказал при этом:
– Ну стоит ли так чиниться?
– Господин штабс-капитан, я всегда хотел бы оставаться рыцарем по отношению к Клавдии Петровне.
Он посмотрел на ее разбитые туфельки, и Челищева сжала руку в кулачок, чтобы он не заметил дырявой перчатки.
– Вы… и рыцарь? – обозлилась она. – Тогда отпустите от себя эту несчастную девочку, которую держите взаперти ради каких-то своих целей… Это не делает вам чести!
Полынов ответил девушке глубоким поклоном:
– Но есть же такие чудесные птицы, которые поют только в клетках, и они погибают, если их выпустить на волю.
Валерию Павловичу этот разговор не понравился.
– Честь имею! – сухо откозырял он, и Клавочка сама взяла его под руку, уверенная, что штабс-капитан, влюбленный в нее, действительно преисполнен чести, а тот жалкий негодяй, который остался торчать на обочине дороги с непокрытою головой, чести никогда не имел и уже не будет иметь…
Полынов долгим выразительным взглядом проводил эту пару, затем с усмешкой надел шапку. Ступив на крыльцо своего дома, он еще с улицы услышал хрипение трубы граммофона:
В одной знакомой улице Я помню старый дом С высокой темной лестницей, С завешенным окном.Полынов своим же ключом отворил «клетку», в которой жила и пела его волшебная птица.
Никто не знал, какая там Затворница жила, Какая сила тайная Меня туда влекла.Он вошел в комнату, сразу заметив, как обрадовалась Анита его приходу, а граммофон страдальчески дохрипывал:
Какие речи детские Она твердила мне — О жизни неизведанной На дальней стороне.Полынов поднял мембрану и остановил граммофон.
– Зачем ты это сделал? – спросила Анита.
– Мне так хочется…
Шуршащий муслин облегал тонкую фигуру Аниты, она, явно красуясь, прошла перед Полыновым, постукивая каблучками туфель.
– А чего хочется мне? – вдруг спросила она. – И почему ты решил, что твои желания важнее моих желаний?
– Не начинаешь ли ты уже кокетничать?
– Но прежде научи меня, как это делается…
Полынов решил помолчать. Вечером Анита, излишне задумчивая, доставала из коробки спичку за спичкой и зажигала их, любуясь огнем. Полынов долго не мешал ей, потом сказал:
– Неужели это так интересно?
– А если мне так хочется?
– Странные желания.
– А разве ты сам не любишь играть с огнем? Я ведь не забыла твоего рассказа, как ты ставил на тридцать шесть.
Полынов вспомнил свою прогулку до маяка «Жонкьер»:
– В другом случае, дорогая, за эту игру со спичками я бы выпорол тебя ремнем, но сейчас… неудобно.
– А почему?
– Ты слишком быстро превращаешься в женщину. Особенно с тех пор, как я нарядил тебя в эти красивые платья.
– Платья красивые… А я, скажи, тоже красивая?
Полынов – как когда-то на крыльце трактира Недомясова в ту памятную ночь – взял ее за подбородок и вздернул голову, всматриваясь в лицо, и Анита закрыла глаза, а на губах ее блуждала выжидательная улыбка. В этот опасный момент ему захотелось дать ей пощечину. Но он не сделал этого:
– Чиркай спички и дальше, если тебе это нравится…
– Не хочу! Играй с огнем сам. – Анита встала и снова завела граммофон: Полынов был вынужден дослушать все до конца.
Прости, голубка кроткая, Любить не в силах я, А жизнь моя короткая Измучила меня…Однажды он по привычке окликнул ее прежним именем, и девушка, причесываясь у зеркала, вдруг рассмеялась:
– Ты ошибся: я ведь теперь Анита… твоя Анита! Если уж ты купил меня, так хотя бы не ошибайся…
Полынов почти в страхе смотрел на свое создание, и в глазах Аниты постоянно улавливал тот вызывающе лукавый блеск, какой бывает только в глазах женщин, уже понимающих, что они могут нравиться, они обязательно будут нравиться.
Это его потрясло. Он долго сидел молча.
– Больше я ошибаться не стану, – обещал он ей.
Наступала ночь, и его принцесса лежала на широкой постели, страшная в своей доступности, а он долго ворочался на узкой, жесткой лавке, и ему снился в ту ночь роскошный гроб, из которого надо было вставать, чтобы не опоздать в лицей, чтобы торопиться жить…
* * *
Разом надвинулись холода. Корней Земляков днями выходил из тюрьмы как «вольный», чтобы подыскать работенку, а вечерами возвращался в тюрьму, как арестант, чтобы совсем не загнуться от голодухи. Не один он поступал так! Тюрьма на Сахалине – это самый последний якорь спасения, чтобы держаться за жизнь, как корабли держатся якорями за спасительный грунт. Тюрьму проклинают, но она и спасает, когда человеку деваться уже некуда. Вот и сегодня Корней мерз возле тюремных ворот, в очереди озлобленных и голодных оборванцев, давно уже «свободных» от тюрьмы, которые просились обратно – в тюрьму:
– Пустите погреться! Ведь околеваем ни за што ни про што, кой денечек не жрамши… Нешто для нас баланды да места под нарами не осталось? Или мы уже не человеки?
Чья-то властная рука вдруг легла на плечо Корнея, с силой вырвав его из этой очереди. Он увидел перед собой человека – не то вольного, не то поселенца, который сказал:
– Не дрожи! Я худого тебе не сделаю. Знаю, что пострадал ты невинно. А теперь я в ответе перед тобой. Новых зубов не вставлю. Но теми зубами, что еще остались, будешь жевать каждый день. А теперь плюнь на тюрьму и смело ступай за мной.
– Куда?
– Куда приведу…
И такая власть чудилась в голосе незнакомца, что Земляков невольно покорился этому человеку, который быстро увлекал его в глубину темных улиц. Полынов привел его на метеостанцию, просил не смущаться научной обстановкой. Корнею хотелось найти контакт с Полыновым, и он спросил – первое, что пришло ему в голову: не слыхать ли чего об амнистии? Полынов ответил:
– Я не сторонник таких иллюзий. Насколько мне известно, тебе ведь недолго ждать. Еще год-другой, и ты получишь право покинуть Сахалин, чтобы ехать на материк… Так?
– Так-так. Только вот деньги у меня покрали. Ежели ехать, где на билет добуду? Всего как есть обкорнали.
Полынов сразу выложил перед ним пятнадцать рублей:
– Это тебе для начала. Получай свое жалованье за октябрь месяц тысяча девятьсот третьего года.
– За что? – обомлел Корней.
– Будешь сторожить здание метеостанции. А сейчас садись к столу. – Полынов налил стопочку спирта для Корнея, развернул перед ним сверток с бутербродами. – Я никогда не пью. А ты выпей и как следует поешь… Тебя я закрою на метеостанции, можешь прилечь на диване. Надеюсь, здесь будет удобнее, нежели валяться под нарами, обнюхивая «Прасковью Федоровну»…
Он ушел, и за ним с жестким скрежетом провернулся ключ в замке. Корней Земляков выключил, а потом снова включил электрический свет. От протопленной печи на него изливалось приятное тепло. Пятнадцать рублей тешили надежды, и он стал подсчитывать, сколько ему сторожить метеостанцию, чтобы накопить деньжат на билет… Выходило, что к сроку накопит! И он заплакал от счастья, потому что такого счастья не ожидал:
– Бывают же на свете хорошие люди – не все же сволочи!
9. Плацкарта – туда и обратно
Двухместное купе вагона train de luxe изнутри было простегано оранжевым плюшем, который заранее опрыскали одеколоном. Ляпишев вздохнул с облегчением, когда сибирский экспресс тихо и плавно оторвался от перрона Владивостока. Михаил Николаевич счел нужным представиться попутчику в чине капитана:
– Как видите по моим эполетам, генерал-лейтенант. К несчастью, был военным губернатором Сахалина. Я особо подчеркиваю: был, ибо из отпуска вряд ли вернусь.
Капитан назвался журналистом, военным корреспондентом популярной газеты «Русский инвалид»:
– Жохов, Сергей Леонидович. Представляясь, всегда испытываю смущение. Главный печатный орган Военного министерства носит такое название, что невольно вспоминается гоголевский капитан Копейкин на костылях, молящий о милостыне.
– Но, судя по значку на вашем мундире, вы окончили Академию Генштаба, а судя по выговору, вы, очевидно, ярославец?
– Так точно, господин генерал-лейтенант.
– Зовите меня просто – по имени-отчеству.
– Благодарю, Михаил Николаевич…
Беседуя с капитаном, Ляпишев обнаружил в нем хорошее знание юриспруденции и спросил об этом. Жохов ответил:
– Ничего удивительного! Я ведь прежде, чем получить военное образование, окончил Демидовский лицей в Ярославле, а нам, демидовским лицеистам, грозила юридическая карьера. Не спорю, у нас была отличная профессура, и мы, ярославские юристы, знали свое дело. Но я разочаровался в точности весов Фемиды, оказавшись, как видите, в услужении воинственного Марса.
– Выходит, вы отчасти мой коллега! – Ляпишев откинул полу мундира, подбитого алым шелком, барственным жестом извлек из кармана штанов с генеральскими лампасами золотой портсигар, щедро раскрыл его перед попутчиком: – Прошу! Его однажды стащили у меня со стола. Вся полиция Сахалина поднялась по тревоге, и вот… прошу! Кстати, Сергей Леонидович, когда я покидал свои каторжные Палестины, голова шла кругом от слухов, будто японцы объявят войну именно двадцать восьмого сентября.
– Похоже на правду, – отвечал Жохов. – Двадцать шестого сентября наступал окончательный срок эвакуации наших войск из Маньчжурии. За год до этого мы точно в срок покинули Мукден, отчего парламент Лондона пришел в ярость, ибо сам собой устранился повод для объявления войны Японии с Россией.
Ляпишев сказал, что визит Куропаткина в Японию, наверное, сыграл положительную роль в успокоении самураев.
– Напротив, – возразил Жохов, – самураи достаточно усыпили Куропаткина, и доклад министра его величеству можно выразить одной лишь сакраментальной фразой: «Они не посмеют!»
– Я тоже так думаю, что не посмеют, – благодушничал Ляпишев, наслаждаясь бодрым ритмом перестука колес. – Кстати, Сергей Леонидович, не пора ли нам поужинать?
Экспресс Париж – Владивосток славился комфортом. В салоне ресторана вздрагивали в кадках широколистные пальмы, тамбур вагона был превращен в сплошь застекленную веранду с великолепным обзором местности, там стояло пианино для любителей музыки. Генерал и капитан заказали ужин. Ляпишев после Сахалина откровенно радовался хрустящим салфеткам, вежливости лакеев, которые не имели судимости, и улыбкам красивых женщин, которым не угрожала уголовная статья за хипес.
Жохов был гораздо осведомленнее генерала Ляпишева; он сказал, что это лишь начало Сибирского пути:
– В правительстве уже имеется проект французского инженера Лойк де Лобеля, который предлагает, чтобы Сибирская дорога от Байкала отвернула к Чукотке, там будет прорыт туннель под Беринговым проливом, и любая парижанка, сев на такой вот экспресс, закончит свое путешествие в Нью-Йорке.
– Возможно… в двадцатом веке все возможно!
Так они ехали до озера Байкал, где поезд с рельсов насыпи перекатился на рельсы внутри громадного парома, который и миновал «славное море священный Байкал», после чего экспресс, выбравшись из трюмов парома, побежал дальше через Сибирь как ни в чем не бывало. Ляпишев говорил, что Сахалин обижен невниманием военной прессы, а между тем жизнь тамошнего гарнизона достойна хотя бы очерка в «Русском инвалиде»:
– Приезжайте! Единственное, чего никак нельзя касаться корреспондентам, это политических каторжан.
– Я так и думал, – засмеялся капитан Жохов. – Впрочем, ни Чехова, ни Дорошевича власти Сахалина тоже не допустили до общения с политическими ссыльными… Честно говоря, я и сам испытывал желание навестить этот остров страданий. Мне давно хотелось отыскать затерянные следы друга моей юности. Сейчас я не стану излагать перед вами его чересчур сложную биографию. Не назову и его подлинную фамилию. Путем неимоверных ухищрений мне удалось установить, что на сахалинскую каторгу он пошел под фамилией Полынова…
– Как вы сказали? – переспросил Ляпищев.
– По-лы-нов.
– Имя?
– Глеб Викторович. А… что?
Ляпишев закрыл глаза рукою, как женщина в беде.
– Боже мой, боже мой! – часто повторял он.
– Разве с ним что-либо случилось?
– Мне совсем не хотелось бы огорчать вас, но ваш друг Полынов служил писарем в моей губернской канцелярии. Я не сатрап, какими изображают нас иногда борзописцы, я относился к нему хорошо. Он даже получал обеды с моей кухни… Конечно, после того, как пообедаю я сам и все мои близкие.
– Так что с ним случилось? – спросил Жохов.
– Он… повесился. Совсем недавно.
Жохов надолго приник к окну. Молчал.
– Наверное, были причины, чтобы повеситься?
– Не знаю, насколько они основательны. Но в своей предсмертной записке ваш друг Полынов объяснил свое самоубийство страстью к моей же горничной Фенечке… я был поражен!
– Я тоже, – вдруг сказал Жохов.
– Как? Как вы изволили выразиться?
– Я говорю, что поражен тоже.
– Простите. Может быть, вы не верите мне?
– Верю, – ответил Жохов, не отрываясь от окна. – Я верю в то, что писарь вашей канцелярии повесился от безумной любви к вашей же горничной. Но я не верю в то, что мой друг мог бы повеситься от любви к вашей горничной… Полынов таков: он, скорее всего, повесил бы вашу горничную.
Теперь пришло время разволноваться Ляпишеву:
– Позвольте, позвольте… я своими глазами видел. При мне его и вынули из петли. Так кто же там висел?
– Наверное, кукла, – ответил Жохов.
– Кукла?
– Да. Человек бывает иногда куклой в чужих руках…
(Ляпишев не подумал, что он ведь тоже кукла в руках высших властей: если сам не повесится, так другие повесят!)
* * *
Вот и Санкт-Петербург… Ляпишев, царь и бог Сахалина, в столице империи сразу потерял свою значимость, растворившись во множестве прочих генералов и губернаторов; если в Александровске подчиненные считали за честь попасть к нему «на чашку чаю», то здесь Михаил Николаевич сам обивал пороги громовержцев имперского Олимпа, домогаясь попасть в их кабинеты с видом просителя. Главное тюремное управление в этом случае оказалось самым демократическим учреждением: Ляпишева приняли без задержки, легонько попеняв за «приписки» в отчетах об успехах урожайности на Сахалине, но даже слышать ничего не хотели о просимой им отставке:
– Что вы! Где мы еще найдем генерала с высшим юридическим образованием, который бы согласился управлять каторгой?
– Но меня-то вы нашли.
– Тогда были другие времена. Каторга еще многих манила своим лучезарным будущим… Какая еще отставка? К тому же этот вопрос, как бы мы его ни решили, все равно потребует одобрения государя, а его величество изволят отсутствовать.
– Разве императора нет в столице?
Выяснилось, что государь уже посетил Дармштадт, Висбаден и Лондон, а сейчас попал в объятия своего германского кузена – императора Вильгельма II, которому сказал историческую фразу: «Я войны не хочу, а потому войны и не будет!» Ляпишев заметил, что в такой ответственный и напряженный момент истории царю-батюшке лучше бы сидеть на царственном престоле.
На это ему ответили – вполне резонно:
– В такой опасный момент дальневосточной политики вы тоже могли бы не покидать своего каторжного престола…
Наступила зима, а Петербург в эту зиму, кажется, веселился больше обычного: балы и маскарады, гастроли знаменитых певцов, новые достижения балета. В официальных кругах царило благодушие, близкое к равнодушию, никто не помышлял о войне. Зато все пылко обсуждали вопрос о том, кто больше «накрутит» fouette – Ольга Преображенская или Матильда Кшесинская? Фраза царя, сказанная им кайзеру, сделалась известна в свете Петербурга, она внесла вредное успокоение в души обитателей имперского бельэтажа. Даже сообщения газет о том, что в Токио состоялась массовая антирусская демонстрация с призывами самураев начать войну с Россией, вызвали лишь улыбочки:
– И чего это «макаки» суетятся? Что мы сделали им худого? Неужели нам нужна эта безобразная Корея или толпы нищих маньчжуров, которые шатаются от голода и опиума?
Далеко за океаном президент Теодор Рузвельт исподтишка натравливал Японию на Россию, именуя Японию «хорошей сторожевой собакой», еще не догадываясь, что эта самурайская «собака», оскалившая зубы на Россию, в будущем, способна порвать штаны у респектабельных властелинов Америки. Политики Лондона давно извелись в страстном ожидании – когда же наконец самураи набросятся на Россию? Впрочем, викторианцы и сами были не прочь на нее накинуться. Советский историк Б. А. Романов писал, что «практически в Лондоне и Токио готовы были к войне. Офицеры Ирландского корпуса получили приказ немедленно ехать в Индию, резервисты флота должны были сообщить в Лондонское адмиралтейство свои адреса, английская фирма Гиббса закупала чилийские и аргентинские броненосцы для японского правительства…».
В первые дни декабря (царь еще охотился на лосей в Скерневицах) Ляпишев навестил Владимира Николаевича Коковцова, делавшего быструю карьеру. Будущий министр финансов, Коковцов ранее служил в тюремном ведомстве, а сейчас уже занимал казенную квартиру статс-секретаря на Литейном проспекте.
– Вы у Куропаткина уже были? – начал беседу Коковцов.
Ляпишев сознался, что военный министр, столь милый и симпатичный гость на Сахалине, в Петербурге сделался неприступен, как тот самый Карфаген, который никому не разрушить. Коковцов сказал, что Россия выступает гарантом сохранения Кореи как независимого государства, тогда как Япония уже давно претендует на Корею как на свою подмандатную колонию. Токио ожесточает свои требования, сейчас японцы желали бы удалить русские войска даже из полосы отчуждения КВЖД, но при этом Корею они считают тем «бастионом», который необходим Японии для собственной безопасности.
– Затем самураи станут доказывать, что для их безопасности необходимо овладение Китаем или Филиппинами. Как видите, – заключил Коковцов, – обстановка не очень-то радостная. А пока государь не вернулся из Скерневиц, наша дипломатия способна лишь тянуть время, как негодную резину. Вы все-таки повидайте Куропаткина, чтобы не забывал о Сахалине…
Куропаткин при встрече с Ляпишевым сказал:
– Кому еще, кроме вас, нужен Сахалин? И не рано ли стали вы бить в барабан? Японцы могут высадиться на Сахалин в одном лишь случае. Полностью разбитые нами на суше и уничтоженные нами на море, они, чтобы спасти свой военный престиж, да, способны воспользоваться беззащитностью вашего острова. Однако Линевич уже телеграфировал мне, что оборона Сахалина особых опасений в Хабаровске не вызывает.
– Так это в Хабаровске, а не в Александровске!
– Советую вернуться на Сахалин. Вы отличный администратор, и вам всегда следует оставаться на своем посту.
– Какой бы я ни был администратор, – здраво отвечал Ляпишев, – но я никакой не полководец, вы сами это понимаете.
Куропаткин закончил разговор даже обидчиво:
– Так я не держу в резерве Суворова для обороны Порт-Артура, нет у меня и Кутузова для защиты вашей каторги. Пусть Линевич усилит ваш гарнизон и… всего вам доброго!
В эти дни министр иностранных дел граф Ламздорф не мог ответить японскому послу Курино ничего вразумительного, ссылаясь на «занятость» царя. Наконец Николай II вернулся в столицу, но Курино не принял («был занят»). На самом же деле царь уже «поджал хвост», – именно так выразился о нем Витте. Лондон уже раскрутил колесо войны, потому японцы заговорили с Петербургом на языке ультиматумов, их претензии день ото дня возрастали. На новогоднем приеме, робко поглядывая в сторону Курино, царь тихим голосом напомнил о боевой мощи России, не советуя использовать его терпение. Затем три недели подряд следовали балы, военные парады, карнавалы. 19 января в Зимнем дворце состоялся торжественный гранд-бал, на который удостоился попасть и Ляпишев; все гости почему-то ждали, что государь сообщит что-то очень важное. Но все «важное» Николай II изложил в частной беседе с графиней Бенкендорф:
– У вас сын мичманом на эскадре в Порт-Артуре, и я хотел бы успокоить ваши материнские чувства. Поверьте, Софья Петровна, мною сделано все, чтобы войны не было…
Две тысячи человек высшего света танцевали. Все было пристойно и благородно до той лишь поры, пока не распахнулись двери в боковые галереи, уставленные столами для угощения. Хорошо воспитанные вельможи и аристократки, воспитанные не хуже своих кавалеров, мгновенно превратились в стадо диких зверей с кровожадными инстинктами. Атака (иначе не назовешь) началась, и мне, автору, лучше передоверить рассказ очевидцу: «Столы и буфеты трещали, – писал он, – скатерти съезжали с мест, вазы опрокидывались, торты прилипали к мундирам, расшитым золотом, руки мазались в креме, хватали что придется, цветы рвались и совались в карманы, шляпы наполнялись грушами и яблоками. Придворные лакеи, давно привыкшие к этому базару пошлости, молча отступали к окнам и спокойно выжидали, когда иссякнет порыв троглодитских наклонностей. Через три минуты буфет являл грустную картину поля битвы, где трупы растерзанных пирожных плавали в струях шоколада, меланхолически капавшего на мозаичный паркет Зимнего дворца…» Ляпишев, этот грозный владыка сахалинской каторги, еще успел сообразить, что при раздаче тюремной баланды арестанты ведут себя благороднее аристократов, и, не сдержав приступа генеральского честолюбия, тоже ринулся в атаку за своей добычей. Ему досталась от царских благ лишь измятая груша дюшес, уже надкусанная кем-то сбоку, но результат подвига был плачевен: с обшлагов мундира осыпались в свалке пуговицы, бляха пояса сломалась, а вдоль мундира – прямо на груди – чья-то нежная женская лапочка провела длинную полосу из розового крема… Это было ужасно!
Ляпишев вернулся в гостиницу, долго переживая:
– Боже, какие дикари! Как подумаю, так мои-то каторжане – чистое золото. Они способны обворовать меня, но никогда не допустили бы такого хамства в обращении со мною…
С горестным чувством обиды он надкусил свой «трофей», уже опробованный до него, и вызвал лакея, чтобы начинали чистить его парадный мундир. Вскоре после этого кошмарного гранд-бала его разбудил звонок телефона – из Главного тюремного управления спрашивали, почему он еще в Петербурге.
– А где же мне быть? – удивился Ляпишев. – Я продолжаю выжидать решения его величества на мою просьбу об отставке.
– Решения не будет, – отвечали ему. – Сегодня ночью японцы совершили нападение на корабли нашей Порт-Артурской эскадры, и вам надобно срочно вернуться на Сахалин.
* * *
После пересадки в Москве, попав в воинский эшелон, Ляпишев покоя уже не ведал. Еще не добрался до Челябинска, а вагоны были переполнены едущими «туда», которое для сахалинского губернатора означало «обратно». Даже его, генерала, нахально потеснили в купе, а в коридоре некуда было ступить от сидящих на полу офицеров. А что за разговоры, что за публика! Ехало много говорливых офицерских жен, желающих быть ближе к мужьям. Ехали прифранченные сестры милосердия с фотоаппаратами системы «кодак», чтобы сниматься на память в условиях фронта. Ехал какой-то прохиндей из Одессы, везя на фронт два чемодана с колодами карт и четырех девиц, обещая им «шикарную жизнь» в Харбине. В довершение всего ехал патриот-доброволец с четырьмя собаками, затянутыми в попоны с изображениями Красного Креста, и надоел всем разговорами о своем патриотизме…
Было тяжко! Для солдат на станциях работали бесплатные «обжорки», где давали щи с мясом, белый хлеб и сахар к чаю. Офицеров же не кормили, на каждой станции они гонялись с чайниками за кипятком. Ляпишев тоже выбегал на перрон купить у баб вареные языки, выбирал яйца покрупнее, торговался о цене горшков с топленым молоком. Наконец миновали Ачинск, который остроумцы прозвали «Собачинском». Здесь встретили первый эшелон «оттуда», идущий в Россию, и было странно видеть раненого офицера на костылях, стоявшего в тамбуре.
– Ну как там? – спрашивали его любопытные.
– А вот поезжайте – сами увидите.
– Шампанское три или четыре рубля за бутылку?
– Это когда было? А теперь дерут все пятнадцать…
Из окон вагонов, идущих в Новгород, выглядывали пленные японцы, которые казались даже веселыми, зато из окон санитарных вагонов слышались вопли раненых солдат:
– Завезли и бросили! Эй, нет ли средь вас врачей? Какие сутки сами друг друга перевязываем…
От дурной воды Ляпишева прохватил понос, а очередь в туалет двигалась, как назло, очень медленно. Теперь сущей блажью вспоминался вагон train de luxe с пальмами и пианино, а про туннель под Беринговым проливом даже думать не хотелось. И вот, когда Ляпишев уже почти достоял до заветных дверей туалета, нашелся в очереди какой-то благородный мерзавец, который с надрывом в голосе провозгласил:
– Господа, дам следует пропускать вне очереди.
Ляпишева так поджало – хоть «караул» кричи.
– Верно! – закричал он не своим голосом. – В любом случае мы всегда останемся благородными рыцарями…
Михаил Николаевич обрадовался Байкалу – как рубежу, за которым можно считать последние тысячи верст. Сразу за Цицикаром и Харбином вагоны опустели, всякое жулье и военные пассажиры пересели в мукденский поезд, а эшелон потащился на Никольск. Ляпишев с благоговением перекрестился, когда исчезла очередь возле дверей туалета… Рано утром он вышел на перрон Владивостока – измятый, изнуренный, обессиленный. После всего пережитого в пути Сахалин показался землей обетованной, а Фенечка Икатова рисовалась теперь ему волшебной феей, созданной для блаженных упоений. Татарский пролив уже затянуло прочным льдом, и до Сахалина предстояло добираться на собачьих упряжках…
Перед отъездом Михаил Николаевич навестил начальника Владивостокского порта – контр-адмирала Гаупта:
– Как же насчет пушек для Сахалина?
– Каких пушек? – удивился тот.
– Которые Хабаровск обещал мне выделить из крепостных арсеналов вашего города.
– Ну вот! – ответил Гаупт. – Владивосток полностью беззащитен, мы сами выклянчиваем артиллерию у Хабаровска.
– Да что за бред! Будет ли когда на Руси порядок?
Адмирал Гаупт, не мигая, смотрел на Ляпишева:
– Вы что? Первый день на свете живете, господин генерал-лейтенант? Неужели до сих пор не научились понимать, что в этом великом всероссийском бедламе и затаилась та могучая русская сила, которая приведет нас к победе над коварным врагом…
10. Могучее сахалинское «ура»
Закружили над Сахалином морозные метели; чиновники, собираясь по вечерам в клубе, еще с порога оттирали замерзшие уши, отогревались в буфете за разговорами:
– Если двадцать восьмого сентября сего годика не напали на нас японцы, значит, войны вообще не будет. В самом деле, соображайте, господа, сами; не станут же в Токио начинать войну, прежде завезя на Сахалин яблоки с ананасами!
– Кто его там знает… Может, случись война, мы бы духом воспряли? Может, перестали бы собачиться?
– Иди-ка ты… знаешь куда! Не живется тебе спокойно. Или подвигов захотелось? Крест тебе в петлицу да геморрой в поясницу. Ты пенсию уже выслужил, так сиди и не дергайся…
Отряд дюжих японских молодцов, завезенных Кабаяси в Александровск под видом магазинных приказчиков, до самой зимы не покинул сахалинской столицы, тоже бывая в русском клубе. Некая чиновница Марина Дикс, очевидица этих дней, вспоминала, что японцы «спокойно поедали свои консервы с ананасами, запивая их шампанским, и, слушая разговоры русских, загадочно ухмылялись». Но однажды они явились с рулеткой, тщательно измерили кубатуру танцевального зала, открыто рассуждая о том, сколько здесь можно разместить кроватей. И никто не выгнал их вон, никто не спросил, чего они тут измеряют (лишь потом стало известно, что японцы рассчитывали площадь клуба под размещение в нем военного госпиталя). В декабре, оставив после себя завалы из пустых банок и бутылок, японские «приказчики» бесследно растворились в вихрях метели…
Только теперь Слизов догадался спросить:
– Господа, а куда же подевался Оболмасов?
– Какой еще там Оболмасов?
– Да тот, кто желал подставить ножку самому Нобелю, а наш полицмейстер Маслов ему толстущую книгу подарил.
– Да не подарил, а обменял на роман Боборыкина.
– Не Боборыкина, а Шеллера-Михайлова!
– Ну это уже мелочи, кто там написал… Важно, что его роман никакой пулей не прошибешь.
– Нет, мы не видели Оболмасова! Из Корсаковска приезжие говорили, что осенью он уплыл на японском пароходе.
Сахалин погибал в сугробах; обывателей Александровска тянуло с улиц ближе к теплу печей, к мажорной воркотне самоваров. Но это не относилось к арестантам, которых поднимали в четыре часа ночи – как всегда. Выплевывая в кашле на черный снег красные комки отмирающих легких, они, толкаясь, выстраивались во дворе тюрьмы, а над зубьями осторожных «палей» слабо мерцали холодные звезды. Начинали обычный развод по работам: будут они весь день добывать уголь в жутких гробницах шахт, будут тащить громадины бревен из леса, убирать с улиц тонны сыпучего снега, делать все, что ни прикажут, и не посмеют отворачивать «морду», если начальство пожелает ее расквасить до крови. Вечером же, вернувшись в камеры, развесят свое тряпье по веревкам, жирные вши будут шевелиться в пропотелых рубахах… Из строя людей иногда слышалось:
– Мать честная, когда ж амнистия выпадет?
– Будет! Аль не слыхал, что сказывали: царь свою царицку уже истаскал по куротам, чтобы наследник у них получился.
– Эва! Выходит, по-людски и ребенка соорудить не могут. Дома не получается, так на куроты поехали.
– А что это такое, курот?
– Тебе, дураку, и знать того не надобно. Вот когда отволокут, словно собаку, до кладбища, вытянешься там в стельку, тогда сразу узнаешь, что такое жить на куроте…
В дни рождества арестантов не гоняли на работы. Над Сахалином надрывно вызванивали церковные колокола, все храмы были отворены настежь – для невинных и виноватых; шли торжественные службы, и хорошо пел на клиросах хор из старых каторжан. Фенечка Икатова тихо плакала… Не стало на Сахалине Ляпишева, вот приедет другой губернатор, оглядит ее грешную красоту и спросит: «А ты по какой статье? Ах, всего лишь за отравление соперницы? Так мы скоренько найдем тебе мужа хорошего!» С некоторой надеждой улавливала Фенечка, стоящая на коленях, тихие пересуды чиновников за своей спиной:
– А хороша… не хочешь, да залюбуешься!
– Плачет, будто Магдалина на покаянии.
– Верно. Есть такая картина у Тициана, так он ее будто с нашей Фенечки Икатовой рисовал.
– Сравнили! Магдалина-то ведь в пустыне каялась.
– А нашу Фенечку в пустыню не загонишь. Появись новый губернатор, она из него второго Ляпишева сделает…
Святки прошли слишком весело. Чиновный Сахалин ватагой ездил в Дуэ, Арково и Рыковское – на праздники тюремных команд. Ставили любительские спектакли с участием арестанток, пили и одичало грызли друг друга в скандалах, находя себе удовольствие в сведении старых счетов: кто-то сказал не так, а другой не так поглядел… скука! Но за кулисами каторги шла потаенная борьба за власть, которая с удалением Ляпишева оставалась бесхозной, но слишком выгодной. Как два паука в банке, отважно сражались за прерогативы власти два могучих сахалинских гладиатора – статский советник Бунге и полковник Тулупьев. Бунге говорил, что лучше отдаст жизнь, но с казенной печатью Сахалина не расстанется, а Тулупьев утверждал, что гарнизон Сахалина не будет подчиняться гражданской администрации.
– Что же касается вашей печати, то я навещу Рыковскую тюрьму, и там уголовники за одну бутылку спирта наделают мне таких печатей еще целую дюжину…
Слизова однажды подошла к прокурору Кушелеву:
– Генерал, разве можно быть таким сердитым на святках? Вы так серьезны, словно обдумываете юридическое злодейство.
– Да, обдумываю смертную казнь через повешение.
– Кого же, если не секрет, вешать собрались?
– Наших Монтекки и Капулетти. Но первым бы я повесил Тулупьева, а Бунге заставил бы прежде намылить веревку…
– Вы не слышали, кто будет новым губернатором?
– Наверное, назначат Фенечку Икатову… ей-ей, госпожа Слизова, она бы справилась с Сахалином и его каторгой гораздо лучше Бунге и Тулупьева. Не верите?
– Какой у вас злющий язык, господин генерал-майор!
– За это меня и сослали сюда… прокурором!
Но в один из дней Бунге сам навестил полковника Тулупьева и раскрыл перед ним бархатный кисет, из которого извлек печать губернского правления Сахалина.
– Вы победили, – сказал он оскалясь. – Забирайте себе эту игрушку и можете ее прикладывать к любому месту.
Тулупьев даже разнежился:
– Голубчик вы мой, Николай Эрнестыч, да что с вами?
– Со мною-то ничего, а вот что с вами теперь будет?
– Не понимаю. Расшифруйте свое глубокомыслие.
– С великим удовольствием, – ехидно отвечал Бунге. – Я уступаю вам печать, ибо гражданская часть управления Сахалином самоустраняется ото всех важных дел на острове…
– Опять не понял. В чем дело?
– Дело в том, что вчера ночью японские корабли совершили вероломное нападение в Порт-Артуре на нашу эскадру.
Тулупьев стал запихивать печать обратно в кисет.
– Что делать, а?.. Что делать мы будем?
– Как что делать! – с пафосом возвестил ему Бунге. – Сразу берите свой героический гарнизон, высаживайтесь на берегах Японии и начинайте штурмовать Токио…
Печать выпала из тряских рук полковника. Сухо громыхая, она покатилась по полу, чему обрадовался котенок, который, шаля, загнал ее в темный крысиный угол.
* * *
Море сковывал лед, и с материка, как это бывало не раз, забрел на Сахалин бродячий уссурийский тигр («почтенный полосатый старик», как уважительно именовали тигров китайцы). Но этот «почтенный» наделал хлопот: он загрыз почтальона-гиляка, сожрав половину собак из его упряжки, потом в Арково нашли останки одной поселянки, наконец он дерзко блокировал дорогу между Рыковским и Александровском; свирепое рычание тигра по ночам уже слышали жители Рельсовой улицы…
– Я убью его!..– решил штабс-капитан Быков, беря «франкотку» отличного боя и заряжая ее острыми жалящими пулями. Это было сказано им в присутствии Клавочки Челищевой, которая только что узнала о начале войны с японцами. – Война – не война, – договорил Быков, – а тигра убить надо. Считайте, что у вас уже имеется коврик из тигровой шкуры, который красиво разложите у своей постели, чтобы не простужаться.
– Я боюсь, – тихо ответила девушка.
– Чего боитесь? Войны или тигра?
– Я боюсь за… вас, – сказала она и этой боязнью невольно призналась Быкову в зарождении чувства.
Он это понял. Но понял и другое: чувство возникло не из самой глубины сердца, а скорее в порыве событий, сопряженных с войною, когда все женщины становятся щедрее на ласковые слова мужчинам, уходящим от них (может быть, навсегда).
Штабс-капитан подкинул в руке «франкотку»:
– Стоит ли бояться за меня, если риск – моя профессия, и я больше боюсь за тигра, с которым надо разделаться одною пулей в лоб, чтобы не испортить его красивой шкуры…
Он вернулся из тайги на второй лишь день, черный от морозов и ветра, на санках привез в Александровск убитого тигра; тут сразу все набежали смотреть хищника, а мальчишки бесстрашно дергали «почтенного» за жесткие, как проволока, усы.
– Какие новости? – спросил Быков.
– Возвращается Ляпишев, – шепнула Клавочка.
– Наверное, очередная сплетня.
– Нет, сущая правда. Начальник конвоя Соколов уже выехал на собаках, чтобы встречать губернатора.
– Я рад этому, – сказал Быков. – Михаил Николаевич не Аника-воин, но в его порядочности я не сомневаюсь. Это не Тулупьев, который ради денег и ради служебных выгод способен на все… даже на благородный поступок!
В этом Быков, кажется, ошибался, как и сам Ляпишев, считавший Тулупьева порядочным человеком. Но полковник Тулупьев уже оседлал казну Сахалина, развращая гарнизон выплатой «подъемных» денег. Понятно, что офицер, едущий воевать в Маньчжурию из Воронежа или Самары, в «подъемных» всегда будет нуждаться. Но здесь-то, на Сахалине, получая деньги просто так, никуда с Сахалина не уезжали, оставаясь на прежнем месте, а «подъемные» были липовые! Их выдачу Тулупьев организовал, чтобы себя не обидеть. Он уже с головой залез в денежный ящик, и в этот момент ему, как никогда, стала близка и доступна психология казнокрада, который не успокоится, пока не стащит что-либо. Между тем шальные деньги, свалившиеся прямо с потолка, заметно подорвали устои дисциплины в гарнизоне, и без того уже отравленного цинизмом каторги. Офицеры стали дебоширить, картежничали, устраивали безобразные оргии с арестантками… Кушелев говорил всюду открыто:
– Я вообще не доверяю нашим полковникам, которые вызвались служить в гарнизоне Сахалина во имя повышенной пенсии. Наши обер-офицеры, нахватавшись у тюремщиков, способны подавать дурные примеры младшим. Не знаю, как проявят себя Болдырев, Тарасенко или Данилов, но Тулупьев попросту опасен для обороны Сахалина… По мне, так лучше уж черствый педант Бунге, способный чувствовать строго по инструкции!
Мобилизация выразилась в раздаче «подъемных», и скоро казна опустела, чему, наверное, даже обрадовался Бунге.
– Вот так и действуйте, – одобрил он Тулупьева, – чтобы японцам ни копейки не осталось в качестве трофеев. Надеюсь, что даже Фенечка Икатова ощутила ваш исполинский размах в деле мобилизации сахалинского воинства… Чего так скупиться? Дайте и ей «подъемные», чтобы она могла уехать куда-либо подальше на покаяние…
Вряд ли Тулупьев не заметил язвительности Бунге, но оказался достаточно умен, чтобы не придавать ей значения.
– Мобилизация это там… в России! – сказал он. – А у нас будет только эвакуация населения и казенных учреждений.
– Эвакуация… куда?
– Подальше от моря, – пояснил Тулупьев. – Арестантов бы я тоже выслал в глубину острова, чтобы ими тут и не пахло. Если Михаил Николаевич и вернется, он удивится, что все уже сделано без него – едино лишь моими усилиями.
– Есть чему удивляться! – хихикнул Бунге.
– А вы напрасно смеетесь… Мой авторитет в гарнизоне упрочился, за меня теперь все пойдут в огонь и в воду. Жаль, что японцы не высаживаются, мы бы их тут раскатали.
– Чем? – спросил Бунге. – «Подъемными»?..
Тюремное и военное ведомства – со всем их громоздким имуществом – Тулупьев спешно эвакуировал в селение Рыковское, куда заставил переезжать и семьи чиновников. Казенных лошадей не хватало, в повозки впрягали быков, наконец, стали запрягать и каторжан. В этой почти панической суматохе ящики с патронами терялись в свалке архивов, а генерал Кушелев не знал, куда запропастились подшивки судебных приговоров.
– Словно подмели! – говорил он. – Каторжане везли на себе архивы, кому же, как не им, разворовать свои же приговоры? Теперь ищи-свищи, кому сколько дадено, кому сколько осталось досиживать, а кого пора выпускать на волю вольную…
Александровск опустел, словно после погрома, на его улицах сиротливо остались мерзнуть четыре пушки. Капитан Таиров, дельный соратник Тулупьева, был преисполнен служебного рвения. Заметив свет в окнах метеостанции, он стал дубасить ногою в двери, требовательно крича:
– Откроите! Это я, капитан Таиров…
Полынов, конечно, слышал удары в дверь с улицы; он все же продолжил свой рассказ Аните о походе Наполеона в Россию:
– После чего, вернувшись ночью в Париж, Наполеон долго барабанил в двери дворца Тюильри и кричал швейцарам подобно капитану Таирову: «Откройте, это я – ваш император!»
– Его впустили? – спросила Анита.
– Да. Императора тогда не выкинули из Тюильри, как сейчас я стану выкидывать с метеостанции капитана Таирова. Впрочем, ты сама пронаблюдаешь за этой сценой…
Корней Земляков, явно робея, уже впустил Таирова внутрь метеостанции и тут же получил по зубам вроде «здрасте»:
– Шапку долой! Или не видишь, кто я?
Но тут с высоты антресолей раздался столь повелительный окрик – словно обжигающий удар хлыстом:
– Не смейте бить моего сторожа!
Таиров замер. По ступенькам лестницы не спеша, исполненный внутреннего достоинства, спускался к нему какой-то элегантный господин в полуфраке и при манишке; его ботинки, покрытые серым фетром, поскрипывали – в такт поскрипыванию ступеней. В зубах, неприятно оскаленных, дымилась длинная сигара. Таиров никак не мог догадаться, кто это такой, каково истинное положение этого господина в сахалинской иерархии.
– Почему не открывали? – обалдело спросил капитан.
Сигара перекатилась из левого угла рта в правый:
– Но вы же стучали ногой.
– А чем же еще стучать?
– Благородные люди стучатся в дверь всегда головой. Поверьте, что так принято в лучшем обществе Парижа…
Таиров не успел ответить на оскорбление, уничтоженный женским смехом, который прозвучал с высоты антресолей метеостанции. Капитан поднял голову и… обомлел. Облокотясь на перила, там стояла чудесная девушка с немного оттопыренными ушами, ее тонкую шею опоясывала черная бархотка с кулоном в ценной оправе, а пальцы рук, свободно опущенных с перил, сверкали золотыми украшениями. Таиров решил показать себя настоящим мужчиной. Он с показной нарочитостью вдруг достал из кобуры револьвер и, безо всякой нужды прокрутив его барабан с патронами, сказал в высоту:
– Так, значит, я попал на метеостанцию? А разве всех вас не касается приказ полковника Тулупьева?
– Какой? – спросил господин с сигарой.
– О срочной эвакуации учреждений внутрь острова.
Корней Земляков взял тарелку и поднес ее Полынову, чтобы тот использовал ее вместо пепельницы для отряхивания сигары. Проделав это, Полынов ответил Таирову:
– Видите ли, господин капитан, метеорологическая служба – это вам не пушка, которую можно таскать на привязи. Она обязана оставаться на своем посту, ибо отсутствие прогноза погоды на Сахалине нарушит работу не только ученых обсерватории в Петербурге, но и наших шанхайских коллег в Китае.
– А вы, сударь, простите, из каких?..
– Из ярославских. А что?
– Нет, ничего, – смутился Таиров, поглядывая на верх антресолей, где улыбалась юная кокетка. – Я просто не знаю, кто вы такой и как мне к вам относиться.
– Относитесь с уважением, – надоумил его Полынов. – Потому что я принадлежу к очень редкой породе преступников. Я, извините меня великодушно, давний романтик каторги!
Таирова осенило. Он помахал револьвером:
– Ах, вот что… хамское отродье. И еще смеет…
Но только он это сказал, как револьвер будто сам по себе выскочил из его руки, а сам капитан Таиров, кувыркаясь, как цирковой клоун, вылетел далеко за пределы метеостанции. Следом за ним воткнулся дулом в сугроб его револьвер.
– Ну, гадина… сейчас! – сказал Таиров.
Но в барабане револьвера уже не оказалось ни одного патрона – Полынов учел и это. Тряся бессильным оружием, Таиров погрозил слепым окнам метеостанции:
– Погоди, сволочь… интеллигента корчит! Окопались тут в науках, а нас, офицеров, уже и за людей не считаете. Я тебя запомнил… ты у меня еще в ногах изваляешься.
Во всех окнах метеостанции разом погас свет. Но изнутри здания еще долго звучал переливчатый женский смех. Таиров продул ствол револьвера от забившего его снега.
– Я вас обоих на одну парашу посажу!
* * *
В конце февраля Сахалин, отрезанный от России, жил в полном неведении того, что творится в стране, какие дела на фронте, и, найдись тогда человек, который бы сказал, что Токио уже взят русскими войсками, ему бы, наверное, поверили.
Среди ночи Фенечка Икатова услышала лай и повизгивание усталых собак. Она затеплила свечи. Сунув ноги в валенки, прикрытая одной шалью, прямо с постели, разморенная сном, горничная выбежала на крыльцо, где ее сразу окружил слепящий снеговой вихрь. Ляпишев едва выбрался из саней упряжки, он был весь закутан в меха, его борода примерзла к воротнику тулупа. Конечно, путь через льды Амурского лимана труден для человека в его возрасте. Он сказал Фенечке:
– Не простудись! А чего при свечках сидишь?
– Так не стало у нас электричества.
– Странно! Куда же оно подевалось?
– Полковник Тулупьев велел развинтить все машины по винтику, электриков Александровска разогнал по деревням, чтобы японцы, если появятся, сидели без света в потемках.
– Какие японцы? Откуда они взялись? Что за чушь!
Когда рассвело, губернатор с трудом узнал сахалинскую столицу. Александровск, и без того нерадостный, теперь напоминал обширную загаженную деревню, оставленную жителями, которые побросали все как есть и спасались бегством. В губернаторском доме было теперь неуютно, что-то угнетало, даже страшило. Михаил Николаевич вызвал Тулупьева, с ним явился и Бунге, который сразу отошел в угол, как наказанный школьник.
– Так что вы тут натворили, господа хорошие? Почему войска и жители покинули побережье? Почему гарнизон выведен из города? Почему прямо посреди улиц брошены пушки? Наконец, почему русский полковник оказался таким дураком?
– Но я же хотел как лучше! – отвечал Тулупьев.
Бунге из угла подал голос, что не эвакуировались только типография и метеостанция, а телеграф опечатан.
– Полковник властью гарнизона запретил принимать от населения телеграммы, адресованные даже родственникам в России, чтобы в Японию не просочились шпионские сведения.
– А без бдительности как же? – спросил Тулупьев.
Ляпишев еще не пришел в себя после трудной дороги, перед его взором еще мелькали пушистые хвосты собак, влекущих за собой нарты через Татарский пролив. В полном изнеможении он рухнул в кресло, а Бунге, не покидая угла, тихим голосом разделывал «под орех» полковника-узурпатора:
– Я, конечно, не вмешивался в дела гарнизона, но, как управляющий гражданскою частью, осмелюсь заметить, что по финансовым сметам у нас теперь не хватает средств для обеспечения каторжных и ссыльных достаточным питанием.
Ляпишев дунул на свечи, и стало совсем темно.
– Но, отбывая в отпуск, я оставил вам полную казну.
– Совершенно справедливо, ваше превосходительство, – ковал железо, пока оно горячо, статский советник Бунге. – Однако полковник Тулупьев щедро награждал гарнизон «подъемными», которые вконец обезжирили наши финансы, и без того постные.
Не вынося мрака, Ляпишев снова затеплил свечи:
– Полковник Тулупьев, это правда?
– А что тут такого? – напыжился тот. – Коли война началась, надо же воодушевить войска…
– Чем воодушевить? Деньгами?
– Не только! Я ведь и речи произносил. Опять же – переезд в Рыковское, всякие там расходы… непредвиденные.
– Вон отсюда! – распорядился генерал-лейтенант.
Четвертого марта 1904 года до Сахалина дошел указ императора, возвещавший, что те каторжане и ссыльнопоселенцы, которые пожелают принять участие в обороне Сахалина от нашествия японских захватчиков, сразу же получат амнистию.
Преступная колония обретала права гражданства.
– Ура! – содрогались все шесть тюрем Сахалина. – Ура! – кричали каторжане, звеня кандалами, как в колокола от беды. – Ура! – перекатывалось над извечной юдолью убогих сахалинских поселений, утопавших в глубоких сугробах.
Ляпишев сейчас не имел другого собеседника, кроме Фенечки Икатовой, и потому, размышляя, он сказал ей:
– Юридически, кажется, все верно. Доброволец из каторжан будет сражаться не за свою тюрьму, а будет отстаивать свое право на свободу. Вот и получается, милая Фенечка, что штабс-капитан Валерий Павлович Быков оказался прав…
* * *
В конце этой главы я процитирую текст указа об амнистии в том виде, в каком он сохранился в памяти ссыльного армянского революционера Соломона Кукуниана: «Каторжникам, которые захотят записаться добровольцами против врага, считать один месяц каторги за один год. Тем же из каторжников, которые уже перешли в крестьянское сословие ссыльнопоселенцев и запишутся в дружины Сахалина, предоставить после войны право на казенный счет вернуться на родину и селиться где угодно по всей России, даже в ее столицах».
Все это хорошо. Но… доживем ли мы до свободы?
11. Полюбуйтесь, как я живу…
Стрекотание швейной машинки разом затихло.
– Боже! Он опять идет сюда. Идет прямо к нам.
– Кто? – спросил жену Волохов.
– Да этот… не знаю, как и назвать. Тот самый негодяй, которого так страстно хотел бы прикончить Глогер.
– Пусть идет. Чего-то ему от нас понадобилось…
Полынов выглядел хорошо. Даже слишком хорошо. После ничего не значащих слов о погоде, о делах поспешной эвакуации и общем беспорядке на Сахалине он обратился к Волохову:
– А как вы намерены поступать дальше?
– То есть?
– Я имею в виду амнистию, даруемую указом царя всем, кто возьмется за оружие, чтобы стать на защиту Сахалина.
– Нашли дураков! – хмыкнула Ольга Ивановна. – Как же мы, противники самодержавия, страдающие здесь под его гнетом, можем следовать призыву царя, помогая ему угнетать нас?
Полынов ответил, что на войну России с Японией он не может взирать как на пожар, разгоревшийся на другом берегу реки, когда люди бессильны помочь пострадавшим. Демонстративно отвернувшись от женщины, он обратился к мужчине:
– А как бы вы, политические ссыльные, отнеслись ко мне, добровольно вступившему в сахалинское ополчение?
– Почему вы спрашиваете меня об этом? – Волохов сказал это даже с возмущением. – Я вас знать не знаю. А если и знаю, то исключительно с самой дурной стороны. Ваше политическое лицо расплывчато, как на неудачной фотографии. Зато ваши криминальные доблести могут быть высоко оценены в камере для уголовных рецидивистов. Но никак не здесь!
Полынов мизинцем почесал бровь. Он сказал Волохову без раздражения, нисколько не повысив голоса:
– Между прочим, именно эти мои наклонности раньше были использованы в самых лучших целях. Вы сейчас только оскорбили меня. Но разве ответили на мой вопрос?
– Делайте, что вам угодно, – снова вмешалась в разговор Ольга Ивановна. – Для нас вы посторонний человек.
– Что же касается лично меня, – добавил Волохов, – то я палец о палец не ударю, если японцы хоть сейчас появятся на этой вот Рельсовой улице, что виднеется из окошка.
Полынов, задетый за живое, пошел на обострение разговора, и было видно, что он не уступит в своей логике:
– Значит, японские самураи, подло напавшие на Россию, вашими врагами не являются, и вы полагаете, что…
– Позвольте! – пылко перебил его Волохов. – Я вижу в Японии нашего союзника, который, вызвав эту войну, невольно приближает неизбежный крах царизма. Исходя именно из этого положения, я не могу, как дурачок, радоваться победам русской армии, но я буду приветствовать победы японского оружия… Уверен, что вслед за этой бойней грядет революция!
– Возможно, – согласился Полынов.
– Я такого же мнения, – не отрываясь от шитья, сказала Ольга Ивановна, – и мы рассчитываем не на манифесты и указы царя, дарующие амнистию. Нас освободит русская революция.
Волохов в победной позе взирал на Полынова:
– Ну вот! А вам, я вижу, и ответить нечего.
– Я думаю, – ответил Полынов. – Я думаю о том, что в числе защитников Порт-Артура, в экипажах наших эскадр сыщется немало людей, ненавидящих самодержавие даже больше вас! Однако вопросы чести России для них сейчас стали дороже всего на свете… Я не стыжусь признаться, что хотел бы жить и хотел бы умереть честным русским человеком.
– Пардон, это вам уже никогда не удастся. Вы уже так много напакостили в своей безобразной жизни, что отныне годитесь только для экспозиции в сахалинском Пантеоне…
Полынов ответил на это горьким смехом:
– Вы меня не очень-то щадите, а долг платежом красен. Я тоже не стану щадить вас. Не забывайте о своей жене, помните о своих детях. Если на Рельсовой окажутся самураи, вы не отделаетесь от них легким поклоном, а ваши идеалы останутся для них безразличны. Я не желаю вам худого, товарищ Волохов, но мне… не скрою, что мне страшно за вас! Будем считать, что разговор не состоялся. Но я ведь пришел к вам не только за советом. Наверное, именно теперь я мог бы пригодиться…
– Кому? – засмеялась Ольга Ивановна.
– Лично вам! Надеюсь, что в последующих событиях вы смогли бы переменить свое мнение о моей персоне.
Игнатий Волохов широко распахнул двери:
– Уходите! И чтоб ноги вашей здесь не было…
Как оплеванный, вернулся Полынов на метеостанцию, и здесь Корней Земляков поклонился ему – от души:
– Спасибо вам, что вы для меня сделали. Не будь вас, я бы где-нибудь под забором скрючился. Но теперь, коли амнистия подошла, решил я вступить в дружину народную. Хоша и настрадался на этом Сахалине, будь он трижды проклят, но теперича Сахалин для меня стал не только каторгой, а еще и родимой землицей, которую отдавать никому нельзя… Грех был бы!
Полынов остался один и даже не расслышал легких шагов Аниты, положившей на плечо ему теплую ладонь:
– Правда, что я не мешаю тебе?
– Правда.
– Правда, что тебе хорошо со мною?
– Правда. Но я предчую большую беду… для нас!
На клочке бумаги он написал: XVC-23847/А-835.
– Анита, ты должна помнить этот номер. Сейчас я готов отдать тебе все. Но я уже никогда не отдам тебя…
* * *
Валерий Павлович Быков обедал в офицерском собрании, вникая в разноголосицу офицерских голосов; возвращение Ляпишева многие не одобряли, явно недолюбливая губернатора:
– Либерал из крючкотворцев! Совсем распустил каторжан. Ему бы служить в земстве какой-либо губернии да разглагольствовать на уездных съездах о причинах добра и зла.
– Раскомандовался. Слушать его тошно.
– Все-таки, как ни крути, а – генерал.
– Да какой там генерал! Вызубрил статьи кодекса, по которым можно упечь человека подальше, вот и вся его тактика. А за стратегией в Хабаровск посылать надо.
– Помилуйте, разве полковник Тулупьев лучше?
– Это свой человек, офицеров понимает и ценит. Академий, слава богу, не кончал, зато казарму знает. Мимо солдатского котла не пройдет – обязательно щей попробует.
– Вот это по-суворовски! Не как другие.
– А теперь придумали оружие выдавать каторжанам. Они тут устроят всем нам Варфоломеевскую ноченьку…
Между тем стараниями губернатора Александровск снова превращался в военный лагерь, где все подчинено дисциплине. Он указал возобновить работу сахалинских телеграфов:
– Мы живем здесь, как допотопные дикари в пещере, ничего не зная. Последняя почта на собаках была в феврале, а навигация с Владивостока откроется лишь в апреле. Посему разрешаю принимать и передавать на материк не только агентские телеграммы, но и сообщения частного порядка…
Подводный кабель на материк часто выходил из строя, больше полагались на «собачью» почту. «Тах-тах-тах!» – слышались понукания каюров. До Николаевска насчитывалось четыреста верст. В нарты укладывались длинные матрасы-чемоданы, на которых все три дня пути пассажиры и отлеживались. Жителей в Александровске оставалось мало. С непривычки пугала тишина, по утрам не хватало перезвона кандалов, который на Сахалине многим заменял сигнал будильника. Все оставшиеся в городе постоянно нуждались – то в белье, то в посуде, то в керосине. Уже с марта стала заметна скудность в питании.
– Не волнуйтесь, все продумано, – утверждал Ляпишев. – Когда я был в Петербурге, Главное тюремное управление клятвенно обещало мне, что запасы хлеба для Сахалина будут непременно закуплены весною в портах Китая.
На это Бунге справедливо заметил губернатору:
– Если японцы сумели блокировать нашу могучую эскадру в Порт-Артуре, им еще легче не допустить купеческие корабли до Александровска, чтобы мы скорчились тут от голода.
Ляпишев мыслил еще категориями прошлого, витал в облаках стародавних иллюзий о благородстве рыцарских турниров:
– Но должны же в Токио понимать, что Сахалин всегда нуждался в привозном хлебе, и не пропустить муку к нашему острову – это… это ведь натуральное свинство! Зима выдалась чертовски морозная, лед в лимане, дай бог, чтобы растаял только в конце мая, и мы будем лишены поставок грузов даже из Николаевска. Где же примитивное благородство?
Непонятно, с какой целью, но японцы еще с осени разослали по адресам всех приметных жителей Сахалина фотографии Оболмасова с его же надписью: «Полюбуйтесь, как я живу!» Полицмейстер Маслов со вздохом, почти страдальческим, выложил такую фотографию перед губернатором. Оболмасов был снят на фоне богатой виллы в пригороде Нагасаки, он сидел в лонгшезе, внешне похожий на раздобревшего английского колонизатора (в белых шортах и пробковом шлеме); над ним свисали с дерева крупные мандарины, а молоденькая японочка, стоя перед геологом на коленях, подавала ему вино на подносе.
– Вот устроился, стервец! Нам такая жизнь и не снилась, – честно откомментировал эту фотографию полицмейстер.
Ляпишев сказал, что не понимает, ради чего японцы решили держать при себе этого никудышного человека:
– Сначала они обмывали его шампанским, а на этом снимке заметна в нем полная деградация личности. Боюсь, что в этой жизни не обошлось без опиума. Но зачем самураям понадобился сей мелкотравчатый инженер, который из всех полезных ископаемых Сахалина отыскал только воровку Евдокию Брыкину?
Маслов просил губернатора не спешить с выводами:
– Помните, был у нас такой скрипач Крамаренко. Он раньше в Одессе на купеческих свадьбах мазурки откалывал. А на Сахалине японцы мигом сделали из него богатого рыбопромышленника, хотя этот скрипач видывал селедку только вроде закуски. Самураи нарочно работали под вывеской его рыбной конторы, чтобы всю ответственность за свой грабеж свалить на этого скрипача. Не так ли и с Оболмасовым? Наверное, он, как и этот Крамаренко, понадобился им вместо удобной ширмы.
– В любом случае, – указал Ляпишев, – если этот сукин сын появится на Сахалине, сразу же арестуйте его, и пусть он, сидя под нарами, полюбуется, как мы живем…
Михаил Николаевич залучил к себе штабс-капитана Быкова; Фенечка Икатова внесла в кабинет чашки с душистым кофе. Ляпишев сказал, что отрывать окопы на побережье Сахалина он рассчитывает лишь в мае, когда оттает почва:
– При недостатке шанцевого инструмента мы еще способны кое-как отрыть могилу на кладбище, но приготовить траншею не сможем. Мною составлен уже второй вариант обороны острова на случай нападения противника. Конечно, я предварительно согласовал его в высших инстанциях Приамурского генерал-губернаторства. Но Петербург не мычит и не телится, как будто здесь сидят круглые дурачки, на которых лучше не обращать внимания. Нашими доводами о критическом положении Сахалина в столице явно пренебрегают. Вы, Валерий Павлович, оказались правы в том, что если война на острове и возможна, то она, вне всякого сомнения, обретет формы войны партизанской.
Быков лишний раз убедился в безволии генерала, который даже в беседе с офицером иногда вопросительно поглядывал на свою горничную, словно ища у нее одобрения своим мыслям. Но в общем-то генерал юстиции рассуждал правильно. Гарнизон останется на правах регулярной армии, а основу партизанских отрядов составят дружинники из каторжан и ссыльных. Фенечка добавила сливок в чашку офицера, выговорив со значением:
– Пейте на здоровье. Это у вас в казармах ничего не водится, а у нас все есть… Слава богу, мы ведь не просто так живем, мы же ведь – губернаторы!
Валерий Павлович не забыл сказать Ляпишеву, что в партизанской войне особенно важно знание местности:
– А мы, верные заветам благочестивого головотяпства, до сих пор не обзавелись даже приличными картами Сахалина, не знаем его дорог и таежных троп, для нас остались тайною глубины сахалинских рек и броды; я не удивлюсь, если офицеры заведут своих солдат в погибельную трясину.
– Милый вы мой, – душевно отвечал губернатор, – а где же я возьму для вас геодезистов, хотя бы грамотных офицеров, умеющих провести триангуляцию местности?
– Здесь, – сознался Быков, – я ничем не могу быть полезен. Хотя и получил военное образование, но во многих вопросах остаюсь дилетантом, что немало вредит моей карьере. Знали бы вы, как манит меня Академия нашего Генерального штаба…
Дверь приоткрылась, заглянул полицмейстер Маслов.
– Вы ко мне? – спросил Ляпишев.
– Да, ваше превосходительство. Тут капитан Таиров рапорт составил об оскорблении его офицерской чести.
– Знаем мы этого Таирова! Пусть меньше шляется по трактирам и танцам, тогда и честь будет соблюдена.
– На этот раз, – сказал Маслов, – капитану Таирову крепко досталось на метеостанции.
– А что он? Сам не мог справиться с Сидорацким?
– Да где там старику Сидорацкому с его циклонами и антициклонами с Таировым справиться! – засмеялся Маслов. – Тут вмешался его помощник… этот… как его?
Быков сразу же поднялся из-за стола.
– Вы позволите мне откланяться?
– Да, да, штабс-капитан. Спасибо за беседу.
* * *
Вот уж с кем не хотел бы встречаться Полынов, так это с Глогером – фанатиком! Отважный когда-то «боевик», Глогер не только осатанел в злости против царских властей, сославших его на Сахалин, но почему-то решил, что вся Россия повинна в его страданиях, а русские люди ничуть не лучше каторжан. Полынов знал, что приговор ему оставался в силе – и теперь всегда можно ожидать расправы.
Встреча была случайной – на улице. Поначалу Глогер казался спокойным, даже приятельски улыбнулся Полынову. Поглядывая вбок, Глогер жаловался на растрепанные нервы:
– Спать не могу. Кошмары. Трупы. Виселицы…
Затем он сказал, что теперь, после мытарств по российским застенкам, окончательно убедился, что на родине осталась одна светлая голова – это голова пана Юзефа Пилсудского, который давно предупреждал: Польше лучше быть заодно с Австрией или Германией, нежели с этой проклятущей Россией, а поляки и русские никогда не станут друзьями.
– Я вчера даже побывал в костеле, на коленях умоляя нашу пресветлую матку-боску, чтобы скорее пришли сюда японцы. Пусть хоть они избавят меня от этих сахалинских кошмаров… Что за жизнь в России! Кто кого может, тот того и гложет.
«Кажется, в правом кармане», – определил Полынов место, где Глогер затаил свое оружие, и ответил миролюбиво:
– Я знаком с местным ксендзом. Он сослан на Сахалин решением варшавского суда за изнасилование умирающей, которую должен был исповедовать. Ксендз тоже озлоблен на Россию – вроде тебя, вроде того же пана Пилсудского… Прежде всего, Глогер, разберись в своих чувствах. Россия виновата во многом, но русский народ не повинен в твоих заблуждениях.
– Тебе-то легко! – произнес Глогер. – Что тебе до поляков? Ты уже дома, а сахалинская каторга – не это ль твоя отчизна?
Полынов старался смягчить резкость беседы:
– Не гневи бога, Глогер. Если так тяжело, запишись в дружину, и ты, мужественный человек, скорее других лоботрясов обретешь свободу. А потом уж, черт с тобой, делай что хочется. Но, танцуя венские вальсы, не забывай краковяк с мазуркой.
Глогер вдруг подозрительно огляделся по сторонам:
– Здесь все для меня чужое, и чужой я сам! Мне ли, поляку, тем более гордому шляхтичу, впутываться в русские дела? А чего же ты сам не записался в дружину?
На лице Глогера появилась зловещая улыбка. Полынов, как назло, именно сегодня оставил свой браунинг в тайниках метеостанции, и сейчас ему явно не хватало его привычной тяжести, чтобы отстреляться, если разговор осложнится. Однако на зловещую улыбку Глогера он ответил тоже улыбкой:
– Не старайся меня зацепить! Как русский, я свой долг перед отчизной исполню… Сейчас ты, Глогер, только поплевываешь на Россию. Но, боюсь, придет время, когда ты заодно с паном Пилсудским схватишь Польшу за ее последние волосы и потащишь поляков в болото шляхетской вражды к России…
Глогер тоже был достаточно опытен в боевых делах, и он догадался, что Полынов сегодня безоружен:
– Вот удобный момент, чтобы в конце нашей встречи поставить последнюю точку… прямо в лоб тебе! Разве ты не боишься меня? Сознайся, что ты давно боишься меня.
– Боюсь, – честно ответил Полынов.
Глогер решил поиздеваться над ним, над слабым:
– Ты же сейчас – как котенок передо мною. Ну скажи «мяу». Тогда я, может быть, тебя и помилую. Не стыдись.
– Мяу, – сказал Полынов, и Глогер его похвалил:
– Хорошо мяукаешь. А теперь покажи, как ты умеешь дрожать скелетом. Дай послушать, как стучат твои кости от страха…
Полынов, не отвечая, медленно пошел прочь. Но, даже спиной ощутив угрозу выстрела, он резко обернулся.
– Вынь руку из кармана! – крикнул он. – Не будь подлецом – не стреляй в спину. Это нечестно… Я ведь только помяукал тебе, но я могу и рычать!
12. Останемся патриотами
Давно примечено, что в условиях заключения, когда мозг притупляется от жестокостей и невыносимой тоски, люди начинают выискивать нечто такое, что могло бы оживить их тускнеющий разум. Наверное, потому каторга читала журналы с последней страницы, украшенной ребусами и головоломками; каторга развертывала газеты с конца, где имелись кроссворды и шарады. Каторга всегда – с давнишних времен – ценила не обычную повседневную информацию, а только такую, чтобы от нее дух захватывало. Врать при этом разрешалось сколько угодно, лишь бы фантазия рассказчика работала бесперебойно, как пулемет.
В унылом бараке Рыковского, где селились первые дружинники, наверное, именно по этой причине Корней Земляков и заслужил авторитет своими необычными рассказами о работе метеостанции. Для безграмотных людей было новостью, что погода Сахалина, которую они привыкли только бранить как несносную, оказывается, имеет прямое отношение к тому, будет ли завтра дождь в Тамбове, не грозит ли засуха Черниговщине.
– Это еще что! – рассуждал Земляков. – А вот есть, братцы, такой «сусюр» в науке, чтобы узнавать, сколько сырости в воздухе. В машинке этой натянут женский волосок. Когда сыреет на улице, он делается длиннее, а когда сухота – короче. Причем волос для науки берут только от рыжей бабы.
(Корней говорил о гигрометре физика Соссюра.)
– Да ну! – не верили ему. – Почто от рыжей-то?
– Сам не знаю, это великая тайна мировой науки. Но среди ученых большой интерес ко всем рыжим стервам. Как профессор где-либо увидит рыжую, так моментально клок волос у нее из прически выдергивает. Кричи она, не кричи, никакой городовой не поможет, ибо требуется от рыжих баб пострадать для науки. Одно могу сказать, – заключил свой рассказ Земляков, – в учении о погоде есть хорошие люди. Один такой мне сам жалованье платил, дай-то ему, боженька, здоровьица!
Весною дружинникам раздали берданки, и Корней в числе прочих тоже прикладывался к кресту священника, клятвенно обязуясь «верой и правдой» служить отечеству. Не будем, однако, думать, что все каторжане решительно поднялись с нар на защиту родины. 1904 год – это не 1812‑й, а каторга никогда не воспитывала людей в духе патриотизма. Многие из оголтелых уголовников остались лежать на нарах, хотя их отказ браться за оружие не имел никаких соображений, кроме чисто шкурнических.
– Вот еще! – говорили они. – Стану я кровь проливать… За что? За эту вот каторгу, где я горбы себе наживал? Да провались оно все, лучше уж «Прасковью Федоровну» целовать.
– Верно! – слышались голоса громил, бандитов, взломщиков и аферистов. – Сахалин – место гиблое, одна репа да лопухи с крапивой, ядри их в корень… Что я тут потерял? И что я тут нашел? А мне япошки ничего не сделают, только от кандалов избавят. Я первейшим делом на Хитров рынок в Москве подамся, забегу в трактир и сразу же выдую дюжину бутылок пива.
Среди дружинников были не только патриоты России, но даже патриоты самого Сахалина – местные уроженцы, для которых остров стал настоящей родиной и потому они без колебаний брали оружие, чтобы постоять за честь отчизны, уже неотделимой, в их представлении, от каторги. Такие сахалинцы не нуждались в амнистии! Всех дружинников обрядили в чистое белье, разрешили иметь прически – как у «вольных». Одетые в серые бушлаты, они имели на арестантских бескозырках крестики, сделанные из жести, – признак народного ополчения и святости исполнения долга. Каждый мечтал о фуражке, чтобы иметь хоть малое подобие солдата. Дабы арестант-дружинник заметнее выделялся среди людей, Ляпишев указал ополченцам обшить рукава бушлатов полосками красного кумача. В мастерских делали для них патронташи – из старых мучных мешков, промаркированных фирмами Шанхая или Сан-Франциско, а на ногах оставались прежние русские опорки. Дружинникам увеличили порции хлеба, но в обед они, как и раньше, получали обрыдлую тюремную баланду.
Гарнизон держался от дружин подальше. Солдату, вчерашнему рабочему или крестьянину, преступник всегда кажется человеком негодным, от которого все надо прятать, чтобы не стащил. А любой сахалинец привык видеть в начальстве лишь карательные органы. Бывшие конвоиры и тюремные надзиратели сделались зауряд-прапорщиками, они командовали в казармах, как недавно в тюрьмах. При этом в ополченцах они видели только арестантов, которым на время вернули свободу, чтобы потом загнать всех обратно – кого поверх нар, а кого под нары. Дружинники отвечали таким «отцам-командирам» лютой ненавистью, вынесенной еще из тюрем, они уже стали артачиться:
– Ты меня, зараза худая, обратно под нары не запихнешь! Я тебе не кто-нибудь и шапки ломать не стану.
– А в морду не хошь?
– Тока тронь! Мы тебе «темную» устроим…
Офицеры гарнизона боялись командовать арестантами. Пожалуй, только один штабс-капитан Быков сознательно усилил свой отряд дружинниками. Конечно, среди разномастной шатии-братии он быстро обнаружил настроения, которые воинам не должны быть свойственны. Быков перед отрядом произнес речь:
– Слушайте меня! Я понимаю, что для многих из вас родина, наша великая, наша прекрасная, наша необъятная Россия, стала только злой мачехой. Но я, ваш начальник, не нуждаюсь в услугах тех, кто пошел в ополчение ради благ царской амнистии, ради лишнего черпака баланды, ради чистых кальсон из теплой байки. Отечеству такие «защитники» не нужны!
– Золотые ваши слова, – поддержал его Земляков.
Валерий Павлович поднес к его лицу крепкий кулак, обтянутый скрипящей кожей новенькой перчатки:
– Вот это ты видывал? Хорошо, что нарвался на меня, но, попадись другому, он бы тебе все зубы выполоскал именно за то, что перебиваешь речь офицера.
– Уже! – крикнул Земляков.
– Чего «уже»? – не понял его Быков.
– Передних уже нету. Жую одними боковушками.
– Наверное, заслужил… Я, – продолжал Валерий Павлович, – формирую свой отряд только из честных людей, которые искренно ступают на опасную тропу партизанской борьбы по чувству любви к отечеству. А других не надо! Всех шкурников – вон!..
Не так поступали другие. Начальство Тымовского округа попросту выгнало всех заключенных из Рыковской тюрьмы на улицу, где и объявили им – с беспардонной ясностью:
– Ну, шпана поганая, чего улыбок не видим? Государь-император в неизреченном милосердии своем указал дать амнистию тем, кто вступит в дружины… Постоим же за святую Русь, всех запишем. Каждый получит по кальсонам и валенкам!
Полковник Данилов закрепил этот призыв словами:
– Знаю вас, сволочей! Дай вам кальсоны с валенками, так вы, чего доброго, пропьете или проиграете их в первой же «малине». Так я вас, гадов, по-христиански прошу: все казенное хотя бы до победы поберегите!
«Глоты» и «храпы» орали ему из колонны:
– Весна-красна! Скоро и лето нагрянет, так што ж нам? Так и париться в кальсонах да валенках?..
Тулупьев радостно доложил Ляпишеву о поголовной мобилизации всей Рыковской тюрьмы, которая мигом опустела.
– Теперь в этой тюряге хоть гостиницу открывай! Полковник Данилов «рожден был хватом, слуга царю, отец солдатам». Ни одного в тюрьме не оставил, всех выгнал. Даже убогих в строй загнал. Наши силы растут, а майданщики рыдают. С чего жить станут, ежели в камерах одни клопы да крысы остались?
– Идиоты! – вразумительно отвечал губернатор. – Ведь сказано было четко – нужны только добровольцы, а силой никого воевать не заставишь. Всех гнать обратно в тюрьму!
– Да как загнать? – оторопел Тулупьев. – Попробуй посади их снова, если половина уже разбежалась… во всем казенном! Да они теперь полковника Данилова раздерут за ноги, как лягушку…
Михаил Николаевич схватился за голову:
– Все у нас кувырком, кувырком, кувырком… с приплясом! Да почему я все должен за вас думать? Думайте сами…
Быков навестил губернскую типографию. Клавочка Челищева острым карандашиком указала ему на строчку в новом приказе Ляпишева, призывавшего офицеров гарнизона брать пример с Быкова: «Означенный офицер в создании народной дружины действует энергично и разумно, что достойно всяческого подражания».
– А вы, я вижу, чем-то излишне взволнованы?
Валерий Павлович подтянул на ремне шашку:
– Да! Я узнал нечто такое, о чем следует известить знакомого нам обоим арестанта, служащего на метеостанции.
Клавдия Петровна сухо ответила, что этот отвратительный человек не стоит того, чтобы хлопотать о нем:
– Самое лучшее – держаться от него подальше.
– Напротив, – возразил штабс-капитан, – мне этот человек в чем-то даже нравится. Не удивляйтесь моим словам: между ним и мною я угадываю нечто общее.
– Вот как?
– Пожалуй, мы в чем-то сойдемся…
«Если это так, то это ужасно!» – не сказала Клавочка, а лишь подумала, без сожаления проводив Быкова.
* * *
Полынов умел вести себя так, что люди, даже облеченные властью, начинали чувствовать его превосходство, невольно подпадая под влияние этого человека, который, казалось, вовсе не ощущал всей тягости своего каторжного положения.
Он очень удивился появлению Быкова, но при этом Полынов вел себя так, словно давно ожидал именно Быкова:
– Я охотно выслушаю вас, господин штабс-капитан.
– Что вы там натворили с этим Таировым?
– Всего лишь выкинул его, как тряпку, с метеостанции, чтобы он не мешал мне наслаждаться жизнью.
– А вы подумали о себе? Наконец, могли бы пожалеть девушку, которую вы столь неосмотрительно взялись воспитывать на свой лад… Я советую вам немедленно скрыться.
– Разве мне что-либо стало угрожать?
– Я узнал, что вы будете арестованы.
– Очень мило… Ани-и-ита-а! – нараспев произнес Полынов и, достав из кармана часы, отметил время. – Анита, – сказал он прибежавшей девушке, – господин Быков не уверен в том, что я воспитываю тебя правильно. К сожалению, нам уже некогда заниматься твоим перевоспитанием на обычный лад. Мы опаздываем! А посему через пять минут ты должна быть готовой.
– Готовой… к чему?
– Нам предстоит сентиментальное путешествие с разными забавными приключениями, которым ты будешь очень рада.
Когда Анита удалилась, штабс-капитан спросил:
– Интересно, куда же вы собрались бежать?
– Я еще не решил, но я уже думаю об этом.
Быков сложил перчатки в свою фуражку.
– В таком случае подумаем вместе. У меня в Корсаковске имеется приятель – тоже штабс-капитан Юлиан Казимирович Гротто-Слепиковский, я дам вам записку для него, и он вам поможет. Догадываюсь, вы не останьтесь под прежней фамилией.
Полынов весело расхохотался:
– Так не дурак же я, чтобы тащить свои старые грехи!
– Тогда назовите свою новую фамилию, чтобы мне потом не удивляться, если я встречу вас на жизненных перепутьях.
Полынов сразу показал ему новый паспорт:
– Вы правы. Я человек предусмотрительный. А с тех пор, как при мне оказалась Анита, стал даже опасливым. Рыковская же тюрьма – это отличный паспортный стол, где «блиноделы» выковывают новых героев с новыми именами… Можете ознакомиться: Фабиан Вильгельмович Баклунд, из мещан города Бауска, что расположен в Курляндской губернии, приказчик торговой фирмы Кунста и Альберса, давно владеющей универсальными магазинами на Дальнем Востоке, я прибыл на Сахалин из города Харбина ради поставок соли для рыбных промыслов Крамаренко, о чем в паспорте имеется роспись… чья?
– Не знаю, – ответил Быков.
Полынов протянул ему свой паспорт:
– Мое прибытие на Сахалин заверено подписью самого военного губернатора Ляпишева… убедитесь своими глазами.
Быков взял паспорт и внимательно изучил его:
– Да, это рука Михаила Николаевича… чистая работа.
– Еще бы! Зато теперь я избавлен от прошлого, – ответил Полынов и снова позвал протяжно: – Ани-и-ита-а!
– Сейчас буду готова, – послышался голос.
– Лошадей не найдете даже за большие деньги, – напомнил Быков, – а путь до Корсаковска составит шестьсот верст, который сахалинцы зачастую проделывают пешком. Дорога похожа на запущенную просеку, а просека иногда становится неприметной тропой, уводящей в трясины, где погибают люди и лошади. Как выдержит этот путь ваша юная подруга?
– Не беспокойтесь. У вас приятелем Гротто-Слепиковский в Корсаковске, а у меня в Александровске трактирщик Пахом Недомясов, который не осмелится отказать мне в своих лошадях. Я знаю, что до Онора лошади выдержат…
Валерий Павлович вернулся в типографию, где Клавочка Челищева с нескрываемым раздражением спросила его:
– А эта девка с ушами оттопыренными, как у летучей мыши, разодетая в пух и прах, словно невеста, она тоже с ним?
– Да. Но их уже нет в Александровске.
– Куда же эта парочка провалилась?
Штабс-капитан предупредил, что будет откровенен.
– Мне кажется, – сказал он с оттенком печали в голосе, – вы могли бы простить этому человеку все-все и не можете простить ему только то, что возле него появилась Анита.
Челищева покраснела, отвечая Быкову:
– Не глупо ли подозревать меня в ревности?
– Простите. Но сегодня я невольно позавидовал этому человеку, который уже мчится к Онору через тайгу, а возле него верная Анита, готовая следовать за ним даже на плаху.
– Нашли же вы чему завидовать! – произнесла Клавочка. – В нужный час я ведь тоже окажусь рядом с вами…
* * *
До самого Онора ехали без приключений, много разговаривая. Слушая рассказы Полынова, девушка иногда шевелила губами, про себя повторяя услышанное. Она-то знала, как требователен ее повелитель: в любой момент она должна сдать ему экзамен по всем вопросам, которые когда-то возникали в их беседах. Анита невольно обогащалась от мужчины знаниями, как слабая ветка от соков дерева, а Полынов иногда посмеивался:
– Мне даже интересно, когда ты задашь мне такой вопрос, на который я не смогу ответить… Ты, наверное, сильно устала? Впрочем, за Онором мы отдохнем на берегах залива Терпения.
– Терпения? А почему залив так называется?
– Вот видишь, – сказал Полынов. – Ты стала относиться ко мне, как к энциклопедии, обязанной давать ответ на любой вопрос, самый неожиданный. Наверное, именно на берегах залива Терпения закончится наше с тобой долготерпение.
– Так ты не можешь ответить?
– Могу! Это было очень давно, когда на Руси правил еще первый царь из династии Романовых. В ту пору голландский моряк де Фриз искал в этих краях серебро и золото. Возле берегов Сахалина он вытерпел немало страданий от могучего шторма, почему и назвал залив – Терпения…
Всегда осмотрительный, Полынов, миновав Онор, не сразу двинулся в Корсаковск. Сначала он выждал время в селе Отрадна (ныне здесь город Долинск), затем они с Анитой пожили в селе Владимировка (ныне это большой город Южно-Сахалинск, ставший главным городом всего Сахалина). Владимировка была сплошь заселена добровольными выходцами из Владимирской губернии, которые жили зажиточно, назло всем доказывая, что земля Сахалина способна хорошо прокормить человека, только не ленись, а работай… Здесь, казалось, был совсем иной мир, далекий от каторги, а пение петухов на рассветах и мурлыканье кошек, поспешающих к доению коров в ожидании парного молочка, – все это напоминало жизнь в русской деревне. Но море лежало рядом, за лесом, и шум его гармонично вплетался в шумы деревьев, овеянных свежими бризами.
– Скоро будет шторм, – точно предсказал Полынов. – Это даже хорошо! Я вообще не любитель ясной погоды. Не знаю, почему, но мне всегда нравились катаклизмы природы: штормы и бури, трески молний и ураганы. Слабый пугается, а сильный восторгается… Не хочешь ли глянуть на шторм в Терпении?
– А нам хватит терпения?.. – спросила Анита.
Они посетили берег моря, когда жестокий шторм уже заканчивал громыхать и теперь лениво выбрасывал на отмели гигантские водоросли; на песке, оглушенные раскатом прибоя, шевелились громадные крабы на растопыренных лапах. Анита, как всегда, вложила свою ладонь в сильную руку Полынова.
– Я… в восторге! – вдруг сказала она. – Отсюда я вижу даже рваные паруса каравеллы де Фриза, мечтавшего на этом берегу, где мы стоим, найти серебро и золото.
Когда они возвращались от моря в село, Полынов сказал девушке:
– Никогда не ожидал твоего появления в моей сумбурной жизни. Ты явилась в нарушение всех жесточайших правил, усвоенных мною еще в юности. Ведь я всегда полагал, что человек сильнее всего только в том случае, когда он одинок, когда у него нет никаких обязательств по отношению к другим. Но ты появилась, и все стало иначе… Это непонятно даже мне!
Анита шла впереди него по очень узкой тропе, и Полынов говорил ей в спину. Она помолчала. Наконец он услышал ее слова:
– Если ты не можешь разобраться даже в себе, так, наверное, ты не всегда понимаешь и меня.
Она задержала шаги и обернулась к нему лицом.
– Зачем ты остановилась?
– Наверное, мне так захотелось…
Было слышно, как за лесом море завершало свой титанический труд. Большущие глаза смотрели на Полынова с немым торжеством, и он, смутившись, стал поправлять на Аните капор.
– Только не простудись, – говорил заботливо.
– Но ты ведь не это хотел сказать.
– А ты становишься чересчур догадлива, и это опасно для меня. Мое положение сейчас очень невыгодное. Я не могу дерзить тебе, потому что ты стала взрослой. Гадкий паршивый утенок, купленный мною по дешевке, ты превращаешься в красивую паву. Но я не могу и поцеловать тебя, слишком юную…
Одним движением головы Анита стряхнула с головы капор, волосы рассыпались венцом, скрывая ее оттопыренные уши.
– Скажи – ты уже любишь меня?
– Вот он, этот вопрос, на который я не могу ответить.
– Так не отвечай! Только поцелуй меня…
На следующий день они въехали в Корсаковск.
Главную улицу, обсаженную деревьями и обставленную фонарями, подметал дряхлый старик, на лбу которого было выжжено клеймо «В», на левой щеке «О», а на правой «Р». Полынов спросил у него, как отыскать секретаря полицейского правления.
– А эвон… домик с терраской, – показал «ВОР», взмахивая метлой. – Секлетарем здеся мой внучек будет…
Секретарь, наследник заветов старой каторги, едва глянул в паспорт Полынова-Сперанского-Баклунда, зевнул:
– Ладно. Завтра, если будет времечко, загляните ко мне, чтобы отметиться, где остановились. Отелей не держим, здесь не Франция, устроитесь на частной квартире.
Чехов писал, что в Корсаковском округе «люди консервативнее, и обычаи, даже дурные, держатся крепче. Так, в сравнении с севером, здесь чаще прибегают к телесным наказаниям, и бывает, что в один прием секут по 50 человек… когда вам, свободному человеку, встречается на улице или на берегу группа арестантов, то уже за 50 шагов вы слышите крик надзирателя: „Смир-р-рно! Шапки долой…“ Потому-то Полынов не слишком был удивлен, что хозяин квартиры ходил перед новыми постояльцами на полусогнутых ногах. Как все униженные люди, он называл вещи уменьшительными именами: цветочек, маслице, стульчик, кроватка… Было видно, что он принял Полынова за важную персону из администрации Сахалина, а теперь очень боялся, как бы не обмишуриться.
– По какой статье? – не удержался от вопроса Полынов.
– Девятьсот пятьдесят третья, извольте знать.
Пройдя в комнаты, Полынов со смехом сказал Аните:
– Статья-то – близкая к моей. Только я выпрямился и хожу в полный рост, никому не кланяясь, а он согнулся…
В соседнем домишке проживала неопрятная старуха, еще помнившая Чехова. В молодости она живьем закопала своего новорожденного младенца, чтобы избежать позора на всю деревню, а теперь назойливо предлагала Полынову купить у нее капусту:
– Кисленькая! И беру-то недорого…
Полынов купил у нее капусту и тут же выбросил ее на помойку, куда с визгом набежали хозяйские поросята.
– Пусть жрут, – сказал он Аните. – Эта старая дегенератка еще живет, а сам Антон Павлович Чехов, побывав на Сахалине, заболел чахоткой и умирает… Я ненавижу каторгу! – вдруг признался Полынов. – Но теперь даже благодарен этой каторге, которая помогла мне найти тебя…
Гротто-Слепиковский отыскался среди корсаковских офицеров очень легко, он ознакомился с запиской от Быкова. Полынов, между прочим, поинтересовался:
– Вам угодно говорить со мною на польском?
– Если вы им владеете, – отозвался Слепиковский.
– В достаточной степени.
– Буду рад. А рекомендация моего друга Валерия Павловича Быкова значит для меня очень многое. Его записка – это почти аттестат в вашей порядочности. Я не стану утомлять вас расспросами о причинах вашего появления в Корсаковске, но догадываюсь, что ваше место именно там, где вас не знают.
– Примерно так, – согласился Полынов. – Но хотел бы напомнить, что у меня хорошие документы.
– Не сомневаюсь, что вы сделали их достаточно правильно, – кивнул Гротто-Слепиковский, мельком оглядев Аниту. – Но вам следует знать, что в Корсаковске состоит начальником барон Зальца, изгнанный из лейб-гвардии за неумелое обращение с казенными деньгами. Считаю своим долгом предупредить вас: это человек не только вредный, но и весьма подозрительный ко всем навещающим его корсаковские владения…
13. На Сахалине все спокойно
Фенечку Икатову, никогда раньше не болевшую и готовую прожить сотню лет, измучила лихорадка с ознобом, ее бил кашель, молодая женщина говорила, что простудилась:
– Именно в ту ночь, что вы приехали с материка. Как услышала лай собак, так и выскочила… прямо с постели! А на дворе-то метель кружила, вот меня и проняло.
Ляпишев, стареющий человек, сострадательно навещал свою горничную. Он, подобно врачу, прикладывал ладонь к горячему лбу женщины, отыскивал пульс на ее влажном запястье. Сейчас для него, наверное, не было дороже человека, нежели горничная, лежащая в пуховиках губернаторской постели.
– Душечка, постарайся не болеть. Ты лучше меня знаешь, что на Сахалине почти нет толковых врачей, а те, которые имеются, способны лечить только каторжан.
– А я разве не каторжная? – заплакала Фенечка.
– Прости. Я не хотел тебя обидеть. Но здесь, на Сахалине, очевидно, никогда не было свободных людей. Если ты каторжная, так и я, твой губернатор, тоже связан с каторгой…
На цыпочках он удалялся в пустой кабинет и долго сидел там, нахохлившись, облаченный в халат, из-под которого броско и ярко посверкивали золотом генеральские лампасы. А ведь Ляпишев был прав: если на Сахалине нельзя даже болеть, значит, нельзя быть и раненым… Был уже месяц май 1904 года, когда по берегам Сахалина дружинники стали отрывать боевые окопы.
* * *
О том, как бездарная военная бюрократия Петербурга – еще до войны с Японией – задушила оборону Дальнего Востока горами непотребных бумаг и отписок, наездами контролеров и ревизоров, копеечным скупердяйством в расходах на главные нужды армии и флота, – обо всем этом, читатель, нам давно известно. Но для меня, для автора, стало новостью, что не меньшую гору бумаг исписали русские патриоты, честные офицеры, предупреждавшие высшее начальство о том, что никакой обороны Дальнего Востока попросту не существует: она высосана из пальца ради успокоения властей разными гастролерами – вроде того же Куропаткина с его легендарным «Карфагеном». И, когда ко мне, автору, пришло цельное понимание всего трагизма войны с самурайской Японией, до зубов вооруженной Англией и Америкой, я стал удивляться не тому, что война завершилась Цусимой, а совсем другому – тому, что русская армия и русский флот так долго, так упорно и столь мужественно отстаивали дело, заведомо обреченное на поражение по вине последнего самодержца и его лоботрясов. Я нарочно сделал тут авторское отступление, которое никак не назовешь лирическим, чтобы читатель понял всю тщету героических усилий русского народа.
Ляпишев тоже не виноват! Генерал-лейтенант юстиции, он старался исполнить все как надо, но оказался беспомощен, ибо никакой Вобан или Тотлебен не могли бы – на его месте – оградить от вторжения неприятеля грандиозную полосу сахалинского побережья, где редко задымит чум одинокого гиляка или блеснет из таежной темени слепой огонечек лучины в избушке охотника на соболей.
Михаил Николаевич четырежды составлял подробные планы обороны острова, в Хабаровске их читали и обсуждали, после чего с берегов Амура планы попадали на берега Невы, где их никто не читал и никогда не обсуждал. Ни один из четырех планов за все время войны так и не был утвержден – ни Куропаткиным, ни генералом Сахаровым, заместившим Куропаткина на посту военного министра. Наконец, Линевич велел во всем разобраться генералу Субботичу, а генерал Субботич прислал на Сахалин своего адъютанта – очень ловкого молодого человека со связкою аксельбантов на груди, провисавших тяжело, как виноградные гроздья.
Ляпишев терпеливо выслушал его монолог:
– Исходя из глубокого анализа высшей стратегии, командование полагает, что Сахалин никак не явится объектом вожделений японской военщины, которая по рукам и по ногам уже связана боевыми действиями на суше и на море. Я уполномочен передать вам, что генералы Линевич и Субботич, не желая обострять отношений с Петербургом, и без того натянутых, предлагают нам совсем отказаться от обороны Сахалина…
– Как? – вытянулся из кресла губернатор.
– Мало того, – соловьем разливался носитель пышных аксельбантов, – вам предлагается вообще удалить с Сахалина все регулярные войска, распустить все дружины ополчения, и пусть Сахалин остается на прежнем положении каторжной колонии. При наличии на острове только одной каторги, при отсутствии на острове какого бы то ни было гарнизона ваш остров потеряет для самураев всякую привлекательную ценность.
Дурнее этого анекдота трудно было придумать.
– А в уме ли вы? – возмутился Ляпишев. – Если самураи и полезут на Сахалин, так не за тем же, чтобы снять кандалы с каторжан, не для того, чтобы разрушить тюрьмы и водрузить над островом знамя гражданской свободы. У них совсем иные цели, и они понятны даже нашим дружинникам: захватить богатства Сахалина, которые валяются у нас под ногами, и об этих богатствах в Токио извещены гораздо лучше, нежели знаете о них вы, сидящие там, в благополучном Хабаровске… Так что же мне делать, черт побери? Или составлять пятый план для архивов этой дурацкой канители, или плюнуть на все и сложить на груди руки, как новоявленному Наполеону? Возвращайтесь обратно в Хабаровск и скажите там, что русский народ никогда не простит нам, если Сахалин станет японским «Карафуто»…
Никогда еще Бунге не видел губернатора таким взбешенным, статский советник даже побоялся задавать ему вопросы. На всякий случай, от греха подальше, Бунге занял свое место в углу кабинета и ждал того гениального мазка кистью, который гениально допишет всю картину сахалинской трагедии.
– А потом, – в ярости выпалил Ляпишев, как бы еще продолжая полемику с хабаровским адъютантом, – потом историки будущей России, перерыв архивы, станут писать в своих монографиях, что все было просто замечательно, все было продумано. Только вот этот старый дурак Ляпишев, который увлекся молоденькой горничной, до того уже отупел, что ничего не сделал для приведения обороны Сахалина в порядок.
Бунге робко выбрался из своего угла:
– Кстати, как здоровье нашей милой Фенечки?
– Плохо, – сразу поник Ляпишев. – Плохо…
Хабаровск вскоре по телеграфу известил его, что присылка дополнительных войск на Сахалин откладывается до… 1906 года! А летом с материка кое в чем помогут.
* * *
Создание дружин подорвало главные устои каторги, а результаты амнистии, обещанной царем после победы над Японией, заметно разрушили основы благополучия чиновников и надзирателей, жиревших за счет труда каторги. Развращенные тем, что жили припеваючи – кум королю, все получая бесплатно, трутни тюремного ведомства пугались дружинника, вчерашнего каторжанина, которого никто не конвоировал. Наоборот, он дерзко маршировал с берданкою на плече, как солдат, и уже не собирался «ломать шапку», украшенную крестом ополченца.
– Кому жаловаться? – уныло вопрошал Слизов, а госпожа Слизова просто изнылась в отчаянии:
– Сначала ушел от нас дворник, который слова дурного от нас не слыхивал; вчера улизнул и повар. Кастрюли стоят до сих пор немытые, дровишек поколоть некому – теперь все за деньги! Страшно подумать, что все эти мерзавцы стали «защитниками отечества», а ведь никто не подумал о наших правах… где же они?
Штабс-капитан Быков выдержал нелегкую борьбу.
– Что-нибудь одно, – доказывал он Бунге, – или мои ополченцы будут заняты обороной острова, или они снова потеряют права воинства, осужденные корячиться на каторжных работах. Нельзя же дергать людей с двух сторон сразу…
Корней Земляков с той самой счастливой поры, как сделался «защитником отечества», едва ноги таскал: с утра его гоняли с берданкой, учили брать штурмом деревенские заборы и колоть штыком «по-суворовски», а с полудня забирали на общие работы, чтобы страдал по-каторжному. Стоило оставить берданку, берясь за топор или лопату, как начинали мордовать тюремщики.
– Да вот он, крест на шапке, – говорил Корней. – Не за тем в дружину пошел, чтобы надо мной изгилялись.
– Ты мне тут еще потявкай! – отвечали ему прежние тюремщики в чинах прапорщиков. – Надо будет, так искалечим…
До лета отрывали окопы вдоль берега, напротив Александровска – со стороны моря – устраивали боевые позиции. В ясные дни, выглядывая из траншей, дружинники часто видели зеленеющий массив материка, а миражи приподнимали над морем далекие видения, и однажды с Сахалина наблюдали, как завернул в сторону Де-Кастри иностранный пароход. Корабли частных коммерческих компаний, желая заработать на выгодных фрахтах, скоро бросили якоря на рейде Александровска. Капитан германского сухогруза «Лодзин» брался доставить на Сахалин военные припасы из Николаевска, горячо убеждая Ляпишева не скупиться:
– Что вам стоит выложить тридцать шесть тысяч рублей, и к концу навигации я завалю грузами всю вашу пристань.
– Дорого, – отказал ему Ляпишев.
«Дорого» потому, что полковник Тулупьев разбазарил казну губернаторства на «подъемные», обогатившие трактирщиков и местных профурсеток, для удобства которых даже открыли особые «танцклассы», где они и отплясывали с каторжным начальством. Недаром же генерал Кушелев говорил Ляпишеву:
– Дайте мне полковника Тулупьева, а я уж сыщу статейку, чтобы он у меня не вылезал из «сушилки».
– Милый мой прокурор, – со вздохом отвечал Ляпишев, – я бы сам перевешал тут половину своих Ахиллов, если бы с эшафота могли они отрыгнуть обратно в казну все переваренное ими в житейский тук, которым и полей наших не удобрить…
Неожиданно с маяка «Жонкьер» пробили первую тревогу: в Татарском проливе завиднелись подозрительные силуэты, поверх которых нависал пар. Ляпишев приказал войскам стать под ружье, сам выехал на тройке с бубенцами к пристани, вооруженный, как полководец перед битвой, громадным биноклем.
– Миноносцы! – точно определил он классификацию вражеских кораблей. – Ясно вижу японские миноносцы. Тащите пушки!
– Да не стреляют они, язви их в дуло!
– Все равно тащите орудия на пристань, пусть враги с моря видят, что мы не лыком шиты, готовы постоять за себя…
Но «миноносцы», отчаянно паря над морем, будто уже получили попадание в котельные отсеки, спокойно уплывали в даль пролива, и тогда к губернатору подошел Корней Земляков, у которого давно не было зубов, но появился новый синяк под глазом.
– Ваше превосходительство, дозвольте отличиться?
Ляпишев великодушно взмахнул биноклем:
– Отличись, братец! А как будешь отличаться?
– Мы с ребятами на кунгасе быстро туда смотаемся и все разглядим, какие они такие. Вы не бойтесь: на материк не удерем, потому как из команды быковской – люди честные!
– Живы вернетесь – всем по Георгию, – обещал Ляпишев.
Дружинники вернулись на шлюпке, пристыженные, словно по ошибке проглотили не варенье, а касторку, на губернатора глаз не поднимали. Михаил Николаевич спросил:
– Ну что там, братцы? Рассмотрели противника?
– Так точно, навоз поплыл, – сказал Земляков. – По весне-то в Николаевске, видать, скотные дворы чистили, весь навоз на лед Амура покидали, вот он и выплыл в море на льдинах. А над навозом всегда пару много, на то он и навоз…
Ляпишев вручил бинокль поручику Соколову, начальнику своего личного конвоя, и перестал изображать полководца:
– Что ты мне эту гирю сунул? Таскай ее сам…
Каждый вечер губернатор отправлял по телеграфу доклады высокому начальству: «На Сахалине все спокойно». Эта фраза, почти эпическая, утешала его самого, но при этом невольно вспоминалась знаменитая формула генерала Радецкого: «На Шипке все спокойно». Кушелев с юмором заметил:
– Как не быть тут спокойствию? Только на картине сахалинского спокойствия надо бы изобразить не балканские кручи, а большие кучи навоза самого скотского происхождения…
Простим их. Ладно! На войне всякое бывает.
* * *
После этого случая – шалишь! – ошибки уже не случится: льдины с навозом никто не перепутает с кораблями. Поговорив на эту важную тему, матросы, служители маяка «Жонкьер», легли спать. Они так сладко спали, что даже не заметили, как с моря подкрался затаенный и острый, как нож, миноносец. Когда же очухались и кинулись названивать тревогу по телефону, миноносец уже подал на берег швартовые концы…
Это был наш миноносец – из Владивостока! Каторжане вежливо спрашивали матросов:
– Ну, как там житуха, во Владивостоке? Ответы звучали браво, по-морскому краткие:
– Ничего. Спасибо. Хреново.
Ляпишев принял у себя командира миноносца.
– На Сахалине, слава богу, пока спокойно, – отчитался он скорее для утешения самого себя. – Но мы живем на острове в полном неведении происходящего во внешнем мире. Не затруднитесь изложить краткий перечень победных событий.
Миноносник уселся напротив губернатора:
– Ну какие же тут победные события? О том, что произошло на Ялу, вы, конечно, извещены лучше меня, грешного.
– Да кто ж нас извещает?
– Так я доложу, что на Ялу наши войска отступили. Потом японцы высадились у Бицзыво, и генерал Оку перерезал сообщение с Порт-Артуром, блокировав его с севера.
– Впервые слышу, – удивился Ляпишев.
– Неужели не знаете, что мы сдали город Дальний?
– Да быть того не может!
– И, наконец, – подвел итоги офицер флота, – пока у вас тут все спокойно, в боях у Вафангоу японцы доколачивают нашего бравого генерала Штакельберга… Пока все!
Ляпишев долго пребывал в отупелом оцепенении.
– Огорошили вы меня, – сказал он. – Если бы сейчас под моим столом взорвалась мина, я бы не удивился так, как удивлен вашими словами. Теперь я понимаю, почему Хабаровску и Петербургу стало не до Сахалина. Но то, что вы рассказали, это, простите, не лезет ни в какие ворота. Я, старый военный юрист, отказываюсь понимать, как теперь правительство объяснит народу, куда ухались денежки, собранные с того же народа посредством всяческих налогов на флот и армию…
Ему было не до праздников, но, уступая настояниям дам, губернатор все-таки разрешил устроить бал в честь прибытия миноносца. Флотские офицеры явились в клуб Александровска, резко выделяясь своим обликом среди сахалинцев. В красивых мундирах, облитых золотом эполет и галунов, при треуголках с кокардами, они гордо опирались на вычурные эфесы парадных сабель – и казались выходцами из другого, ослепительного мира, в который нет доступа захудалым островитянам с каторги.
Ляпишев был мастер поговорить, любил застольные тосты, но сегодня он обратился к морякам с простыми словами:
– Вы уж, пожалуйста, не оставьте наш бедный Сахалин своим вниманием. Мы здесь совсем одиноки, нам негде ждать поддержки. Но, глядя на вас, молодых и красивых, хочется верить, что российский флот, издревле осененный славным Андреевским стягом, еще издали подаст нам руку помощи, как вы сегодня подали свои крепкие швартовы на причал Сахалина!
На следующий день миноносец поднял давление в котлах, тихо удаляясь от стенки убогого сахалинского пирса, и служители маяка «Жонкьер» видели, как он медленно растворился в солнечном сверкании моря, ловко обходя подводные камни.
14. Осторожно: подводные камни
Гротто-Слепиковский оказался замечательным человеком. Это был образованный и культурный офицер, веривший в неизбежность революции не только в России, но и в… Польше.
– Я задену вашу минорную струну, – оказал ему Полынов. – Вам, поляку, наверное, не совсем-то удобно отстаивать оружием русские интересы на самых задворках России?
– Почему вы так плохо обо мне подумали! – даже обиделся Слепиковский. – Многие тысячи поляков считают за честь служить в русской армии. Не спорю, что мне, природному поляку, было бы желательно воскресить великую Польшу, вернув в ее лоно те земли, что неправедно расхищены немцами. А на улицах Варшавы, – сказал он смеясь, – я совсем не желаю видеть ваших городовых с шашками. Я не против русских, но терпеть не могу политических выкрутасов Пилсудского, желающего извратить великий смысл исторических связей старой Польши и старой России. Может быть, поэтому мне слишком часто вспоминается трагическая жизнь Яна Собеского[1] и его «вечный мир» с Россией…
После этого мужчины долго, со знанием дела говорили о короле Собеском, отзываясь о нем с сочувственной печалью. Анита, сидя меж ними, слушала. Затем Слепиковский сказал:
– Сейчас в Корсаковск иногда заходят купеческие шхуны из Владивостока, и вам, имеющему хорошие документы, почему бы не выбраться с Сахалина на материк?
Полынов ответил, что это невозможно, ибо на материке он будет арестован скорее, нежели в этом хаосе Сахалина (и тогда последует не только настоящая каторга, но и вечная разлука с Анитой). Это было сказано им в присутствии девушки, и, возвращаясь домой, на тихой улице Анита сказала ему:
– Спасибо! Все-таки ты меня полюбил…
Ответ Полынова заставил Аниту призадуматься.
– Я не прошу, чтобы ты полюбила меня, – сказал он. – Я прошу только об одном: чтобы ты не разлюбила меня…
Именно в этом году Юзеф Пилсудский оказался в Токио, где установил деловые контакты с разведкой японского генштаба, чтобы совместно с самураями вредить где только можно России и русскому народу. «Несомненно, – думал Полынов, – у него и поныне сохранились какие-то связи с разгромленной „боевкой“ Лодзи, не исключено, что злокозненные нити предательств тянутся до Сахалина». И тут Полынов сразу же вспомнил последний разговор с Глогером, который заставил его помяукать. Анита заметила его повышенную нервозность, а Полынов не счел нужным скрывать от девушки своей озабоченности. Но сначала спросил:
– Ты, кажется, ждешь от меня правды?
– Да. Скажи мне все.
– Все я говорить тебе не стану. Но зато скажу главное. Не так давно на Сахалине появился один поляк, который вызвался похоронить меня. Смертный приговор, очевидно, санкционирован самим Пилсудским… Печально жить все время настороже, боясь выстрела в спину. Но теперь, – сказал Полынов, – после появления Пилсудского в Японии ситуация сразу же изменилась.
– Изменилась… к лучшему?
– Да! Теперь уже не Глогер убьет меня, а я сам обязан разделаться с Глогером, и мой приговор обжалованию не подлежит. Конечно, это будет нелегко… даже очень трудно!
О том, что Пилсудский приехал в Токио, Полынов узнал от Слепиковского и, естественно, спросил: откуда ему стало это известно? Штабс-капитан сказал, что от барона Зальца.
– Зальца даже не скрывает, что сохранил прежние связи с Кабаяси, наверное, от него барон и узнал о Пилсудском. Но я предупреждаю, что на глаза барону Зальца вам лучше не показываться: Зальца очень хитер и проницателен. Я не ручаюсь за вас, имеющий паспорт на имя Фабиана Вильгельмовича Баклунда будет им сразу разоблачен.
– Пошел он со своей хитростью, извините, под хвост первой же собачке! – раздраженно ответил Полынов. – Я угодил на каторгу по собственной глупости, но я не глупее вашего барона…
Корсаковск погрузился в сон. Тюрьма позванивала кандалами узников, гасили свечи зевающие чиновники, вздрагивали во сне тюремные надзиратели, нащупывая револьверы, сладко опочил и барон Зальца, начальник этого полудохлого царства. В городе было тихо, и очень тихо разделась в потемках Анита.
Тонкими руками она обняла Полынова за шею.
– Мне так нравится тебя слушать, – прошептала она. – Расскажи еще что-нибудь… хотя бы об этом Яне Собеском.
Полынов ладонью прикрыл ее лицо.
– Жил-был король когда-то…
– …при нем блоха жила! – рассмеялась Анита.
– Нет. При короле жила королева, а звали ее Марысинкой. Памятник этой женщине и поныне стоит в Летнем саду Петербурга, где ты еще никогда не бывала. Марысинка была красива – как и ты, а Собеский любил ее, как я люблю тебя.
Ладонью он ощутил ее слезы.
– Не плачь. Я сделаю тебя королевой, как Ян Собеский сделал королевой безвестную Марысинку, и они не расставались…
– Никогда?
– Никогда. До самой смерти короля…
Высокий маяк «Крильон», установленный на самой южной точке Сахалина, посылал в ночь короткие, тревожные проблески, а с севера дружески подмигивал кораблям маяк «Жонкьер».
«Кто знает! Не это ли их будущие имена?»
* * *
Полицмейстер Маслов доложил Ляпишеву, что начались странные поджоги мостов, чья-то злая рука сковырнула вчера с насыпи вагонетки железнодорожной «дековильки», а в шахтах Дуэ случился обвал, погибло сразу четырнадцать каторжан-шахтеров, генерал-майор Кушелев уже выехал к месту происшествия.
– По слухам, крепи в шахте оказались подпилены…
Михаил Николаевич даже руками развел:
– Безусловно, японская колония Сахалина не ушла просто так, приподняв цилиндры над головами, она оставила здесь свою агентуру. А что мы можем предпринять в свою защиту? Я бессилен… Где мне взять столько людей, чтобы охранить всю береговую полосу острова, если мы с трудом наскребли две тысячи людей с берданками для ограждения Александровска и Корсаковска?.. Впрочем, благодарю. Учтем и это.
Маслов уложил бумаги в портфель, спросил участливо:
– А как там Фенечка? Хуже или полегчало?
– Неважно. У нее как раз врач Брусенцов…
Военный доктор Брусенцов, который пользовал в городе самого губернатора и семьи сахалинского начальства, вышел из комнаты Фенечки с удрученным видом. Он сказал:
– Если эта женщина слишком дорога вам, советую отправить ее на материк, чтобы показать врачам Владивостока.
– Понимаю, доктор, ваши опасения, но Фенечка не жена ведь мне, а только каторжница, взятая мною в услужение. Как человек, я могу сердечно сочувствовать ей. Но, как губернатор, не имею права отпустить каторжницу с Сахалина. Это было бы грубым нарушением законности и правопорядка, блюстителем которых я здесь являюсь по воле моего монарха.
– Тогда, – сказал Брусенцов, накидывая пальто, – вы не судите нас, врачей, слишком строго, если с вашей горничной случится что-либо худое. К этому вы должны быть готовы…
Михаил Николаевич прошел в комнату Фенечки и, склонясь над нею, с невольным трепетом расцеловал ее руки.
– Ах, Феня, Феня… Почему такая кривая и уродливая жизнь у нас? Ты бы знала, как мне тяжело! Чем бы помочь тебе?
– Стоит ли жалеть вам меня, ежели я сама во всем виновата? – спросила его горничная. – Коли уж в народе говорят, что от тюрьмы да от сумы не отказывайся, так чего мне теперь от смерти-то воротиться? Помру – туда и дорога…
В эти дни Ляпишев сделал доброе дело – избавил Клавочку Челищеву от сидения над корректурами приказов губернского правления. Бестужевка имела диплом об окончании школы фельдшериц, и теперь для нее шили ладненький костюм сестры милосердия. Михаил Николаевич спросил девушку:
– В каком из наших отрядов хотели бы служить?
– Если можно, в отряде штабс-капитана Быкова…
Конечно, госпожа Слизова и подобные ей сплетницы уже разнесли молву по городу, будто эта чистюля, корчащая из себя ученую недотрогу, «путается» с Быковым, но Михаил Николаевич оказался выше этих негодных сплетен.
– Не имею причин отказывать вам, – сказал он.
К лету 1904 года в дружинах числилось уже две с половиной тысячи добровольцев, а конвойные команды, ранее охранявшие каторжан, перевели в разряд резервных батальонов. Лошадей не хватало (север Сахалина имел всего пятьдесят всадников, а в Корсаковске с трудом набрали кавалерию из четырнадцати человек). Наконец, из Николаевска прибыло подкрепление – батальон крепостного полка, составленный из пожилых людей, призванных из запаса, и Кушелев выразился о нем слишком четко:
– С поганой овцы хоть шерсти клок, и на том спасибо этим мудрецам из Хабаровска.
Не было хорошего оружия, кроме стареньких берданок, не было бинтов и лекарств. А четыре негодные пушки тупо смотрели в синеву Татарского пролива. Капитан Таиров клятвенно утверждал за картами, что японцы на Сахалин не полезут:
– Имею самые точные сведения! Не хватало им еще мороки с нашими головорезами… Чего они тут не видели?
– Ну, это вы завираетесь, капитан, – отвечали ему партнеры по штосу. – Японцы могут прийти. Но придут только в том случае, если проиграют войну в Маньчжурии.
– Да бросьте вы, господа! – говорил поручик Соколов. – Порт-Артур уже сковал все японские силы, по слухам, на Балтике готовится могучая эскадра адмирала Рожественского. Скажу больше – скоро нам пришлют новые пушки…
Правда! На материке, видать, поднатужились и оторвали от своих запасов целую батарею пушек для Сахалина. Орудия встречали на пристани, как триумфаторов, музыкой гарнизонного оркестра; в честь прибытия артиллерии Ляпишев разрешил устроить «народное гулянье» по улицам Александровска. На этом же гулянье штабс-капитан Быков увидел Клавдию Петровну в новом платье сестры милосердия и не скрыл своего недовольства:
– Вам к лицу! Но зачем вы это сделали?
– А вы разве сами не догадались?
– Признаться, нет.
– Меня больно задели ваши слова, сказанные в похвалу той девчонке, которая рядом с гадким человеком убралась от нас. Мне хотелось доказать вам, что я тоже могу быть рядом…
– Неужели рядом со мной?
– Да.
– Рядом со мной вам будет очень трудно…
Быков не сказал ей самого страшного. В японской армии тоже были сестры милосердия. Но их кадры формировались посредством набора из домов терпимости. Самураи думали, что русские сестры милосердия таковы же, и потому на полях сражений они косили наших санитарок нещадным огнем своих пулеметов.
* * *
Пожалуй, один только барон Зальца, окружной начальник в Корсаковске, ведал истинное положение вещей, точно оповещенный, что японцы обязательно высадятся на Сахалине, ибо в захвате острова самураями больше всего были заинтересованы деловые круги США. Залежи угля и нефти на Сахалине давно будоражили аппетиты заокеанских капиталистов. Зальца, поклонник японского массажа и любитель приемов джиу-джитсу, был не только приятелем японского консула Кабаяси! Нет, он пошел еще дальше, заручившись дружбой с инженером Клейе, искавшим на Сахалине нефтяные источники. Тайный агент американской компании «Стандард Ойл», Клейе с 1898 года безвылазно торчал в Александровске, всюду афишируя, что составит нефтяной синдикат, после чего даже на «кандальных» каторжан, сидящих на параше, низвергнутся колоссальные прибыли… А теперь скажем правду: даже не консул Кабаяси, а именно этот «тихий американец» ван (или фон) Клейе являлся главным осведомителем Зальца, от него барон и узнал о появлении в японском генштабе пана Юзефа Пилсудского. Правда будет нами продолжена: щедрая любезность Клейе требовала ответной информации, а потому барон Зальца регулярно оповещал Клейе о всех делах на русском Сахалине, и нетрудно догадаться, куда же в конце концов поступали эти сведения…
В биографии этого остзейского негодяя из Курляндии не все было благополучно, иначе барон не «загремел» бы на Сахалин. Он телефонировал в Александровск – самому губернатору:
– Ваше превосходительство, у меня в Корсаковске появился некий агент торговой фирмы по имени Фабиан Вильгельмович Баклунд. Я уже веду за ним тихое негласное наблюдение, но ничего предосудительного пока не обнаружил. Вы его знаете?
– Ничего не знаю, – сказал Ляпишев. – Но помнится, что я визировал паспорт Баклунда по прибытии его на Сахалин.
– Баклунд утверждает, что начало войны застало его в сахалинской глуши, где он задержался из-за болезни племянницы.
– Да, да, – ответил Ляпишев, – теперь я вспомнил! Кажется, он был у меня еще до моего отъезда в отпуск…
(Ляпишев действительно знал Баклунда, но подлинный Баклунд отплыл с Сахалина еще осенью прошлого года, о чем губернатору не было известно.) И барон Зальца успокоился. Но Полынову предстояло серьезное испытание! Конечно, он предвидел, что за ним установлено наблюдение, вслед за которым последует неизбежное свидание с окружным начальником. В подобных случаях надо идти прямо на тигра, а не убегать от него.
Гротто-Слепиковского он спросил:
– Где бывает по вечерам ваш глупый барон?
– Этот умный барон играет в клубе на бильярде.
– А ты посидишь дома, – велел Полынов Аните.
– Не уходи без меня… я боюсь за тебя!
– Ерунда, – ответил Полынов, заряжая браунинг.
В бильярдной клуба Зальца предложил Баклунду разыграть партию. Баклунд ответил ему согласием на отличном немецком языке, что понравилось барону. Великолепный игрок, Зальца обошел бильярд по кругу, предупредив соперника:
– А я вас «дворянским»… не возражаете?
«Дворянским» ударом, пустив шар зигзагом, барон заколотил в лузу два шара подряд – «модистку» (№ 2) и «барабанные палки» (№ 11). Полынов-Сперанский-Баклунд сказал:
– Своим умением вы доставили мне приятное волнение. А я вас… «кочергой» прямо в «бабушкино наследство»!
Семеркой он уничтожил восьмерку, потом точными выбросами кия вмиг опустошил от шаров зеленое сукно бильярда.
– Вы играете, как английский аристократ.
На похвалу барона Полынов ответил:
– Сознаюсь, что в Мукдене моим постоянным партнером был английский консул Артур Бриджстоун.
– Значит, вы владеете и английским языком?
– Да. Но терпеть не могу английской литературы.
– Почему? – выпытывал барон Зальца.
– Не понимаю английского юмора. Наверное, надо родиться англичанином, чтобы ощутить английское остроумие. Уж сколько раз я, немец из Бауска, вникал в британское чистописание, насильно принуждая себя расхохотаться, но даже улыбки у меня не возникло на скорбно изогнутых губах.
– Однако знатоки считают английский юмор тонким.
– Возможно! Но, очевидно, он тоньше человеческого волоса, и потому нормальному человеку без помощи микроскопа его даже не заметить, как мы не замечаем микробов…
Барон Зальца расплатился с Полыновым за проигрыш:
– Так вы, оказывается, мой земляк? Тоже курляндец? У меня в Бауске были хорошие знакомые. А… у вас? – Поставив вопрос, Зальца с выжидательным трепетом ожидал неверного ответа, но получил ответ самый верный:
– Я бывал в доме бауского предводителя дворянства барона Бухгольца, сестра которого вышла за эстляндского барона Эдуарда Толя, прославившего себя полярными открытиями.
Зальца был удивлен точностью сведений:
– А что заставило вас служить в торговых фирмах?
– Желание повидать мир. Наконец, скудость кошелька родителей, которых я неудачно выбрал еще до своего рождения.
– Я слышал, с вами и племянница?
– Бедная моя сиротка! – огорченно вздохнул «торговец». – Она так привыкла ко мне. Volens nolens, но предстоят немалые заботы о том, чтобы обеспечить ее приданым…
– А не выпить ли нам? – вдруг предложил барон.
Кажется, Зальца решил его подпоить. Но Полынов сослался на свое давнее органическое отвращение к алкоголю.
– Выпить я с вами могу… стакан молока!
– Послушайте, а как вас занесло в эти края?
– Увы, война спутала мои планы. Я хотел наладить в бухте Маука отлов трепангов для китайского рынка и добычу морской травы laminaria digitata для японских ресторанов. Но… увы! Сейчас возник очень острый вопрос в снабжении солью.
(В бухте Маука теперь районный центр – город Холмск.)
– Какая же нужна соль?
– Лучше всего с илецких копей, – пояснил Полынов.
Зальца настойчиво прощупывал его со всех сторон:
– Илецк… это, простите, где? В Африке?
– Нет, шестьдесят верст к югу от Оренбурга.
– А разве японская соль плохая?
– Неважная. У нее нездоровый запах и дурной привкус, недаром же сами японцы вынуждены закупать соль в Америке.
– Вы, я вижу, специалист в своем деле.
– А служить в солидных торговых фирмах нелегко, – ответил Полынов. – Приходится разбираться даже в качествах соли – альтонской, закарпатской, ишльской, евпаторийской, страсфуртской и прочих. Да, нелегко…
Полынов вернулся домой – прямо в объятия Аниты.
– Расскажи, что было с тобой?
– Я снова поставил на тридцать шесть.
– Тебе повезло?
– Кажется, я выиграл…
С мыса Крильон маяк продолжал посылать во мрак ночного моря проблески сигналов, оповещая всех плывущих с Лаперузова пролива: осторожнее, будьте бдительны, иначе вы все разобьетесь о подводные камни.
15. Господа выздоравливающие
Желтые воды Сунгари медленно обтекали грязные задворки Харбина. Спать мешали скрипы двухколесных арб, управляемых ударами хлыстов и криками погонщиков. По лужам шлепали босые нищие, таская на плечах длинные коромысла, но вместо ведер, столь привычных для русского уклада, на коромыслах висели плетеные корзины, и в каждой сидело по ребенку…
Капитан Жохов наблюдал за повседневной жизнью Харбина через окно военного госпиталя, он часто ругал нищих:
– Вот вам! Самим жрать нечего, а они плодятся с такой быстротой, будто законы мальтузианства к ним не относятся.
Харбин, эта унылейшая столица КВЖД, протянувшей рельсы в глубину Маньчжурии, на время войны превратился в главный госпиталь страны, принимая каждую ночь до четырех санитарных поездов. Выздоравливающим и отпускным нечего было делать, а самое веселое место в Харбине – это вокзал с рестораном.
Сергей Леонидович Жохов, излечиваясь после ранения, даже в госпитале пытался писать для «Русского инвалида», но обстановка на фронте не радовала, он восхвалял уже не генералов, а незаметные подвиги русских врачей и сестер милосердия. Теперь он писал об ампутациях по методу Лисфранка, об отнятии ступней и голеней по Шопару, о вылущении суставов по способу Гранжо, писал о том, что фронтовики, не выдержав болей, иногда стрелялись прямо на койках харбинских госпиталей. Когда хирург Каблуков подарил Жохову японскую пулю, извлеченную при операции из его тела, капитан осмотрел ее глазами грамотного и толкового генштабиста:
– Шесть с половиной миллиметров. Заключена в мельхиоровую оболочку. Выпущена из ружья системы Маузера. Должен сказать, что эта красотка намного гуманней той, которую я получил в самом начале двадцатого века от «боксеров» при штурме фортов Таку! Зато японская шимоза – не приведи бог под нее угодить, и осколки от ее разрывов острые, как рыболовные крючки.
Офицерскую палату навестил генерал Надаров:
– Господа выздоравливающие! Я, как начальник тыла армии, уполномочен сделать вам предложение. Сахалин еще остается в опасности, а в тамошних условиях возможна только партизанская война, и вам предлагается стать командирами партизанских отрядов. Неволить вас в этом решении никто не станет, дело тут чисто добровольное. Пожалуйста, решайте сами.
Один из очевидцев этой встречи писал: «Командировка при таких условиях казалась лестной. Решить вопрос, желаешь или нет, просили сразу же… в голове быстро роились мысли, соображения, вопросы. Хотелось принести большую пользу родине, манила и самостоятельность. Там, на Сахалине, быть может, можно больше и существеннее послужить любимой России…» Но большинство офицеров сразу же отказались от такой чести:
– Сахалин у нас превращен в помойную яму империи, куда сваливаются всякие отбросы общества, а посему я, честный русский офицер, отказываюсь сражаться за эту помойку!
Осталось лишь несколько добровольцев, желавших ехать на Сахалин, среди них оказался и капитан Жохов.
– А вам-то зачем? – удивился генерал Надаров.
– Я же корреспондент и потому всегда должен быть там, где меня никто не ждет. К тому же я лично знаком с сахалинским военным губернатором. Милый и симпатичный человек…
Вечером с чемоданами в руках офицеры долго блуждали в путанице рельсов, между эшелонами, поездами и множеством вагонов. Были вагоны-перевязочные, операционные, вагоны-изоляторы, вагоны-прачечные, вагоны-ледники, вагоны-рестораны и просто товарные теплушки, переполненные злющими маньчжурскими клопами. Наконец, офицеры втиснулись в роскошный вагон личного поезда княгини Зинаиды Юсуповой, который, мягко качнувшись на эластичных рессорах, медленно потащился к Амуру…
* * *
В штабе Приамурского военного округа (это уже в Хабаровске) «господам выздоравливающим» показали сверхсекретную инструкцию для партизанских отрядов на Сахалине. Жохов, как генштабист, был предельно возмущен:
– Зачем нам суют эту галиматью, составленную из примеров двенадцатого года? Сейчас двадцатый век, и условия партизанской борьбы станут совсем иными. Наконец, вы дали нам карты Сахалина, будто вырванные из гимназического учебника по географии, по ним не узнаешь ни характера гор на юге острова, ни проходимости рек… Где же простейшая триангуляция?
– Насчет триангуляции спросите на Сахалине.
– У кого спрашивать – у каторжников?..
Так офицеры впервые столкнулись с полным незнанием Сахалина и его условий. Все были образованные, все знали Францию и Германию, по газетам судили о Китае, Египте и Гватемале, а вот своих же окраин не ведали. С большим трудом они раздобыли в Хабаровске две книги о Сахалине – Чехова и Дорошевича, чтобы читать их в дороге. Однако были удивлены:
– Да в них один стон и скрежет зубовный…
По Амуру ходили тогда большие комфортабельные пароходы с громадными колесами на корме, отчего уссурийские жители называли их «силозадами». Офицеры разместились по каютам и, оглядывая речные пейзажи, поплыли в незнаемое. Чехова и Дорошевича читали вслух, комментируя прочитанное:
– Черт побери! Всякое мог думать, но чтобы на Сахалине был еще и музей – это превосходит всякую меру ожидания…
Поражала статистика: Россия ежегодно тратила на Сахалине полтора миллиона рублей, ничего взамен не получая, а японцы, не будучи хозяевами острова, зарабатывали с него миллионы.
– А куда же смотрела наша хваленая администрация?
– Успокойтесь, господа выздоравливающие! Администрация Сахалина на все смотрит через глазок тюремного карцера…
Каждый русский в те времена вспоминал о Сахалине с душевным содроганием, как о тяжкой неизлечимой болезни, ибо за всю жизнь не слыхал о нем ни одного путного слова. А теперь офицеры сами уплывали в эти презренные края, готовые защищать их до последней капли крови как важнейший рубеж.
– Хватит критики! – рассуждал Жохов. – Что вы, господа, так пылко охаиваете Сахалин? Вспомните «Железную дорогу» Некрасова, там ведь тоже была каторга, самая настоящая, только не маячили у насыпей конвоиры с оружием да не бренчали кандалы поверх онучей наших мужиков-землекопов. А разве лучше было в «Мертвом доме» Достоевского? Ей-ей, господа выздоравливающие, еще можно поспорить, где лучше отбывать срок – в одиночке «Крестов» и Шлиссельбурга или на каторге Сахалина…
Страшная таежная глухомань по берегам Амура вселяла тоску. Редко появится русское селение, где домашний скот заменяли тощие собаки, облаивающие каждый «силозад» с таким небывалым усердием, будто им за это выплачивали премиальные. Сами же поселенцы – тоже люди не первого сорта, и, когда их спрашивали, из каких губерний приехали на Амур, они отвечали:
– Какая там к бесу губерния! Мы свое уже отсахалинили, теперь по закону обязаны отсидеть срок на Амуре в лесу, чтобы потом далее ехать – домой к себе, на родину…
Постоянной оседлости не чувствовалось, каждый каторжанин, попадая сюда, хотел отсидеться подальше от начальства, всеми правдами и неправдами «зашибить деньгу», а потом смыться. По мнению сахалинцев, тут везде было плохо, и только в России все было великолепно, как в раю небесном.
– Позорный результат колонизации, – говорил Жохов. – Я верю, что, когда на Амуре появятся новые люди с идеалами добра и святости, местная жизнь станет неузнаваема…
В селе Софийске причалили к борту парохода с потушенными огнями, изнутри которого слышались вопли и сатанинский хохот, будто в трюмах этого «силозада» пытали грешников или развлекали людей комедиями. Жохов окликнул матроса:
– Что у вас там происходит?
– И-де? – спросил матрос, шлепая босыми пятками.
– Да у вас, у вас. Кто там орет и хохочет?
– Психи!
– Откуда они взялись?
– А мы с Сахалина притопали. Тамошний губернатор указал на время войны дом для умалишенных вывезти на материк, чтобы психи окаянные не мешали ему с японцами воевать…
Не спеша дотащились до Николаевска, который на ландкартах Российской империи именовался «крепостью». Но что было в этом амурском городишке от крепости – не понять. Может быть, оборону мощно укрепляли сонные офицеры гарнизона, которых никогда не видели с утра побритыми? А возле пристани торчали шесть речных миноносок; с их палуб матросы, выворачивая скулы в зевоте, ловили рыбок на удочки. Правда, город охранял устье Амура, для чего по берегам были расставлены пушки, но все равно сердце болезненно сжималось при виде этого «крепостного» убожества… Меж собою офицеры говорили:
– Неужели и на Сахалине такое же? Кошмар. Ужас.
В магазинах за пачку папирос просили рубль.
– Да вы что, или тронулись на Амуре?
– А за дешевыми папиросками езжай в Россию…
«Господа выздоравливающие» решили перед Сахалином помыться. Банщик, потерев спину, потребовал с Жохова три рубля.
– В Москве-то у Сандунова за полтинник потрут.
– А здесь вам не Москва, чтобы полтинником фасонить. Ежели станете кобениться, я мгновенно скандал устрою. У меня, чтобы вы знали, и кум в полиции служит… Я вам не какой-нибудь, я шесть лет на сахалинской параше отсидел!
– Жаль, что тебя не утопили в этой параше…
Из Николаевска отплыли на частной шхуне сахалинского негоцианта Бирича, бывшего уголовника, который, угодив на Сахалин, стал майданщиком, нажил тысячи, теперь проживал барином, владея на Сахалине домами и целой флотилией шхун. Бирич внушал офицерам не верить в дурные слухи о Сахалине:
– Это все бездельники придумали… писатели там разные! Читали мы галиматью ихнюю. Дай бог, чтобы в России такой «прижим» был, какая на Сахалине… свобода! На Сахалине только и жить хорошо человеку, ежели он умеет мозгой шевелить…
Бирич хвастал, что дочка его окончила гимназию Владивостока, теперь к ней посватался граф Кейзерлинг, который служит лейтенантом на броненосце в Порт-Артуре.
– И ничего! Даже графьям не зазорно с нашими каторжанами родниться. Вот приплывете на Сахалин, сами увидите.
* * *
Чиновник Слизов был первым, встреченным на пристани Александровска, и он даже развел руками перед Жоховым.
– Что я вижу! – последовало восклицание. – Сколько лет сахалиню, повидал приезжих с разными значками, университетскими и корпусов кадетских, но еще никогда не встречал человека со значком Академии русского Генерального штаба…
Ляпишев обрадовался прибытию офицеров с фронта, уже обстрелянных в боевой обстановке, в их приезде он хотел видеть добрый признак укрепления сахалинской обороны, и, конечно же, Ляпишев был искренно рад встретить капитана Жохова.
– Сергей Леонидович, – сказал он, – в гарнизоне немало темных людей, которых не мешало бы просветить. Мы же ничего не знаем о войне, не знаем, как воюют японцы, и было бы хорошо, если бы вы прочли в клубе лекцию, а?..
Вечером Жохов выступил перед офицерами гарнизона:
– Должен сказать, что на полях Маньчжурии мы встретили сильного и опасного противника. Япония почти брезгливо отмахнулась от опыта англо-бурской войны в Африке, самураев никак не соблазнила военная доктрина англичан, сводившаяся, по сути дела, не к подавлению врага, а лишь к обману его… Японская армия, напротив, освоила энергичный натиск стратегии германского фельдмаршала Мольтке Старшего – их впечатляли быстрые маневры, гибкие охваты с флангов. Наконец, японцы показали себя в этой войне xс нами прекрасными знатоками маскировки: можно пройти мимо японского солдата и даже не заметить его, полностью растворившегося в зелени гаоляна.
Жохов не скрывал от слушателей, что порядки японской армии достойны всяческого подражания:
– У них отсутствует генеральство за выслугу лет, как у нас, у них нет карьеризма, разъедающего нашу армию. В японской же армии ты можешь быть родным братом самого микадо, но, если не отличился личным примером в боевой обстановке, ничего не получишь. У японцев людей награждают только по истинным заслугам, а не «по блату», как это, к великому сожалению, случается в России… Еще, – сказал Жохов, – я хотел бы обратить внимание господ офицеров Сахалина на то, что все японцы – мастера шпионажа. Как в большом, так и в малом! Наша русская пресса уже не раз писала, что они любят шпионить даже за родственниками и друзьями, а репортеры токийских газет – это настоящие филеры. Если ночной вор крадется за добычей, он боится уже не полиции, а журналиста, следующего за ним с блокнотом. Если девица тайком спешит на свидание, репортер не сводит с нее глаз. Завтра в газетах будет опубликована ее биография, все в Японии узнают об ее кавалере: «Редакция газеты считает своим долгом напомнить родителям невесты, что избранник ее сердца уже второй год не может расплатиться с прачками за выстиранное белье…» После такой публикации жениху уже незачем назначать девице следующее свидание!..
На крыльце клуба к Жохову подошел штабс-капитан Быков.
– Как я вам завидую! – горячо сказал он.
– Завидуете… чему?
Быков показал на значок Академии Генштаба.
– Но это же не орден, – рассмеялся Жохов.
– В моих глазах, – отвечал Быков, – этот значок ценнее и выше всех орденов, ибо делает из офицера культурного человека, а многие из нас лишены самых простейших знаний…
Жохов догадался, что Быков давно служит на Сахалине, и он в осторожной форме стал выведывать у штабс-капитана: что ему известно о некоем ссыльнокаторжном Полынове?
Но Быков сразу замкнулся, весьма сухо ответив:
– С этим лучше обратиться к полицмейстеру…
Маслов встретил военного журналиста с чрезвычайным радушием. В вопросе же о Полынове, который повесился от неразделенной любви к горничной губернатора, полицмейстер охотно допускал и такой вариант, что Полынов никогда не вешался:
– Вы попали в страну чудес! Тут у нас полно всяческой экзотики. Сегодня один человек, а завтра уже другой. Возможно, что Полыновых вообще не было на Сахалине.
– Вот как?
– Но допускаю, что их было сразу два.
– И такое возможно?
– Конечно! Что вы хотите, если у меня на каторге три знаменитых разбойника и все трое зовутся одинаково, каждый из них называется Тенгиз-Амурат-Баба-Оглы-бей.
– Как же вы их различаете?
– Проще простого. Собрал всех трех вместе. Палач у меня всегда наготове. Разложил разбойников на лавке и давай накладывать печати казенные. Одному пять плетей, второму десять, а третьему пятнадцать. Теперь не отвертятся! Надо узнать, какой Тенгиз-Амурат провинился, палач суконкой его разотрет, а на спине красные полосы выступают: пять, десять, пятнадцать… Вы только мою фамилию не записывайте, – сказал полицмейстер Маслов, испугавшись блокнота в руках Жохова. – Я, знаете ли, в передовых людях хожу, даже реформы всякие приветствую, а моя жена изучает сочинения господина Боборыкина. Не дай бог, если в печати мое имя появится. Ведь тут все затравят меня… от зависти!
Маслов советовал Жохову посетить местный музей:
– Ну что там Лувр, где одни Мадонны с младенцами? Ну что там наш Эрмитаж, где и смотреть-то нечего, кроме баб, догола раздетых? Зато уж в нашем сахалинском музее такие экспонаты разложены, что ахнете от восторга… Такие плети, такие кандалы, такие рожи висят, каких нигде не увидите. Обязательно побывайте. Паче того, вход у нас бесплатный. Мы же не «глоты», чтобы последнюю копейку из бедных рвать…
16. Цензура этого не пропустит
Тюремная поэзия редко одаривала литературу шедеврами, и большая часть стихов пропала для нас в прошлом, тихо угаснув вместе с их безвестными авторами. Далекая от совершенства, сахалинская поэзия покоряла не совершенством формы, а лишь документальностью содержания… Вот как писал о Сахалине старый политкаторжанин И. И. Мейснер:
Позорный край, где царствует насилье, Где долг и честь под плетью палача, Где женский стыд лишь вызовет глумленье, Остроты грязные и шутки подлеца. Где вьюги вечный стон и звон цепей печальный, Где жизнь унылая, как факел погребальный. Несчастный край, где кровью сердце плачет, Где морем слез насыщена земля, Где все – печаль… печально ветер дышит! Печальная, печальная страна.Наше путешествие по музею сахалинской каторги, читатель, может быть только воображаемым, ибо этого музея давно не существует. Открытый в декабре 1895 года, музей в Александровске был основан политкаторжанами; они же были его первыми научными работниками и экскурсоводами. Перед зданием музея на деревянных стапелях, как большой корабль, завершивший трудное плавание, покоился громадный скелет кита, выброшенного однажды на берег свирепым штормом. А внутри музея – несколько комнат, но совсем нет публики, и печальный экскурсовод Вычегдов, увидев капитана Жохова, откровенно жаловался:
– Не идут к нам! Кому интересно, если все здесь собранное можно увидеть и в жизни. Наверное, необходимо время, чтобы сменилось несколько поколений, а тогда внуки и правнуки нынешних каторжан повалят в музей толпами, и каждый экспонат станет для них уникальной реликвией сахалинского прошлого…
В самом деле, интересно ли видеть фотографии знаменитых палачей, которые тебя пороли? Вряд ли вызовут приятные эмоции кандалы, которые ты сам таскал, или плети, рвавшие с твоей спины куски мяса так, что обнажались кости… Впрочем, устроители музея любовно обставили этнографический отдел, в художественных манекенах наглядно представив фигуры сахалинских аборигенов в национальных одеждах, предметы их примитивного быта. В банках со спиртом плавали диковинные рыбы, бусинками глаз глядели птичьи чучела. Здесь же можно было видеть химические колбы с образцами сахалинской нефти, куски каменного угля и даже крупицы золота сахалинского происхождения.
Сергей Леонидович удивленно спрашивал Вычегдова:
– Скажите, а зачем здесь лежат обрывок старой газеты, кусок грязной тряпки и даже оторванная от сапога подошва? Если это мусор, то почему его не вымели вон?
– Это игральные карты, – пояснил Вычегдов.
– Помилуйте, какие ж это карты?
– А вам не понять всей силы картежного азарта, который от безумной тоски овладевает каторжанами. Если отобрать у них карты, в дело идут самые неожиданные предметы. Однажды баржу с преступниками оторвало от берегов Сахалина и вынесло штормом в открытый океан. Когда же на пятые сутки их обнаружили, то арестантов застали в трюме за самодельными картами. Они даже не заметили, когда скрылись от них берега…
Безвестный скульптор-арестант талантливо слепил из глины целую композицию – каторжан, тащивших из тайги бревно. Эти согбенные фигуры людей в бушлатах хорошо «читались» среди коллекций пород дерева и бамбука. А сахалинский лопух, словно шатер, раскинулся под сводами музея, поражая воображение приезжих, не знакомых с гротескной природой Сахалина, которой свойственно пошутить причудами гигантомании. Жохов сказал:
– Если у вас такие лопухи, то страшно ходить под ними, чтобы не свалилась с них мошка – величиной с поросенка.
– А вы бы видели нашу крапиву! – ответил Вычегдов.
Среди множества фотографий убийц и душегубов, громил и аферистов выделялся снимок женщины с одутловатым, противным лицом, и трудно было поверить, что это знаменитая Сонька Золотая Ручка, когда-то дурившая богатых мужчин своей оригинальной красотой, выдавая себя за аристократку.
– Сволочь! – конкретно характеризовал ее Вычегдов. – Работала чаще всего по поездам, обирая доверчивых простаков. Когда ее судили в Москве, то вся публика ахнула, увидев судейский стол, заваленный золотом и бриллиантами, которые она наворовала. Здесь, на Сахалине, эта бабенка руководила самогоноварением, планировала грабежи с убийствами, но всегда выкручивалась, как змея, из любого дела. Не приведи господь, если потомки захотят увидеть в ней героиню… Это была сущая мерзавка, каких еще поискать надо!
Теперь на Сахалине немало различных музеев, но того, старого, самого ценного и уникального, нам уже не вернуть. Жаль! Ведь даже скелет кита по косточкам разобрали… А почему так случилось, читатель узнает на следующих страницах.
* * *
Капитан российского Генштаба и корреспондент газеты «Русский инвалид» покинул музей и прошел мимо кита, старательно пересчитав количество его ребер. Женский смех заставил Жохова обернуться, и он увидел симпатичную девушку в кокетливом костюме сестры милосердия, явно пошитом на заказ.
Это была Клавочка Челищева, сказавшая ему:
– Извините меня за неуместный смех. Но по вашему поведению я сразу догадалась, что вы человек на Сахалине новый. Никто из местных жителей китом не интересуется, к нему все давно привыкли, как горожане к уличным фонарям…
Удивительно быстро они познакомились, и подозрительно быстро Челищевой понравился молодцеватый капитан Жохов. Спору нет, Валерий Павлович Быков был замечательным человеком, Клавочка за многое оставалась ему благодарна, но в скромном служителе сахалинского гарнизона не было того блеска и той привлекательности, какими обладал столичный академист Генерального штаба Жохов, уже много видевший и много думавший. Вызвавшись проводить девушку, Сергей Леонидович, нисколько не рисуясь перед ней загадочным Печориным, сказал, что в его жизни, кажется, наступил… кризис:
– Который можно разрешить лишь отставкой, чтобы потом целиком посвятить себя только литературе.
– В каком же, простите, жанре?
Жохов, замедлив шаги, неожиданно признался:
– Я хотел бы дописывать чужие романы.
– Странное желание, – удивилась Клавочка.
– Совсем нет! Русские писатели, как я заметил, способны сочинить хороший роман, но они часто теряются, когда дело подходит к концу. Обычно их роман завершается поражением героя, а чаще всего поцелуем, который дарит ему героиня его сердца. Все это ерунда на постном масле! – решительно заявил Жохов. – Выйдя в отставку, я хотел бы завести подпольную контору по написанию окончаний романов. Уверен, моих способностей хватило бы на то, чтобы помочь несчастным авторам выпутаться из потемок сюжетного лабиринта. Мой герой не стал бы погибать и не стал бы целоваться с прекрасной героиней…
– Это забавно! – согласилась Клавочка.
– Да. Я придумывал бы такие окончания, что читатели, совсем обалдевшие, бегали бы по городу, крича: «Дайте мне сюда этого негодяя автора! Я его зарежу. Я не только зарежу писателя – я его съем с горчицей и хреном…»
– Но вы шутите, – даже обиделась Клавочка.
– Отнюдь! – возразил Жохов. – Шоколадный король Жорж Борман уже стоит на правильном пути. Он пустил в продажу граммофонные пластинки, сделанные из шоколада. Любая психопатка, заочно влюбленная в Фигнера или Собинова, может сначала прослушать их любовную арию, а потом завершить свой триумф поеданием пластинки с голосом любимого человека.
Клавочка Челищева прямо-таки вознегодовала:
– Вы просто смеетесь надо мною! Я вам поверю только в одном случае, если вы здесь же, не сходя с этого места, придумаете такой конец романа о сахалинской каторге, который бы до основания потряс меня своей неожиданностью.
Не успела она договорить, как Жохов воскликнул:
– Готово! Я уже придумал. Конец романа о сахалинской каторге таков: на Сахалине не будет никакой каторги.
Челищева с большим сомнением покачала головой.
– Вы опять не верите мне? Так слушайте, что я вам скажу: еще при Александре Первом, незадолго до восстания декабристов, в лучшем обществе лучших русских людей зародилась мысль – всем ехать на Сахалин, чтобы основать на этом диком острове свободную демократическую республику свободных людей… Что вы скажете мне на это, Клавдия Петровна?
– Цензура этого не пропустит, – вздохнула девушка.
– Согласен, что цензура этого не пропустит, – кивнул ей Жохов. – Но мы еще посмотрим, какой будет конец романа после нашей нечаянной встречи. На это не хватает даже моей фантазии…
Часть третья Оборона
Вероятно, сахалинская эпопея не останется без разоблачения ее секретов, и тогда получится фарс с довольно трагическим финалом.
Н. Д. Дмитриев (1908)Сахалинский «Варяг»
Пролог третьей части
Двадцать восьмого июля 1904 года наша порт-артурская эскадра вышла в Желтое море, чтобы принять неравный бой с японским флотом. Эта битва закончилась для нас трагически. Но бригада крейсеров отважно проломилась через японские заслоны; отстреливаясь, наши крейсера на полных оборотах винтов выходили из боя, и средь них рвался крейсер I ранга «Новик» – лучший «ходок» русского флота, «чемпион» самых дальних дистанций.
На следующий день в немецкой колонии Циндао (Кыо-Чао), где Германия имела гавань для своих кораблей, появился «Новик», и немецкие офицеры вполне сочувственно пересчитывали пробоины в бортах славного русского крейсера:
– Для вас война уже закончилась, не лучше ли интернироваться в нашем Циндао, откуда можете разъезжаться по домам…
«Новик» имел слишком громкую славу! Даже японцы восхищались подвигами крейсера, считая, что он был «заколдован» от поражений. Токийский корреспондент лондонской «Таймс» писал: «Не раз японские моряки благословляли свою судьбу, что им приходится иметь дело только с одним „Новиком“ – иначе вся история этой морской войны могла бы выглядеть совершенно иначе». Командовал крейсером молодой кавторанг Михаил Федорович Шульц, благодаривший немцев за их учтивость:
– Но война для «Новика» не закончилась. Дайте нам своего шаньдунского угля, мы отбункеруемся, и больше вы никогда не увидите нас в вашем прелестном Циндао…
В кают-компании крейсера было решено:
– Прорываться во Владивосток открытым океаном, избегая опасных узостей Цусимы, где нас непременно ждут. Мы обогнем Японию с востока, дозаправив бункера в Корсаковске уже сахалинским углем. Все понимают, что идти предстоит в экономическом режиме котлов и машин, дабы поберечь запасы топлива.
Как ни уговаривали их немцы спустить Андреевский флаг, чтобы интернироваться в Циндао, крейсер через десять часов уже вышел в море. «Новик» был еще очень молод, его машины стучали исправно, как сердце здорового человека. В носовом артиллерийском плутонге мичман Санечка Максаков уселся в пушечное кресло перед прицелом, разгладил складки на белых брюках. Комендор Архип Макаренко провернул по горизонту штурвал наводки, а мичман сказал ему:
– Ну, Архип, считай, что мы уже дома.
– Не накаркайте беды, ваше благородие. Кто же говорит, что он дома, ежели до Владивостока еще винтить и винтить…
Океан, тяжко ворочая свои водяные турбины, легко поднимал крейсер на гребень волны, выдерживал его там секунды две-три, а потом с шумом низвергал вниз; в плюмажах холодной пены крейсер снова начинал штурмовать высоту, с которой ему дальше виделось вдоль черты горизонта. В тесных рубках радиотелеграфисты прослушивали эфир, говоря озабоченно:
– У японцев все береговые станции заняты трепотней. Ни хрена не понять, только слышно – «Новик» да «Новик». Видать, они нас потеряли, а теперь ищут-рыщут.
– Горизонт чист, – докладывали с вахты, и это утешало…
Обычная походная жизнь. Офицеры отдыхают в каютах, почитывая в койках романы Поля Бурже и Мопассана, матросы на рундуках или в «подвесушках», качаясь под потолками кубриков, как беззаботные дачники в гамаках, перелистывают дешевые сытинские издания «для народного чтения». По ночам наблюдали далекие россыпи огней японских городов, исчезающих по левому борту, – крейсер держался только нордовых румбов, на которых, как надеялись, его не могли ожидать японские силы адмиралов Камимуры и Катаоки. Лишь бы скорее пронесло мимо огни, лишь бы не напороться на «нейтрала», который сболтнет в эфир, что встретился с русским крейсером. В котлах камбузов коки доваривали порт-артурские запасы, рассуждая:
– До собачины дело не дошло – пока свинина! А вот чем угостят на Сахалине? Сказывают, у них там самим жрать нечего. Коли солдат из топора суп варил, так на Сахалине, наверное, жирный навар с кандалов получается…
Юный мичман Санечка Максаков, зевая в ладошку, сидел в навигационной рубке, с ленцой наблюдая, как штурманский карандаш выводит прокладку генерального курса на север:
– Ага, идем между Иессо и Шикотаном, а там уже и Лаперуз, там и Корсаковск… Честно говоря, – признался мичман, – согласен облобызать даже сахалинскую землю, ибо целых полтора года качался вне России, а у меня в Петербурге мама… переживает! Уже старенькая.
– Сколько ж лет твоей маме? – спросил штурман.
– Ой, уже тридцать пятый год пошел.
– Да-а, – посочувствовал штурман, – совсем уже дряхлая. Когда вернемся с моря, даст бог, живы и невредимы, я за твоей старушкой согласен еще поухаживать…
На мостике возникла суматоха, вскинулись бинокли:
– Британский торгаш «Кельтик»… Нарвались!
Офицеры проводили его долгим взором, и тут радиотелеграфисты доложили: «Кельтик» начал передачу в эфир.
Санечка Максаков искренно огорчился:
– Врезать бы этому болтуну фугасным под ватерлинию, чтобы он заткнулся. Да нельзя – нейтрал…
Настроение в команде крейсера заметно испортилось. Но виноват в этом оказался не только «Кельтик», союзный Японии. Входя на рассвете в пролив, они не знали, что их уже заметили с японского маяка «Атойя», что работал на острове Шикотан, и точно в 7 часов 40 минут 6 августа Токио был оповещен о проходе русского «Новика» в Лаперузов пролив.
Адмирал Камимура сказал адмиралу Катаоке, что японские крейсера «Читоза» и «Цусима» уже посланы в этот район:
– «Читозе» лучше остаться в стороне, потому что он уже не раз сражался с «Новиком», а русские запомнили его выразительный силуэт. Надо послать на поиск «Цусиму», которая имеет три трубы и две мачты, делающие ее похожей на русского «Богатыря», что и введет «Новик» в выгодное для нас заблуждение.
* * *
Трудно вообразить суматоху, возникшую в Корсаковске, когда стало известно, что не надо удирать в тайгу с узлами домашнего барахла, – это не японский, а русский крейсер, и с берега уже разглядели его гордый Андреевский стяг. Барон Зальца торопливо облачился в мундир, прицепил шпагу.
– Сам черт его принес! Обязательно на своем хвосте притащит беду на наши головы… Зовите городского старосту. Пусть берет поднос, чтобы встречать гостей хлебом-солью.
Из города как раз гнали стадо коров на выпас, и среди мычащих животных метались люди, спешащие к пристани. Местный оркестр готовился грянуть бравурным маршем Радецкого, а чины полиции с тревогой посматривали на «Новик»:
– Вот как шарахнет – мы и костей не соберем!
Судебный следователь Зяблов тоже был в мундире:
– Да за что ему нас шарахать? Мы же православные. От святого причастия никогда не отворачивались.
– А крейсеру все равно… От флотских добра не жди. Они там какие-нибудь стрелки перепутают, и по своим – бац, мое почтение! У них же столько всего из математики и геометрии наворочено, что они сами не разберутся…
Шульц, сойдя на берег, едва козырнул Зальца:
– Сейчас не до церемоний! В эфире слышны переговоры противника, потому срочно берем воду и бункеруемся.
– Вам дать каторжников для погрузки? У меня ведь Корсаковская тюрьма битком набита этой сволочью.
– Не надо, – отвечал Шульц барону, – на флоте все каторжные работы обязаны исполнять наши матросы…
Однако жители Корсаковска столь были рады «Новику», что в ряд с матросами работали не только ссыльные, но даже старики и женщины, набежали дети, все хотели помочь крейсерским. Но эфир все время потрескивал от активных переговоров японцев, и скоро с мостика последовал доклад:
– С моря подходит наш «Богатырь»!
– Да какой там «Богатырь», если это «Цусима»…
– Прекратить погрузку! – распорядился Шульц.
Горнисты призвали к бою. Крейсер, дрожа от напряжения, как человек трясется от ярости, устремился в атаку. Оптика прицела боковой пушки поймала в крестовину наводки тень японского крейсера, Макаренко сказал Максакову:
– Я же говорил – не каркайте, что мы дома.
В ответ нога мичмана нащупала упругую педаль боя:
– Огонь! Лучше уж, Архип, дома помирать…
Издали силуэты японских крейсеров казались скользкими, словно рыбины, и, как рыбины, они выскальзывали из прицела. Японцы передали открытым текстом по-русски: «Честь вашему мужеству. Предлагаем почетную капитуляцию». На это «Новик» озлобленно отвечал работою пушечных плутонгов – с носа и с кормы, избивая и уродуя надстройки «Цусимы», пока та не стала удаляться, кренясь на левый борт, дымя пожарами. Но японцы боя не прекращали. «Читоза» пошел на сближение. «Новик» тоже имел попадания, убитых даже не убирали с постов: вода затопила румпельный отсек, через пробоины, старые и новейшие, внутрь крейсера хлестала вода. С головы мичмана Максакова шальным осколком сорвало фуражку и опалило волосы. Он сказал, что без помощи рулей, управляясь только винтами, им долго боя не выдержать. И Шульц, кажется, это понял:
– Видишь, Архип, возвращаемся в Корсаковск…
Радисты во всю мощь корабельных антенн глушили переговоры противника. С океана вдруг нахлынула тьма, и где-то вдали японские крейсера скрестили в небе бивни своих прожекторов, как слоны, обрадованные встрече в непроходимых джунглях. Потом эти бивни расцепились, один из них воткнулся прямо в борт «Новика», ослепляя людей на его палубе.
Шульц вызвал к себе окружного начальника Зальца:
– Попросите, барон, жителей Корсаковска спрятаться в погребах. Я еще не знаю, какое мы примем решение, но оно может быть и самым трагическим для нашего крейсера.
Стало ясно, что «Новик» блокирован в заливе Анива, а в Корсаковске не было ремонтной базы. На офицерском совещании предложили высказаться всем, в том числе и мичману Максакову.
– Мы в заливе Анива, – сказал Санечка, – как и крейсер «Варяг» в бухте Чемульпо, так пусть наш доблестный «Новик» останется в народной памяти сахалинским «Варягом».
– Только не взрываться! – решили офицеры. – Машины «Новика» великолепны, мы затопимся через кингстоны, чтобы после войны поднять крейсер, и он еще послужит России…
Убитых сдали жителям, дабы отнесли их на кладбище, раненых свезли в лазарет. Команда покинула крейсер, и «Новик», не спуская флага, медленно погрузился носом в море, но кормовая часть его палубы осталась над водою.
* * *
Итак, все было кончено. Пора думать о будущем. Офицеры крейсера с отвращением давили каторжных клопов в казарме, где их временно разместили, а мичман Максаков жизни уже не радовался:
– Что будет с мамой, если она узнает, что ее любимый сыночек, краса и гордость семьи Максаковых, оказался на Сахалине? Ведь она может решить, что я совершил кровавое преступление и теперь в кандалах катаю по Сахалину тачку каторжанина. Да тут для мамочки никакой валерьянки не хватит.
– Вы правы, юноша, – согласился штурман. – Я думаю, что всем нам следует как можно скорее с каторги убираться.
– Куда? – грустно вопросил Шульц, оглядывая шуршащие стены, по которым передвигались легионы бравых клопов, алчущих насыщения. – До Александровска отсюда шестьсот верст тайгою, а вы знаете, мичман, что такое сахалинский комар?
– На даче в Ораниенбауме меня иногда покусывали.
– Так это столичные комары. Вежливые. Все с высшим образованием. Они прежде спрашивают человека – можно ли его пососать? А вы поинтересуйтесь у местных жителей, вам скажут, что требуется один только час, чтобы ваши уши стали свисать с головы, как два уродливых бублика, а глаза превратятся в узенькие щелочки, словно у китайского богдыхана…
Было еще темно, рассвет едва обозначился над Сахалином, когда их навестил штабс-капитан Гротто-Слепиковский.
– Честь имею! – представился он. – Господа, я не слишком-то разбираюсь в ваших хитрых морских делах, но с Лаперуза, кажется, подкрадываются японские крейсера…
Воздух наполнился режущим скрежетом – это японцы с дальней дистанции стали расстреливать «Новик» с таким усердием, будто он, уже мертвый, все равно мог мешать им. Русские газеты извещали читателей: «Неприятель стрелял по Корсаковскому, причем японцы не жалели снарядов даже на одиночных людей на берегу. По уходе неприятеля выяснилось, что на „Новике“ избиты две трубы, торчавшие над водой, разбит кормовой прожектор… 9 августа торжественно хоронили матросов, а раненые выздоравливают». Но через несколько дней с маяка «Крильон» заметили появление военных транспортов «Ниппон-мару» и «Америка-мару». Барон Зальца даже впал в уныние:
– Жили мы себе и даже клопов не замечали. Стоило появиться здесь флоту, как сразу все полетело кошкам под хвост, и теперь только успевай поворачиваться…
Японские катера высадили десант на корму полузатонувшего «Новика», но солдаты Слепиковского, рассыпавшись в цепь вдоль берега, покрыли самураев метким огнем из винтовок. Самураи с воплями попрыгали обратно на катера, спасаясь бегством, и транспорты ушли несолоно хлебавши. Шульц с офицерами погреб на шлюпке к своему несчастному кораблю. Здесь они обнаружили девять подрывных патронов, которые и обезвредили. Было печально ютиться на «пятачке» кормовой палубы когда-то гордого красавца крейсера, и Шульц разрыдался.
– Не могу! – говорил он офицерам. – Не могу это видеть… Скорее бы уйти отсюда в Александровск, там мы выберемся до Николаевска, а потом… Мы еще нужны отчизне!
Барон Зальца был рад избавиться от моряков. Его даже пугала их «железная» дисциплинированность, словно насыщенная корабельным железом. Матросы между тем очень смело просили у него спичек, чтобы прикурить, а барону такое обращение казалось признаком «анархизма». Зальца сам же в настойчивой форме уговаривал моряков поскорее убираться восвояси:
– По сахалинским понятиям, шестьсот верст – это сущая ерунда. Лучше уж таежные комары, нежели корсаковские клопы. У нас большое стадо коров, которых и погоните сами. Пока доберетесь до Александровска, вы их съедите целиком и еще скажете большое спасибо мне за мои заботы…
Гротто-Слепиковский взмолился перед Шульцем:
– Конечно, вы вправе покинуть нас, и мы не станем удерживать. Но снимите пушки с «Новика», отдайте их гарнизону. Вы же сами видите, что у нас силенок совсем мало.
Кавторанг ответил, что морская артиллерия очень сложная в управлении, она требует специалистов высокой квалификации, вместе с пушками надо оставлять комендоров с офицером.
– Добровольцев не будет, – сказал Шульц. – На флоте со старых времен Петра Великого сохранился добрый обычай: в затруднительных случаях доверять судьбу жеребьевке…
Один за другим подходили к нему офицеры и, прежде перекрестившись, тянули жребий – записочки, сложенные Шульцем в свою фуражку. Взволнованные, они развертывали бумажки с небывалым трепетом, словно аптечные конвертики, в которых лекарство спасет или погубит, и снова крестились:
– Слава богу, только не мне.
– И не мне, господа.
– Оборони, богородица!
– Пронесло и меня мимо проклятущего Сахалина…
По жребию выпало остаться в Корсакове с корабельной артиллерией и комендорами крейсера мичману Максакову.
– Только очень прошу вас, – обратился он к офицерам, – не сообщайте моей мамочке, что ее сын застрял на каторге, чтобы охранять ее от японских «банзайщиков». Пусть она думает, что мичман Максаков, как и прежде, плавает под Андреевским флагом…
Пушки остались! Но музыканты крейсера «Новик» никак не хотели расставаться с музыкой и тронулись во главе колонны, неся на себе победные трубы, геликоны и барабаны.
…врагу не сдается наш гордый «Варяг»!
Пощады никто не желает!
* * *
Подвиг «Новика» не остался забыт. Сейчас на Сахалине протекает тихая речка – Новиковка, а на берегу залива Анива рыбаки живут в поселке Новикове, а возле Корсаковска появился памятник крейсеру «Новик». Корабельная пушка старых времен мрачно поглядывает с пьедестала в сторону Лаперузова пролива, словно напоминая всем незваным пришельцам, что на Сахалин им лучше бы не соваться: здесь живут наследники былой славы – громкой славы сахалинского «Варяга»!
1. Не в добрый час
За все время войны Россия пропустила через поля битв в Маньчжурии полтора миллиона человек – это значит, что она задействовала армию, по силе равную той, какую имел Наполеон в 1812 году, когда он пошел против России.
Хотя инициатива в войне удерживалась японцами, а русская армия оборонялась, грешно думать, что дела самураев шли блистательно. Война с Россией была чревата духом наглейшего авантюризма, ибо Япония питала свою военщину не внутренними ресурсами, а надеясь на подачки, которые она жадно собирала с Англии и США. Япония раньше России устала от войны, ее силы близились к полному истощению, а Россия имела такой нерастраченный золотой запас, какой самураям и не снился.
Наконец, рисовые поля японцев оскудели без удобрений, приученные год от года поглощать сахалинский тук. Обозреватель газеты «Дзи-дзи» задавался вопросом: «Чем же мы еще удобрим наши поля, которые привыкли к сахалинской рыбе?.. Ко всему этому следует прибавить китобойни в Охотском море, ловлю камбалы в Татарском проливе, охоту на русских бобров и котиков… все это – несметные сокровища, которые отняла у нас война с Россией!» Некий профессор рыбного института «Суисон-Кошучио» тогда же выступил с оголтелым призывом:
– Сахалин – для японцев! Если наше правительство боится захватить остров, так пусть выделит крейсера для охраны наших промыслов. Нельзя терять золотые берега Сахалина…
В русских газетах 1904 года появилось сообщение о том, что в Японии возникла «Лига возвращения Сахалина», в эту лигу вступили самые активные политические деятели. Если бы они тосковали только по крабам, по туку или по морской капусте – это еще извинительно. Но «Лига» договорилась до резолюции, в которой перечислила все, что необходимо Японии: «Занятие Порт-Артура, открытие дверей в Маньчжурии, покровительство (читай – захват) Корее, оккупация Приморской области заодно с Владивостоком, превращение Сибирской магистрали в общее имущество держав (таких, как Англия и Америка), наконец, военная контрибуция…» Кому-то из членов «Лиги», наверное, было даже стыдно за небывалые размеры японского желудка. Но тут возник опять тот же профессор от рыболовства.
– Возможно, – внес он поправку, – не все из перечисленного нами в резолюции мы получим. Но мы, японцы, ни в коем случае не должны отказываться от приобретения Сахалина!
* * *
Михаил Николаевич Ляпишев заметно осунулся, издергался, в его распоряжениях появилась суетная бестолковость. Сегодня он соглашался с Быковым, а завтра отменял принятое решение, нетерпеливо выслушав полковника Тулупьева. В ответ на упреки прокурора Кушелева губернатор признался:
– Виноват, состарился! Как говаривали в древности наши предки о своих немощных боярах, «оскудеша премудрыя старцы, изнемогоша их чудныя советники…».
Если и в мирные-то дни сахалинцы умудрялись жить впроголодь, выклянчивая с материка, как нищие, хлеба с селедкой, то в дни войны подвоза не стало. Уже начинала сказываться морская блокада, а появление японских крейсеров в заливе Анива даже пугало. Генерал-майор Кушелев сделал вывод:
– Пока мы тут болтаем и разводим писанину, японцы обстрелом Корсаковска уже напомнили нам, что война – это не канцелярская переписка… Мне искренно жаль Михаила Николаевича, который никак не способен возглавить оборону.
В конце августа губернатору телефонировал барон Зальца, сообщивший, что команда с крейсера «Новик» отправлена им – пешедралом! – от Корсаковска до Александровска:
– Я дал им вьючных лошадей и коров. Моряки спешат быть у вас до ледостава, желая поскорее добраться до Хабаровска, чтобы принять участие в этой войне. Одно беспокоит меня…
– Дойдут ли? – спросил Ляпишев. – Сознаюсь, что и меня это тревожит. Я ведь помню, что надзиратель Ханов загнал в тайгу близ Онора восемьсот человек, а из тайги выбрались живыми только десять. Моряки не привыкли ходить пешочком.
– Меня беспокоит иное, – издалека ответил Зальца. – Моряки оставили здесь корабельные пушки, и теперь боюсь, что выстроенная ими артиллерия будет привлекать японцев, как блудливых котов валерьянка.
Ляпишев дал «премудрый» совет:
– Перекреститесь и сплюньте через левое плечо…
Историю с «Новиком» губернатор держал пока в секрете от сослуживцев, чтобы не возникало излишних страхов, но Александровск скоро известился о бое в Аниве от учеников реального училища, друживших с телеграфистами острова.
В один из дней Ляпишева посетил генерал Кушелев:
– Штабс-капитан Быков заходил к вам?
– Нет. И не жду. А что?
– Да так, ничего. – Прокурор тяжело опустился на стул. – Наверное, еще зайдет. Мне, честно говоря, его жалко.
– Быкова? Почему?
– Вы же знаете, какая нездоровая атмосфера в наших северных гарнизонах. Если наши полковники высмеивают капитана Жохова – за его значок Академии Генштаба, то смеются и над Быковым – за его желание учиться в этой же академии.
– Так что я могу для Быкова сделать? Не поеду же я в Петербург сдавать за него приемные экзамены. Что ему надо?
– Просится на юг, где обстановка приятнее.
– Напротив! Именно на юге Сахалина обстановка может ухудшиться. Но за Быковым потащится и госпожа Челищева.
– Пусть. Если она влюблена, так скатертью дорога… Тем более, вы неосмотрительно согласились принять на Сахалине целую партию сестер милосердия из Николаевска.
– Да! Честные патриотки. Самоотверженные.
– Честные-то давно погребены в Порт-Артуре, самоотверженные кладут головы в Маньчжурии, – отвечал Кушелев с присущей ему прямотой. Направляясь уже к дверям, он добавил: – Думаю, Быкова не стоит удерживать, как не стоит держать в Александровске и Клавдию Петровну… пусть едут!
Скоро частный пароходик «Муха» доставил на Сахалин отряд «Имени великой княгини Елизаветы Федоровны» – сорок разгульных бабенок, видевших в этой войне только повод для развлечений. С ними прибыла походная церковь с иеромонахом и псаломщиком. Кушелев не ошибся в их нравственности. Вечером в клубе сестрицы устроили хорошие танцы-шманцы, а духовный причт, подобрав рясы, наглядно показал сахалинцам, как надо отплясывать гопака-трепака. Даже каторжане говорили:
– Гнать бы их всех обратно поганой метлой…
Под осень в городе появились первые моряки во главе с кавторангом Шульцем, за ними подтягивались из тайги отставшие, изнуренные утомительным переходом. Жители встречали их с большой сердечностью, но смотрели на моряков с жалостью: черные от дыма костров, в драной одежде, распухшие от укусов мошкары, они, казалось, сейчас упадут на землю и не встанут. Однако новиковцы сами дотащились до конторы телеграфа, желая сразу оповестить родных, что они живы, что скоро они снова займут место в боевом строю российского флота.
По случаю их прибытия в клубе устроили ужин для офицеров крейсера. Моряки держались замкнуто, трезво и строго. После осады Порт-Артура им, вышедшим из самого пекла морских сражений, было противно видеть сюсюкающие рожи тюремщиков, их расфуфыренных жен с претензиями на «светскость», они брезгливо сторонились пьяненьких сестер милосердия. Статский советник Бунге извинялся, что нет шампанского, а Слизов уговаривал выпить какой-то бурды, пахнущей свекольным отваром. Кавторанг Шульц громко сказал, что ему страшно за Сахалин:
– Если сейчас здесь появится хоть взвод японцев, вся эта сволочь разбежится по кустам. Да и смешно было бы ожидать героики от каторги! Теперь я жалею, что оставил в Корсаковске нашего мичмана Максакова. Ведь пропадет юноша… И там все разбегутся, а он останется при своих пушках!
Ляпишеву было стыдно перед моряками. Когда новиковцы отплыли в Николаевск на той же «Мухе», он немедля посадил в «сушилку» иеромонаха с его псаломщиком, а насчет сестер милосердия распорядился жестоко:
– Оставлю только красивую Катю Катину, которая любит слушать мои анекдоты. Остальные пусть убираются в Дуэ, в Дербинское или Рыковское, там им станет не до хиханек…
Российское телеграфное агентство скоро известило империю, что на Дальний Восток тронулась из Балтийского моря могучая эскадра адмирала Рожественского, и среди чиновников Сахалина сразу началось ничем не оправданное ликование:
– Теперь и Порт-Артур будет в целости, и на Сахалин враги не полезут… Балтийский флот не ударит лицом в грязь, адмирал тоже хорош, наведет в море порядок. Спрашивается: зачем мы сидим на чемоданах, ожидая самураев по задворкам? Не пора ли всем вернуться по своим домам в Александровске, чтобы жить, как все люди живут… чинно, благопристойно!
Эскадра Рожественского вышла не в добрый час: русский народ еще не успел оплакать павших в битве при Ляояне, как началось сражение на реке Шахэ, в котором Куропаткин пытался вырвать инициативу у самураев, дабы выручить осажденный Порт-Артур, но кровопролитие на Шахэ неожиданно оказалось слишком жестоким – и для русских и для японцев.
Михаил Николаевич пожелал видеть Жохова:
– Вы, как генштабист, обрисуйте мне в двух словах: кто был лучше и активнее на Шахэ – мы или японцы?
– Все были хороши, и все были плохи, – ответил Жохов. – Японцы, как и наш Куропаткин, наделали массу ошибок. Если бы у нас был командующим не Куропаткин, а другой, мы бы давно пили чай в Нагасаки и заедали его мандаринами.
– Все-таки нельзя же так отзываться о своем командующем! Вас послушать, – сказал Ляпишев, – так и жить не хочется. Со мною вы, конечно, можете говорить все, я согласен выслушать любую крамольную мысль. Однако воздержитесь от подобных преувеличений с офицерами нашего гарнизона.
Жохова это замечание сильно задело:
– Но я ведь литератор, а значит, обжигаюсь, когда лишь чуточку тепло, и замерзаю, когда прохладно. Как вам угодно, но литература-матушка держится на гиперболах. Это в бухгалтерии нужна точность, а в литературе необходим образ Гаргантюа – почти гомерический, образ Плюшкина – мизерный… Иначе нам бы не чтить великого Рабле, не восхищаться Гоголем!
* * *
Как и предрекал Кушелев, Быков явился.
– Уже все знаю, – встретил его Ляпишев. – На одном месте вам не сидится. А ведь там, в Корсаковском округе, и без вас достаточно сил: полковник Арцишевский, отряды Таирова, Полуботко и Слепиковского, наконец, моряки оставили целую батарею, так зачем вы нужны со своими партизанами?
Валерий Павлович был убежден, что заливы Анива и Терпения открывают ворота на Сахалин; если что и начнется серьезное на острове, так начнется именно в Корсаковском округе.
– Не тепла ищу и не места, где лучше. В доказательство я согласен дислоцировать свой отряд хоть в Найбучи за Онором, ведь японцы могут высадиться даже в тех краях.
– С вами и Клавдия Петровна?
– Не оставлять же ее здесь… на этом пиру! Каково ей подчиняться сестре милосердия Кате Катиной?
Ляпишев стыдливо отвел глаза в сторону.
– Ну что ж, – позволил он, – отправляйтесь в Найбучи, я уверен, что Сахалин вы закроете со стороны залива Терпения…
В столицу острова опять перетаскивали имущество, архивы учреждений; вернулись по своим домам семьи чиновников. Начались прежние вечера в клубе, обеды и ужины, никто не думал о плохом, все верили в мощь эскадры Рожественского.
– Адмирал – душка, – говорила госпожа Жоржетта Слизова, танцуя с полковником Болдыревым. – Мне показывали его фотографию… неотразимый мужчина! Если такой приснится женщине, она, несчастная, не будет спать до утра…
Пиленгский перевал, возвышаясь над Александровском, грозил Сахалину туманами и ранними снегопадами.
– Господи, – молился перед сном Ляпишев, – услышь ты меня, грешного, избави от лукавого и беса полуночного…
2. О чем они думали
Найбучи – так называлось место, которое Ляпишев закрепил за Быковым для его отряда. Что там, в этом Найбучи? «Море на вид холодное, мутное, ревет, и высокие седые волны бьются о песок, как бы желая спросить в отчаянии: „Боже, зачем ты нас создал?“ – так писал Чехов… В этих краях, забытых богом и начальством, писатель застал еще таких дряхлых каторжан, которые уже не могли вспомнить, когда они на Сахалин попали, а была ли за ними вина, тоже не ведали: „Может, и была! Разве теперь вспомнишь?“ Иные старцы, не в силах поставить себе жилье, отрывали в земле норы, в которых и жили, как звери, редко выползая наружу… Когда-то в Найбучи уже квартировал крохотный гарнизонишко. Валерий Павлович размещал своих партизан где только можно, по избам и халупам, подновил заброшенную казарму-развалюху. Клавочка Челищева устроилась зимовать в магазине, где никто не покупал пересохших конфет с начинкою из орехов, отвращались от банок с сардинками, зато найбучинцы подолгу и мечтательно озирали хомут, украшавший центр местной коммерции. Хозяин лавки уже не раз с унылою безнадежностью спрашивал штабс-капитана:
– Может, хоть вы-то купите?
– Хороший хомут. Только зачем мне его?
– Вот и все так. Кой годик висит…
Валерий Павлович все-таки купил этот хомут, но при этом взял с хозяина лавки слово, что за время его отсутствия он приглядит за Челищевой, чтобы ее никто не обидел.
Лавочник поклялся на трехпудовой гире:
– Во! Пусть кто скажет ей ласковое словечко, так по башке и трахну. Хорошего покупателя как не уважить?
– Челищева моя невеста, – пояснил Быков, – потому и вывез с собою на юг. А сейчас надобно в Корсаковске побывать…
По первопутку он отъехал на санях. Корней Земляков взялся быть ямщиком офицера. В дороге встречались зимовья, все в дырках от пуль, выпущенных из «винчестеров»: сразу видно, что кто-то нападал, а изнутри кто-то геройски отстреливался. Быков сказал, что большинство преступлений в южном округе вызваны недостатком женщин, на что Земляков ответил:
– А чтоб их, окаянных, совсем не было! Сколько мучениев бывает от этих тварей… я-то по себе знаю.
В эти дни, по настоянию властей Александровска, Зальца был вынужден устроить совещание офицеров Корсаковского округа. Они собрались: помимо Быкова, приехал капитан Таиров, из Соловьевки – капитан Полуботко, явились жившие в городе Арцишевский и Гротто-Слепиковский, который говорил:
– Даже в двенадцатом году партизанское движение имело четкие планы, о них всегда была извещена ставка фельдмаршала Кутузова. А нас не обеспечили даже базами для борьбы с врагом, между командирами отрядов нет никакой связи.
– Опять же! – вставил свое слово Быков. – Я еще в Александровске язык обмолол, доказывая, что нельзя углубляться внутрь Сахалина, не зная, что там находится. Где же карты?..
Арцишевский и Таиров, робко поглядывая на молчавшего Зальца, сошлись в едином мнении, что дело не в геодезии:
– Еще неизвестно, что скажут дипломаты… Сами же японцы говорят: не бей палкою по кустам, тогда не выползут на тебя гадюки. Будем вести себя потише, и никто нас не тронет.
Зальца сказал, что дела военные его не касаются, больше беспокоит вызывающее поведение моряков на батарее и угроза со стороны ополченцев из каторжан:
– Преступнику сидеть в тюрьме, а не шляться с оружием.
– Вы своих каторжан держите в тюрьме Корсаковска, – заметил Быков, – и они не шляются с оружием в руках. Ваши слова, барон, воспринимаю как выпад по адресу моих партизан…
Ужиная в местном клубе, Быков заметил Полынова, но даже не кивнул, чтобы не навредить ему в той опасной роли, которую тот исполнял сейчас под именем фон Баклунда. Полынов тоже заметил Быкова, но равнодушно глянул мимо него, как будто они не были знакомы. Поздно вечером, когда Анита уже стелила постель, с улицы постучали. Полынов сам отворил двери.
– Корней? – удивился он. – Ты как сюда попал?
Земляков объяснил свое положение в отряде Быкова, предупредив, что на совещании офицеров был и капитан Таиров:
– Тот самый, которого вы при мне с метеостанции выставили, а потому вам бы лучше с ним не встретиться.
– А как ты нашел меня? – спросил Полынов.
– К вам меня подослал штабс-капитан Быков.
– Спасибо, что предупредили. Но помни, что меня с тобою тоже не видели. Я, братец, из старой шкуры перелез в новую, а третью натягивать сейчас неуместно. Так и передай Быкову…
Валерий Павлович вернулся в Найбучи; тогда ему и в голову не пришло бы, что пройдут годы и это мертвящее всех Найбучи станет носить новое имя – Быково!
* * *
С первыми морозами Фенечка заметно оживилась, обретя прежнюю резвость в желаниях. Наверное, ее поднял с постели страх потерять свое влияние на стареющего губернатора. Ляпишев поддался всеобщему искушению, заведя шуры-муры с развязною сестрой милосердия Катей Катиной, которую он лихо катал на губернаторской тройке с бубенцами. Фенечка Икатова не стала устраивать ему женских скандалов. Она поступила умнее. Облачившись в лучшее платье, горничная дождалась возвращения губернатора с прогулки, встретив его с небывалой нежностью:
– Ах, Михаил Николаевич! Не бережете вы себя. В ваши ли годы кататься при таком сильном ветре? Дождались бы, когда ветра не будет, а тогда катайтесь сколько вам влезет.
– И в самом деле замерз, не скрою, что холодно!
Фенечка поправила перед зеркалом букли в прическе.
– Только никогда не катайтесь с Катькой Гадиной.
– Да не Гадина она, а – Катина.
– Разве? – удивилась Фенечка. – Ведь она тут всем растрезвонила, что «прокатит» этого старого дурака – губернатора…
Вот такого афронта Ляпишев уже не стерпел:
– Что-о? Так и сказала? Ну, я ей покажу…
Фенечка даже поежилась от удовольствия:
– Ах, до чего же вы строгий! А я никак не научусь застегивать пуговички на спине… их так много, зачем их так много? Ваше превосходительство, застегните их на мне сами.
Плутовка повернулась к нему оголенной спиной, и губернатор Сахалина озябшими руками стал аккуратно застегивать все сорок восемь мелких пуговичек на платье любимой каторжанки…
До самой зимы 1904 года остров поддерживал связь с материком на почтовых собаках. Как только Татарский пролив замерз, капитан Жохов проехал с гиляками до Николаевска, чтобы закупить хороших папирос для себя, а вернулся в Александровск на лошадях, убежденный, что между Сахалином и Амуром возможно проложить прочную ледовую трассу.
– Рискованно, – сомневался Ляпишев. – Много было до меня губернаторов, и все они считали это дело невозможным.
– Но ведь еще не пробовали, – возразил генштабист.
Прокладка Жоховым санно-конного пути вызвала немалый отлив населения с острова в Николаевск. Многие бежали, боясь голодной зимы и нашествия японцев весною; этих людей даже не удерживали, чтобы избавить Сахалин от лишних едоков. Многие поселенцы, получив амнистию, тоже спешили через Татарский пролив; из Николаевска двигались жиденькие воинские подкрепления, но солдат гнали пешком. Навстречу им брели с длинными палками, нащупывая трещины во льду, одинокие фигуры амнистированных с жалкими котомками; иногда за ними, в вихрях колючей метели, тащились жены с малыми детишками… тоже пешком! С обратными обозами в Александровск поступали ящики патронов и порох, но доставка их обходилась казне дороговато, а Ляпишев всегда берег казенную копейку. Зато частные лица, у которых водились деньжата, заказывали с обозами муку и мясо, водку и сахар. В буфете клуба снова запенилось в бокалах шампанское, снова взлетали над танцующими пригоршни конфетти; госпожа Слизова садилась за рояль, растопырив пальцы, она выбивала из расшатанных клавиш вульгарную польку «трам-блям»… Старались не думать о худшем, возлагая розовые надежды на эскадру Рожественского, которая, как былинно-сказочный витязь, ворвется в самую гущу боя, и все враги разом будут повержены.
Был день как день, и ничто не предвещало беды, когда бесстрастный телеграф принял известие с материка, что 20 декабря пали неприступные твердыни Порт-Артура.
Ляпишев пошатнулся в кресле, окликнул Фенечку:
– Накапай мне чего-нибудь… худо!
Плачущего, жалкого и обессиленного губернатора Фенечка отвела из кабинета в спальню, заставила его лечь.
– Живодеров-то звать или без них обойдетесь?
– Обойдусь, – ответил Ляпишев, едва шевеля губами. – Не могу поверить, что Порт-Артур, этот Карфаген, как называл его Алексей Николаевич, этот Карфаген… пал!
– Лежите, сейчас не до Карфагенов, – бестрепетно повелела Фенечка. – Не надо было кататься при сильном ветре. Сидели бы со мной дома, и ничего бы не случилось.
– Ах, при чем здесь ветер? Как же ты сама не поймешь, что Порт-Артур сдан, а приход эскадры адмирала Рожественского уже ничего не может исправить в этой дурацкой войне…
Россия вступала в 1905 год – в год революции!
В феврале Куропаткин открыл знаменитое сражение под Мукденом. Бездарное руководство битвою, моральная подавленность солдат, не веривших в свое командование, – все это привело к поражению. Куропаткин оставил армию, угнетенную кошмарами прежних неудач и ошибок. Новым командующим сделали генерала Линевича, которому досталось весьма невыгодное наследство. Армия откатывалась по старой Мандаринской дороге, уже наметилось стихийное движение обозов к Харбину. В этих условиях Линевич чаще обычного стал прибегать к награждениям.
– А как же иначе? – оправдывался он. – Тут все разбежались, как тараканы, в частях постоянный некомплект. А вот скажу, что завтра ордена станут раздавать, так сразу все прибегут обратно, и полки снова будут в полном комплекте…
Японские маршалы, загипнотизированные «гением Мольтке», готовили под стенами Мукдена маньчжурский вариант «Седана», но Седана не получилось: русская армия, даже расчлененная, вырвалась из клещей окружения. Линевич задержал войска на Сыпингайских высотах, и скоро здесь возникла мощная русская армия, способная, не только обороняться, но даже наступать в глубину Маньчжурии; день ото дня она усиливалась за счет подвоза из государственной метрополии. В марте 1905 года фронт окончательно стабилизировался. Линевич имел право сказать:
– Я свое дело сделал, армия теперь в полном порядке, она всем обеспечена, но послушаем, что скажут дипломаты…
* * *
Именно в это время Терауци, военный министр Японии, обедая в американском посольстве, сказал посланнику Рузвельта:
– Я выражу свое мнение лишь как частное лицо; эту войну с Россией пора кончать. Но я буду рад, если вы, посол, мое частное мнение донесете до сведения президента…
Было ясно, что «частное» мнение Терауци выражает мнение всей самурайской военщины, которая уже выдохлась.
Теодор Рузвельт принял это к сведению:
– Я всегда желал, чтобы японцы и русские потрепали друг друга основательно. Но после мира важно сохранить в Азии спорные районы, в которых бы постоянно возникали опасные трения, и тогда Япония, соперничая с Россией, не будет залезать туда, где существуют наши американские интересы…
До самого дня Цусимы президент США охотно поддерживал «полезное для нас взаимное истребление двух наций» (это его подлинные слова). Рузвельта сейчас тревожило только одно: как бы не прохлопать момент, когда противники устанут драться, чтобы именно в этот момент ему выступить в защиту мира, обретя тем самым славу миротворца, и чтобы то же самое не успели сделать другие страны – Франция или Германия.
– В этом вопросе, – утверждал Рузвельт, – мы должны опередить всех миролюбцев, ибо главная задача американской демократии – нести людям светочи мира и христианской любви…
Японцы уже трижды зондировали почву в Европе для мирных переговоров, но при этом желали, чтобы Россия сама взмолилась перед ними о мире. Как раз весною 1905 года Европу лихорадило от «марокканского кризиса»: Германия нагло лезла в Африку, выживая оттуда французов, и потому Франции как никогда было нужно, чтобы Россия добыла мир в Азии, способная снова противостоять немецким угрозам. По словам Коковцова, официальный Петербург пребывал в каком-то оцепенении: эскадра Рожественского уже приближалась к японским водам, «всем страстно хотелось верить в чудо, большинство же просто закрывало глаза на невероятную рискованность замысла… публика же просто слепо верила в успех, и, кажется, один только Рожественский давал себе отчет в том, что сможет уготовить ему судьба…». Именно теперь, когда все еще колебалось, французский капитал решил продиктовать свою волю политикам России. В столице появился парижский финансист Нетцлин. Он долго беседовал с Коковцовым, но все сказанное им в беседе можно выразить очень кратко:
– Если вы желаете говорить с нами о новых кредитах, вы сначала должны успокоить общественность, возмущенную кровавыми событиями Девятого января. Не в ваших же интересах продлевать бесполезную войну, которая мешает разрешить внутренние конфликты. Кто в Париже станет давать деньги Петербургу, если вся Россия охвачена революционными забастовками?..
Коковцов был не только финансист, но и политик, а потому сразу все понял, на ближайшем докладе императору сказав:
– Все кредиты из Франции исчерпаны, и нам не дадут ни единого су, пока ваше величество не закончит эту войну…
Весь мир, кто враждебно, а кто сочувственно, наблюдал, как эскадра Рожественского медленно вплывает в проливы, стерегущие остров Цусиму. Английские политики Уайтхолла с некоторым злорадством ожидали этого часа, и почтенный лорд Ленсдаун сказал в эти дни французскому послу Полю Камбону:
– Если эта эскадра – последняя ставка русского царя, то не стоит мешать разыграть ее… как в хорошем покере!
Эта фраза была произнесена в Лондоне 3 мая, а 15 мая разыгралась трагедия русского флота. В Токио поняли, что нет лучшего момента для выхода из войны. Теперь японцы уже не ждали, чтобы Россия просила мира – они сами просили Рузвельта о посредничестве к скорейшему заключению мира. В кабинете русского императора появился американский посол Мейер, от имени президента США предложивший начать переговоры.
– Но я, – отвечал Николай II, – заранее предупреждаю, что, как бы ни сложились мирные переговоры с японскою стороною, Россия никогда не станет платить Токио унизительных контрибуций. Впрочем, я посоветуюсь с близкими мне людьми…
Через несколько дней в Царском Селе под председательством царя было устроено совещание. Стенограмму этого секретного совещания мы приведем в сокращенных выдержках, стараясь донести до читателя лишь разноголосицу прений и ту общую растерянность, которая – после Цусимы! – овладела сановниками, приближенными к императору. Быстрое нарастание революции в стране накладывало на собеседников некий траурный грим…
Генерал ГРОДЕКОВ. Сахалин давно в критическом положении, а море во власти Японии. В китайских портах были заготовлены запасы муки для Сахалина, которые следовало доставить по приходе эскадры Рожественского, но теперь на это рассчитывать нельзя.
Адмирал АЛЕКСЕЕВ. Расход снарядов в эту войну превзошел всякие ожидания. Что же касается отправки войск на Сахалин, то это уже невозможно, ибо устье Амура, вероятно, блокировано японским флотом. Будем считать, что Сахалин отрезан.
Адмирал ДУБАСОВ. Россия не может быть побеждена! Она обязана победить врагов. Противник должен быть опрокинут и отброшен. Для достижения этого надо слать на Дальний Восток не всякую шваль, а самые лучшие, самые отборные войска.
Военный министр САХАРОВ. Но при таких условиях закончить войну невозможно. Не имея ни одной победы или даже удачного дела, это – позор! Позорный мир уронит престиж России, надолго выведя ее из числа великих держав. Я за то, чтобы продолжать войну с Японией, и не столько ради материальных выгод, а чтобы смыть позорное пятно с чела великой России.
Министр двора ФРЕДЕРИКС. Всей душой разделяю мнение министра, что теперь мира заключать нельзя. Но не мешает нам знать: на каких условиях японцы согласны идти на мир?
Император НИКОЛАЙ II. Японцы воевали не на нашей земле, и еще ни один из них не ступал на русскую землю. Этого не следует забывать. Но, при отсутствии у нас флота, Сахалин, Камчатка и даже Владивосток могут быть захвачены японцами, и тогда приступать к переговорам о мире будет гораздо тяжелее…
3. Газета «Асахи» призывала…
Предательство начиналось на юге Сахалина, где окружной начальник Зальца отзывался о России как о чем-то гадостном, считая, что ее прогресс следовало бы остановить на изобретении трамвая, а большего русским и не надобно:
– Судить о культуре народа можно по состоянию кладбищ и по чистоте отхожих мест. А если в Корсаковске нельзя поставить скамейку на улице, где ее изрежут всякой похабщиной, то такому народу, каков русский, совсем не нужны достижения цивилизации, он нуждается только в плетях и кутузках.
Полковник Арцишевский, командир гарнизона в Корсаковске, не посмел возразить барону. Зато на брань курляндского дворянина смело ответил мичман Максаков:
– Спасибо немцам за изобретение трамвая! Я, как и вы, тоже испытываю отвращение при виде поваленных крестов на могилах и не выношу грубости. Но я протестую против ваших негодных оскорблений России, ибо состояние русских людей на каторге вы приравниваете ко всему русскому народу…
Конечно, Зальца в общении с офицерами еще не говорил всего того, о чем его извещал из Японии американский инженер Клейе. Но фон Баклунд (Полынов) уже завоевал доверие барона, и Зальца не стеснялся при нем рассуждать открыто:
– Дело идет к тому, что нам долго не продержаться. «Стандард банк» предоставил Японии заем сразу в пятьдесят миллионов долларов, но с обязательной гарантией под залежи угля и нефти на Сахалине. Тут даже не Лондон! Американский капитал заставит их гарантировать этот заем взятием Сахалина…
Тюрьма в Корсаковске, кажется, не пугала барона. Зато он очень нервно реагировал на присутствие крейсерских пушек, выстроенных в батарею к северу от города, в тихой бухте под названием – бухта Лососей. Была уже весна, когда барон пригласил в окружную канцелярию Максакова:
– Господин мичман, у ваших матросов какие-то анархические замашки, да и вы, кажется, не желаете видеть во мне своего начальника. Но отныне вы уже не командуете батареей. На ваше место я назначаю судебного следователя Зяблова.
Максакову казалось, что Зальца пошучивает.
– Если ваш судебный следователь разбирается в морской артиллерии, я не смею возражать вам. Но вряд ли Зяблов смыслит в таблицах стрельбы для расчета траектории снаряда.
Барон Зальца явно злорадствовал:
– Зяблов ни бельмеса в них не смыслит. А вас я пока задержу в городе, чтобы вы подумали об авторитете местной власти. Здесь вам не Порт-Артур, где вы фасонили как хотели. Здесь нет и адмирала, который бы оспорил мое решение!
Коллежский асессор Зяблов, прибыв в бухту Лососей, для начала пересчитал количество пушек. Архип Макаренко не стал устраивать чинуше экзамен о таблицах морской стрельбы для наводки по движущимся целям – он сказал иное:
– Мы тебя знать не знаем, а где наш мичман?
– Говорят, уже арестован.
– За что? – стали галдеть матросы.
– За оскорбление окружного начальника.
Макаренко сдернул чехол с орудия, разогнал его ствол по горизонту, прощупывая прицелом крыши Корсаковска:
– Боевая тревога! Братва, кончай чикаться… прямой наводкой по дому с зеленой крышей… фу-гас-ным – клади!
Клацнул замок, запечатывая жирную тушку фугаса в казенник. Макаренко велел протянуть провод телефона на батарею.
– Это ты фон-барон? – крикнул он в трубку. – С тобою говорит баковое орудие крейсера «Новик»… Хана пришла!
– Какая хана? – спросил Зальца комендора.
– А вот как звезданем по твоей конторе, так от тебя только один «фон» останется. Мы люди нервные, всю войну отгрохали, нам терять нечего… Подать мичмана на тарелочке!
Максаков в тот же день вернулся на батарею.
– Спасибо, братцы, – сказал он. – Если б не ваша прямая наводка по канцелярии барона, видел бы я мир через решетку… Бедная мама! Живет и не знает, куда попал ее сынулечка!
* * *
Июнь выдался жарким, даже слишком жарким для Сахалина. В доме губернского правления с утра были отворены настежь все окна, а Ляпишев расстегнул мундир. С улицы бодряще благоухало цветущими ландышами. Михаил Николаевич принял из рук Фенечки первую чашку с чаем.
– Я вижу, ты поправляешься. Какие новости?
Фенечка выложила перед ним листовку на русском языке:
– Вот новость! Утром на крыльце подняла…
Это была вражеская прокламация. В ней было сказано, что Япония за время войны не изведала ни одного поражения, все русские дивизии давно уничтожены, а японская армия стоит у ворот Харбина. Далее цитирую: «Японское войско приносит свободу русскому народу, и эта свобода скоро вспыхнет на Сахалине… Знайте что японское войско приходит, чтобы спасти вас из рук правительства, которое, заковав всех в цепи, предало вас безвестным терзаниям. Хотя ваше сопротивление не может иметь значения для победоносной японской армии, тем не менее мы предупреждаем всех каторжан-добровольцев, что все они, кто осмелится поднимать оружие против нас, БУДУТ БЕСПОЩАДНО ИСТРЕБЛЕНЫ». Ляпишев прощупал хорошую бумагу прокламации.
– Как вам это нравится? – сказал он входившему к нему в кабинет полицмейстеру Маслову. – Фенечка нашла эту пакость на крыльце, и не могу понять: кто ее мог подбросить?
Маслов ответил, что такие же листовки обнаружены в казармах ополченцев, даже на квартирах офицеров.
– Плевать на эту писульку! – поморщился Маслов. – Ведь не все же у нас грамотные. Больше на цигарки изведут. Другое меня тревожит: на Сахалине снова начались поджоги мостов…
Каторга жила еще в полном неведении того, что происходит в мире: Российское телеграфное агентство оповещало островитян отрывками телеграмм с большим опозданием, жители кормились больше досужими сплетнями, перевирая старые газетные слухи, они продолжали верить в боевое могущество эскадры адмирала Рожественского, способное круто изменить положение.
Ляпишева навестил военный журналист Жохов:
– Боюсь, вы опять станете упрекать меня за то, что суюсь не в свои дела. Но сейчас мы с капитаном Сомовым вышли на шлюпке в пролив, чтобы обозреть наш укрепленный район. То, что мы увидели, это ужасно! Желтые брустверы окопов со стороны моря выглядят как оборки кружев, далеко видные. Такой безобразной обороной мы только помогаем японцам, заранее размаскировав свои позиции.
– Но ведь не я же копал эти окопы, и, если они сделаны неверно, теперь переделывать поздно… Кстати, – вдруг вспомнил Ляпишев, – кажется, вы или Быков жаловались, что у нас нет карт Сахалина. Не откажется ли капитан Филимонов, знающий геодезию, провести съемку местности внутри острова?
– Боюсь, что поздно, – вздохнул генштабист.
– Боюсь, что она совсем не нужна, – ответил Ляпишев. – Но я все-таки пошлю Филимонова на съедение комарам, чтобы у вас не сложилось обо мне худого мнения. Поверьте, я всегда чутко прислушиваюсь к мнению боевой офицерской молодежи…
Михаил Николаевич действительно уважал офицера Быкова, он считался с мнением Жохова, но в близком окружении губернатора их не было. Известно, что любимцами растерянного начальства делаются не честные, сильные духом личности, а всякие прохиндеи, проныры, подхалимы и прочие нахалы, готовые воскурить фимиам начальнику ради своих персональных выгод. Недаром же прокурор Кушелев предупреждал губернатора:
– Простите, если употреблю громкие слова о долге, о чести, о том, что отчизна для русского превыше всего… У наших же полковников карманы штанов раздулись от «подъемных», их жены стали поперек себя шире, и эти гарнизонные господа не пожертвуют ради отечества ничем – ни рублем из кармана, ни фунтом сала из общего веса своих дражайших половин.
– Какой тяжелый день! – невпопад отвечал Ляпишев. – Фенечка подсунула мне глупую бумажонку с угрозами, Маслов доложил о поджоге мостов, Жохов наговорил, что все окопы просматриваются с моря, а теперь вы утверждаете, что мои обер-офицеры ни к черту не годятся. Я чувствую, что этот жаркий день закончится чудовищной катастрофой…
Они жили в июне и не знали того, что случилось в мае.
О катастрофе русского флота при Цусиме губернатора известил барон Зальца из далекого Корсаковска. Ляпишев, перебирая руками голубые и розовые полоски обоев на стене кабинета, как слепой, которого вдруг покинул предатель-поводырь, с трудом добрался до спальни и плашмя рухнул на постель.
– Бедная Россия… такие потрясения, – шептал он. – Сначала Порт-Артур, а теперь и Цусима… А как же мы?
Фенечка наложила на лоб ему мокрое полотенце.
– Докатались! С бубенцами… Может, кого позвать?
– А кого?
– Вам виднее… Тулупьева, что ли?
– Ах, что он знает!
– Жохова?
– Ладно. Позвони, чтобы пришел…
Корреспондент «Русского инвалида» о Цусиме уже знал и на вопросительный взгляд Ляпишева заговорил с надрывом:
– Теперь, оставшись без флота, Россия уже не способна охранить необозримые побережья Японского, Охотского и Берингова морей, отныне японцы могут беспрепятственно высаживаться где хотят – или в устье Амура, или даже здесь, на Сахалине. Если раньше мы сражались только на чужой земле, теперь под угрозой вторжения оказалась наша родная земля – русская!
– Сергей Леонидович, что бы вы сделали на моем месте?
– Сначала я бы созвал всех офицеров гарнизона города, дабы воодушевить их к стойкому отпору врагам.
Михаил Николаевич сбросил со лба полотенце:
– К самому стойкому! Завтра же мы соберемся…
* * *
– Хорошего мало, – говорил Жохов, когда клуб, сильно запущенный, как дешевый трактир, стал заполняться офицерами. – Я не знаю, что думают в Токио, но банкиры Америки толкают самураев в спину, чтобы скорее брали Сахалин.
– Им-то что от нас понадобилось?
– Мне довелось читать статьи военного обозревателя Бернста, который, будучи в Лондоне, сам же и проболтался, что Япония решила допустить американцев к освоению рыбных промыслов Сахалина – пока на правах концессии.
Митрофан Данилов, начальник Тымовского округа, приехал на совещание из Рыковского; этот тюремщик сказал:
– Да япошкам только тук нужен! Только тук.
На это капитан Жохов ответил полковнику:
– Наверное, тук стал припахивать нефтью…
Многие недолюбливали Жохова – за его столичные манеры, за его речи без жаргонных словечек; сахалинские недотепы посмеивались над значком Академии Генштаба, о каком сами они и не мечтали. Вот и сейчас, укрывшись в буфете, полковник Семен Болдырев говорил полковнику Георгию Тарасенко – командиру гарнизонного резерва:
– А никто его сюда не звал! Теперь всякую ахинею порет, а наши дурачки и рты разинули, как «дяди сараи». Если бы капитан Жохов был талантливый, так сидел бы в редакции, а его к нам занесло… Сразу видать, что не Пушкин!
– Да его на Рельсовой не раз видели, – вмешался в беседу подполковник Домницкий, приехавший из Дуэ. – Он политических навещал. Вы бы, господа, предупредили Михаила Николаевича, чтобы с этим умником особенно-то не цацкался…
В руках этой троицы, собравшейся в буфете, заключалась главная сила обороны: Домницкий в Дуэ командовал тысячью ста двадцатью солдатами, Болдырев прикрывал побережье со стороны деревень Арково силами в тысячу триста двадцать человек, а Тарасенко хвастался:
– У меня сразу две тыщи душ… с берданками!
Был жаркий воскресный день, православные шли в свой храм, на окраине города торчал тонкий шпиль костела, горестно завывал с минарета мечети мулла. В узком просвете долины речки Александровки уже виднелись пристань и сизый клочок Татарского пролива, а панорама обширного кладбища завершала обзор сахалинской столицы… Ляпишев прибыл на совещание при шпаге, сложил перчатки в свою треуголку.
– Господа, – начал губернатор, – о прокламациях вы уже слышали, наверняка и читали их. Нас этими угрозами не запугать. Дикие айны, продолжая плавать в Японию по своим домашним делам, рассказывают, что скоро на Сахалине появятся несметные силы самураев. Якобы двадцать тысяч высадятся прямо на пристань Александровска, а десять тысяч возьмут Корсаковск. У нас, как вы знаете, всего лишь три-четыре тысячи боеспособных людей, и мы давно готовы ко всему на свете…
Диспозиция обороны вчерне была намечена, но план обороны сводился Ляпишевым к отступлению внутрь острова:
– Сначала отходим в Рыковское, после чего – всей массой! – ретируемся на юг до Корсаковска, где и нанесем главный урон противнику. Чем дальше заведем японцев от моря, тем больше надежд на то, что он завязнет в наших непроходимых буреломах, он погибнет в наших топях, а комары и партизаны довершат его истребление. Но, даже преследуя нас, японцы будут вынуждены побросать свои пушки, они устанут волочить за собой пулеметы, когда увидят, что внутри Сахалина не пройти даже бывалому охотнику на соболей…
Он уверенно заявил, что отход гарнизона прикроют восемь пушек и четыре пулемета. Но артиллеристы сразу же сказали, что все их пушки устаревшей конструкции давно «расстреляны»:
– Снаряды бултыхаются в стволах, отчего не поручимся за меткость попаданий. А при любом выстреле из казенников вырываются струи раскаленных газов, обжигающие прислугу.
Ляпишев заверил их, что до стрельбы дело не дойдет:
– Вряд ли японцы рискнут нападать на Александровск, столицу каторги! Мы рассуждаем о нашей обороне не потому, что нам предстоит обороняться, а так… на всякий случай.
Из зала послышался голос капитана Жохова:
– Ради всякого случая мы могли бы и не собираться…
Тут с улицы ворвался сияющий от радости капитан Владимир Сомов, размахивая узким бланком телеграммы:
– Господа! Все наши опасения оказались излишни и преждевременны. Только что на телеграфе принято извещение о том, что государь император выразил высочайшее согласие на предложение Рузвельта к скорейшему заключению мира…
– Уррра-а! – поднялись все разом с лавок.
Ляпишев был вынужден пропустить выпад Жохова, обидный для него лично. Он надел перчатки и натянул треуголку. Его рука коснулась эфеса парадной шпаги, он сказал:
– Я счастлив, господа, присутствовать среди вас в этот незабываемый момент скромной сахалинской истории. Не отслужить ли нам по этому поводу торжественный молебен?..
* * *
В эти дни популярная японская газета «Асахи» выступила с призывом: «Сахалин должен быть нашей собственностью. Ошибки правителей времен Токугавы, когда мы недостаточно ценили этот остров, пришло время исправить. Остров должен сделаться нашим, не ожидая мирных переговоров с русскими. Конечно, его следовало бы захватить сразу же после начала войны. Займи мы Сахалин с прошлого (1904) года, и мы не терпели бы убытков в нашей экономике, а наше земледелие не страдало бы от острой нехватки удобрительных туков… Сейчас на острове ничтожно мало русских войск! – подчеркивала „Асахи“, обращаясь к своей военщине. – Так возьмите же Сахалин немедленно, это воодушевит нашу армию и наш флот…»
Настал день 22 июня. На мостике флагманского крейсера «Акацуки» контр-адмирал Катаока приветствовал командира Сендайской дивизии – генерал-лейтенанта Харагучи:
– В вашем лице, генерал, я от имени императорского флота рад видеть успехи вашей славной дивизии…
Погрузка войск и армейского имущества начиналась в порту Хакодате на острове Хоккайдо. Здесь, в узости Сангарского пролива, японцы быстро формировали особую «Северную группу», для которой адмирал Того не пожалел две эскадры из четырех эскадр Японии. Катаока получил два мощных броненосца, несколько боевых крейсеров и множество миноносцев. По высоким трапам, стуча прикладами, поднимались на палубы транспортов солдаты. По широким настилам сходней кавалеристы вели своих лошадей под седлами. Артиллеристы бережно опускали на днище трюмов крупповские орудия, а следом за ними пулеметчики вкатывали пулеметы английской фирмы «Виккерс».
Харагучи представил Катаоке своего адъютанта:
– Майор Такаси Кумэда, хорошо знающий условия Сахалина, с ними плывет и бывший консул в Корсаковске – Кабаяси.
Батальон за батальоном всходил по трапам. В трюмах пугливо ржали маньчжурские лошади, реквизированные у китайцев, и выносливые стройные кони, закупленные в Австралии. С берега на корабли перемещались тонны американских консервов с тушенкой, грузились связки тропических фруктов, пакеты прессованного сена и катушки телеграфных проводов. Катаока заметил подле Кумэды неизвестного ему человека.
– Кто он? – спросил адмирал у майора.
– Это русский геолог Оболмасов, но он давно не достоин вашего высокого внимания, – объяснил Кумэда.
«Акацуки», выбрав швартовы, взбурлил за кормою воду, медленно двигаясь вдоль рейда. Харагучи и Катаока, стоя на мостике флагмана, отдавали честь, и восемьдесят три императорских вымпела хищно извивались над мачтами, безмолвно докладывая всей Японии о готовности эскадры сниматься с якорей.
Из глубины трюмов слышалась песня самураев:
Выйдем в поле – трупы в кустах.
Выйдем в море – трупы в волнах…
…Высадка японцев на Сахалине – это демонстрация силы Японии именно в тот момент, когда сил у Японии больше не оставалось. Но в этой демонстрации последних усилий сейчас особенно нуждались политики Токио, чтобы силой воздействовать на дипломатию России в предстоящих переговорах о мире.
4. От бухты лососей и дальше
Гротто-Слепиковский пригласил Полынова с Анитой провести денек на берегу залива Анива, где его отряд в сто девяносто штыков при одном пулемете квартировал в рыбацком селе Чеписаны. Здесь, в Корсаковском уезде, японцы не подкидывали прокламаций, зато жители округа были извещены о событиях в мире лучше, нежели обыватели «столичного» града Александровска.
– Многие из местных айнов, – рассказывал Слепиковский, – еще до войны привыкли плавать на Хоккайдо, чтобы навестить там сородичей. Вернувшись обратно, они теперь даже не скрывают, что скоро весь Сахалин станет японским «Карафуто».
Полынов сказал, что в научных кругах России слишком много было разговоров о богатствах Сахалина:
– Но военные люди совершенно упустили из виду его чисто стратегическое значение. Представьте, что в заливе Анива, на берегах Лаперузова пролива, была бы сейчас мощная база флота и крепость. Тогда выход в океан принадлежал бы России, и наш Дальний Восток не переживал бы тех опасений, которые угнетают вас в этой тишине…
Слепиковский угостил Аниту мандаринами, признавшись гостям, что они японские, привезенные айнами, при этом Анита надкусила мандарин зубами, как яблоко.
– Они растут в земле или на деревьях?
Слепиковский подивился ее наивности, а Полынов не упустил случая, чтобы прочесть Аните лекцию о померанцевых плодах, пояснил, что мандарины растут на кустах.
– Не смей поедать их с кожурою вместе и, пожалуйста, не путай съедобные мандарины с несъедобными чиновниками из Китая, которые растут во дворце императрицы Цыси…
Затем Полынов заинтересованно спросил: как складывается жизнь Быкова с Челищевой в убогом Найбучи? Слепиковский замялся, выразительно глянув на девушку с мандарином.
– При ней можете говорить все, – позволил Полынов.
– Валерий Павлович, кажется, поступил неосмотрительно, причислив к своему отряду сестру милосердия из бестужевок. Я понимаю: в условиях каторги, где редко встретишь порядочную женщину, Клавдия Петровна предстала перед ним небесным созданием. Но я, честно говоря, недолюбливаю ученых девиц, склонных предъявлять к нашему полу чрезмерные требования.
– Пожалуй, – как бы нехотя согласился Полынов. – Такие женщины тоже способны погубить. И не потому, что названная нами Клавдия Петровна дурная женщина, а потому, что она слишком порядочная. Излишне здравомыслящие женщины опасны для мужчин в той же степени, как и очень дурные.
Слепиковский предложил гостям спуститься к соленому озеру, и Анита, опередив мужчин, шаловливой рысцой сбежала по тропинке к самой воде, а капитан Слепиковский спросил:
– Но кто же она вам, эта девушка, которая иногда свободно судит о серьезных вещах, а порою озадачивает незнанием самых примитивных вещей?
– Это моя… Галатея, – ответил Полынов. – Я, как Пигмалион, сделал ее, чтобы потом в нее же и влюбиться.
– Рискованная любовь! Вы и сами знаете, как плохо кончил Пигмалион…
Полынов взмахом руки показал на Аниту, которая, подобрав края платья, босиком бегала по берегу соленого озера. Она хватала маленьких крабов и забрасывала их обратно в воду.
– Я ее купил, – просто объяснил он. – Теперь она стала моей последней надеждой и моей первой радостью в слишком жестокой жизни. Горе тому, кто осмелится отнять ее у меня.
Гротто-Слепиковский отвел глаза в сторону леса:
– Вам, должно быть, очень неуютно живется?
– Неуютно бывает в комнатах, – честно признал Полынов, – а в этой жизни мне иногда просто страшно…
Ближе к вечеру они выехали в Корсаковск на попутной телеге поселенца. Усталые после дороги, Полынов с Анитой улеглись спать, чтобы проснуться в ином мире. Совсем ином, для них очень страшном… Им, к счастью, не дано было знать, что в это же время барона Зальца посетил в канцелярии мстительный капитан Таиров.
– Случайно я встретил в городе человека, в котором сразу опознал преступника, служившего ранее на метеостанции в столичном Александровске, – доложил Таиров.
– Политического? – сразу напрягся Зальца, догадываясь, что уголовнику на метеостанции делать нечего.
Таиров еще не забыл оскорбительного для него смеха юной красавицы, которая столь откровенно смеялась над его унижением. Он подтвердил подозрения барона.
– Политического! – убежденно сказал Таиров. – Я проследил за ним, установив его адрес, где он живет, и вдруг случайно узнаю, что этого преступника вы принимаете у себя, как своего земляка-курляндца, играете с ним на бильярде.
– Он играет лучше меня, – тихо заметил Зальца.
Сейчас барон сидел под большим портретом русского императора. Слева от его локтя лежала стопка английских и японских газет (попавших к нему, очевидно, тем же путем, что и мандарины в деревню Чеписаны – через айнов).
– Догадываюсь, что речь идет о господине Баклунде, который известен мне как представитель торговой фирмы «Кунста и Альберса». Если вы не ошиблись, – произнес Зальца, глянув на часы, – то этому «торговцу» завтра предстоит неприятное пробуждение. Возвращайтесь, капитан, в свое Петропавловское, а я подготовлю все для арестования этого… самозванца!
– Не забывайте, – напомнил Таиров окружному начальнику, – что он не один. С ним еще какая-то странная девка… Тут целая шайка. Уж не затем ли они появились в вашем Корсаковске, чтобы продать вас и продать Сахалин японцам?
– Шайка, – не возражал Зальца. – Опознанный вами преступник фон Баклунд втерся не только в мое доверие, он установил связи и с офицером Слепиковским, подозрительным для меня… как поляк! Будьте уверены: завтра Баклунд будет в тюрьме.
– И вместе с девкой? – спросил Таиров.
– Нет. Я ее подарю… вам!
* * *
В загородной бухте Лососей пока все было тихо.
Архип Макаренко бесцеремонно разбудил Максакова:
– Ваше благородие… господин мичман!
– Спал бы ты… Ну что тебе?
– В море какие-то огни. Точно так, – сказал комендор, – я даже слышал запах от сгоревшего угля… дым и огни!
Был второй час ночи. Мичман зевнул:
– Нет дыма без огня. Так спал, так сладко… Ты, Архип, накаркаешь нам беду, как я накаркал ее на крейсере.
Максаков позвонил на мыс Крильон. Вахтенный с маяка подтвердил, что в море видны блуждающие огни:
– Однажды их пронесло цепочкой, как ряд иллюминаторов. Не только я дым учуял, но даже шум машин докатило…
Полковник Арцишевский, выслушав доклад по телефону, велел мичману передвинуть батарею южнее Корсаковска, поставив орудия для наводки по морским целям. Артиллерия «Новика» заняла новую позицию – возле деревушки Пороантомари, и тут матросы узнали, что в деревне Мерея уже высаживаются японцы. Мичман быстро произвел расчеты, чтобы «перекидным» огнем – через сопки – накрыть японский десант на побережье. Но с вахты, следящей за морским горизонтом, ему тут же доложили о появлении четырех миноносцев.
– О, еще семь! – прогорланил сигнальщик.
Итого – одиннадцать. Архип Макаренко сказал:
– Одиннадцать на четыре наших ствола… Ничего, братва, на крейсере бывало в бою и похуже!
Японские миноносцы двигались в кильватер, покрывая огнем широкую площадь берега. Первые разрывы вражеских снарядов никого не удивили, как не устрашила матросов и первая кровь, – к этому они привыкли еще на корабле, а потому заботились о точной пристрелке. Пустые унитары, дымно воняя пироксилином, выскакивали из орудийных казенников, а «подавальщики» уже несли к пушкам свежие снаряды…
Мертвая чайка упала с высоты к ногам Максакова.
– Ребята, всем помнить – русский флот не сдается!
– Есть… попадание, – доложил Макаренко.
Один из миноносцев, волоча за собой хвост рыжего пламени, вышел из строя, а его напарники, боясь поражений, тоже отскочили в сторону моря. Полковник Арцишевский, вызвав батарею по телефону, передал Максакову свое последнее приказание.
– Выручайте, мичман! – кричал он в телефон. – На пристани Корсаковска появились японцы… разбейте пристань! Я уже не могу держаться и отхожу к Соловьевке, где и встретимся…
Мичман больше никогда не видел полковника, а задача его батареи усложнилась: надо отбиваться от миноносцев, надо прочесать шрапнелью лес возле Мереи, где укрылись десантники, а теперь надо бить и по пристани. Со стороны Корсаковска повалил дым, слышались взрывы – там что-то горело, что-то уже взрывалось. Максаков, не обращая внимания на осколки, вникал в расчеты стрельбы, как шахматист, играющий на трех досках сразу. Мимо него оттаскивали в сторону убитых матросов.
– Пропадаем, мать их всех! – донеслось от пушек.
– Все пропадем! – в ярости отвечал Максаков. – Но крейсер «Новик» еще никогда не сдавался… Огонь, братцы!
– Еще попадание, – крикнул ему Макаренко от прицела. – Смерть бывает один раз, а после нас не будет и нас. Огонь!..
В городе не осталось войск. Корсаковск казался вымершим. Все жители попрятались в подвалы, и только на окраине ревела, стонала, металась в молитвах наглухо запертая тюрьма, близ которой разрывались японские снаряды. Меж оконных решеток высовывались руки в кандалах; слышались вопли:
– Отворите же… не дайте погибнуть! Смилуйтесь…
Перед Зальца предстал следователь Зяблов:
– Арцишевский-то уже смылся! Пристань всю разнесло. Эти флотские как врезали фугасом – будто в копеечку.
Барон указал на парадный портрет Николая II:
– Не будем забывать своих обязанностей перед священной особой русского императора. Сразу же следуйте на квартиру торгового агента Баклунда, займите его составлением протокола, а я тем временем вышлю конвоиров для его арестования.
Тюрьма издавала железный гул: это кандальные, вырвавшись из ущелий камер, уже взламывали тюремные ворота. Отослав Зяблова, барон сам вышел к пристани, возле которой море колыхало на волнах обломки разбитых катеров, плавали гнилые сваи, вывороченные из грунта силою взрывов.
Навстречу ему из кустов вылез японский офицер.
– Передайте на свои корабли, – сказал барон Зальца, – что они не туда посылают снаряды. Батарея с крейсера «Новик» стреляет из Пороантомари… вот куда надо бить!
Зяблов застал Полынова дома. Анита торопливо кидала в баул свои нарядные платья. Полынов глянул на следователя и понял, что душа чиновника уже скована страхом.
– Вы сказали, что прибыли для составления протокола. Но я ведь не Микула Селянинович, не Змей Горыныч и даже не Соловей Разбойник, чтобы не испугаться вашего протокола. Одним этим ужасным словом вы превратили меня в жалкое ничтожество.
Ясно, что Полынов многословием выигрывал для себя время. Но от его непонятных слов, произносимых с милой улыбкой, в жалкое ничтожество превратился сам Зяблов:
– Вы мне тут зубов не заговаривайте! И не вздумайте сопротивляться. Сейчас за вами придут конвоиры…
Анита резко отодвинула табуретку, указав на лавку.
– Коли пришли, так сядьте, – велела она.
Полынов между тем уже отодвигал постель, чтобы достать спрятанную винтовку. Зяблов все время глядел в окно, озабоченный – выслал ли барон конвоиров на помощь?
– Вон бегут, – обрадовался он. – Наконец-то…
Полынов не успел достать оружие, услышав противный хряск: это Анита, зайдя сбоку от следователя, сокрушила его табуреткой по голове. Потом стала закрывать баул.
– Ты у меня становишься умницей, – похвалил ее Полынов.
Анита ответила ему поговоркой:
– С кем поведешься, от того и наберешься…
Полынов нащупал в кармане Зяблова документы, из-за пояса следователя он выдернул пятизарядный «лефоше»:
– Это тебе, моя волшебная Галатея! Бежим…
Японцев на улицах Корсаковска еще не было, а тюрьма грохотала так, словно старинная крепость, ворота которой сокрушают из катапульты рыцари, закованные в железо. Полынов показал Аните служебные документы, которые он достал из кармана зябловского вицмундира заодно с револьвером:
– На всякий случай запомни, кого мы отправили на тот свет: коллежский асессор Иван Никитич Зяблов.
– Туда ему и дорога, – отвечала Анита.
– А нам в дороге все пригодится, – сказал Полынов, пряча документы Зяблова, и тут на улице послышался цокот копыт. – Ого! Едет важное лицо… Не сам ли барон Зальца?
Из-за угла вывернулась коляска, впряженная в двух отличных лошадей, на облучке ее сидел кучер.
– Стой! – крикнул ему Полынов, подняв руку.
– Иди-ка ты… – донеслось с козел.
Анита мигом кинулась наперерез коляске и повисла на упряжи, заставив лошадей пригнуть головы до земли.
– Готово! – крикнула она. – Что дальше?
– Слезай, – велел Полынов кучеру.
– А ты знашь-понимашь, коляска-то чья?
– Слезай, – повторил Полынов.
– Коляска самого окружного начальника, барона За…
Полынов ударом кулака поверг кучера наземь.
– Садись! – позвал он Аниту, занимая место на козлах.
Лошади понесли, и Корсаковск скоро исчез из виду.
– Куда мы скачем? – спросила Анита.
– Сейчас на север… в Найбучи… к Быкову!
Сочный ветер, пахнущий лесной хвоей и солью близкого моря, бил им в лицо, он забросил за спину Аниты ее пышные волосы, отчего стали видны ее оттопыренные уши.
– Со мною ты ничего не бойся, – сказала она Полынову.
– С тобою я боюсь только за тебя…
5. Страницы гордости и позора
Возник отдаленный гул – это в обстрел побережья включилась башенная артиллерия броненосцев адмирала Катаоки, и взрывы, быстро перепахав землю Пороантомари, выбили из станков орудия, жестоко раня прислугу корабельных орудий. Максакова отшвырнуло в воронку, контуженный, он лежал вниз головой, его вытянули за ноги; Макаренко орал мичману в ухо:
– Амба! Калибра сорок семь нету, а пятидюймовок осталось четыре штуки… амба! Что делать нам, а?
– Врежьте четыре по японцам, орудия взрывать, чтобы косоглазым ничего не осталось, – приказал мичман.
– Есть! А телефоны вдребезги.
– Где Арцишевский?
– Давно отошел.
– Нам отходить тоже. Нагоняйте отряд, а я навещу Корсаковск – узнать, нет ли каких распоряжений из Александровска. Архип, на это время сам покомандуй матросами…
Максаков появился в городе, когда ворота тюрьмы уже были взломаны. Теперь по улице, поддерживая мешающие бежать кандалы, неслась сипло дышащая толпа каторжан. Впереди всех равномерно и шустро бежал полуголый крепыш татарин, у которого вместо ампутированных рук остались культяпки, и он на бегу энергично размахивал обрубками рук, словно шатунами какой-то машины. Вся эта орава людей, звенящая железом, завывающая от пережитых ужасов и осознания внезапно обретенной свободы, быстро растекалась по задворкам города, прячась по огородам, большинство сразу бежали в сторону леса.
В окружной канцелярии барон Зальца, кажется, нисколько не был удивлен появлению Максакова.
– Отстрелялись? – кратко спросил он.
– Да. Снаряды кончились. Орудия взорваны. Матросы отошли вслед за Арцишевским, а я обещал, что нагоню их…
Молниеносный удар в область живота – и мичмана скорчило на полу от невыносимой боли. Зальца сказал:
– Ознакомьтесь с приемом джиу-джитсу, которому японцы дали лирическое название – «полет весенней ласточки».
– Сволочь ты! – простонал мичман. – Где же благородство?
– У меня этого добра полные штаны. Эй, кто там есть? – вызвал Зальца конвойную команду. – Заберите от меня этого сопляка, и пусть он посидит в «сушилке»…
(Газета «Русское слово» с прискорбием оповестила читателей о том, что барон, «выйдя навстречу японцам в качестве парламентера, произнес хвалебную речь в честь гуманности японцев, указав на каторжников, как на более опасного врага – как для русских, так и для японцев». Узнав о братании начальства с врагами, жители Корсаковска побросали в домах все, что имели, и кинулись прочь из города, скрываясь в лесной чаще. Тогда японцы открыли шрапнельный огонь по тайге, им удалось пленить всего лишь сто тридцать пять человек. Так писали в русских газетах…)
Двадцать пятого июня японцы высадили десант у селения Чеписаны, они густыми толпами хлынули с кораблей на берег, полностью захватив столицу Южного Сахалина, и в здании окружного правления барон Зальца радушно принимал дорогих гостей. Конечно, ему было приятно снова видеть бывшего консула Кабаяси, но его возмутило, что Кабаяси прибыл, чтобы занять его место.
– А куда же мне? – сразу обозлился барон.
Кабаяси выложил перед ним пачку долларов:
– Можете не пересчитывать. Здесь больше, нежели вы ожидали, теперь с легким сердцем можете уплывать в Японию, чтобы отдохнуть возле наших целебных источников. Эти доллары переведены вам от компании «Стандард Ойл» в благодарность за ту информацию, какую мы в Токио получали все это время.
Зальца широким жестом хозяина призвал гостей к банкетному столу, за которым уже расселся геолог Оболмасов.
– А вы-то как оказались в Корсаковске?
– А где же мне быть?..
Кабаяси уверенно уселся во главе обширного стола.
– Оболмасов-сан, – сказал он, – мечтал сделаться сахалинским Нобелем, и мы, японцы, согласны поделиться запасами нефти с нашими добрыми заокеанскими друзьями.
При этих словах Кабаяси указал на Оболмасова.
– А вы, кажется, так ничего и не поняли! – засмеялся тот, раскрывая перед Зальца свой паспорт. – И не смотрите на меня с таким неподдельным ужасом, как на поганого глиста, выползшего из параши подышать свежим воздухом… Вы, глупец, отдохнете на японском курорте, после чего всю жизнь будете мазать свой хлеб германским маргарином. А мое будущее под сенью пальм в штате Флорида, благо я стал гражданином Соединенных Штатов… В конце-то концов, – заключил Оболмасов, – для человечества безразлично, в какие бочки потечет сахалинская нефть – в японские, в русские или в американские.
– Да, я все делал ради своего фатерлянда, – гневно отвечал барон Зальца, – но, в отличие от вас, никогда не был космополитом! И на вашем месте я бы даже не совался на Сахалин, а сидел бы под сенью американских пальм, мечтая о русской водке.
– Вы мне угрожаете? – спросил Оболмасов.
– Не я! Но здесь вы можете плохо кончить…
В окно было видно засвежевшее море, суета десантных катеров на обширном рейде. В панораму застекленной веранды, пронизанной ярким солнцем, медленно вплывал крейсер «Акацуки» под вымпелом адмирала Катаоки, а четыре плоские, как сковородки, канонерские лодки вели частый огонь по лесу, в гущах которого укрывались бежавшие жители и каторжане, кричавшие:
– Предали! Ни за грош теперь пропадем…
– Тут все с японцами покумились!
– Господи, да куды ж деваться-то нам?..
Японская шрапнель рвалась с оглушительным треском; люди падали в корчах, и возле пня сидел мертвый мальчик, прижимая к себе мертвую рыжую кошку… Он ее так любил.
* * *
На другой день два полка японской пехоты, позванивая амуницией, выступили из Корсаковска на север – по дороге, параллельной реке Сусуя, впадавшей в бухту Лососей. За ними лошади, мотая головами, равнодушно влекли горные пушки, зарядные ящики и походные кухни. Японцы без боя, одним своим появлением выдавили Арцишевского из пригородных селений, настигая усталых людей в ускоренном марше по хорошей и гладкой дороге, что кончалась у Найбучи возле Охотского моря.
Матросы с «Новика» нагнали свою пехоту лишь на подступах к Соловьевке. Архип Макаренко доложил полковнику о прибытии. Арцишевский едва глянул на комендора:
– А ну вас! Раскозырялись тут, пижоны липовые… мне сейчас не до вашего брата. Если хотите, так пристраивайтесь.
В это же время, как по заказу, шесть японских миноносцев вошли в бухту Лососей, откуда и стали обкладывать Соловьевку фугасами, и Арцишевский велел отходить:
– Дальше! Пошли до Хомутовки, а там и Владимировка… Молитесь богу, чтобы нас только не отрезали.
Архип Макаренко переговорил с матросами:
– Братцы, не оставаться же нам одним, приладимся в хвосте у пехоты. Может, к вечеру и накормят…
По обеим сторонам дороги, уводящей к Охотскому морю, шелестели травы, в небе пиликали жаворонки, а на душе у всех было так паскудно – хоть плачь! Невдалеке виднелись горы, пугающие крутизной; в лесных падях, напоенных журчанием ручьев, царил полумрак, было жарко и душно. Матросы стягивали форменки, потом потянули с себя и пропотелые тельняшки, шли за пехотой обнаженные, несли в руках винтовки. Возле Хомутовки всех остановили.
– Вон как тихо, – сказал Арцишевский, – наверняка тут засада. Лучше отвернуть с дороги. На худой конец, в лесах есть еще две деревеньки – Ближняя и Дальняя, так и займем новую позицию, чтобы переждать это окаянное время…
Архип снова собрал в кружок своих матросов:
– Нет у меня веры в эти деревеньки, кто тут разберет – ближняя она или дальняя? Кого из офицеров ни спросишь, никто ни хрена не знает и знать не хочет. А ведь где-то за нами еще сражается отряд капитана Полуботко.
Матросы так устали, что попадали на траву:
– Давай, Архип, ложись и ты. Дождемся Полуботко…
Арцишевский увел свой отряд в лес; матросы залегли возле дороги и дождались отступавший отряд Полуботко.
– Вы чего здесь валяетесь?
– Вас ждем, – поднялись с земли матросы.
– А где же отряд полковника Арцишевского?
– Вон туда пошел, – махнул рукою Макаренко.
– А что там? – спросил его капитан.
– Откуда я знаю, если вы сами не знаете. Сказывали, что за лесом еще две деревни. Мы устали и легли. Все!
Полуботко долго разглядывал какой-то клочок бумаги, на котором химическим карандашом были накорябаны от руки течения рек и дороги Сахалина, а Макаренко отошел к матросам:
– У него такая шпаргалка, что заведет нас на кудыкало, где Баба Яга горе мыкала… Тоже мне – господа офицеры!
Полуботко махнул рукой, показывая в даль дороги:
– Вперед во славу отечества…
На ночь укрылись в лесной чаще, костров не разводили, слышали неясный шум с дороги, но не придали ему значения. Утром миновали Хомутовку, а крестьяне сказали им:
– Вы соображение-то имейте: ежели на Владимировку путь держите, прямо к японцам и попадетесь…
Полуботко совал Макаренко свою шпаргалку:
– Ты грамотный? Так куда делся отряд полковника?
– Говорил, что есть две деревни, мол, одна Ближняя, а другая Дальняя, где они, я не знаю. У вас-то что нарисовано?
– Да у меня точка стоит – деревня Луговая.
– Так я нездешний, – отвечал Макаренко. – Что вы прицепились ко мне по географии Сахалина? Со школы я слышал, что есть такой, но никогда не мечтал о Сахалине.
В чащобе густого леса Полуботко скомандовал:
– Стой! Составить все оружие в козлы…
Солдаты, матросы и дружинники исполнили его приказ, и тогда капитан Полуботко, после короткого совещания с офицерами, объявил, что отряд окружен, а спасенья нет:
– Конечно, в воле каждого поступать как он хочет, но мой совет – лучше сдаться на милость победителя…
Макаренко выдернул свою винтовку из козел.
– Вот ты сам и сдавайся! – крикнул он.
Вслед за матросами похватали винтовки и другие. Полуботко сел на землю и стал воюще, противно плакать.
– Да не предатель же я, – всхлипывал он. – Я ведь только добра вам хочу… Куда нам идти? Где спасаться?
– Веди прямо в бой! – отвечали ему солдаты.
«Но капитан Полуботко, ссылаясь на боль в ногах, отказал подчиненным» (выписка из официальных бумаг). Пока они там препирались, японцы стали окружать отряд. Полуботко кричал:
– Куда вы все разбежались? Стойте, мать вашу так… Не хотите меня слушать – вам же хуже будет!
Тяжко дыша от усилий, матросы подымались на вершину сопки, задержавшись на ее лесистом склоне. Издали они видели, что японцы не спеша подошли к капитану Полуботко, который показывал им свою «шпаргалку». Японские офицеры стали сравнивать ее со своими картами, затем они смеялись. Вся эта сцена произвела на матросов ужасное впечатление. Архип Макаренко прицелился в Полуботко, потом опустил винтовку:
– Патрона жаль! Пошли, братва.
– А куда?
– Пошли в лес. Там спросим.
– У кого спросим? У медведя, что ли?
– Да уж куда-нибудь выберемся…
На пятый день пути, оборванные и голодные, они случайно встретили отряд капитана Таирова, тащившегося в сторону бухты Маука от самого села Петропавловского… Таиров не обрадовался матросам, только спросил – где мичман Максаков?
– Ушел в Корсаковск и не вернулся.
– Знаем мы эти фокусы. Он сейчас с японцами шампанское распивает, а вы, как дураки, по лесам шляетесь…
Эти подозрения вывели Макаренко из себя.
– Не только мы шляемся, – ответил он Таирову. – Вы шляетесь, Арцишевский шляется, а Полуботко дошлялся до того, что в штаны наклал, теперь его самураи от дерьма отмывают.
– Ты не хами мне! – возмутился Таиров.
– А что вы мне сделаете?
– Шлепну наповал, и дело с концом.
– Да шлепай! Не ты, так японцы шлепнут…
Обстановка в отряде Таирова была неважная, и Макаренко сразу заметил, что солдаты не доверяют дружинникам, а дружинники сторонятся солдат. Однако именно каторжане и поселенцы пригласили матросов к своим кострам, предложили им каши с мясом. Матросы присыпали кашу своей солью:
– Соль наша, а каша ваша…
Крупные чистые звезды всходили над Сахалином. Еще ничего не было решено в судьбе этих людей, но каждый, засыпая, думал, что смерть ходит на цыпочках где-то рядом.
* * *
– Корсаковск на проводе, – доложили Ляпишеву.
– Слава богу! – обрадовался губернатор, беря трубку телефона. – Это вы, барон Зальца?
Телефон донес до него едкий смешок Кабаяси:
– Добрый день, дорогой Михаил Николаевич! Теперь в Корсаковске окружным начальником буду я, и к вам в Александровск скоро приедет управлять делами Такаси Кумэда, ныне майор славной армии великого японского императора Муцухито…
Только теперь Ляпишев понял, что Южный Сахалин во власти японцев, и генерал-лейтенант юстиции кричал в трубку:
– Мы не признаем власти вашего императора на русской земле! Я, как юрист, заявляю, что Япония не имела никаких прав для нападения. Ваши операции против русского Сахалина – это неправомочное действие, его нельзя оправдать никакими положениями военного права, где сильный побеждает слабейшего. Вы, японцы, навязали жителям Сахалина войну именно в тот момент, когда Токио само выразило желание к миру, а Россия уже дала согласие на ведение мирных переговоров в американском Портсмуте… Русский народ этого преступления не забудет! Он не забудет и никогда не простит.
– Провод оборван, – доложили Ляпишеву.
В трубке телефона давно царила противная тишина: губернатор приводил свои доводы в пустоту. Сахалин перелистывал страницы своей новой истории – страницы гордости и позора.
6. Учитесь умирать
«Сейчас я живу в Найбучи на самом берегу Охотского моря, в заливе Терпения, и здесь пока тихо, а слухи о всяких японских мерзостях кажутся выдумкой злого волшебника. Дорогая мамочка, не буду скрывать, что рядом со мною хороший и заботливый человек, некто В. П. Быков, он уже в чине штабс-капитана, но давно стремится в Акад. Ген. шт., чтобы ускорилось его продвижение по службе. Он уже сделал мне предложение, но я…» – Клавочка Челищева писала письмо матери, совсем не уверенная, что оно дойдет от мерзкого Найбучи до ослепительного Петербурга; она писала его в местной лавке, сидя на мешке с затхлой мукой, среди неряшливых кульков с конфетами и ящиков с негодными консервами, когда с улицы вдруг громко всхрапнули усталые кони, скрипнули расхлябанные рессоры коляски, и знакомый мужской голос, когда-то вкрадчивый, проникающий до глубин сердца, а теперь властный, произнес:
– Вот и все! Кажется, мы достигли сахалинского Монрепо, где наша жизнь пока в безопасности…
Клавдия Петровна вышла на крыльцо лавки.
– Добрый день, – сказал ей Полынов.
– Добра не жду, – ответила Клавочка, исподтишка оглядывая Аниту, вылезавшую из пролетки, и при этом Челищева с чисто женской неприязнью заметила, как та похорошела, как она выросла, а девичья грудь резко обозначилась под ее запыленным платьем. – Я всегда забываю, как вас зовут.
– Меня? – удивилась Анита, весело смеясь.
– Нет, не вас, а вашего властелина…
Полынов пояснил с предельной ясностью:
– Сейчас мне очень нравится изображать корсаковского судебного следователя Ивана Никитича Зяблова…
Анита поднялась по ступеням крыльца прямо в магазин, откуда послышалось шуршание раскрываемых ею кульков с конфетами.
– А вам, сударь, еще не надоело менять фамилии?
Полынов разнуздывал лошадей, выпрягая их. Он делал это умело, будто всю жизнь служил в ямщиках.
– Напротив! – отвечал он. – Каждый раз, влезая в чужую шкуру, я испытываю некоторое облегчение, какое, наверное, испытывает и гадюка, выползающая из одряхлевшей кожи…
Челищева вспомнила о недописанном письме к матери, где на середине оборвана фраза: «Он уже сделал мне предложение, но я…» «Какой ужас! – вдруг подумала Клавочка. – Почему я завидую этой девке Аните, которая, словно худая крыса на помойке, копается в кульках с чужими конфетами… воровка!»
– Скажите своей мадам Монтеспан, чтобы она не ковырялась в чужих товарах, в этих краях карамель стоит денег.
Полынов, держа в руке кнут, ответил, что Анита проголодалась в дороге, а за раскрытые кульки с карамелью он рассчитается с хозяином лавки. После чего деловито сказал:
– Мне повезло! Я проскочил через Владимировку, занятую японцами, только потому, что лошади в упряжке барона Зальца оказались очень выносливы. Наверное, останемся с вами. Но прежде хотелось бы повидать штабс-капитана Быкова.
– Для вас он – господин штабс-капитан!
– А для вас?.. – вопросом ответил Полынов.
Быков встретил его первым и самым насущным:
– Но где же отряд Слепиковского?
– Затрудняюсь ответить. Я видел его накануне высадки японцев, ваш приятель был спокоен. Если его отряд отходит от Чеписан, то он может следовать только на Хомутовку.
– Где уже сидят японцы, – уточнил Быков.
– Да.
– А куда же пропал сильный отряд Арцишевского?
– Не могу сказать, ибо я проскочил по дороге до Найбучи, наверное, раньше всех отступающих отрядов.
Быков сцепил пальцы в замок с такой нервной силищей, что даже посинели ногти на пальцах его рук.
– Я уже не спрашиваю об отряде Таирова, который может отступить только к рыбным промыслам Маука. Но чувствую, что в наших позорных делах не обошлось без предательства.
– Вы догадливы, штабс-капитан, и я даже предвидел это предательство… после знакомства с бароном Зальца! Всей душою прильнув к груди германского кайзера, он продался японцам.
– Смиримся и с этим, – раздумчиво произнес Быков. – Мой отряд будет сражаться до конца. Люди хорошие! Правда, – сказал он, – партизанские действия успешны только там, где партизан находит поддержку в населении. Трудно партизанить в тех местах, где только лес да дикие звери… Мы охотно примем вас в наш отряд, и я даже не буду слишком придирчив к вашему сугубо криминальному прошлому.
– У меня его попросту нету, – засмеялся Полынов. – Я весь целеустремлен в светлое кристальное будущее.
– Прекратите! – раздраженно ответил Быков. – Я перестаю понимать, где вы говорите серьезно, а где превращаетесь в шута. Лучше скажите по правде: чем я могу быть полезен?
– У вас, – ответил Полынов, – имеется замечательная «франкотка», с которой вы один на один ходили против уссурийского тигра. Я могу сдать в отряд винтовку конвойного образца, а вы позволите мне пользоваться вашей «франкоткой».
Быкову было жаль расставаться с оружием точного боя, но он все-таки выложил снайперскую «франкотку» на стол, предупредив, что после войны заберет ее обратно.
– Обязательно! – Полынов почти любовно подкинул в руке оружие. – За это я обещаю раздобыть для вашего отряда пять японских винтовок «арисака» и… и даже пулемет!
– Где вы их достанете?
– Это же моя профессия: вскрывать сейфы банков и добывать оружие для нелегалов. Впрочем, я прибыл в Найбучи, кажется, по служебным делам – как судебный следователь Зяблов.
Быков не слишком-то обрадовался этому превращению:
– Тогда я спрошу: куда же исчез сам Зяблов? – Он… убит. – Кем убит?
– Конечно, японцами, – равнодушно пояснил Полынов. – Вы же знаете привычку Зяблова ходить в мундире судебного ведомства. Наверное, японцы и приняли его за русского офицера…
Корней Земляков даже прослезился при виде Полынова:
– Вот повезло… вот радость-то! Ежели и вы с нами, знать, не пропадем. Вы приносите человекам счастье…
Полынов дружески попросил парня проследить за лошадьми, чтобы они отдохнули после бешеной скачки от Корсаковска до Найбучи, с помощью Корнея отыскал жилье для совместного проживания с Анитой. Но однажды, когда Полынов чересчур долго засиделся в магазине, беседуя с лавочником и Челищевой о метаморфозах жизни, Анита встретила его разъяренной и сразу от порога надавала ему хлестких пощечин. – За что? – обомлел Полынов.
– Не смей разговаривать с чужими! – яростно выпалила Анита. – Я не знаю, что сделаю с тобой, если только на моем пути станет другая женщина… Ты думаешь, я не поняла твоих слов Слепиковскому, когда вы закармливали меня мандаринами, растущими на кустах, а не на деревьях?!
Полынов вяло опустился на лавку и, потрясенный внезапным гневом своей Галатеи, долго не мог припомнить, сколько он заплатил за это сокровище.
– Ты не помнишь, сколько я дал тогда за тебя?
– Мало! Я ведь стою гораздо больше…
Двадцать седьмого июня в отряд Быкова влились потрепанные остатки отряда Полуботко, сдавшегося японцам, и Валерий Павлович Быков решил выбраться из Найбучи, чтобы проучить самураев:
– Пора дать бой этой зарвавшейся сволочи…
* * *
Контр-адмирал Катаока был еще молод. Европейская прическа и пышные усы делали его мало похожим на японца. Катаока смело сражался у стен Порт-Артура, он прошел через огненное горнило Цусимы; воротник его мундира был осыпан звездами, как и его грудь орденами… 27 июня ему доложили, что с четырех миноносцев сброшены десанты на мыс Крильон и теперь маяк, светивший кораблям в проливе Лаперуза, стал японским.
– Банзай, – сказал Катаока, глянув на карту. – Отныне «Крильон» будет мигать только по нашему расписанию.
Катаока принял адъютанта Харагучи – майора Такаси Кумэду, который выразил беспокойство своего начальника. Сначала адмирал понял его так, что пришло время бомбардировать с моря Найбучи, но Кумэда просил его совсем о другом:
– Армии доставил много хлопот отряд Слепиковского.
– Сколько у него человек?
– По нашим сведениям, сто семьдесят при одном пулемете. Но, к сожалению, в отряд Слепиковского стали сбегаться каторжане и поселенцы, у него там уже работает кузница, где снимают с арестантов кандалы, и они тут же берутся за оружие. Харагучи просил известить вас, что именно Слепиковский тормозит наше продвижение к северу Сахалина.
– Как может шайка сорвать планы доблестной японской армии? Покажите на карте место отряда Слепиковского…
Гротто-Слепиковский отступил в тайгу к озеру Тунайчи, где и окопался. У него почти не осталось солдат, зато он принял в отряд множество арестантов, взломавших тюрьму, и, вооруженные, они не расставались с тюремными кандалами:
– Ежели их на руку намотать да самурая по чердаку трахнуть, так тут столько пыли просыпется…
Харагучи бросал в атаки по четыреста-пятьсот штыков сразу, но берега Тунайчи сделались неприступным бастионом, и командующий прославленной Сендайской дивизией боялся двигаться к Найбучи, пока в тылу оставался Слепиковский. Палец генерала неопределенно блуждал по оперативной карте, пока не уперся в Хомутовку:
– Конечно, этот ретивый поляк, чтобы соединиться с другими отрядами, может оказаться вот здесь, и тогда наши коммуникации будут им перерезаны… Что сказал Катаока?
– Адмирал, – ответил Кумэда, – высылает в море крейсера с десантами и батареями. Но при этом Катаока много смеялся, что мы застряли еще на выходе из Корсаковска.
– Он больше ничего не сказал?
– Катаока сказал, что похороны Слепиковского берет на свой счет и даже согласен оказать ему воинские почести!
Японские корабли обрушили на позиции Слепиковского огонь такой плотности, что от берегов озера отваливались пласты почвы, плюхаясь в воду. Все птицы разом поднялись в небо, тревожно галдя с высоты о том, что неизвестная сила нарушила извечный покой их гнездовий. Японские десантники охватывали отряд с трех сторон, и Слепиковский с трудом оторвал от земли тяжеленную, гудящую голову.
– Отходить, – скомандовал он, – убитых не брать! Нам некогда отрывать могилы…
Он углубился в тайгу, заняв позицию в непроходимых дебрях – между Хомутовкой и берегом Охотского моря. Кумэда снова появился перед адмиралом, докладывая, что дивизия Харагучи не может двигаться дальше, пока ей угрожают с флангов Быков и Слепиковский. Но теперь на западе Сахалина блуждает отряд капитана Таирова, выбирающийся к поселку Маука, откуда прямая дорога вдоль берега выводит к Александровску.
– Что вы от меня хотите? – спросил Катаока. В отряде Таирова насчитывалось всего лишь сто шестьдесят восемь человек, но у страха глаза велики, и Кумэда сказал:
– У Таирова больше полутысячи бандитов, мой генерал просит вас послать для обстрела «Ясима» и «Акицусима».
Катаоке льстила эта зависимость армии от флота.
– Прошу передать генералу Харагучи мое уважение к его опыту и отваге. Но скоро моим крейсерам понадобится ремонт машин от частых посылок для помощи армии, а между тем, – сказал Катаока, – моя эскадра должна бы уже стоять на якорях возле Александровска… Неожиданная задержка Сендайской дивизии срывает оперативные замыслы императорского флота!
Упрек вежливый, но больно ранящий Харагучи…
* * *
В изложине гор блеснули воды Татарского пролива; матросы, поснимав бескозырки, обрадованно крестились:
– Ну, выбрались на кудыкало, у моря оживем. Возле пристани Маука качались четыре японские шхуны. Матросы одним бравым наскоком захватили их, потом выгребали из трюмов свертки солдатских одеял, бочонки с противным саке, мешки с рисом.
Пленным японцам дали кунгас с веслами и парусом, разрешили вернуться домой – в Японию:
– И скажите там своим, что мы еще не озверели, как вы, и голов никому не рубим… Убирайтесь вон, мясники!
Изможденный после блуждания по горам и тайге, отряд Таирова отсыпался в Маука, но пища была невкусная – без соли. Многие совсем отказывались от пресной еды, вызывавшей у них отвращение, и потому люди сильно ослабели. Мирная жизнь была нарушена появлением японских крейсеров, в одном из них Макаренко выделил знакомый силуэт «Ясима»:
– Во, гад! Уж сколько мы его с «Новика» лупцевали, а теперь и сюда приполз – салазки нам загибать…
Дымно разгорелись бараки рыбных промыслов, с веселым треском пламя охватило японские шхуны. Таиров велел отойти от берега, скрыться в густой траве, а крейсера нарочно били шрапнелью; потом высадили десант «японцев, которые, – вспоминал позже Архип Макаренко, – залпами осыпали траву, надеясь открыть наше убежище. Но мы молчали, так как, если бы и вступили в бой, крейсер тотчас же расстрелял бы всех нас из орудий». Дождавшись ночи, отряд покинул Маука, снова исчезая для врагов в дебрях Сахалина, и после шести суток невыносимых трудностей они вышли к истокам реки Найбы, которая где-то в тайге заворачивала к востоку прямо к Найбучи.
– Вот и ладно, – сказал Таиров, – отсюда по речке выберемся на Быкова, а там уж сообща решим, что дальше…
Высланная вперед разведка назад не вернулась, а вскоре солдаты и дружинники обнаружили поле недавней битвы. С непривычки многих даже замутило. В самых безобразных позах валялись разбухшие на солнцепеке трупы самураев, возле каждого было рассыпано множество расстрелянных гильз.
– Идите сюда! – слышалось. – Тут наши лежат…
Смерть изуродовала русских, павших в смертельном бою, и было лишь непонятно – кто они, из какого отряда, куда шли? Над мертвецами знойно гудели тысячи жирных мух, вокруг трупов весело резвились полевые кузнечики и порхали бабочки. По Найбе, отталкиваясь от берега шестом, плыл в лодке местный житель, он подтвердил, что здесь был сильный бой.
– А кто же дрался тут с японцами?
– Отряд капитана Быкова.
– Так куда он делся потом?
– Кажется, ушел к селу Отрадна.
– Тогда и нам идти на Отрадна, – решил Таиров.
Матросы, привычные воевать на небольшом «пятачке» корабельной палубы, едва тащили ноги, уже не в силах преодолевать такие расстояния в бездорожье. Скоро из разведки вернулся прапорщик Хныкин, который крикнул:
– Назад! Впереди уже японцы.
– А много ль их там?
– Чего спрашиваете? На всех нас хватит…
Таиров повернул отряд обратно по реке Найбе, но уже не вниз, а вверх по ее течению, удаляясь от села Отрадна. На третий день люди услышали лай айновских собак – это двигался большой японский отряд. Таиров велел раскинуться цепью вдоль реки, а сам остался в обозе. Японцы с собаками стали отступать, заманивая русских в засаду, но тут прапорщик Хныкин – безвестный герой войны! – выкликнул добровольцев, они пошли за ним на «ура» и не оставили в живых ни одного самурая.
«После этого, – рассказывал Архип Макаренко, – затихла стрельба, и мы уже радовались, что порядочно перекокошили японцев, а затем было решено перейти на другую сторону Найбы». Однако на переправе случилась беда: японцы отсекли от Таирова один взвод, прижали его к отвесной скале, возле которой всех и перестреляли.
Но другой взвод спасался на скале, под которой перепрелым туманом смердила глубокая пропасть. Самураи теснили русских к самому краю обрыва, но люди в плен не сдавались.
– Только не срам! – кричали они. – Лучше уж смерть…
Расстреляв все патроны, люди выходили на край обрыва и, прощальным взором глянув на чистое небо, кидались вниз. Так погиб весь взвод. С первого и до последнего человека. Ни один не сдался… Русское мужество ошеломило врагов. Они долго стояли оцепенев. Молчали! Потом японский офицер, пряча в кобуру револьвер, подошел к обрыву над пропастью и посмотрел вниз, где распластались тела русских воинов, а меж ними, уже мертвыми, поблескивали стволы ружей и звенья кандалов.
– Учитесь умирать, – сказал он своим солдатам.
7. Учитесь воевать
В русской печати едва мелькнуло лаконичное сообщение о страшном бое, который дал штабс-капитан Быков японским захватчикам между Еланью и Владимировкой. При этом газеты ссылались на телеграмму Ляпишева от 29 июня, в которой губернатор Сахалина извещал Линевича, что отряд Быкова «имел бой, доведенный до штыков, с противником в более значительных силах». Сами же японцы об этой схватке хранили молчание, скрывая свои большие потери. Но генералу Харагучи становилось ясно, что по тылам его армии совершает отважный рейд партизанская сила, и она день ото дня делается все опаснее для них, для японцев… Быков оказался неуловим! Он наладил разведку, умел обходить опасности, поддерживая связь с жителями редких поселений, узнавал от них о каждом передвижении самураев. Его отряд громил вражеские гарнизоны, выметал их с позиций; японцы стали бояться дорог и прятались в лесу. В штабе Харагучи появилась растерянность, не свойственная победителям, и целых десять дней подряд японцы не смели даже показываться там, где появлялся Быков. Со своим отрядом, с беженцами, бродягами и ссыльными, которые уверовали в себя и в своего командира, они стали хозяевами положения.
– Остановка Сендайской дивизии на Южном Сахалине крайне неприятна, – рассуждал Харагучи перед Кумэдой. – Против нас действуют отряды Слепиковского, Таирова и Арцишевского, их надо уничтожить, пока они не соединились с Быковым.
Кумэда, опытный разведчик генштаба, сказал:
– Следует поторопиться с этим решением! Вчера мне стало известно, что губернатор отправил на помощь Быкову отряд гарнизонных войск во главе с капитаном Владимиром Сомовым.
– Вы его знали? – спросил Харагучи.
– Да, симпатичный молодой человек.
– Его надо перехватить еще в Оноре, – рассудил генерал. – Вы знакомы с этими краями, вот и ступайте до Онора.
Кумэда хотел взять с собой собак и… Оболмасова:
– Он уже проделал этот маршрут, а теперь ему, как американскому гражданину, ничто не грозит от русских.
– Хорошо, – согласился Харагучи, – можете брать айнов в качестве проводников, забирайте и этого американца Оболмасова… лишь бы опередить Сомова!
* * *
До отряда Быкова вскоре дошло, что полковник Арцишевский принял капитуляцию. Перед тем как сложить оружие, он целых три дня, как маклак на барахолке, торговался с самураями, выговаривая для себя условия плена. Но часть его отряда, похватав оружие, растворилась среди гор и лесов, почему Быкову следовало ожидать новое пополнение.
– Он же полковник… завтра генерал, – переживал Валерий Павлович, сидя в лесной халупе. – Какое он имел право бесчестить свои погоны и погоны других? Я не знаю, где Таиров и о чем он думает, но Слепиковского надо выручать…
Быков вызвал к себе Корнея Землякова и сказал, что верит в его смекалку, верит в его выживаемость среди кошмарных условий сахалинских дебрей.
– Конечно, Слепиковский не сидит на месте, он желал бы выйти к нам. Я даже не приказываю, а только прошу: бери любую лошадь из коляски барона Зальца и сыщи Слепиковского, чтобы он знал, куда ему пробиваться, где нас искать… Пусть он сам назначит время и место встречи!
Все десять дней передышки японцы забрасывали Быкова своими посланиями. Иные письма начинались вежливо: «Мы, япона, уважай Вас, доблесна руске офицерик…» Другие письма были переполнены угрозами, проклятьями от имени японской армии, самураи писали Быкову, что, если его банда не сложит оружие, они поджарят его на костре… живьем, как кусок мяса! Полынов застал Быкова не в самую хорошую минуту его жизни.
– Вы, кажется, загрустили, штабс-капитан?
– Задумался.
– О чем же?
– Неужели после войны, учитывая мои сахалинские заслуги. Академия Генерального штаба не примет меня в число своих слушателей без экзаменов по иностранным языкам?
– Не примет, – ответил Полынов. – Там слишком большой конкурс желающих обменять гарнизонную жизнь на блистательное представительство русской военной мысли. Я бы на вашем месте срочно обвенчался с Клавдией Петровной, чтобы она разговаривала с вами только на французском или немецком.
Темнело. Быков затеплил огарок свечи:
– К сожалению, нам не до венца. А я, наверное, не умею открывать для любви сердца женщин.
– Чепуха! – возмущенно ответил Полынов. – Каждый мужчина должен сам открывать для любви сердце любой женщины.
Горько усмехнулся в ответ штабс-капитан, оберегая среди ладоней, как цветок, колебания слабого огонька.
– Научите, как это делается? – спросил он.
– Очень просто! Любая женщина – как несгораемый шкаф еще неизвестной системы. Я подбираю к нему отмычки, а потом ковыряюсь в его потаенных пружинах. Раздается приятное: щелк! – и дверь сейфа открывается, как и сердце женщины.
– Опять шуточки! Вы можете быть откровенны?
– Конечно.
– Однажды вы засиделись в лавке Найбучи, допоздна беседуя с Клавдией Петровной.
– Не ревнуйте, – ответил Полынов. – За эту беседу ваш несчастный Пигмалион уже получил оплеуху от своей Галатеи.
– Но о чем вы беседовали с Клавочкой?
Последовал честный ответ Полынова:
– Госпожа Челищева спрашивала меня: стоит ли ей довериться вашим чувствам и принять ли ваше предложение?
– Что вы ответили ей тогда?
– Я сказал, что вы принадлежите к очень сильным натурам, которые способны перенести любые удары судьбы, но вы никогда не сможете пережить своего поражения.
Лицо Быкова неприятно заострилось, покрываясь глубокими тенями, как у мертвеца. Он загасил свечной огарок.
– Я вас не понял, – было им сказано.
– Наверное, меня поняла Клавдия Петровна.
– И какие же она сделала выводы?
– Вот об этом вы спросите у нее сами…
Передышка в боях затянулась. Полынов вскоре навестил Быкова с «франкоткой» в руках; его сопровождала Анита.
– Вы не будете возражать, если я схожу на разведку к северу, в сторону Онора? За меня вы не бойтесь.
– Я не за вас боюсь, а за вашу спутницу.
Анита вдруг шагнула между ними.
– Со мною ему нечего бояться, – гордо заявила она.
Взявшись за руки, словно дети, они не спеша удалялись в сторону леса, и Клавдия Петровна сказала Быкову:
– Не правда ли? Он сделал из девчонки свою собаку.
– Да нет, – печально ответил Быков. – Это скорее женщина, уже осознавшая свою великую женскую власть над мужчиной, и мне порою кажется, что Полынов уже начал ее побаиваться. Я бы тоже не пожалел денег, чтобы купить такую вот… собаку!
Клавочку подобное объяснение не устраивало:
– Успокойтесь! Я вашей собакой никогда не стану…
* * *
После боя на реке Найба отряд перебрался на другой берег. Наверное, капитан Таиров мог бы и не форсировать реку, он и сам не знал, зачем это делает, поступая иногда по соображениям, очень далеким от тактики. Сказывались давняя усталость, постоянный голод, вечные страдания от гнуса, краткие сны на сырой земле – люди двигались скорее по привычке, уже вяло соображая, зачем и куда бредут, лишь бы не стоять на месте.
Шум речной воды усыплял, хотелось лечь.
– Сколько ж можно еще таскаться? – спрашивали матросы.
– Может, и выйдем на Быкова.
– А где он, отряд-то евонный?
– Не просто ж так ведут. Наверное, знают.
– Откуда им знать-то? Сами плутают…
Капитан Таиров забрался с офицерами на горушку, оглядываясь по сторонам, и скоро из цепи охранения послышалась учащенная пальба. Не успели дружинники опомниться, как японцы открыли по ним огонь со всех сторон сразу.
– Окружают… окружили! – раздались крики.
Архип Макаренко вспоминал: «Мы отбивались всеми силами, но через полчаса мы имели уже много потерь и стали ослабевать. К японцам же еще подошли подкрепления, так что их стало сотни четыре, если не больше». Матросы в ряд с дружинниками палили из берданок, но патроны им были выданы еще старинные, начиненные дымным порохом, и струи дыма, плававшие над травой, сразу называли японцам цель – для верных поражений. Увидев себя в кольце врагов, люди стали метаться, иные вскакивали, чтобы бежать, но тут же падали, остальные ползали возле тел погибших товарищей, вжимаясь в землю. Таиров, по-прежнему стоя на пригорке, вдруг стал размахивать полотенцем, крича:
– Эй, япона… аната! Кончай стрелять…
В бое возникла пауза, во время которой Архип метнулся в заросли малинника. Через просветы в листве наблюдал, что будет дальше. Он видел, как японцы атаковали горушку, быстро переколов штыками пытавшихся бежать, а Таирова с офицерами согнали с пригорка вниз. Наступило затишье, и, кажется, оно длилось долго. Макаренко не покидал своего укрытия, боясь, что снова начнется стрельба. По его словам, в траве и по кустам затаились еще около сотни русских. Наконец откуда-то из лощины послышался призывающий голос Таирова:
– Мои боевые друзья! Мне ли обманывать вас? Я говорю вам сущую правду… Идите сюда! Ко мне. Не бойтесь.
После томительных раздумий дружинники поднимались и шли на голос офицера. Макаренко заметил, что, поверив Таирову, поднялись с земли и матросы. Таиров продолжал взывать из лощины, чтобы ничего не боялись, чтобы все без страха собирались к нему. Наверное, он сумел выманить большую часть отряда, теперь заодно с ним друзей окликали другие голоса:
– Ванюшка, здесь японцы веселые! Добрые…
Макаренко слышал и призывы своих матросов:
– Архип, не бойся… Архип, иди к нам!
Потом над поляной недавнего боя нависла вязкая, гнетущая тишина, и Архип сел под кустом, жадно поедая сочные ягоды малины. Из кустов выполз к нему пожилой дружинник.
– Ты чего? – сначала испугался Архип.
– Я не поверил. Остался.
– Я тоже. Ты из каких таких будешь?
– Я-то? Мы тамбовские.
– По убивству? За воровство? Али как иначе?
– Не. Я из «аграрников». Поселенец.
– Выходит, по науке на Сахалин закатился…
Дальше они пошли вдвоем, шли двенадцать верст лесом, пока не выбрались на луговину с грудами мертвецов. Это были дружинники. Средь них Макаренко обнаружил и своих матросов, голоса которых еще звучали в его ушах: «Архип, не бойся… Архип, иди к нам!» Позже он вспоминал: «У всех на глазах убитых из тряпок были сделаны повязки, а одежда и тела порезаны и исколоты японскими штыками». Случайно наткнулись и на тело капитана Таирова, который «лежал несколько в стороне от других, изрубленный на куски, а рядом с ним валялся обезглавленный труп прапорщика Хныкина… мы с моим спутником горько-горько плакали над телами дружины», переставшей существовать.
– Уйдем отселе, – звал матроса «аграрник».
Питаясь ягодами и рыбой, которую ловили в Найбе руками, как первобытные дикари, они шли две недели подряд, но в селе Отрадна уже были японцы. Пришлось миновать село и углубиться в тайгу, где им встретилась убогая деревенька.
– Ну, – радовались, – здесь-то японца нету…
Староста сказал, что японцы у них уже побывали: «Пять русских, в том числе и фельдшер, обессиленные голодом, пришли и сдались японцам, те преспокойно связали им руки, завязали глаза и, выведя их к реке, так же спокойно перекололи всех пятерых, трупы бедняг и теперь валяются в яме».
– Можете оставаться, – закончил рассказ староста.
– Я… останусь, – решил «аграрник».
– А я буду искать своих, – ответил Архип.
Через несколько дней к бивуаку отряда Быкова выбрался из тайги не человек, а какое-то звероподобное существо; это был Архип Макаренко, заросший седой бородищей, весь облепленный комарьем, укусов которых он уже не замечал.
– Все погибли, – сказал он. – Один я остался. А больше никого. Так примите меня, люди добрые… сироту!
Кажется, он повредился в уме, его преследовали кошмары. Он часто замирал с открытым ртом, прислушиваясь, как из чащоб Сахалина его подзывают к себе голоса мертвецов:
– Архип, не бойся… Архип, иди к нам!
* * *
Всю ночь из села Отрадна слышались песни.
– Кто это поет? – спросила Анита.
– А тебе нравится?
– Да, красивый мотив.
– Это поют японские солдаты. Они всегда поют перед дальним походом, когда получают много саке. Подождем их здесь, все равно этой тропы к Онору самураям не избежать.
– А что мы сделаем, когда их увидим?
– Пересчитаем офицеров, чтобы по их числу иметь представление о количестве солдат. Узнаем, сколько телег, есть ли у них пушки, куда они шагают, – пояснил Полынов.
Они провели всю ночь на земле, накрытые арестантским бушлатом, а на рассвете Полынов продернул затвор «франкотки», досылая первый патрон до места.
– Анита, проснись. Все саке уже выпито, все красивые песни отзвучали, а нам пора… споем свою песню! Надеюсь, что ее мотив ты запомнишь на всю жизнь…
Укрывшись в чаще леса близ дороги, они дождались приближения батальона японцев. Впереди бежали собаки айнов, за ними сытые австралийские кони влекли телегу, за которой бодро шагали солдаты, пригнувшиеся от тяжести походных ранцев. Полынов выставил из кустов дуло винтовки: – Вот он, подлец! Наконец-то он мне попался.
– Кто?
– Оболмасов. А с ним на телеге – Кумэда.
– Но Оболмасов-то русский?
– К сожалению, да. Продажная тварь. Однажды он заставил меня снять перед ним шапку, а я сниму ему голову.
– Так стреляй, чего медлишь, – торопила его Анита.
– Я могу сделать лишь один выстрел.
– Почему только один? – шепотом спросила Анита. – Вон же рядом с Оболмасовым болтает ногами японский офицер.
– Второго выстрела нам не дано, – ответил Полынов. – Ибо за первым же выстрелом нас станут разрывать собаки…
Анита затаила дыхание. Мушка полыновской «франкотки» долго блуждала между Такаси Кумэдой и Жоржем Оболмасовым: кому из них подарить пулю? Но отвращение к сытому предателю пересилило ненависть к врагу, и Полынов уверился в выборе цели:
– Один Нобель в Баку, а сахалинскому не бывать…
Грянул выстрел. Оболмасов кулем свалился с телеги.
– Бежим! – крикнула Анита и, выхватив револьвер, перестреляла японских собак, которые с разгневанным лаем и рычанием уже кинулись вслед за ними.
– Только не отставай, – звал ее Полынов.
Скоро они вернулись в отряд, и не с пустыми руками. Полынов тащил на загривке английский пулемет, Анита же ехала верхом на лохматой маньчжурской лошади. Девушка не удержалась, чтобы не похвастать Быкову своим трофеем:
– Как собака! Кусок хлеба брошу – на лету хватает.
Она со смехом показала горбушку, и лошадь, радостно заржав, оскалила зубы, готовая схватить хлеб.
Полынов доложил Быкову, что батальон самураев выдвигается к Онору, чтобы перехватить отряд капитана Сомова на подходе:
– Вы уверены, что Сомов выдержит этот удар?
– Боюсь, что Володя не выдержит… Но где же Корней Земляков? – воскликнул Быков. – Почему не возвращается? Если бы моя встреча со Слепиковским состоялась, наши отряды, объединившись, еще могли бы спасти Александровск!
8. Огонь с моря
Судьба богатого села Владимировка не изгладилась даже в памяти поколений, и престарелые колхозники уже нового – советского Сахалина! – со слезами на глазах вспоминали:
– Наши отцы и матери не были ни каторжными, ни ссыльнопоселенными. Они искали на Сахалине лучшей доли и сытости. Когда японцы пришли, у нас тут двести дворов уже было. Школа своя была, церковь, мельница, даже молочная ферма. Самураи все разорили, все разграбили, подмели дочиста. Вредители они: где швейную машинку увидит, ведь он, гад, по винтикам ее раскрутит; а все винтики по улице раскидает. Чтобы устрашить нас и заставить русских уйти с Сахалина, враги весь урожай на корню сожгли, леса вокруг повалили. А двести наших, владимирских, мужиков да баб увели в падь за озером. Когда отыскали их, у всех голов не было… Тут мы, которые остались живы, сразу и побежали. Умирать такой смертью кому охота?..
Трагедия острова определилась. На гиляцких лодках, пешком или на вьючных лошадях, неся на себе детишек, через горы и непролазные болота в Александровск стали выбираться беженцы с Южного Сахалина, и поначалу никто не хотел верить их чудовищным рассказам о самурайских зверствах:
– Они всех убивают. От них даже малым ребятам нет пощады. И ведь какие нехристи! Сначала конфетку даст, по головке погладит, а потом… потом головой об стенку. Мы все бросили, что наживали, только бы живыми остаться…
Беженцы говорили правду. Когда раньше в окрестностях Порт-Артура или Мукдена находили тела русских воинов, изувеченных пытками, японцы говорили, что это дело рук хунхузов китайской императрицы Цыси. Но на Сахалине никогда не было хунхузов, теперь жители острова увидели подлинный облик самурая. Именно здесь, на русской земле, японцы решили беречь патроны: военных или дружинников, попавших в плен, они пронзали винтовочными тесаками, а местным жителям отрубали головы саблями, как палачи. По словам ссыльного политкаторжанина Кукуниана, только в первые дни нашествия они обезглавили две тысячи крестьян. Японская военщина истребляла беззащитных людей, когда их дипломаты, источая сладчайшие улыбки перед Рузвельтом, рассуждали о своем стремлении к миру с Россией!
Генерал-майор юстиции Кушелев сказал Ляпишеву:
– Наша беда, что на Сахалине никогда не было иностранных корреспондентов. Если бы они были, как в Порт-Артуре или Маньчжурии, тогда самураи, боясь международной гласности, не посмели бы зверствовать. Вот, Михаил Николаевич, почитайте, что пишет наш военный обозреватель Вожин…
Вожин писал, что солдаты «японских войск перепугали даже иностранных военных агентов, сидевших в японских штабах. В европейских газетах они признавали, что таких солдат в Европе нет…». А вот что писал он о нашем русском солдате: «Сыщутся средь нас миллионы, сильных не муштрою и фанатизмом, а исключительно сознательной верой в свои идеалы, сильных именно беззаветной любовью к своей великой Родине!»
* * *
Незадолго до появления беженцев в Александровск пришли два пароходика – «Тунгус» и «Камчатка», доставившие гарнизону солонину в бочках и новенькие пушечные лафеты.
– А где же сами пушки? – спрашивали капитанов.
– Сейчас только лафеты, а пушки потом…
Капитаны просили передать Ляпишеву, что следующим рейсом прибудет генерал Флетчер, который и возглавит оборону Сахалина, так что пусть Михаил Николаевич не тревожится. Конечно, никакой генерал Флетчер не приехал, а Северный Сахалин остался при новеньких лафетах без пушек. Если это русская «безалаберность», то в другие времена ее стали бы называть более конкретно – «вредительством». Однако в гарнизоне слишком уповали на приезд Флетчера. Поправку в эти иллюзии внес капитан Жохов, авторитетно заявивший, что генерала с такой фамилией в русской армии попросту не существует.
– Нет Флетчера, и не надо нам Флетчера, сами управимся! – убежденно высказался полковник Семен Болдырев. – Потому как и дураку ясно, что самураи сюда не полезут. Они же тепло обожают, солнышко любят, их на Северный Сахалин и рисинкой не заманишь…
Постепенно в Александровске успокоились, уверенные в «теплолюбии» самураев. Слизов ораторствовал в клубе, что вся эта катавасия началась с залива Терпения:
– Им рыбки захотелось! Ловили они там рыбу, ну и пусть ловят дальше, а в нашу холодрыгу они не сунутся…
Такие настроения, да, бытовали среди чиновников, и сейчас мне, автору, не найти им никакого оправдания. Тем более что трагедия жителей Южного Сахалина грозила обернуться непоправимыми бедствиями для северных островитян. Но в Александровске еще благодушествовали, Бунге не раз пожимал плечами, наслушавшись рассказов беженцев:
– Если это правда, кто бы мог подумать, что японцы способны на такие жестокости! Всегда вежливые. С улыбочкой!
На это капитан Жохов, уже прошедший через горнило боев в Маньчжурии, всякое видевший, отвечал Бунге:
– Мы ведь еще не спрашивали у волков: что они испытывают, терзая свои жертвы? Может быть, они в этот момент хохочут во все горло…
Сергей Леонидович в неважном настроении навестил Волоховых на Рельсовой улице. Ольга Ивановна, оставив свое бесконечное шитье, заварила для журналиста свежий чай. Здесь же был и Глогер, едва кивнувший капитану. Игнатий Волохов ставил на башмаки новые подметки, он из-под стекол очков выжидательно посматривал на офицера русского генштаба.
– Наверное, японцы уже на подходе? – спросил он.
– Вы не ошиблись, – нехотя согласился Жохов, – и потому советую вам не мешкать, если они появятся здесь. Сразу берите детей и уходите отсюда… как можно дальше.
Ольга Ивановна под стрекот машинки сказала:
– Куда уж дальше мыса Погиби! Мы ведь, слава богу, не уголовники, и японцы должны понять, что политические ссыльные лишь приветствуют поражение царизма. Конечно, мы не союзники самураям, но и не враги Японии… Правда ведь?
Глогер молчал, а Игнатий Волохов задержал удар молотком, словно выжидая ответа от военного журналиста.
– Боюсь, что ваши убеждения, Ольга Ивановна, для самураев ничего не значат. Им необходим весь Сахалин, от маяка «Крильон» до мыса Погиби, но Сахалин им надобен без русских людей – как хороших, так и плохих! Потому и говорю вам: не ждите милости от врагов, ибо враги останутся врагами для всех нас.
– Не для всех! – возразил Волохов, одним ударом загоняя гвоздик в подошву. – Отвергая амнистию от царя, мы будем освобождены японцами. Это две различные вещи!
Жохову было неприятно подобное умозаключение, но, идя на Рельсовую, он предвидел, что разговор не будет легким, и капитан даже с некоторой надеждой обратился к Глогеру:
– А вам-то, еще молодому человеку, не обремененному семьей и даже имуществом, вам спастись будет легче.
– Бежать с вами? – хохотнул Глогер. – А мне, католику, японцы ничего худого не сделают. Напротив, они лояльны к тем народам, которые порабощены вами, господин капитан. Разве не вы, москали, закабалили мою несчастную Речь Посполитую, а теперь сами же расплачиваетесь за свои грехи!
Сергей Леонидович ощутил приступ гнева:
– Вы, пожалуйста, не путайте русский народ с российским самодержавием. Вы ничего не поняли, ослепленные своим шляхетским гонором, а я предрекаю вам, что вы плохо кончите.
– Плохо? Лучше вас, – отвечал Глогер.
* * *
Кучер Ляпишева частенько вывозил губернатора с хохотливой Катей Катиной, но катал их подальше от города, ибо Ляпишев побаивался ревнивой Фенечки. Однажды он указал кучеру:
– Ты, братец, держи лошадей и коляску наготове возле моего дома, чтобы можно было сразу уехать от японцев.
– Ясненько, – отвечал кучер, осужденный московским судом за убийства и ограбления своих пассажиров…
Впрочем, сильный шторм в Татарском проливе исключал появление японских десантов. Ляпишев, прислушиваясь к разговорам чиновников, тоже начал склоняться к мысли, что завоеванием Корсаковского округа самураи ограничат свои территориальные вожделения. Но 10 июля шторм начал стихать, и возникла опасность обстрела Александровска с кораблей. Потому губернатор велел гасить по вечерам уличные фонари; обыватели занавешивали окна старыми одеялами, чтобы город, утонувший во мраке, не был виден с моря.
Старческий флирт с сестрой милосердия Катей Катиной не мешал Ляпишеву выказывать предельное внимание к своей горничной, у которой снова обострился процесс в легких.
Фенечка Икатова даже не благодарила его:
– Помру вот на каторге… каторжницей!
– Ну, милочка, что за глупые мысли у тебя, – волновался Михаил Николаевич, отсчитывая в рюмку капли микстуры. – И какая же ты каторжная, если сам генерал-лейтенант юстиции согласен быть сиделкой при твоей постели.
– Лошади-то с коляскою чего у крыльца стоят?
– Да так… на всякий случай.
– Вы меня не оставьте здесь – с японцами, – просила его Фенечка. – Уж если помирать, так лучше среди своих…
Мемуаристы, вспоминая сахалинский день 10 июля, оставили нам красочные описания погоды. По их уверениям, никогда еще море не было таким спокойным и ласковым, едва журча, оно набрасывало на берег пышные кружева легкой пены; ярко светило солнце, а небо было наполнено удивительной голубизной. Воздух был настолько прозрачен, что на другой стороне Татарского пролива невооруженным глазом можно было увидеть бухту Де-Кастри…
С маяка «Жонкьер» позвонили губернатору:
– Ясно видим четыре крейсера под японским флагом.
Михаил Николаевич еще не забыл своей оплошности, когда он, донкихотствуя, собрался вступить в битву со льдинами, на которых дымились кучи навоза.
– Дались вам эти японцы. Откуда тут крейсера?
– Так точно, убедитесь сами…
Ляпишев уселся в коляску, к нему запрыгнула невесть откуда и взявшаяся Катя Катина, любившая пикантные анекдоты. Кучер быстро домчал лошадей до пристани, по которой с биноклем в руках похаживал капитан Жохов. Но даже без бинокля Ляпишев рассмотрел японские крейсера, которые на малом ходу ползали, как утюги, вдоль берега, стопоря машины возле береговых лощин, через которые с моря проглядывали крыши Александровска; потом крейсера отплыли немножко к северу, где и задержались возле Арково, просматривая линии русских окопов.
– Что они здесь крутятся? – спросил Ляпишев.
– Промеряют глубины, берут пробы грунтов.
– Зачем?
– Чтобы знать, в каком месте бросать якоря…
По-прежнему светило солнце, лениво чвикали с высоты чайки, ни одного выстрела, берега Сахалина встретили бронированных пришельцев суровым молчанием. Но очевидец писал: «Глубоко оскорбленные, смотрели защитники Сахалина, как невозмутимо плавали неприятельские суда, как дерзко и насмешливо подходили они к нашим берегам. Судорожно сжимались руки, с языка слетали проклятия. О, если бы хоть чем-нибудь можно было проучить самонадеянного врага! И тут особенно ясно и отчетливо Сахалин осознал свое позорное, свое безнадежное бессилие. И как больно всем нам было это сознание… Японские крейсера скрылись в таинственной, синеющей дали. Они оставили всех нас переживать жгучий вопрос: что будет завтра?»
– Завтра все и начнется, – сказал Жохов.
– Типун вам на язык, – ответил Ляпишев. – Завтра не может быть ничего дурного, потому что Витте уже в пути к американскому Портсмуту, японцы ждут его для подписания мира… Что бы вы, дорогой генштабист, посоветовали мне делать?
– Все взрывать, все сжечь, – сказал Жохов.
– Не требуйте от меня подвигов Герострата!
На это военный писатель ответил ему как надо:
– Помилуйте, никто еще не назвал геростратами русских мужиков, паливших свои деревни в двенадцатом году…
Ляпишев вернулся в город, наказав кучеру:
– Задай овса лошадям, подтяни рессоры, и чтобы коляска стояла возле моего крыльца наготове. Все понял?
– Ясненько, – сказал кучер, и Ляпишев даже не заметил, как он озорно подмигнул миленькой Кате Катиной…
Губернатор все-таки послушался Жохова, весь остаток дня был посвящен уничтожению того, что составляло государственную ценность: «Горел каменный уголь в рудниках Дуэ, уничтожались баркасы с припасами, снимались рельсы для вагонеток на „дековильках“, спешно вывозились из города сложенные грудами ящики консервов и патронов». Отсветы далеких пожаров отражались в окнах губернаторского дома, и было даже страшновато, а Фенечка Икатова, сухо кашляя, говорила:
– Видите, что творится? Михаил Николаевич, вы же здесь – и царь и бог… Ну, что вам стоит? Плюньте на все законы, выпишите мне «липу» фальшивую, чтобы я умерла свободной женщиной, а не каторжной. Я ведь вам за это руки лизать стану.
В таких вопросах Ляпишев оставался непреклонен.
– Не проси! – отвечал он. – Все для тебя сделаю, но закон есть закон, хотя он и суров.
– Эх вы… законники! – отозвалась горничная. – Спать-то со мной незаконно можете, а вот «липу» сшить для меня, на это у вас храбрости не хватает… Нет у мужчин благородства! Даже «липу» сделать для женщины не могут…
Пока все было тихо. Болдырев прикрывал берег со стороны поселений Арково – чуть севернее Александровска, сам же город охранял полковник Тарасенко; южнее каторжной столицы, в районе угольных копей Дуэ, располагался отряд Домницкого, а полковник Тулупьев уже пил чай с женою в Рыковском. Конечно, «диспозиция» выглядела примитивной, но в документах о ней сохранилась одна фраза, разоблачающая слабоволие и нерешительность самого Ляпишева, фраза, которая из любого героя могла сразу же сделать труса: «Отступать с боем, но в бой не ввязываться!» В этих казуистических словах заключался такой широкий простор для всяческих импровизаций на тему о героизме, что руки опускались – в полном бессилии.
Ладно. Начинался рассвет 11 июля 1905 года…
Вот он: сначала со стороны бухты Де-Кастри обозначился густой дым, и этот дым все больше насыщался перегаром корабельных кардифов, черное облако нависло над Татарским проливом. Начальство в Александровске решило, что японцы сожгли нашу базу в Де-Кастри, но потом из лавины дыма стали надвигаться на Сахалин корабли… Кораблей было так много, что очевидцы насчитали до восьмидесяти боевых вымпелов.
Это шла «Северная» эскадра контр-адмирала Катаоки; на палубах его кораблей размещалась Сендайская дивизия генерала Харагучи – самураи спешили захватить весь Сахалин, пока в Портсмуте не успели договориться о мире.
Сахалин, казалось, болезненно сжался, ожидая смертельного удара в самую подвздошину острова – в Александровск!
– Александровск, во избежание жертв и насилий, объявляю открытым городом, – сказал Ляпишев и крикнул кучера…
Фенечка торопливо собирала в корзину белье, умышленно кладя свои панталоны между кальсонами губернатора, свои сорочки рядом с его рубашками, как это сделала бы любая жена, не разделяющая свое белье от белья своего мужа. Она слышала, как в кабинет Ляпишева вошел поручик Соколов, начальник конвоя:
– Ваш кучер, глот поганый, уже драпанул с коляской.
– Как же так? Я говорил, чтобы со мною вместе.
– Уехал. И не один, а взял Катю Катину…
Фенечка, поднатужась, стянула ремни корзины:
– Могла бы эта сучка и постыдиться. Не она ведь хозяйка на Сахалине… Ну, ежели попадется, я ей таких фингалов наставлю, что света божьего не увидит. Сразу забудет, каково было кататься в коляске губернаторской…
Досказать своих угроз она не успела – японские корабли уже открыли огонь по Александровску.
9. Нашествие
Причал они пока оставили в покое. Японцы заранее учли амплитуду «дыхания моря», и во время отлива, когда обнажилось дно сахалинского берега, покрытое твердым и плотным, как асфальт, песком, они прямо на этот природный «асфальт» выгружали с кораблей артиллерию, высаживали батальоны и лошадей в обозной упряжи, а впереди всех вышагивали жандармы; на длинных шестах эти жандармы несли щиты с надписями: «Японски земля есть КАРАФУТО». Нашествие началось…
На простой телеге, поверх чемоданов и узлов с барахлом, восседал губернатор с Фенечкой. Ляпишев кричал:
– Всем уходить к Рыковскому и на Дербинское… Именно там дадим жестокий отпор зарвавшимся захватчикам!
Пристань так и не успели взорвать, потому что никто в этом хаосе не мог вспомнить, куда спрятали запасы пироксилина. Японские крейсера двумя залпами орудий главного калибра разом смели все русские пушки, поставленные среди крестов кладбищ. Снаряды звонко рвались на улицах, разрушали дома; в городе никто не тушил пожаров, начальство попряталось, и все нищие босяки, конечно, кинулись на склад обуви, выбегая на улицу уже в новеньких сапогах. Бунге успел удрать в деревню Михайловку (в самый конец Рельсовой улицы, где начиналась опушка леса), оттуда он и названивал в губернскую канцелярию. Трубку телефона снял статский советник Слизов, и Бунге указал ему – срочно запереть казенный склад.
– А все сапоги у жителей отобрать как похищенные. С меня же потом спросят! – орал в телефон Бунге. – По казенной ведомости все должны быть в наличии…
Слизов «отлакировал» Бунге каторжным матом:
– Иди сам и закрывай. Но я еще не сошел с ума, чтобы спасать казенное имущество, когда тут все трещит и рушится.
– А что вы там делаете? – притих Бунге.
– Не я один ищем спасения в доме губернатора. Тут собрались почти все чиновники правления… с женами, с детьми. Вот сидим и ждем, когда нагрянут сюда японцы.
– И не стыдно вам? – издалека упрекнул его Бунге.
– А чего стыдиться? Мы остались на своем месте… не как другие! Японцы подержат и отпустят, а попадись я нашим живоглотам, так они мне все кишки выпустят… Слышу звон с улицы! – доложил Слизов. – Сапоги уже поделили, теперь вижу, как все побежали с ведрами…
Жоржетта Иудична Слизова отобрала из своих простыней самую старую, какую не жалко выбросить, и чиновники полезли на крышу, чтобы укрепить там белое знамя капитуляции. Только они это успели сделать, как со двора ударил пулемет. Это капитан Жохов с двумя солдатами косил японцев, которые уже появились в самом конце Николаевской улицы. Двор был изрыт ямами для хранения в них картофеля; все чиновники попрыгали в эти ямы, крича из ям капитану:
– Проваливай отсюда! Герой нашелся… Воевать надо было раньше, еще в Маньчжурии, и ты нам Порт-Артура не устраивай. Мы люди семейные, нам до пенсии недолго осталось…
Слизов дождался, когда пулемет дробно дожует целую ленту, а тогда набросился на Жохова чуть ли не с кулаками:
– Вы же погубите нас! Японцы отомстят нам за эти выстрелы. С вас-то многого не спросишь, а у нас – жены, у нас все, что годами копили… верой и правдой… как положено…
– Так убирайтесь отсюда ко всем чертям!
– Сам убирайся отсюда со своей тарахтелкой… Ты сначала посмотри, под каким знаменем ты стреляешь!
Жохов глянул на белую простыню, которую ветер разворачивал над крышей губернского правления, скрипнул зубами:
– С-с-сволочи… вас бы косить! Заодно с врагами…
Японские десанты, заняв прибрежную полосу Александровска, боевой активности не проявляли. Они старались проникнуть в ближайшие деревни, реквизируя скот и домашнюю птицу, которые тут же отправляли кунгасами на свои корабли. Жандармы тем временем всюду втыкали в землю шесты с японскими флагами, на выездах из деревень развешивали объявления о том, что жителям Сахалина отныне строго запрещается всякая охота в лесах, рыбная ловля в реках и сенокошение. Море оставалось на диво спокойным, над японской эскадрой Катаоки ветер едва колыхал боевые вымпелы; корабли красочной гирляндой протянулись вдоль берега – от рудников Дуэ до поселков Арково…
Слизов, глянув в окно, начал креститься:
– Идут! Господи, сохрани и помилуй нас…
В дом губернского правления вломился японский офицер с солдатами; офицер первым делом угостил всех детей красивыми конфетками. Солдаты же очень ловко похватали чемоданы с добром чиновников, выкидывая их на улицу не только в двери, но даже в окна. Затем мужчинам предложили сложить на стол часы и кольца, а женщин быстро избавили от украшений, не забывая выдернуть из ушей серьги. Жоржетта Слизова зарыдала, а японский солдат потянул ее за грудь, говоря при этом:
– Русске сэнсын – халосый сэнсын… Банзай!
Мне, автору, в этой гнусной истории жаль только детей, которые не виноваты в том, что их папы и мамы оказались такими трусливыми и такими глупыми. Вмиг чиновники оказались разорены, потеряв все, что скопили за годы сахалинской службы. В поселке Второе Арково крестьянин Евграф Чешин схватил вилы, чтобы защищать свою семью и свое имущество.
– Не дам! – кричал он. – А хучь убейте, не дамся…
Самураи вытащили крестьянина за околицу, где и замучили его со спокойной, деловитой жестокостью. Евграф Чешин, кажется, был первой жертвой насилия оккупантов на Северном Сахалине… Нашествие продолжалось!
* * *
Позиция под Арково, что прикрывала Александровск с севера, была безобразна: защитники Сахалина, сидя на скалах берега, могли стрелять только вниз – почти вертикально, видя не всего врага, а лишь кружочек японской фуражки. Самураи выбросили десант гораздо севернее Арково, захватив Владимирские рудники, потом стали энергично нажимать на дружину Болдырева со стороны суши, а с моря позиции молотила корабельная артиллерия. Полковник Семен Болдырев велел отходить:
– По диспозиции я имею право отступать с боем, но в бой не ввязываться! Так на кой черт нам тут гробиться? Пойдем прямо на Дербинское, там ведь тоже есть тюрьма, на худой конец в тюрьме и отсидимся… в обороне!
Ему встретился судебный следователь Подорога – босиком, без мундира, одетый в арестантский халат, вздрагивая от страха, он сказал, что едва вырвался от японцев:
– Увидели на мне погоны судейского ведомства, приняли за офицера. Уж я в ногах извалялся! Спасибо ихнему переводчику, – подтвердил мои слова, что юристы в России мундиры носят. Тогда самураи с меня ботинки содрали.
– Закавыка! – призадумался Болдырев и на всякий случай припрятал в обозе для себя бушлат арестанта, бескозырку и жалкие опорки. – С этими косоворотами шутки плохи…
Выйдя к Камышовому перевалу, он послал донесение Ляпишеву, что отходит, жестоко теснимый превосходящими силами противника. Он врал! Никто его не теснил, он труса праздновал, забыв о том, что на этом свете, помимо баб, жратвы и выпивки, существует еще такое понятие – офицерская честь. Но вот чести-то у Болдырева как раз и не было…
Александровский отряд еще удерживал высоты Жонкьера с маяком на вершине скалы, когда капитан Жохов, появясь в разгар боя, сказал полковнику Тарасенко, что в городе уже полно японцев, и Тарасенко даже не поверил ему:
– Да как же они туда попали?
– Через Арково, которое бросил Болдырев.
Предательство было уже непоправимо.
– Теперь, – здраво рассудил Тарасенко, – если я начну отходить, то подставлю под удар позиции Домницкого в Дуэ, как подставил меня под удар убежавший Болдырев.
– Значит, – ответил Жохов, – надо отходить всем. Иначе не только ваш отряд, но и отряд в Дуэ будут окружены…
Предательство одного полковника замкнуло цепь дальнейших ошибок, в отступающих колоннах возникла сумятица:
– Предали! Какая ж тут война? Удираем, и только…
В направлении от города образовались как бы два русла: на севере, идя по стопам Болдырева, японцы двигались на Дербинское, а южнее города, вдоль Пиленгского хребта, отступали отряды Тарасенко и Домницкого – на Рыковское! Таким образом, все силы обороны даже не отходили, а стихийно откатывались в глубину острова; впрочем, Ляпишев еще надеялся задержать японцев на линии Дербинское – Рыковское.
Сейчас, сидя в избе села Михайловка, губернатор грустно наблюдал через окошко, как над покинутым Александровском растет черный гриб дыма – это горела «кандальная» тюрьма. При Ляпишеве в этот час не осталось добрых советников, зато образовался «штаб» из числа бездельников, понимавших, что близ губернатора им будет намного безопаснее…
Фенечка Икатова нашептала Ляпишеву:
– Заведут вас эти советники, куда и Макар телят не гонял. Коли до генерала дослужились, так будьте же генералом…
Бунге настаивал, чтобы в Рыковском не вздумали воевать, иначе в боевой обстановке спалят и тамошнюю тюрьму:
– А куда же сажать преступников после этой заварухи с японцами? Я уже перенес в Рыковское свое управление гражданской частью и заклинаю вас, Михаил Николаевич, сдать Рыковское без боя, дабы не возникло излишних эксцессов.
Ляпишев сделал рукою неопределенный жест:
– Но ведь в Рыковском нас должен укрепить Тулупьев.
– Он укрепит… как же! – ответил Бунге. – Мне телефонировали, что полковник Тулупьев забрал свою жену, нагрузил три подводы всяким барахлом и поехал сдаваться японцам.
– Как сдаваться?
– Под видом тюремного инспектора. Очевидно, из принципа: моя хата с краю, я ничего не знаю…
Услышав такое, Ляпишев поник. Тут прискакал на лошади капитан Жохов, почерневший за день от дыма и солнечных ожогов. Он с порога крикнул, что нельзя же так драпать:
– Закрепимся хотя бы на перевалах и дадим самураям звону, чтобы они не думали, будто здесь для них загородная прогулка.
Ляпишев неожиданно вспомнил – с горечью:
– Японцы всех обвели. Даже меня, старого олуха. Кабаяси ведь обещал заплатить мне по иене за страницу, чтобы я сочинил предисловие к их альбому с видами Сахалина… Ну, я постарался! Только где мы этот альбом видели?
– Я видел! – вдруг сказал Сергей Леонидович.
– Да быть того не может. Разве его издали?
Жохов достал из сумки книжку небольшого формата, которую можно носить при себе – даже в кармане мундира.
– Полюбуйтесь на ваши виды, – сказал он. – Этот альбомчик я забрал у японского офицера, убитого нами. Тут представлено все, что надо. Ориентиры на местности, маяки «Жонкьер» и «Крильон», вот вам дорога на Онор и завалы на реке Поронай. Такой альбом имеется у любого японского ефрейтора, а у нас офицеры даже дороги от Александровска не ведают…
Угнетенный стыдом, Михаил Николаевич промолчал. Тут на коляске подъехал Кушелев, в штабной избе он бурно заговорил:
– Если после падения Порт-Артура и поражений в Маньчжурии мы вопили себе в оправдание, что не были готовы к войне с Японией, то Сахалину нечем оправдать себя перед народом: у нас было достаточно времени для подготовки. Но мы ничего не сделали. Если не считать, что получили «подъемные»…
Ляпишев даже не обиделся на прокурора:
– Тут до вас был Бунге! Он жалобно просит, чтобы мы оставили Рыковское с его тюрьмою как есть… без боя…
– Так что же нам? – возмутился Кушелев. – Ради карьеры Бунге и возлюбленных им тюрем полезать в болота и сидеть там в грязи по самые уши? Пошел он к чертям, дурак такой!
Жохов на листке из блокнота быстро набросал схему главных путей и рек внутри Сахалина.
– Никто не сдает врагу главный узел дорог, который невольно становится главным узлом сопротивления. Как можно оставить Рыковское, если к югу от него тянется просека к Онору, а к северу – дорога на Дербинское? Рокадных сообщений на Сахалине нет, зато все дороги вписываются в извилины речных долин – реки Тымь на севере и реки Поронай на юге. Если этого не понимает Бунге, то мы, понимающие, должны удерживать Рыковское из последних сил… Наконец, – заключил Жохов, – не стоит забывать, что в Корсаковском округе еще не сложили оружия ни отряд Слепиковского, ни отряд Быкова!
– Молодцы, герои! – похвалил их Ляпишев. – Я уже послал к Онору свежий отряд капитана Сомова… на помощь им!
Генерал-прокурор Кушелев вдруг сгорбился: тяжелой походкой, чуть покачиваясь, он направился к дверям.
– Отряд Сомова уже капитулировал, – сказал он.
– Где?
– Как раз в Оноре…
Колыхнулась цветастая занавеска, за которой укрывалась постель с лежавшей Фенечкой, послышался ее вздох:
– Вояки! Даже не сдаются в плен, а сами лезут в плен, будто японцы их там всех медом станут намазывать…
Ляпишев вопросительно взирал на Жохова.
– Не знаю, что и думать, – отвечал тот. – Я всюду ощущаю самое натуральное свинство…
* * *
Легко, наверное, быть героем, когда люди видят твой подвиг, обещая сохранить его для народной памяти, и трудно идти на подвиг, заведомо зная, что погибнешь безвестно…
Корней Земляков никогда бы не отыскал отряд Слепиковского, если бы не подсказывали местные жители – редкие одиночки, чудом уцелевшие после погромов. Ночуя в опустевших деревнях, дружинник мучился от противного запаха, который оставляли после себя японские солдаты (очевидно, от химических зелий, употребляемых ими в борьбе с русскими насекомыми).
Слепиковский никак не мог оторваться от района Хомутовки и Владимировки, где его поддерживали остатки населения, не мог он и проломиться к северу, огражденный от Быкова сильными вражескими заслонами. Неожиданное появление Корнея Землякова с запиской от Быкова внушило ему надежды на возможность соединения двух отрядов – в один, более мощный.
– Поживи у меня денек-другой, а я подумаю, – сказал он Корнею и, все продумав, велел готовиться в обратный путь. – Я не буду давать тебе никаких записок… сам понимаешь, не маленький! Не дай-то бог, еще попадешься.
Корней понятливо кивнул Слепиковскому:
– И не надо. Память хорошая. Все упомню.
– Я не пойду к Отрадне, а сразу поведу отряд дальше на Сирароко, запомни это слово: Си-ра-ро-ко. И пусть Быков с отрядом ждет меня в Сирароко десять дней. Если не появлюсь в срок, значит, меня уже нет в живых на свете, и пусть Быков выбирается к своим уже без меня… Иди!
Корней долго шел лесом, падями и еланями, сторонясь большаков, для ночлегов избирал самые глухие деревеньки. Но однажды ночь застала его на каких-то выселках, где уцелел только дом старосты, который принял его очень любезно:
– Не к Онору ли, милок, путь держишь?
– Не. Я так… спасаюсь.
– Ох, не ври мне, парень, – сожмурился старик. – Не тебя ли япошки какой денечек сторожат на дорогах?
– А зачем я надобен, чтобы меня сторожить?
– Известились, будто от Быкова посланец был к Слепиковскому. Похоже, ты это… Но меня, милок, не пужайся. Я вить добрый, тока вот фортуна мне малость подгадила.
– А по какой статье… фортуна-то?
Старик захихикал и сразу стал гадостно противен Корнею, когда сознался, что пошел на каторгу за сожитие со своею дочерью. Но вины за собой он не признавал:
– Не преступник же я! Кто ее кормил? Кто одевал? Коли с базара еду, завсегда ей гостинцев везу… Мне аблокат (ён в очках был, ученый барин!) картинку показывал: старец Лот с дочерьми гуляет. Лоту, значица, можно гулять, с него даже картинки малюют всякие, а почто мне-то нельзя?
Земляков устроился ночевать на лавке и в дремоте услышал, что в хлеву замычала телка; предсонным сознанием он еще подумал: «Как же это телку японцы не увели?» Корней был разбужен средь ночи паршивым сахалинским Лотом:
– Парниша, вставай… за тобою пришли.
Японские солдаты молча скрутили Корнею руки за спиною, отвели его на лесную поляну, где возле костерка сидел молодой самурай офицер в желтых гетрах, и на веточках он поджаривал червивые после дождя грибы. Перед Корнеем разложили пачку измятых русских денег, набор японских открыток с позирующими проститутками и бутыль с английским виски.
– Все твое, – сказал офицер на ломаном русском языке, но Корней его понял. – Можешь забирать. Сначала говори: куда пойдет храбрый Слепиковский, где его встретит Быков?..
Корней оглядел гроздья еловых шишек, свисавших над ним, позавидовал весело скачущим белкам. Потом понурил голову, готовя себя к самому худшему. Но – промолчал. Тогда его стали пытать и мучить тесаками столь жестоко и бесчеловечно, что он орал изо всех сил, а с соседнего хутора отвечала ему телка – долгим и жалобным мычанием. Потом он видел, как стянули с него сапоги и сунули в костер его ноги…
– Где Быков встретит Слепиковского?
– Не знаю никого… ничего не знаю!..
Вспомнилось, как бил его следователь Недорога, и он, не выдержав побоев, подписал все протоколы допроса. Но теперь ничего не надо было подписывать, а только произнести единое слово «Сирароко» – и страдания кончились бы сразу. Но он принял от самураев неслыханные муки, так и не сказав ничего своим палачам. Последнее, что запомнил парень, это как ставили его на колени. Потом велели наклонить голову…
За его спиной взвизгнула сабля!
И, потеряв голову, он не потерял своей чести.
Безвестный каторжанин «от сохи на время» Корней Земляков жил хуже других, а умер он лучше тех, которые жили лучше его. Он отошел прочь с земли как честный русский человек, как верный патриот России-матери, которая – волею судьбы – воплотилась для него в этом острове людских невзгод и печали.
10. Рыковская трагедия
Кушелев, стоя на пригорке, бил по японцам из винтовки, и было видно, как сильная отдача выстрелов раскачивает его, уже пожилого человека, а над головой генерала японские пули кромсали и вихрили листву деревьев.
– Уйдите! – кричали ему. – Вас же убьют.
– Еще обойму, – отвечал Кушелев.
Преисполненный отчаяния, он, кажется, сознательно искал смерти. Японцы – на плечах бежавшего от них Болдырева – ворвались в Дербинское; среди дружинников и солдат, отходящих на Рыковское, появилось боевое ожесточение. Каторга не смогла вытравить из ополченцев любви к поруганной родине, а Кушелев выпускал по врагам пулю за пулей, и сейчас он, прокурор Сахалина, был заодно с теми людьми, которых раньше судил, карал и преследовал.
В эти дни английская «Дейли геральд» признала, что Сендайская дивизия Харагучи понесла невосполнимые потери. Один из ударных японских батальонов оставил на поле боя почти всех солдат, включая и полковника, обвешанного орденами. Иностранные газеты писали, что никакие репрессии не подавили в сахалинцах сопротивления, хотя каждый дружинник знал, что, взявшись за оружие, он уже обречен. Солдат гарнизона еще мог сдаться в плен на общих правах, но каторжанин или ссыльный, пойманный с оружием в руках, будет умерщвлен самым злодейским образом… Кружилась, сорванная пулями, листва.
– Еще обойму! – потребовал генерал Кушелев, и, шире расставив ноги в высоких сапогах, он продолжал стрелять.
* * *
Рыковское, помимо тюрьмы, насчитывало шестьсот дворов, по виду напоминая большое русское село; здесь заранее расположили склады боеприпасов и питания для гарнизона. Жители окрестных селений сбегались теперь именно в Рыковское – с детьми и женами, для них открыли пустовавшую тюрьму, и тысячи обездоленных людей искали спасения за ее «палями». Беженцы заполнили все камеры, плотно сидели по нарам, даже в карцерах было не повернуться от теснотищи. Среди каторжан и поселенцев было немало «вольных», которые тоже нашли приют в тюрьме, лишь бы не оставаться под пятой оккупантов.
– Тюрьму не тронут! – говорили эти люди, почему-то уверенные в том, что тюрьма всегда неприкосновенна…
Потрясенные ужасами вражеского нашествия, уже потеряв многих близких, оставившие свои дома, беженцы удивлялись, что Сахалин так быстро заполнялся японцами:
– Ну чисто тараканы! Ползут и ползут. – И отколе их стока? Ведь сами-то махоньки, кажись, любого из них баба на ухвате в печь посадит…
– Хуже разбойников! Даже с детишек все крестики посрывали. Сапоги сразу отнимут. Что ни увидят – отдай! И на штык показывают. А с лошадьми лучше не покажись – вмиг отберут…
Сахалинская мемуаристка Марина Дикс, наблюдавшая за повадками солдат Сендайской дивизии, сложила о них мнение, что они правдивы и честны меж собою, зато коварны с другими людьми; японцы трезвы, практичны, но все донельзя меркантильны, как барышники. С покоренными самураи бессердечны и жестоки, а животные в их руках – это мученики: японцы никогда не умели ухаживать за скотом и лошадьми, потому они их только терзают и колотят… Среди русских самураи распространяли дикую версию, что война на Сахалине закончится сразу же, как будет пойман ими военный губернатор острова Ляпишев:
– У нас в Японии много ваших пленных генералов. Не хватает лишь генерала юстиции. К сожалению, ваш губернатор так быстро бегает, что нам его не догнать…
Японцы говорили об этом так, словно речь шла о собирании коллекции: вот генералы от артиллерии, от кавалерии, от инфантерии, где бы еще достать генерала юстиции? Между тем отряды дружинников задержали самураев на Пиленгском перевале. Заложив на высотах гор фугасы и оставив боевые заслоны, отступающие спускались вниз – на Рыковскую дорогу; телегу Ляпишева безжалостно вихляло и колотило на камнях. Фенечка, лежа среди чемоданов с имуществом, жалобно просила:
– Михаил Николаевич, уж коли судьба-злодейка сосватала нас, так хоть теперь-то не бросьте меня посреди дороги.
– Не надо… прошу тебя, – умолял ее Ляпишев.
Телегу трясло дальше, а Кушелев сказал:
– Она-то вас уже не бросит, только вы, Михаил Николаевич, не оставьте ее… больная она, жалко! Не умерла бы…
Появился капитан Жохов. Ляпишев был ему рад:
– Вот человек, который всегда появляется кстати, иногда же совсем некстати. Но мы его выслушаем…
Жохов сказал, что генерал Харагучи, очевидно, уже сидит в конторе Дербинского, откуда выступило его войско для занятия Рыковского, и, если Рыковское захвачено японцами, то его необходимо вернуть, пока не поздно.
– Сил для этого у нас хватит! – заверил Жохов.
Пока они договаривались о нападении на Рыковское, Бунге сдавал Рыковское японцам. Ради такого случая он обрядился в мундир, старосте вручил поднос с хлебом и солью.
– Причеши свою бороду, веди себя с достоинством, – поучал его Бунге. – Японцы тоже люди, и они, приметив наши мирные намерения, не посмеют творить зло…
Со складов Рыковского позвали военного интенданта Богдановича, чтобы он, как офицер, дополнил общую картину гражданского смирения. В эту компанию затерся босой следователь Подорога, но Бунге велел ему убираться подальше:
– Что подумают японцы, когда увидят грязного босяка в фуражке судебного ведомства… Не позорьте Россию!
Сами же они позорили Россию в наилучшем виде, даже приодетые, при всех регалиях власти – гражданской и военной. Японская кавалерия галопом вступила в притихшее Рыковское, самураи проскакали до главной площади, быстро расставляя свои караулы на поворотах улиц. Японский офицер, спешившись возле церкви, не совсем-то понимал, чего хотят от него эти вежливые русские, особенно бородатый старик, сующий в руки ему поднос с хлебом и солонкой. Кажется, он решил, что они видят в нем покупателя, который не откажется купить у них этот поднос… Бунге обратился к помощи переводчика:
– Передайте своему генералу Харагучи, что в Рыковском все в должном порядке, чины тюремного правления на местах, в селе остались только мирные жители… и в тюрьме!
Ночь прошла спокойно, а на рассвете к Рыковскому подошли дружинники и дали японцам бой. Японская кавалерия, отстреливаясь, ускакала обратно в Дербинское, чтобы доложить Харагучи о хитроумной засаде, которую им устроили в Рыковском эти коварные русские – под видом торговли хлебом с солью.
Ляпишев, гордясь победой, красовался со своим «штабом» на главной площади Рыковского, говоря жителям:
– Мы тоже умеем побеждать… не все японцы!
Бунге умолял губернатора как можно скорее убираться из Рыковского, которое он уже сдал японцам по всем правилам культурных народов, а теперь тревожился за свою семью:
– Не губите нас! Сейчас японцы не поверят в наши добрые намерения. Что я скажу им, когда они вернутся?
«Штаб» губернатора согласился с доводами Бунге.
– В самом деле, – волновался поручик Соколов, – вот как нагрянут сюда, от нас и костей не останется.
– Да! – вмешался капитан Жохов. – С дозоров уже донесли, что от Дербинского двигается большая колонна японцев. Вот настал момент, чтобы дать решительный бой…
Но Ляпишев на битву не решился, и все отряды потянулись онорской дорогой к югу, где и застряли с обозами в болотистых падях. Фенечка смотрела, как колеса телеги медленно погружаются в рыхлый мох, из-под которого выступала рыжая вода таежной трясины. Кутая плечи в пуховый платок, она зябко вздрагивала, говоря осуждающе:
– Отвоевались, мать их всех… шибко грамотные все стали! С кем ни поговоришь, у каждого свое мнение. А вот раньше были темные, никаких своих мнений не имели, зато врагов лупцевали так – приходи, кума, любоваться…
Вечерело. На упругой болотной кочке сидел прокурор Кушелев. Теперь на него лучше не смотреть: измятое лицо, давно не бритое, заросло неопрятной щетиной; он поднял воротник шинели, глухим бормотанием отвечая на слова горничной.
– Что, вы там бормочете? – спросил его Ляпишев, наблюдая, как медленно разгорается отсыревший хворост.
Кушелев судил себя и всех по очень большому счету:
– Я говорю, что прожил пятьдесят лет… дослужился до генеральских эполет и, как русский офицер, не имею права терпеть этот позор. Мы пожинаем плоды преступного разгильдяйства и головотяпства: авось японцы не придут, авось мимо их пронесет. А теперь я, генерал-майор русской армии, сижу на болотной кочке и спрашиваю сам себя: кто виноват в моем бессилии? Кому я обязан за это свое бесчестие?
– Хватит бубнить! – обозлился Ляпишев. – Никто не виноват, что так случилось. Я сделал все, что мог, и даже больше. Конечно, я подозреваю, как и вы, что после войны станут искать «стрелочника», который всегда виноват, а пальцы историков будущей России станут указывать персонально на меня.
– Но мне бесчестья не пережить! – сказал Кушелев и, поднявшись с кочки, медленно побрел в сумерки темнеющего леса; долго было слышно, как под его сапогами хлюпает и чавкает грязное сахалинское болото…
В русском лагере появился японский офицер, прибывший из Дербинского, он передал Ляпишеву пакет от Харагучи.
– Это не ультиматум! – сказал он, открыто улыбаясь. – Это лишь дружеское сочувствие моего генерала, выраженное лично вам, и мой генерал, входя в ваше безвыходное положение, предлагает вам почетную капитуляцию… Если господа офицеры вашего геройского штаба пожелают сохранить свое имущество, им в этом не будет отказано. Ближайшим же пароходом все пленные будут доставлены в наш город Сендай, где вы будете пользоваться всеми благами европейской цивилизации.
Раздался выстрел, и он был таким неожиданным в лесной тишине, что все вскочили. Поручик Соколов крикнул:
– Проверьте, кто там стреляет?
– Это генерал Кушелев, – донеслось издалека.
– Зачем?
– Прямо в лоб себе. Кончился…
Японский офицер не перестал улыбаться:
– Итак, что передать от вас генералу Харагучи?
Это был день 15 июля 1905 года. Над телом прокурора Кушелева кружили полчища комаров, всасываясь в мертвеца острыми жалами, чтобы насытиться его остывающей кровью.
* * *
Вторично японцы вошли в Рыковское с четырех сторон сразу и открыли огонь, убивая в городе все живое, уничтожая даже собак и кошек. Боюсь, не все в это поверят, потому я сошлюсь на очевидца, случайно уцелевшего в этой кошмарной бойне: «Ружейный треск ни на секунду не умолкал, как будто небо и земля сошлись в убийственных судорогах, угрожая уничтожить всех. На улицах и перед домами валялись уже до шестисот трупов. Японские пули не щадили никого – ни стариков, ни женщин, ни детей. Трупы их валялись в кучах и вразброс по всем улочкам».
Люди, и без того несчастные, теперь погибали у родных очагов, где они влачили свое жалкое существование. Напрасно старик закрывал телом жену-старуху, их убивали навылет – одной пулей! Напрасно мать прятала за подолом ребенка – ее кромсали штыками, а потом прикладами разбивали голову младенца. Никакой пощады самураи не ведали. И когда, усталые, они собрались на площади перед церковью, чтобы похвастаться друг перед другом своим самурайским хладнокровием, вокруг них лежала мертвая пустыня, только Рыковская тюрьма, возвышаясь над крышами изб, затаенно молчала, слезясь запотелыми окнами, словно там, внутри ее, в камерах и в карцерах, тоже все омертвело, закоченев в близости смерти.
Бунге и чиновники его управления отсиделись в подвалах рыковской канцелярии и потому остались живы. Японцы взяли их, трепещущих, и отвезли всем скопом в недалекое Дербинское, где квартировал генерал Харагучи. При штабе японского генерала чиновники заметили полковника Тулупьева, который изо всех сил притворялся, что, услужая самураям, он спасает не себя, не свою поганую шкуру, а спасает престиж России.
Тулупьев сделал Бунге строгое замечание:
– Образованный человек! Юрьевский университет в Дерпте закончили, а благородства не хватает… Честно скажу, что от вас такого не ожидал. Если уж встретили японцев хлебом и солью, так зачем же потом вы им засаду устроили?
– Да чем же я виноват? – кричал Бунге, рыдающий. – Это все Ляпишев, давно выживший из ума. Мы же с ним благородно договорились, что Рыковское я сдам без боя, а он собрал своих каторжан и накинулся на спящих…
Перед грозным Харагучи его заставили опуститься на колени, как перед святым алтарем, и, кажется, только сейчас, униженный до предела, Бунге нашел слова для оправдания:
– Я, чиновник царя, какое имею отношение к этим русским? Я ведь не православный, а лютеранин. Спросите кого угодно, любой подтвердит, что я всегда хорошо относился к Японии, даже на летний отпуск не выезжал в Россию, как другие, а отдыхал в вашей прекрасной стране.
Харагучи, минуя Бунге, обратился к Тулупьеву с вопросом, что за странные люди собрались в Рыковской тюрьме.
– Шваль, которую не стоит жалеть, – отвечал тот.
После этого Харагучи спросил мнение у Бунге.
– Это не люди, а грязные отбросы негодного общества, которым не нашлось места даже на помойках России! – воскликнул Бунге, не вставая с колен. – Они уже ни к чему не годны…
Скоро газета «Русское слово» оповестила читателей, что в трагедии Рыковской тюрьмы повинны более всех сами же администраторы Сахалина: «Подтвердился ужасный факт, что тюремные и окружные начальники сами предлагали японцам расправиться с каторжанами…» Но в редакциях газет не знали всей правды: преступники давно разбежались, а Рыковская тюрьма приютила только беженцев, желавших иметь крышу над головой и миску баланды, чтобы не умереть с голоду.
Японские солдаты выгнали обитателей тюрьмы на двор вместе с детьми и женщинами; переводчик объявил:
– Каждый получит пятьдесят копеек, если отработает день в тайге, где нужно выкопать новые канавы…
Людей отвели за десять верст от Рыковского в глухую лощину и там всех перекололи штыками. Одни говорят, что в лесу нашли потом триста догнивающих трупов. Марина Дикс пишет, что убили сто тридцать человек, но все они были обезглавлены…
Дело не в цифрах! Мне иногда кажется, самураи нарочно вызывали ужас в жителях Сахалина, чтобы русские люди бежали прочь с Сахалина – куда глаза глядят, только бы не знать этого Сахалина, чтобы даже не помнить о Сахалине.
И они – бежали! Кто скрывался в тайге, ведя звериный образ жизни, кто стремился попасть на любую шхуну, покидающую Сахалин, а смельчаки выплывали в Татарский пролив даже на самодельных плотах, с робостью уповая на то, что море сжалится над ними и волна выплеснет их на берега родины…
Нелюдимо наше море, День и ночь шумит оно; В роковом его просторе Много бед погребено… Там, за далью непогоды, Есть блаженная страна…11. А мы не сдаемся!
Дербинское стало временной «столицей» японской «земли Карафуто», отсюда штаб генерала Харагучи руководил оккупацией русского Сахалина. Полковник Тулупьев, заедая саке рисом, объяснял, что поселок назван в честь некоего Дербина:
– Это был бравый тюремщик, кулаком черепа проламывал. Арестанты утопили Дербина в громадной квашне с тестом для выпечки свежего хлеба. Покойный и не знал, что его имя совместится в истории Сахалина с именем вашего генерала…
Харагучи избрал для себя Дербинское по иным соображениям – далеким от почитания истории: здесь, в реке Тымь, плавали деликатесные рыбины, на огородах ссыльных вызревали арбузы, а хор ссыльных цыганок распевал для него под звоны гитары «Ака дяка романес…». В один из дней Харагучи, довольный своими успехами на Сахалине, снова напомнил Ляпишеву, что ему не следует медлить с решением о капитуляции…
Сахалинский владыка, еще вчера бесспорный хозяин тысяч подневольных жизней, не мог разобраться даже в своей личной жизни. На телеге харкала кровью каторжница Фенечка, и все знали об его отношениях с нею, а он, жалкий и потерянный, оставался в окружении жалких и потерянных людей.
Было над чем задуматься! Верой и правдой Ляпишев служил самодержавию, которое вознесло его над судьбами других людей, оно щедро одаривало чинами и жалованьем, предоставив ему все блага жизни. Но вот выпало испытание его веры, его правды, его мужества – война, и он бродил среди таежных болот, пугаясь каждого выстрела, а в глубине души мечтал об электрическом освещении кабинета, о мягкой постели, о тихом шелесте перелистываемой страницы бульварного романа… Теперь все кончилось! Остался он сам, и осталось это грязное болото, в котором застрял он и в которое медленно погружались его подчиненные – вместе с любимой горничной!
К нему подошел капитан и журналист Жохов:
– Если вопрос о мире уже предрешен в высших сферах, от нас требуется сейчас лишь одно – держаться.
– Вы так думаете? – вяло спросил Ляпишев.
– Убежден! – четко ответил генштабист. – Пока на Сахалине существуют даже ничтожные воинские формирования России, пусть даже загнанные в болота, но не помышляющие о капитуляции, до тех самых пор самураи не посмеют требовать для себя Сахалин, ибо Сахалин не сдается.
– Все это слова, слова, слова…
– Не цитируйте мне Гамлета! – раздраженно отвечал Жохов. – Да, слова. Но мои слова выражают точную мысль.
– Вы не способны войти в мое трагическое положение.
– Согласен, что ваше положение хуже губернаторского. Согласен, что бывают на войне и такие моменты, когда человек вынужден поднять руки перед заклятым врагом. Но нельзя же, как говорит Фенечка, самим лезть в плен.
– Однако я не вижу иного выхода, – ответил Ляпишев, показывая Жохову очередное послание от генерала Харагучи, составленное на русском языке в самых изысканных выражениях…
Японцы заранее оцепили лес и то болото в лесу, где утопал в грязи губернатор со своим «штабом», самураи давно ожидали этого момента… Жохов схватил первую попавшуюся винтовку, распихал по карманам мундира обоймы с патронами и обратился к дружинникам:
– Ребята! Кто не хочет сдаваться – за мной…
Японцы даже не преследовали убегавших. Сияя радостными улыбками, они уже составляли капитуляционные списки. В них оказались фамилии шестидесяти четырех офицеров, а переписывать рядовых японцы не захотели… Михаил Николаевич, прыгая с кочки на кочку, добрался до телеги, на которой лежала Фенечка Икатова.
– Прошу победителей отнестись к этой женщине с должным уважением, которого она и заслуживает, как моя… жена!
Японцы не возражали. Они даже усердно помогали лошадям вытаскивать телегу из болота на твердую дорогу. Подле телеги шагал губернатор и, глотая слезы, говорил Фенечке:
– Теперь ты свободна. Но зато не свободен я… Кто бы мог подумать, что все так закончится. Так ужасно.
– Что мне ваша свобода, если вы сами в плен меня сдали, – ответила ему Фенечка и заплакала.
В группе пленных офицеров волновался Болдырев:
– Господа, господа! Мы совсем забыли о самом главном. Надо бы сразу составить список всех отличившихся, чтобы нас не обошли в штабе Линевича наградами… Сами знаете, как затирают подлинных героев. Если сам о себе не напомнишь, так никому нет и дела.
Болдырев открыл блокнот и под цифрой номер один вписал себя в список сахалинских героев. Тут к нему набежали другие «герои», теснясь, выкрикивая свои фамилии, а поручик Соколов, начальник конвоя, грубо требовал:
– Меня! Меня не забудьте. Я ведь тоже отличался.
– Всех запишу, господа, – говорил Болдырев. – Я ведь понимаю, что стыдно возвращаться с войны без орденов!
Это случилось 16 июля – на шестой день после высадки японцев возле Александровска, когда на Сахалине еще продолжали борьбу с оккупантами честные русские патриоты, которые меньше всего думали об орденах.
* * *
До высадки на Сахалине японцы вели себя с пленными вполне корректно, и только под конец войны, озлобленные своими потерями, они стали отнимать деньги, часы и бинокли, оставляли пленных без обуви. В условиях же Сахалина, изолированного от мира, самураи не сдерживали своих грабительских инстинктов, и, если с пальца пленного не снималось тугое кольцо, ему отсекали палец вместе с кольцом.
Среди пленных оккупанты сразу отделяли от русских мусульман, иудеев и католиков, предоставляя им некоторые льготы. Но особым почетом пользовались изверги и душегубы, «среди которых были преступники, вроде Скобы, за которым числилось сорок убийств, был ксендз, который, будучи призван для исповеди умирающей, изнасиловал ее, полумертвую, а также был мастер по выделке сахалинской ветчины, откармливавший своих свиней человеческим мясом», – так писал очевидец, сам же угодивший в эту отборную компанию. Спрашивается: зачем самураям понадобилось оберегать это отребье каторги, зачем этих извергов они вывозили в Японию? Ответ напрашивается сам собой: это делалось умышленно, чтобы показать японцам – смотрите, каковы эти русские; разве такие люди имеют право на обладание «землей Карафуто»?..
Ляпишева с его «штабом» японцы срочно вывезли в Сендай – как ценный трофей, а генерал Харагучи перенес свою квартиру в Рыковское, заняв дом со стеклянным балконом на главной площади. Японцы всюду развешивали правительственный манифест, в котором Сахалин объявлялся владением японского императора. Оккупанты вели активную перепись населения и всякой живности. На одну деревню разрешали держать лишь двух кобыл, остальных лошадей забирали. Весь остров был поделен на участки, в каждом располагался отряд с офицером, а хозяином любой деревни становился жандарм. Правда, никто не отказывал японцам в их оперативности. Между Сахалином и Японией наладилось пароходное сообщение, зазвенели телефоны, телеграф связывал остров со всем миром, на перекрестках дорог японцы повесили почтовые ящики с английскими (!) надписями. Но сахалинцам было теперь не до почты:
– Ладно! Нам при эвдаком «прижиме» на любом языке хорошо. Тут глядишь, как бы живым остаться…
Амнистия царя не пошла впрок: большинство добровольцев пали в боях, а живые попрятались; население косили эпидемии, нагрянувшие на Сахалин по пятам оккупантов. Реквизиции вогнали народ в такую беспросветную нищету, какой раньше не ведали даже уличные побирушки. Каждый день – каждый! – самураи обходили жилища, забирая у людей последнее, что у них осталось. Чтобы придать грабежам видимость законности, вначале платили по рублю за корову, а курица шла за пятачок. Но скоро ввели в обращение иены, которые никто брать не хотел, и тогда все доставалось японцам даром. А жаловаться нельзя – сразу отрубали голову. Жестокость казней вызывала в людях сильные нервные потрясения, участились случаи помешательства. Крестьян силой гнали на работы, а расплачивались за труд гнилою солониной из тех самых гигантских бочек, что завезли недавно с материка. Теперь в народе рассуждали:
– Из-под кнута-то русского да прямо под дубину японскую! Ложись и помирай. Хоть бы отпустили нас, окаянные…
Майор Такаси Кумэда, ставший начальником в Александровске, объявил, что всем чиновникам и военным следует явиться для регистрации. Зная, что под видом регистрации состоится самая примитивная ампутация, многие облачились в лохмотья арестантов, тюремщики притворялись каторжанами и убийцами, а бывшие судьи выдавали себя за погромщиков. Надо сказать, что самураи никогда не мучились вопросом, в чем провинился человек, и потому всех казнимых именовали «шпионами» или «предателями». Никто не спрашивал, кого они предали и ради кого шпионили. Бедняк, стащивший кусок хлеба для своих детей, погибал «шпионом», а поселенец, плохо вымывший пол в японской казарме, умирал «предателем». Жалости не было – сабля самурая решала все!.. Такаси Кумэда разрешил посещение Александровска по билетам, заверенным местным жандармом, и жители острова ринулись в город – ближе к морю, ближе к родимой земле. Иногда русские спрашивали японцев:
– Когда же будет заключен мир, скажите нам!
Японцы терпеть не могли этих вопросов:
– Мы ничего не знаем. Вы наши пленные. Война продолжается. Наша армия побеждает врагов страны Ямато…
Ограбив деревни, японцы взялись за горожан. Если верить очевидцам, так из домов вынесли даже мебель и посуду. Русским не оставили стула, чтобы присесть, не оставили и чашки, чтобы напиться. Тихо стало! По ночам не пролает собака, утром не пропоет петя-петушок – Сахалин вымер. «Деревни и села горят, – записывала Марина Дикс, – люди трясутся от ужаса, от разбоев и поджогов». Даже в отдаленном Оноре японцы спалили канцелярию, жгли клубы, школы, читальни. Наконец они переловили на Сахалине всех собак и вывезли их в Японию. Зачем им понадобились наши Жучки и Шарики – этого я не знаю.
В один из дней жители Александровска увидели японских солдат перед музеем. Самураи по косточкам разобрали скелет кита, потом разгромили и сам музей, уничтожив и расхитив все ценные экспонаты – как бытовые, так и научные. (После вражеского нашествия сахалинцы возродили музей из пепла, но в 1920 году японские интервенты уничтожили его вторично, и с тех пор, читатель, уникальный паноптикум сахалинской каторги исчез для нас – навсегда!)
…А ведь Сахалин еще не сдавался – он боролся.
* * *
Жохов после боя обошел убитых самураев. Возле каждого громоздилась куча расстрелянных патронов: японцы никогда не жалели боеприпасов, стреляя куда попало, лишь бы оглушить противника грохотом, лишь бы вызвать панический страх у русских, вынужденных беречь каждый патрон.
– Соберите все оружие, – велел Жохов дружинникам.
Избежав позора капитуляции, он еще не подозревал, какие трудности готовит Сахалин человеку. Внутри острова дороги заменяли дикие тропы, направлению которых люди зачастую и следовали, доверяясь опыту зверя, идущего от водопоя. Но горе грозило тем, кто слепо доверялся звериным инстинктам, и уходящие по такой тропе растворялись в лесах и трясинах с черной водой – тихо и неслышно, как будто их никогда и не было на свете. Камыши в рост человека, толщиною в палец, резали людей своими краями, которые природа отточила до бритвенной остроты. Вступая под душную сень гигантских лопухов, человек терялся, ничего не видя вокруг себя. Есть было нечего; случайно подстрелили медведя, но мясо его на Сахалине съедобно лишь зимою, а летом от него омерзительно разит диким чесноком, черемшой… И вдруг – встреча.
– Эй, кто вы? – окликнул Жохов каких-то людей.
– Я капитан Филимонов, – донеслось в ответ. – Меня послали проводить геодезическую съемку в тайге.
– Вы, конечно, провели ее?
– Да, как приказано мне губернатором.
– Но сейчас она пригодится только мне и моим бродягам, ибо губернатора давно нету, как нет и его отрядов…
При Филимонове было лишь семь человек, но они тоже пригодились для усиления отряда. Японцы, ощутив возросшее сопротивление партизан, выслали в погоню сразу двести человек, но Жохов и Филимонов половину врагов уничтожили из засады, и Филимонов оценил личную храбрость журналиста.
– Не хвалите меня, – отвечал Жохов. – Я ведь знаю, что, стоит мне ослабеть духом, люди сразу это заметят, они ослабеют тоже – и тогда мы погибнем… Это не моя храбрость! Это скорее храбрость женщины, когда она рожает. Иногда мы, мужчины, вынуждены быть героями, если знаем, что выхода нет, отступать некуда, надо пережить то, чего не избежать…
После одного из боев он велел Филимонову:
– То, что вы сделали в геодезии Сахалина на сегодня, пригодится для наших детей и внуков – на завтра. Что же касается меня, то к этой сахалинской эпопее я отношусь как писатель к материалу для будущего романа.
– И тоже для детей и внуков? – не поверил ему Филимонов. – Так садитесь на первую же кочку и начинайте писать.
– Я еще не придумал начала романа, – ответил Жохов. – Но у меня уже сложился его конец… трагический!
– Только не убивайте всех нас подряд!
– Всех нас не убить… – сказал Жохов.
Партизаны обходили Рыковское стороной, чтобы за Дербинским повернуть к морю. В лесах гуляли осторожные росомахи, на ветвях деревьев путников сторожили желтоглазые рыси. В лесу было темно и сыро, как в погребе, пахло грибами и плесенью. Стебли кедровника бывали перекручены в сложные узлы, как веревки, а в речных заводях, громко фыркая, полоскались громадные сахалинские выдры, лоснящиеся от сытости.
– Ложитесь все! – вдруг выкрикнул Филимонов.
Дружинники разом залегли, потом спрашивали:
– А чего ложиться-то? Кажись, все тихо.
– Впереди кто-то идет. Слышите?..
Прямо перед ними была лесная поляна, и на ней играли зайцы. Но вот они навострили уши и мигом исчезли, когда из-за деревьев показались люди. Один, второй, третий… Вид этих людей был страшен: оборванные, грязные, кое-как забинтовавшие свои раны тряпками… Филимонов поднялся:
– Неужели отряд Быкова? А ведь верно – он!
Жохов вдруг распахнул объятия и пошел вперед.
– Ура! – воскликнул он. – Все-таки встретились…
Полынов увернулся из его объятий.
– Вы меня с кем-то путаете, – сухо произнес он. – Перед вами жалкий коллежский асессор Зяблов, имевший несчастье служить судебным следователем в Корсаковске.
– Ну и черт с тобой! – смеялся Жохов, все поняв…
Лишь потом, отойдя поодаль, Полынов сказал ему:
– Я безмерно рад видеть тебя, Сережа, но о том, что было, лучше молчать. У меня, как у каждого порядочного дьявола, имеется собственный ад, в который посторонние не допускаются.
Из лесу, окруженные дружинниками, на трофейных лошадях выехали еще двое – штабс-капитан Быков, а с ним и Клавдия Челищева, ладно сидевшая в удобном японском седле. Издали они смотрели на случайную встречу друзей, и Полынов, заметив чужое внимание, сказал Жохову, что сейчас не время для дружеских излияний:
– Но поговорить надо! Только без посторонних.
– И даже без меня? – обидчиво отозвалась Анита.
– Даже без тебя, – ответил Полынов.
Жохов придержал за поводья лошадь Быкова и деловито спросил:
– Какие теперь главные цели отрядов?
– Не сдаваться! – убежденно ответил Быков.
* * *
Нет, они не сдавались. Так и не дождавшись встречи с отрядом Гротто-Слепиковского и догадываясь, что Корней Земляков пропал безвестно, Валерий Павлович долго вел людей на север, придерживаясь берега моря, где его дружина питалась чилимами и креветками, партизаны ловили крабов. 9 июля, за день до высадки японцев у Александровска, отряд Быкова уничтожил больше ста самураев. Но вскоре они узнали от жителей, что в Оноре сдался отряд капитана Владимира Сомова, потом запропастился в болотах и сам губернатор Ляпишев.
– Друзья! – сказал Быков своей дружине. – Половину Сахалина мы прошли с боями. Неужели не пройдем и вторую?
На путях движения быковского отряда японцы оставляли свои обращения. Их находили приколотыми к сучкам высоких деревьев, они сами бросались в глаза на приметных местах и возле бродов через реки. В одном из таких посланий самураи оповестили о капитуляции всего сахалинского гарнизона, надеясь, что теперь-то отряд Быкова поневоле сложит оружие. Но в ответ на это патриоты устроили засаду в устье реки Отосан, где и перебили множество самураев. Тогда адмирал Катаока выслал против них крейсер «Акацуки», который несколько дней ползал вдоль берегов залива Терпения, густо осыпая леса зловредной шрапнелью, чтобы выявить неуловимый отряд. Но Быков заранее углубился в дебри, признаваясь Клавочке:
– Неужели после всего пережитого в этой войне Академия Генштаба отвергнет меня по незнанию иностранных языков, астрономии, геометрии… Это было бы несправедливо!
Клавочка оказалась большой педанткой:
– Вы только предаетесь мечтаниям об Академии, но еще ни разу не видела я вас хотя бы с гимназическим учебником.
– Нелепость! – отвечал Быков. – Хорош бы я был в тайге с учебником в руках, изучающим глаголы прошедшего и будущего времени. Не обижайтесь, но вам, наверное, безразлична моя судьба, а я не напрасно ли жду от вас ответа?
– Я дам вам ответ, – сказала Клавочка, – но сначала вытащите меня из этих кошмарных лесов. Я хочу домой… к маме!
И вот – неожиданная встреча с капитаном Жоховым, который не сдался, как не сдался и геодезист Филимонов. Валерий Павлович почему-то сразу испытал ревнивое чувство, ему показалось, что при виде генштабиста глаза девушки осиялись блеском влюбленности. Беседуя с Жоховым, он мрачно сказал:
– Теперь я догадываюсь, почему вы, приехав на Сахалин, спрашивали меня о Полынове. Но плохо верится, что вы появились на острове – ради поисков своего друга.
– Мне и самому-то не верится! – отвечал Жохов, объяснив Быкову свое намерение писать роман о людях каторги.
Быков, как и Филимонов, не поверил ему:
– А что вас влечет в литературу?
– Желание попасть в мир подлинной демократии. Литература не ведает чинопочитания, не признает выслуги лет. Никакой русский писатель не пишет ради того, чтобы выслужить пенсию. В отставке я распрощаюсь с эполетами капитана, чтобы стать рядовым великой армии русских писателей, подлинных демократов, средь коих нет генералов-классиков, глядящих на мир свысока, нет и жалких поручиков-журналистов, глядящих на генералов с извечным вопросом: «Как вам будет угодно?..»
– Отныне вы подчиняетесь мне, – принял решение Быков.
– Как вам будет угодно… – отвечал Жохов.
Но, превратив капитана Жохова в своего подчиненного, штабс-капитан не забывал о его превосходстве в знаниях, часто советуясь с ним по вопросам военным, а Филимонов, как геодезист, подсказывал им верные решения в выборе маршрута. Сообща они продумали поход отрядов дальше на север – до мыса Погиби в самом узком месте Татарского пролива, который давно облюбован каторжанами для своих побегов на материк. Полынов демонстративно не вмешивался в дела офицеров. Всегда склонный к наблюдению за людьми, умеющий замечать то, на что другие не обращают внимания, он казался проникновенным психологом. От его хищного взора не укрылось, что госпожа Челищева издали любуется журналистом Жоховым, которому уже не надобно сдавать экзамены в Академию Генштаба, ибо иностранные языки он блистательно изучил еще в лицее, как изучил их сам Полынов.
Однажды он даже предупредил Жохова:
– Сережа, не старайся быть любезен с Клавдией Петровной больше того, что требует повседневное приличие.
– Я только вежлив с нею, как мужчина с женщиной.
– Но женщины иначе судят о вежливости мужчин…
Полынов завел Аниту в гущу леса, обнял ее:
– Бедная, ты устала, да?
– Очень. А ты?
– Скоро все кончится, – утешил он ее.
Анита оказалась тоже достаточно проницательной:
– Ты никак не ожидал встретить Жохова?
– Это, – ответил Полынов, – такая же роковая случайность, как и выигрыш на цифре «тридцать шесть», на которой рулетка кончается. Наверное, так понадобилось судьбе, чтобы Жохов знал обо мне все до последней точки. Если он будет писать роман, он не забудет и меня!
* * *
Оккупируя Сахалин, японцы скрывали от его жителей все, что касалось мирных переговоров в Портсмуте, а потому жестокость своих репрессий они как бы оправдывали «военным положением», тогда как война между Россией и Японией, по сути дела, уже закончилась; жители русского Сахалина, казнимые и ограбленные, продолжали не знать о переговорах, не ведали и того, что за круглым столом дипломатии уже возник самый острейший вопрос – «сахалинский вопрос»!
12. Сахалинский вопрос
Американская пресса изображала Россию страной дикой и мрачной, русские рисовались почти людоедами, а Япония – страной процветающей культуры и демократии; пока там, в России, палачи в красных рубахах отрубали головы несчастным «нигилистам», Япония, благоухая магнолиями и хризантемами, несла свободу народам Китая, прививала первые навыки цивилизации угнетенным корейцам и маньчжурам… Переломить эти прояпонские настроения в США было нелегко!
Главою русской делегации на конференции в Портсмуте был назначен Сергей Юльевич Витте, который позже получил титул графа, а шутники прозвали его «граф Витте-Полусахалинский»; задетый этою остротою за живое, Витте оправдывался:
– Я никогда не отдавал японцам Сахалин в Портсмуте – это была личная уступка японцам самого императора!
Помощником Витте был барон Роман Романович Розен, русский посол в Вашингтоне. С японской стороны главным на переговорах являлся барон Комура, министр иностранных дел, ему помогал Такихара, японский посол в США. Чопорные и замкнутые японцы не могли понравиться не в меру удалым американцам, которые в любом деле хотели бы видеть развлекательное шоу. Витте же поставил себе целью быть в Америке «демократичнее» самого президента Рузвельта. Японцы, воспитанные на патологической скрытности, жили при запертых дверях, никому на глаза не показываясь, а Витте широко распахнул свои двери, впуская к себе любителей автографов, нищих прожектеров, еврейских миллионеров, психопаток дам, желавших с ним фотографироваться; репортеры американских газет, жаждущие сенсаций, ходили за Витте по пятам:
– Скажите, любите ли вы свою жену?.. Как вам нравятся американские города?.. Сколько у вас денег?.. Впечатляют ли вас американские женщины?.. Сколько вы способны выпить водки сразу?.. Какие комары злее – наши или русские?..
Витте отвечал, что без ума от своей жены, города США показались ему лучше Самары или Сызрани, денег у него – кот наплакал, американки превосходны, водки он совсем не пьет, а комары Америки злее и кровожаднее русских. Наконец, Витте, сойдя с поезда, «демократически» пожал руку машинисту, а репортеры писали, что Витте бросился целовать машиниста взасос, говоря о том, что свою карьеру начинал тоже с паровозной площадки. Секретарь русской миссии И. Я. Коростовец отметил в дневнике, что «эта легенда о поцелуях с машинистом сделала для популярности Витте больше, нежели все наши дипломатические любезности». Японцы просто изнывали от зависти к успехам Витте, не в силах огорошить американцев постановкою своего шоу, и в один из дней, надев черные смокинги, при черных цилиндрах, держа черные зонтики, отмаршировали в христианскую церковь, чтобы прослушать обедню и проповедь о любви к ближнему. Но никакого шоу из этого не получилось, зато Такихара растревожил публику США признанием, что каждый день война с Россией стоила Японии двух миллионов иен:
– Всего же мы истратили на войну больше миллиарда иен и теперь потребуем с России миллиарды контрибуций…
Рузвельт принял Витте и Розена на своей даче; он сказал, что России уже не отстоять своих прав на Сахалин:
– Тем более японцы уже на Сахалине, а у вас после Цусимы нет флота, чтобы вернуть остров обратно. Если мы, американцы, прочно сидим в Панаме, не собираясь вылезать оттуда, так и японцы никогда не уберутся с Сахалина.
– Пример неподходящий, – возразил Розен, – ибо Япония – это не Америка, а Россия – это вам не захудалая Панама.
Рузвельт настаивал, чтобы Россия оплатила военные расходы Японии по японскому же счету, но Витте довольно-таки грубо ответил президенту США, что русский народ не собирается «кормить будущие войны» Японии:
– Мы можем вести переговоры, учитывая лишь те военные результаты Японии, каких она в этой войне достигла, но мы не будем уступать Японии в ее иллюзорных планах…
Этот разговор состоялся 22 июля, а на следующий же день обе миссии, русская и японская, отплыли в Портсмут по реке Ист-Ривер. Витте и его свита плыли на крейсере «Чатунага» под флагом русского посла Розена, но стюарды этого крейсера почему-то были набраны из японцев. Рузвельт ожидал дипломатов на роскошной собственной яхте, где и представил японскую делегацию.
– Господин Витте, – спросил Рузвельт, – не желаете ли дружески позавтракать с господином Комурой?
Все эти дни стояла невыносимая жарища, и Комура вежливо побеседовал с Витте о погоде. Подали шампанское. Рузвельт произнес спич в защиту мира на земле, но при этом он слишком выразительно смотрел на русских, словно именно они явились злостными «поджигателями» этой войны…
Портсмут – курортный городишко с лесным пейзажем, напоминающим финское побережье. Разместились в отеле «Вентворт», где было мало комфорта, а окна затянуты проволочными сетками от обилия комаров. В соседнем пруду купались на диво тощие американки в черных чулках и при черных перчатках. С неприязнью поглядывая на этих пуританок, Витте сказал Розену:
– Если наши противники не согласятся на примирение, Россия способна вести войну до самой последней крайности, и мы еще посмотрим, кто дольше продержится…
Двадцать седьмое июля – первый день конференции, посвященный процедурным вопросам. Дипломаты расселись за столом, над ними, освежая воздух, с визгом вращались электрические пропеллеры. Комура уже взял напрокат несгораемый шкаф, чтобы хранить от шпионов любую бумажку: японцы изо всех сил стремились засекретить от мира переговоры, чтобы сделать тайну из своих грабительских требований. Витте понял это!
– А почему я не вижу здесь журналистов? – вдруг спросил он японцев. – Мы же собрались тут не как разбойники в пещере, чтобы делить добычу, и потому делегация России желает вести переговоры в условиях самой обширной гласности…
Призыв к гласности не пропал даром: пресса США стала поддерживать русских, а не японцев. На следующий день состоялось первое деловое заседание. Чувствовалось, что японцы готовят России такой крепкий удар, от которого она согнется в дугу и уже не выпрямится. В наступившей тишине Комура протянул Витте список японских требований из двенадцати пунктов.
– Японское правительство, – изрек он при этом, – готово сделать все, чтобы достигнуть мирного соглашения.
Витте едва глянул на пункты требовании, крайне унизительных для русского народа, и почти равнодушно отложил список в сторону, обещая японцам изучить все их претензии. Пункт № 5 гласил: «Сахалин и все прилегающие (к нему) острова, все общественные сооружения и все имущества (на Сахалине) уступаются Японии…» Тошно!
На этом заседание 28 июля и закрылось.
* * *
Именно в этот день японцам удалось убить штабс-капитана Гротто-Слепиковского, когда он со своим отрядом из ста двадцати трех человек с боями шел на соединение с Быковым, после чего отряд Слепиковского распался. Японцы не остались равнодушны к его мужеству, они устроили офицеру торжественные похороны с отданием воинских почестей, над раскрытой могилой грянул салют из японских винтовок. О подвиге Гротто-Слепиковского вскоре забыли, и лишь в наше время его именем был наречен скалистый мыс Сахалина, нависающий над вечно шумящим океаном…
Двадцать девятого июля генерал Харагучи, невзирая на то, что в тайге еще гремели выстрелы партизан, объявил об окончании оккупации всего Сахалина. Конечно это известие, явно преднамеренное, явно согласованное с политиками Токио, резко усилило позиции Японии в «сахалинском вопросе», который становился одним из главных вопросов на переговорах в Портсмуте.
Я думаю: как безумно далеко от ослепительной Варшавы до мрачного мыса Слепиковского! Теперь для него одного шумит вечный океан – вечный, как сама Россия, вечный, как Польша…
* * *
Отбиться от японских претензий по всем двенадцати пунктам было трудно, в чем-то заранее решили уступить, чтобы отстоять самое главное. Япония запрашивала очень много. Особенно болезненным для престижа России было требование самураев о выплате неслыханных контрибуций. Но для нас, читатель, самым важным в этой главе останется, конечно, «сахалинский вопрос». Понятно, что японцы видели в Сахалине не только «туковую» кормушку для своих рисовых плантаций, но и важный стратегический плацдарм, с которого всегда можно влиять на дальневосточную политику русского кабинета…
Тридцатого июля японцы снова встретились с русскими, и Комура был удивлен, что делегация России сразу же отвергла четыре японские претензии, в том числе пункт № 5 – об уступке Сахалина и пункт № 9 – о выплате контрибуций. При этом Витте держал себя столь надменно, что барон Комура не выдержал:
– Ведите себя здесь не как победитель!
– В чем дело? – отвечал Витте. – В этой войне меж нами не было победителей, а значит, не было и побежденных… Да, мы согласны, чтобы Япония, как и раньше, ловила рыбку у берегов Сахалина, но уступать Сахалин Россия не намерена.
Состоялся острый обмен мнений о контрибуциях.
– Контрибуции, – веско заметил Розен, – платят лишь побежденные народы, желающие, чтобы неприятель поскорее убрался от них восвояси. Даже на Парижском конгрессе, после падения Севастополя, никто из держав-победительниц не осмелился требовать с России возмещения военных убытков.
Витте добавил, что Россия согласна возместить японские расходы, но только в тех пределах, какие были сопряжены с содержанием в Японии русских военнопленных.
– Тут мы не станем спорить! Россия оплатит все издержки, связанные с содержанием и лечением наших пленных.
Переговоры осложнялись, противники перешли к резкостям. Русская сторона с издевкой спрашивала японскую:
– Что, разве в Токио совсем не осталось денег? В таком случае советуем вашей армии занять нашу Москву, тогда, быть может, вы и получите от нас контрибуции.
– В таком случае, – зло парировал Комура, – мы бы не просили денег, а продиктовали бы вам любые условия.
– Вряд ли! – смеялся Витте. – Наполеон побывал в Москве, но условия мира продиктовала ему Россия… в Париже! Сидя же в Московском Кремле, Наполеон бог знает до чего додумался, но ему и в голову не пришло выпрашивать у России деньжат, чтобы выбраться из войны с Россией…
Витте распорядился узнать расписание пароходов, отплывающих обратно в Европу. «Дело идет к разрыву! – писали американские газеты. – Японская лиса не в силах бороться с русским медведем!» Рузвельт оказался шокирован. Мнение публики и газет США склонялось на сторону интересов России, а он, поддерживая Японию, мог оказаться в политической изоляции. В переговорах назревал кризис, а президент слишком дорожил славою «миротворца». Он сказал Комуре, что «контрибуции» могут быть обидными для самолюбия русского кабинета:
– Впредь говорите о «возмещении военных издержек»…
Второго августа началось обсуждение «сахалинского вопроса». Комура обложил себя баррикадами документов, в которые постоянно заглядывал, а перед Витте лежала раскрытая пачка папирос, и ничего больше. Комура стал отвоевывать Сахалин.
– Вы, – сказал он русским, – по-прежнему смотрите на оккупацию нами Сахалина как на насильственный факт, а не как на правовое решение японской нации. Потому и прошу вас привести свои доводы в пользу этого мнения.
– Права русской нации на Сахалин, – отчеканил Розен, – определились еще в те давние времена, когда Япония никаких прав на Сахалин не заявляла. Между тем Сахалин является продолжением материковой России, отделенный от нее таким узеньким проливом, который наши беглые каторжане рисковали форсировать даже на плотах из двух бревен. Для нас остров Сахалин остается часовым, поставленным возле дверей русского Дальнего Востока, вы же, японцы, стараетесь сменить караул у наших дверей, заменив его обязательно японским.
Комура, заглядывая в свои бумаги, вдался в нудную лекцию по истории, доказывая, что японцы давно владели Сахалином, который является дополнением Японского архипелага. Затем он сказал, что – правда! – Россия никогда не делала из Сахалина военной базы для нападения на Японию:
– Но если бы война началась не в Маньчжурии, то вы, русские, могли бы угрожать нам с берегов Сахалина.
– Зачем нам было нападать на Японию со стороны Сахалина, где у нас сосредоточены одни тюрьмы да каторга?
Комура, как ни тужился, исторических прав на Сахалин предъявить не мог. Свои претензии на обладание им он обосновывал тем, что остров уже занят японскими войсками – так стоит ли тут еще спорить? Витте сказал, что факт занятия Сахалина японскими войсками еще не означает, что Сахалин должен принадлежать Японии.
– Вы не доказали исторических притязаний на Сахалин, вы основываете их исключительно на силе военного права! Но при этом, – сказал Витте, – вы напрасно желаете опираться на «народные чувства» японцев, якобы мечтающих о жизни на Сахалине. Ваше «народное чувство», – было записано в протоколе, – основано не на том, что Россия забрала что-то принадлежащие Японии. Напротив, – утверждал Витте, – вы просто сожалеете, что Россия раньше вас освоила Сахалин. И если распространяться о «народных чувствах», то какие же чувства возникнут в душе каждого русского человека, если он на законных основаниях много лет обладал островом Сахалином?!
Переговоры зашли в тупик. Сахалин нависал над столом Портсмута как дамоклов меч, и Комура, сильно нервничая, чересчур энергично отряхивал пепел с папиросы, а Витте в такие моменты закидывал ногу на ногу и крутил ступней, посверкивая лаковым ботинком. Газеты США писали, что «сахалинский вопрос» неразрешим; от русских мы чаще всего слышим слова «завтра будет видно», а на устах японцев – «сиката ганай» («ничего не поделаешь»). Портсмутский отель «Вентворт» вдруг содрогнулся от грохота: это японская делегация возвращала несгораемый шкаф, взятый ею напрокат, а русские дипломаты, как заметили репортеры, срочно затребовали белье из стирки…
Рузвельт почувствовал, что его политическая карьера дала трещину. Надо спасаться! Он повидался с Розеном и сказал, что пришло время для его личного вмешательства в переговоры:
– Я буду сам писать вашему императору…
Николай II, отвечая на телеграммы Витте, помечал: «Сказано же было – ни пяди земли, ни рубля уплаты…» Но американский посол Мейер стал убеждать его, что японцы согласны вернуть северную часть Сахалина, а любая затяжка войны вызовет вторжение японцев в Сибирь. Николай II сначала упорствовал, говоря Мейеру, что он уже дал «публичное слово» не уступать, но после двух часов бесплодной болтовни сдался.
– Хорошо, – сказал царь, – к югу от пятидесятой параллели японцы могут считать себя на Сахалине хозяевами…
Наш академик В. М. Хвостов, крупнейший специалист в области международного права, писал, что отторжение Сахалина в Токио даже не считали таким уж обязательным требованием: «Ясно, что если бы царь и его дипломаты проявляли должную выдержку, то можно было бы Сахалин отстоять!»
* * *
Витте велел расплатиться за гостиницу. Комура, испуганный срывом переговоров, уже соглашался на возвращение России Северного Сахалина, но…
– Но мы Северный Сахалин можем вам продать!
На этом он и попался. Витте использовал промах Комуры и разгласил в печати, что для Японии важнее не мир, а деньги, из-за которых она и начала эту войну. Американские газеты поместили карикатуры: японский император дубасил бамбуковой палкой русского царя, спрашивая: «Сколько ты мне заплатишь, чтобы я тебя отпустил?..» Симпатии американцев окончательно перешли на русскую сторону. Никто уже не смел говорить, что Япония начала войну, дабы нести культуру в страны Азии. «Барон Комура, стоя лицом к лицу с мрачной реальностью войны, продолжение которой было бы, несомненно, гибельным для Японии, был вынужден уступить», – писал японский историк Акаги.
Шестнадцатого августа Витте удалился с бароном Комурой для беседы наедине, после чего появился с улыбкой:
– Господа! Поздравляю – японцы уступили…
Витте зачитал японский отказ о выкупе Северного Сахалина, а Комура признал, что Япония отказывается от денежного вознаграждения. Из Токио пришло сообщение, что там недовольны Портсмутским миром и, если Комура вернется, его сразу прикончат… Теперь американские газеты писали о грядущей «желтой опасности», которая от пасмурных берегов Японии накатывается, как вал цунами, на всю Азию, на весь Тихий океан.
Над крышами Портсмута гремели орудийные салюты, звонили колокола храмов, а на заводах и фабриках США разом застонали гудки. Витте удалился к себе и сказал секретарю:
– Больше никаких журналистов, никаких фотографов ко мне не допускать! Я устал ото всей этой болтовни…
* * *
«Сахалинский вопрос», не разрешенный в Портсмуте, будет окончательно разрешен лишь в августе 1945 года!
13. До седых волос
Неся большие потери, отряд пополнялся за счет местных жителей, искавших в лесах спасения от японских репрессий. Партизаны продолжали свой рейд – к мысу Погиби! В глухом урочище на берегу безлюдной Тыми сделали привал ради отдыха. Здесь Полынов счел нужным напомнить Жохову, чтобы он вел себя сдержаннее с Челищевой, на что получил ответ:
– Глупо подозревать меня в излишней лирике. Вообще-то я терпеть не могу идеалисток. Сама великая мать-природа рассудила за верное, чтобы женщинам быть практичнее нас, идеалистов-мужчин, а не предаваться пустым фантазиям…
Вскоре они нашли время уединиться в лесу, давно желая поговорить по душам. Присев на поваленное дерево, Полынов и Жохов наблюдали, как на полянке играют веселые сахалинские зайцы. Жохов сказал, что не забыл законоведения, которое постиг в Демидовском лицее, и его всегда привлекали судьбы людей в ненормальных, подневольных условиях:
– Мне интересно узнать и твою историю.
– Я высоко взлетал и низко падал.
– Мне пригодится все. Рассказывай…
Полынов вскинул «франкотку», машинально прицелившись в самого веселого зайца, но стрелять не стал.
– Вспомни, какова была моя юность, какова семья! Наверное, от нужды пани Гедвига Целиковская, сосланная за участие в виленском восстании, вышла за ярославского мещанина Придуркина, торговца гробами. Она рыдала от загубленной жизни, нещадно колотила меня, как будто я виноват в ее женских несчастиях. Напиваясь, она плакала и пела: «Плыне Висла, плыне по польской краине…» Нет, я не хочу вспоминать о ней!
– Не надо. Но отец-то тебя любил.
– Да. Прекрасный столяр. Все мое детство и юность прошли среди гробов, заготовленных им на продажу. В образцовом гробу я и спал. Мне, – сказал Полынов, – и доныне иногда снится, как я вылезаю из этого гроба, чтобы не проспать своего звездного часа. Отцу мечталось вывести меня в люди. Наверное, ему стоило немалых унижений и взяток, чтобы меня, мещанского отпрыска, приняли в Демидовский лицей, откуда выходили просвещенные знатоки права на общем фоне бесправия.
– Понимаю тебя, – согласился Жохов.
– Понять меня может не каждый… Я был в лицее лучшим учеником, а думаешь, мне было легко? Легко ли было мне, когда вы, дворяне, являлись на лекции из чиновных и барских квартир, вас подкатывали к лицею холеные рысаки, а я выкарабкивался по утрам из гроба и, вкусив хлеба с теплым чаем, бежал по лужам за четыре версты, дрожащий от холода, всего лишь презренный сын мастера гробовых дел.
– Да, тебе было трудно. Тебя, лучшего лицеиста, обходили наградами, даже на мраморной доске выпускников лицея не хотели помещать твою фамилию – Придуркин, и мне было жаль тебя. Я ведь всегда дарил тебя самой искренней дружбой.
Полынов положил руку на плечо друга:
– Потому ты и допущен в мой ад… Я покинул лицей, уже оскорбленный, чувствуя свое превосходство над людьми, оскорблявшими меня. С дипломом молодого юриста я оказался в селе Павлове на Оке, где и сделался мелким судебным исполнителем. Я накладывал печати на двери амбаров проворовавшихся лавочников, описывал имущество бедняков за недоимки, а по ночам глотал книгу за книгой… читал, читал, читал, читал, читал!
Затем Полынов сказал, что павловские мастера по выделке замков с их «секретами» создавали такие шедевры, что получали призы даже на международных промышленных выставках.
– Эти мастера-самородки, порой безграмотные люди, возбудили во мне случайный интерес к точной механике, и, забыв о своем дипломе юриста, я пошел к ним на выучку. Наверное, я был способным учеником! Но однажды, смастерив сложнейший замок, я задумался. Ведь если я способен изготовить такой замок, значит, я способен его и открыть! Чтобы увериться в себе, я поехал на выставку в Вену, где на «призовой» площадке, ничем не рискуя, за полторы минуты вскрыл несгораемый шкаф фирмы «Эвенса», за что и получил тысячу марок вознаграждения.
– Так живи и радуйся! – невольно воскликнул Жохов.
Полынов удивленно посмотрел на него:
– А чему тут радоваться? Я ведь еще со скамьи лицея понял, что при той системе, какая существует в нашей империи, мне всю жизнь оставаться презренным мещанином, и тогда я решил перехитрить эту систему, чтобы жить иначе… Я решил возвысить себя над этим поганым миром, и своего я добился!
– Но честным ли путем? – тихо спросил Жохов.
– Сначала – да. Я поехал в Льеж, где поступил в политехническую школу, старательно прослушал полный курс точной механики. Я получил не просто диплом, а – почетный диплом.
– Так живи в свое удовольствие… инженер!
– Именно так и стали называть меня друзья, когда я, подделав себе документы, из сословия мещан легко перебрался в дворянство. Под новой фамилией Боднарского завел в Петербурге частную техническую контору, не брезгуя брать любые заказы, стал жить на широкую ногу. Знание закона империи, хорошее владение языками, долгая жизнь за границей – все это помогало мне проникать в самое высшее общество, и никто ведь из аристократов не думал, что я выбрался из папенькина гроба, в котором стружки заменяли перину. Можно сказать, я был уже почти доволен судьбой, но…
Полынов долго молчал, и Жохов напомнил:
– Что же случилось тогда с тобою? Влюбился?
– Нет. Во мне зрело недовольство системой, которая из меня, честного человека, сделала жулика и прохвоста, живущего на птичьих правах под чужим именем. К тому времени мое воображение было слишком воспалено чтением Бакунина и Штирнера, Кропоткина и Махайского, а контрасты жизни убеждали меня в том, что сильная личность – превыше всего, и такой личности, как я, в этом мире почти все будет дозволено.
– Но так можно дойти черт знает до чего!
– Верно. Вот я и пришел к тому, что научился презирать сначала законы, потом людей. Но прежде я был арестован.
– За что?
– Однажды меня навестил неизвестный, который от имени других неизвестных просил вскрыть одну кассу. Я, конечно, догадался, что эти «неизвестные» уже известны полиции, но им не хватает знания точной механики. Мне с самого начала было ясно, что, кроме хлопот, я не получу и рубля, а все деньги, добытые с кассы, провалятся в подполье какой-то партии…
– И ты?
– Я согласился.
– И попался?
– Сразу. Впрочем, мне удалось бежать, а наши инквизиторы так и не дознались, что за птица попалась в их клетку. Я сам ушел в подполье, снова сменив имя, перебрался в Польшу, стал членом активной «боевки», пан Юзеф Пилсудский не раз прибегал к моим услугам, когда ему нужны были деньги… Может, он и виноват в том, что я разуверился в идеалах революции, которых не заметил в человеке, больше других кричавшем о свободе. Скажу честно, что состоять в «боевке» было трудновато: чуть что не так – и ты мог пропасть на окраине города…
– Как же ты очутился в разряде уголовных?
– Это случайность. Однажды я долго возился с сейфом, в котором были замки конструкции Манлихера, и не мог открыть его. Пилсудский взбесился, обвинив меня чуть ли не в пособничестве жандармам. Тогда я решил: стоит ли рисковать жизнью ради этого демагога? Не лучше ли найти своим талантам иное применение? Так вот случилось…
Громко хрустнул валежник. Мужчины обернулись.
– Я тебя ищу, – строго произнесла Анита.
Полынов передал «франкотку» капитану Жохову.
– Анита, прости, нам предстоит расстаться.
– Нам? – поразилась Анита.
– Я побываю в Рыковском… без оружия, без тебя.
– Не лезь в это осиное гнездо, – предупредил его Жохов. – Каждый человек обходит Рыковское стороной, чтобы не остаться без головы. А ты, кажется, уже потерял ее… Разве ты не знаешь, что в Рыковском штаб самого Харагучи? Или ты не слыхал, что там творится? Побереги себя и Аниту…
Полынов пояснил: для него пришло время покинуть Сахалин навсегда; как – он сам еще не знает, но его пути приведут куда угодно, только не к мысу Погиби.
– Не выдумывай! – возмутился Жохов. – Наверное, ты и в самом деле желаешь оправдать свою истинную фамилию… Зачем тебе соваться в Рыковское, если тебе, как дружиннику, будет даровано законное право на свободу по амнистии царя?
– Я знаю силу закона, но в справедливость закона не верю. Появись я снова в России, и меня упрячут за решетку. А я уже не могу оставить Аниту… одну.
– Но ведь оставляешь! – выкрикнула Анита.
– Ты побудешь на попечении капитана Жохова, и вы можете ждать меня три дня. Только три дня, после чего можете убираться куда вам угодно… хоть под венец!
Анита, припав к березе, разрыдалась. Жохов решил, что сейчас лучше не мешать им, и – ушел. Вслед ему, уходящему, Полынов велел вернуть «франкотку» Быкову.
– Не валяй дурака, – отозвался Жохов.
Полынов сказал Аните, чтобы повторила номер, который он просил ее помнить. Острым концом сучка Анита, еще плача, выцарапала на стволе березы загадочный для нее шифр: XVC-23847/А-835.
– У тебя хорошая память, – похвалил ее Полынов. – Если со мною что-либо случится, ты с этим номером можешь явиться в банк Гонконга, даже не называя своего имени.
– Зачем?
– Тебе выложат деньги. Большие деньги.
– Мне без тебя и копейки не надо! – ответила Анита. – Не уходи один! Ведь без меня ты погибнешь…
Полынов зорко огляделся по сторонам:
– Не плачь. Я снова ставлю на тридцать шесть, а иначе вообще не стоит играть… Теперь – прощай!
Из гущи леса Анита услышала его голос: «Ты лейся, песня удалая, лети, кручина злая, прочь…»
– Без меня ты погибнешь!.. – прокричала Анита.
* * *
Мутными глазами Глогер наблюдал с веранды, как через площадь Рыковского шагает человек, который заочно приговорен к смерти, и приговор ведь никто еще не отменял.
– Входи… Инженер! – сказал он на стук в двери.
Полынов никак не ожидал видеть Глогера в канцелярии японского правления, а Глогер сразу уловил его замешательство. Очень довольный, он приветливо улыбнулся:
– Как приятно встретить старого приятеля… Так рассказывай: что тебе надобно от японцев? А что тебе от меня?
Эта приветливая улыбка ввела Полынова в заблуждение. Он сказал, что самураи уже начали массовую депортацию населения, и ему хотелось бы попасть на пароход шанхайской линии, чтобы смотаться с острова поскорее.
– Я понимаю свое положение, но ты, Глогер, должен понять и мое. Обращаюсь к тебе как к товарищу по лодзинской «боевке», мы немало пошумели тогда, и ты доверял мне. Надеюсь, хоть сейчас-то не станешь казнить меня?
Глогер закрыл на ключ двери, ведущие на площадь.
– А ведь ты меня боишься, – сказал он. – Ты способен только мяукать, словно котенок, а рычать-то, как тигр, умею один я! – В руке Глогера блеснул револьвер. – Я не стану убивать тебя. Приговор теперь исполнят другие…
Разом вбежали японские солдаты, заломили Полынову руки. Плоские тесаки уперлись в спину ему, и он шагнул к смерти:
– Сволочь! Ты все-таки победил меня… Теперь я не могу рычать, но и мяукать на радость тебе не стану…
Глогер самодовольно ответил Полынову:
– Так не всегда же побеждать тебе! Иди и прими смерть, как положено члену нашей исполнительной «боевки»…
Чувствуя под лопатками колючие острия винтовочных тесаков, Полынов с трудом сохранял самообладание, но при этом в его голове кружились, подобные вихрю, всякие варианты освобождения. Кажется, на этот раз ему не выкрутиться. Самураи – это не бельгийский комиссар дю Шатле, не берлинский полицай-президиум на Александерплац, наконец, это даже не жандармский следователь Щелкалов. Покорно он шел, куда велят штыки, и болью отзывались в сердце пропетые когда-то слова:
Какие речи детские Она шептала мне О странах неизведанных, О дальней стороне…«Ах, Анита! Почему я тебя не послушался?..»
Солдаты во главе с молодым офицером отвели его на двор Рыковского правления, где свершались ежедневные казни. Возле забора на коленях уже стояли двое – полицмейстер Маслов, пойманный в одежде каторжника, и тюремный инспектор Еремеев, который клонился к земле, близкий к обмороку. Маслов долгим взором вглядывался в Полынова – узнал его:
– Вам-то, кажется, я не сделал зла.
– Лично мне – никогда, – ответил Полынов.
– Так помолитесь за меня…
– И за меня! За меня тоже, – выкрикнул Еремеев.
Это были последние их слова, и через минуту на земле лежали два обезглавленных тела. Японский офицер сказал:
– Хэлло! Теперь ваша очередь.
Это неожиданное для японца «хэлло» оказалось спасительной зацепкой. Полынов шевельнул пальцами связанных рук.
– Господин офицер изволит говорить по-английски?
– О да! Но у вас произношение намного лучше, чем у меня… Вам приходилось жить в Англии?
– Нет, только в африканском Кейптауне.
– О! Может, вам завязать глаза?
– Не стою ваших забот, – ответил Полынов, лихорадочно отыскивая лазейку для спасения. Он глянул, как затихло в агонии тело полицмейстера. – Все это странно! Вы казнили сейчас «шпиона» Маслова и «предателя» Еремеева, которые никогда не шпионили и никого не предавали. Между тем в личном окружении вашего генерала Харагучи я знаю подлинного резидента русской разведки… Кстати, он опытен и опасен для вас!
Спина освободилась от прикосновения штыков.
– Кто же это? – насторожился самурай.
– Вы наивны! – повысил голос Полынов. – Не стану же я болтать с вами о серьезных делах на этом дворе, где скоро можно играть в футбол отрубленными головами. Я могу назвать русского шпиона только генералу Харагучи…
«Анита, милая Анита! Какие речи детские она…»
– Сразу развяжите мне руки, – велел Полынов.
Рулетка снова раскручивалась перед ним, суля сказочный выигрыш – жизнь! Японский офицер проводил его во внутренние комнаты правления, где за столом – в окружении адъютантов – сидел сухонький старичок в очках, и Полынов догадался, что этот кровожадный пигмей и есть генерал Харагучи.
Он с достоинством ему поклонился.
– Переводчик не нужен, – сказал Полынов, – ибо из английских газет я, знаю, что вы окончили военную академию Берлина, и вам будет приятно освежить свой немецкий язык.
– Гутен таг, – сказал Харагучи, держа между ног шашку в черных ножнах. – Я даже удивлен. Где же вы в условиях Сахалина могли читать английские газеты?
– Мне давал их для чтения барон Зальца.
– Гут, гут, – одобрительно закивал Харагучи. – Мне доложили, что вы узнали шпиона при моем штабе… кто он?
Никаких колебаний. Спокойный ответ:
– Глогер, что торчит у вас на веранде. Я не знаю, что он у вас там делает, но бед всем вам он еще наделает.
Среди японцев возникло замешательство, адъютант Харагучи куда-то выбежал и скоро вернулся с бумагами. Генерал вчитался в одну из них, неуверенно пожав плечами. Потом встал и вплотную подошел, к Полынову, поблескивая очками:
– Обвинение серьезно. Но я вас выслушаю.
– Глогер – опаснейший русский шпион, который чрезвычайно ловко притворяется польским националистом и ненавистником России. Под видом ссыльного он прибыл на Сахалин как раз накануне разрыва отношений между Петербургом и Токио. Вы сами понимаете, насколько удобна такая маскировка.
Харагучи вернулся к столу, волоча за собой шашку.
– Если сказанное вами правда, то откуда вам это известно? Наконец, кто может подтвердить ваши подозрения?
– О подозрениях я бы молчал. Я высказываю не подозрения, а сообщаю точные факты, которые мог бы подтвердить только один человек, недосягаемый для вас ныне.
– Кто же это?
– Капитан русского генштаба Сергей Жохов, возглавляющий разведку на Сахалине под личиною журналиста.
Полынов смело «выдавал» врагам своего друга, зная, что Жохов скорее застрелит себя, но он никогда не попадется живым в руки врагов. Все застыли в молчании.
– Жохов! – сказал Харагучи, а его адъютанты торопливо перелистывали перед ним бумаги. – А кто же вы сами?
– В чине коллежского асессора исполнял обязанности судебного следователя в Корсаковске… Иван Никитич Зяблов! – снова раскланялся Полынов, представляясь. – Служил при бароне Зальца, который считал меня своим близким другом.
Под генералом Харагучи отчаянно скрипел венский стул.
– Во всей этой истории, – сказал он, – столько вранья, что я начинаю удивляться вашей наглости… Вы ведь никогда не сможете ответить мне на вопрос, почему именно капитан генштабист Жохов вдруг решил поделиться с вами секретными сведениями об этом Глогере?
Напрасно самураи торжествовали победу.
– Я давно жду такого вопроса, – ответил Полынов. – Моя дружба с Жоховым тянется еще с детства, мы вместе учились в Демидовском лицее города Ярославля, после чего Жохов поступил в Пажеский корпус, а я волею судеб оказался на каторге. Наверняка у вас имеются сведения об офицерах сахалинского гарнизона… так проверьте мои слова по своим бумагам.
Удар – точно в цель! Харагучи быстро переговорил с офицерами штаба по-японски, они бурно спорили, наконец в своем досье Харагучи что-то подчеркнул ногтем.
– Мы вам поверим лишь в том случае, если вы скажете, кто был отцом вашего друга Жохова и какую он занимал должность! Будучи его другом, вы не можете не знать этого.
– Отец капитана Жохова служил по выборам дворянства, занимая должность Тетюшского уездного предводителя…
Проверили и поверили! Харагучи вскочил и, громыхая шашкой, что-то злобно и гортанно выкрикивал, после чего из глубин дома послышался сатанинский вопль Глогера:
– Не надо… умоляю… это ошибка! Я никогда не…
Полынов отошел к окну и посмотрел, как японцы ставят Глогера на колени, сверкнула сабля. Убедившись, что Глогера не стало, он облегченно вздохнул: «Ты лейся, песня удалая…» Харагучи спросил – каковы его желания за раскрытие опасного русского шпиона? Полынов ответил, что хотел бы попасть под общую депортацию чиновного населения Сахалина:
– Всем известно, что в Александровске стоит под погрузкой ваш пассажирский пароход, следующий прямиком в Одессу. Но мне желательно сойти с него еще в Гонконге, в банке которого я давно держу свои капиталы.
– Почему же не в Петербурге? – спросили его. – Как можно доверять стране, которая трясется от революции? Именно по этим соображениям я доверил свои сбережения старинному британскому Гонконг-Шанхайскому банку.
Что-то хищное отразилось в лице Харагучи, но голова Глогера уже откатилась в подзаборные лопухи. Глогер уже не мог помочь самураям разобраться в этих хитроумных комбинациях.
– Вы рискуете жизнью, – напомнил генерал. – Ведь наш телеграф работает отлично, и мы, сидящие в Рыковском, можем проверить, так ли это. Назовите номер личного счета.
Полынов шагнул к столу и написал: XVC-23847/А-835.
– Хорошо, – сказал Харагучи. – Но, если англичане не подтвердят наличие этого вклада, вы окажетесь на дворе…
Через двое суток Полынова освободили:
– Вы оказались правы. Можете отправляться в Александровск, а билет на пароход получите в тамошней канцелярии.
Харагучи прислал ему в подарок хорошую сигару.
– Благодарю! – небрежно ответил Полынов. – Но меня будет сопровождать молоденькая дама, обожающая комфорт, и потому прошу предупредить свои власти в Александровске, чтобы мне отвели каюту первого класса… с ванною и прислугой! Знаете, все женщины на этой каторге стали так избалованны, что нам, мужчинам, очень трудно угодить им…
* * *
Когда они встретились, Анита наблюдала за ним с каким-то напряженным вниманием. Полынов не выдержал ее взгляда:
– Перестань так смотреть на меня!
– Смотрю… ты поседел, – ответила Анита.
– Ничего удивительного! Зато мой приговор приведен в исполнение…
Сахалин проводил их дождями и туманами. Жалобно мигнули огни маяка «Жонкьер», а потом навсегда угасли в отдалении и маячные проблески с мыса Крильон. Впереди распахивался океан – широкий и бурный, как сама жизнь.
14. Конец каторги
«Там, где Амур свои волны несет», там, от Хабаровска до Николаевска, еще ходили белые пароходы, освещенные электричеством, с которых долетала до угрюмых берегов музыка ресторанов, по их палубам прогуливались опрятно одетые люди и дамы с зонтиками. Но ближе к осени с этих пароходов все чаще видели каких-то диких, немыслимо оборванных людей с палками и котомками, они бежали вслед пароходам вдоль топких таежных берегов, взывая к милосердию пассажиров:
– Хлеба! Бросьте хлеба, мать вашу растак…
– Кто эти дикари? – спрашивали пассажиры.
– Сахалинские каторжане, – охотно поясняли капитаны. – Японцы всех их вывезли с острова прямо в тайгу материка и оставили на берегу, словно ненужный мусор. Теперь им, видите ли, амнистия от его императорского величества выпала. Вот они и бегают с дубинами вдоль Амура, как доисторические питекантропы… С этим народом, дамы и господа, лучше не связываться!
…Убийствами и грабежами японское командование сознательно выживало русских людей с острова. Это была политика оголтелого геноцида, при которой человеку не выжить, и самураи проводили ее с неумолимой жестокостью, чтобы русских людей на острове не осталось. Чиновников с их семьями они спровадили долгим путем прямо в Одессу. Русская делегация в Портсмуте еще отстаивала Сахалин для России, когда оккупантами было объявлено, что до 7 августа 1905 года всем неяпонцам следует покинуть Сахалин.
– Кто желает остаться на острове, тому следует в ближайшие дни принять подданство нашего великого императора Муцухито и платить налоги, какие существуют в Японии…
Двадцатого августа контр-адмирал Катаока выслал в бухту Де-Кастри три своих миноносца под белыми флагами; следом за ними вошел транспорт, с которого свалили на берег толпу первых депортированных сахалинцев. Поселок в бухте был уже разгромлен, все сгорело при обстрелах с моря, и беженцам, перед которыми шумела глухая тайга, было тут же объявлено:
– Вы уже в России! Теперь сами выбирайтесь к Амуру – до Мариинска или Софийска… дорога сама выведет.
Но дороги-то и не было. Толпа людей шаталась от изнурения, многие так и не дошли до Амура, а иные стали жертвами таежных хищников. Но оставаться на Сахалине никто уже не хотел, и все новые толпы беженцев копились на пристани Александровска, заполняя гулкие трюмы японских пароходов. Самураи не разрешали вывозить на материк что-либо из вещей, кроме узелка с самым необходимым в дороге. На трапах кораблей разыгрывались дикие сцены, которые по-человечески можно понять: каждому ведь дорого то, что нажито своим трудом, но японцы силой отбирали имущество, и скоро на пристани выросла громадная гора пожитков, увязанных в неряшливые котомки. Японцы не брезговали ничем, отбирая у русских детей даже самодельные тряпичные куклы. Руководил депортацией майор Такаси Кумэда, и ему, знавшему русский язык, наверное, не раз приходилось слышать с палуб отплывавших от Сахалина кораблей:
– Да будь ты проклят, зараза паршивая! Ты не сын Страны восходящего солнца – ты просто сукин сын…
С японцами остались лишь предатели родины и кое-какие одиночки; не покидали остров отпетые уголовники, которым хорошо воровать и грабить при любом режиме; не выехали на материк разбогатевшие ссыльные, местные кулаки, жалевшие оставить свое хозяйство, но японцы их всех потом «раскулачили». Почти все население Сахалина, бросая посевы и огороды, покинуло остров, не желая оставаться под пятой оккупантов. Сахалин вымер! Можно было пройти через десятки деревень и – не встретишь ни одного человека, не выбежит навстречу, виляя хвостом, собачонка. Историки приводят цифры зловещей статистики: если до войны Сахалин обживали сорок шесть тысяч, то после завершения оккупации на острове осталось всего лишь семь тысяч человек, навсегда потерянных для родины.
А сахалинских беженцев родина встретила неприветливо, о царской амнистии даже не поминали. Мало кому удалось достичь Хабаровска или Благовещенска, редкие единицы добрались до родимых мест, многие остались горевать на Амуре. Как раз напротив казачьего села Мариинского был на Амуре остров, куда и сгоняли каторжан, которые загодя отрывали в земле глубокие норы, собираясь в них зимовать. Появились на острове и прежние охранники-надзиратели с оружием. Здесь же селились и семьи ссыльных с детьми. В этом содоме люди словно озверели, всюду вспыхивали драки, нависала грязная брань, окрики конвойных, а между шалашами и норами блуждали цыганки, предлагая наворожить лучшую долю:
– Драгоценный ты мой, брильянтовый да яхонтовый, вижу, будет тебе утешение от дамы бубновой, ждет тебя свиданьице с червонным валетом, еще посидишь ты на параше из чистого золота, как король на своих именинах…
Среди костров, на которых варилась похлебка, среди развешанного по кустам арестантского вшивого тряпья бродила седая как лунь женщина с ненормально вытаращенными глазами, в которых навсегда застыл ужас. Иногда она рылась в своем мешке, любуясь катушками ниток, детскими чулочками и шпульками от швейной машинки фирмы «Зингер», а потом начинала кричать, и никто уже не мог ее успокоить… Это была Ольга Ивановна Волохова; о ней беженцы говорили:
– К этой лучше не подходить! У нее мужа и детей самураи штыками порешили. Хоть бы утопилась она, эвон воды-то сколько… На што теперь такой поврежденной век мучиться?
Японцы вернули России Северный Сахалин только в октябре, когда весь остров уже превратился в выжженную безлюдную пустыню. Очевидцы писали, что леса поразительно быстро надвинулись на города и деревни, буйная растительность полезла в прежние сады и огороды, а дикие звери без боязни забегали на улицы, пугая одиноких прохожих. Где же он, благополучный конец нашей истории?
Вот он, этот конец: уже отговорили свое дипломаты в Портсмуте, уже высадились в Одессе сахалинские чиновники, уже обжили свои норы беженцы на Амуре, а Сахалин еще содрогался от выстрелов – война продолжалась, еще не покорились врагам русские патриоты…
Генерал Харагучи распорядился уничтожить отряд Быкова и Филимонова, а генштабиста Жохова взять живым. Валерий Павлович Быков под натиском врагов был вынужден отвести людей с реки Тымь даже назад – к Тихменевке, лежащей южнее, потом партизаны двинулись к берегу Татарского пролива. В перестрелке с японскими кавалеристами Жохов был ранен, и Клавдия Петровна Челищева уделяла ему столько благородного внимания, что Жохову делалось неловко перед Быковым.
– Я вам чрезвычайно благодарен за все, я готов расцеловать ваши святые руки, – говорил он бестужевке, – но вы не забывайте, что в отряде не один только я смотрю на вас восхищенными глазами…
На привалах Жохов часами рассказывал ей о том, какой замечательный роман будет написан им о трагедии Сахалина, и Челищевой было отрадно думать, что она станет героиней будущего романа; девушка, кажется, не понимала, что вниманием к Жохову она невольно осложняла отношения с капитаном Быковым, и без того сложные, обостренные его ожиданием ответа…
На взморье партизаны отыскали девять старых кунгасов, плохо просмоленных; из мучных мешков сшили паруса, и отряд вышел в Татарский пролив, силясь достичь берегов родины. Задули холодные ветры, горизонт побелел – выпал снег. Сильнейший шторм порвал мешковину самодельных парусов; дружинники, поминая всех святых и всех матерей на свете, шапками вычерпывали воду. Пришлось довериться волнам, которые безжалостно выбросили кунгасы обратно на сахалинский берег – возле Арково, где находился японский гарнизон.
– Не высовываться, – велел Быков, – дождемся темного часа, а потом двинемся дальше на север…
К северу от Арково лес переходил в тундру, и до самого мыса Погиби партизаны уже не сворачивали с дороги беглых каторжан. По вечерам, сидя возле костров, в окружении гибельных просторов Сахалина, люди глухим стоном вытягивали из своих душ надрывную и плакучую песню-жалобу:
Умру, в чужой земле зароют, Заплачет милая моя. Жена найдет себе другого, А мать сыночка никогда…Быков поднялся от костра – страшный, разгневанный – и выстрелил из револьвера в пустоту черного неба.
– Хватит выть! – крикнул он. – Я же вас почти уже вывел к мысу Погиби, так потерпите – выведу и к Амуру…
Им повезло: отряд случайно заметили с речной миноноски, дежурившей в проливе, чтобы подбирать с воды уцелевших. Дружинников приняли на борт, тут они стали плакать от радости – бородатые, израненные, запаршивевшие, отряхивая с грязного рванья лесных клопов и вшей. Наконец миноноска вошла в устье Амура, уже виднелись пушки крепостных батарей, и Быков стал кричать в каком-то неистовстве:
– Друзья мои! Смотрите, все смотрите… Я снова вижу наш родной, наш русский, наш флаг великой отчизны!..
Генерал Линевич, верный своему долгу, охотно утвердил список представленных к орденам, который был составлен полковником Болдыревым, и в число героических защитников Сахалина попали мерзавцы и трусы, сделавшие все, чтобы выбраться из болота и «влезть» в плен к врагам. Но поздней осенью из Николаевска поступил дополнительный список с именами дружинника Корнея Землякова, офицеров Таирова, Полуботко, Филимонова, Гротто-Слепиковского, журналиста Жохова и штабс-капитана Быкова. Однако генерал Линевич не утвердил их наград, заподозрив «искательство» посторонних людей.
– Сейчас, когда война закончилась, – рассудил Линевич, – сыщется немало охотников притвориться героями. Но подлинные герои уже награждены, и на этом мы закончим…
* * *
На окраине города Быков снял две комнатенки, очевидно, рассчитывая, что до открытия весенней навигации проживет не один. Но госпожа Челищева отказалась разделить его одиночество, ссылаясь на то, что здоровье капитана Жохова нуждается в ее неусыпных заботах. Жохов же, целиком во власти развития будущего романа, даже не задумывался над тем, что совершает непоправимую ошибку, дозволив Клавочке поселиться с ним рядом. Он просто не придавал этому никакого значения, испытывая лишь благодарность к девушке. Но выражал эту благодарность словами чересчур возвышенными, какие обычный больной мужчина не стал бы говорить своей сиделке.
– Даже усталая, вы очаровательны, – говорил он Клавочке, слушая, как завывает над Амуром метель. – Наверное, вы будете хорошей спутницей в жизни, и я завидую тому мужчине, который станет вашим вечным рыцарем…
Это были только слова, но Клавочка пила их по капле, как пьют драгоценный нектар, она замирала, наслаждаясь их легковесным, зато чудесным звучанием.
Поздним вечером ее навестил штабс-капитан Быков, пригласивший девушку в городской клуб, где чиновники Николаевска обещали дать банкет с маскарадом, а их жены собирались устроить розыгрыш в лотерею. Клавочка отказалась:
– Но как же я покину Сергея Леонидовича? Он так еще слаб после ранения, он так нуждается в моем попечении…
Они стояли в промерзлых сенях, где на стенах были развешаны цинковые корыта и лошадиные хомуты с кнутами. Быков снял один кнут и сильно ударил им в корытное днище – тяжелый металлический звук был невыносим и очень тревожен.
– Я уже не спрашиваю вас, когда вы ответите на мое предложение. Кажется, я слишком доверчив, не так ли? – спросил Быков. – Понимаю и вас. Наверное, будущий роман Сергея Леонидовича гораздо интереснее того романа, в котором сюжет еще не продуман до последней точки…
Челищева зябко куталась в меховую жакетку, не решаясь пригласить Быкова в комнаты, где Жохов, не зная, кто там пришел, шелестел хабаровскими газетами, явно недовольный ее долгим отсутствием. Клавочка, потупясь, сказала Быкову:
– Простите меня, пожалуйста. Я знаю, что вы очень добрый и хороший человек, но я не могу… не могу иначе…
Быков все понял. Он повесил кнут на место и молча вышел. Клавочка вернулась в комнату и вся сжалась, когда с улицы долетел тугой хлопок одинокого выстрела.
– Это он… его не стало, – прошептала она. – Но разве же имела я право обманывать его и себя?
Жохов сначала ни о чем не догадывался.
– Кто сейчас приходил? – спросил он девушку.
– Быков… я ему все сказала.
– Что вы сказали ему?
– Что я живу теперь иными надеждами…
Только сейчас до Жохова дошел смысл ее слов:
– А кто давал вам право надеяться на что-либо? Я знаю, что только один Валерий Павлович обладал надеждами.
– Но я думала, что вы… всегда так любезны…
– Так я со всеми любезен, черт побери!
Клавдия Петровна растерянно бормотала:
– Разве не могла я видеть поводов к чувству…
– Никаких поводов не было! – закричал Жохов, сбрасывая с себя ворох газет и накидывая шинель на плечи. – На мои чувства вы не имели права рассчитывать… это глупо!
– Но я думала, что вы… все ваши слова…
– Дура безмозглая! – врубил ей в лицо Жохов. – Начиталась всякой ерунды, а теперь погубила человека…
Жохов выбежал под всплески метели. Быков был мертв.
Жохов забрал из руки револьвер, салютуя над мертвым раз за разом, пока в барабане не опустела обойма.
Мимо проходил гарнизонный солдат. Остановился:
– Никак пьяный, ваше благородие?
– Если бы пьяный… Помоги мне, братец, оттащить его до комендатуры. Берись за ноги, а я возьму спереди…
Две фигуры, солдата и офицера, шатаясь под тяжкою ношей, уходили прямо в метель, а издали было слышно, как грохочет бальная музыка в клубе, где местные дамы разыграют в лотерею куклу-матрешку, бутылку с шампанским и коробку с дешевой пудрой.
Жохов всю дорогу не переставал ругаться:
– Ну разве можно быть такой правомерной идиоткой? Вот уж где куриные мозги! Недаром я всегда презирал идеалисток… Ей казалось, что любовь – это занятие для ангелов, а ведь любовь – это чисто земное… будто картошка на огороде!
Комендант города велел положить мертвеца на лавку.
– Чего это он? – был задан вопрос.
– Не знаю, – ответил Жохов. – Наверное, обиделся, что ордена ему не дали…
* * *
А в далеком Монте-Карло совсем не чувствовалось зимы; теплые ветры из Марокко оживили приунывшие пальмы, когда здесь появилась странная пара – мсье Крильон с молоденькой Анитой Жонкьер. Никто не задумывался над сочетанием их имен, хотя именно в нем затаился волнующий отблеск погасших маяков Сахалина. Впрочем, публике, заполнившей вечерние залы казино, был глубоко безразличен «сахалинский вопрос»…
В том, как держался господин Крильон, угадывалась уверенность породистого аристократа, а прядь седых волос заметно выделялась в его аккуратной прическе, подчеркивая благородство мужского облика. Его спутница была в стиле модерн («инфернальная» женщина, как тогда говорили), ее белую шамизетку украшал золотистый бисер, а поверх платья она небрежно накинула дорогое манто.
Эта пара сначала постояла у рулетки, внимательно проследив за тем, как проигрался магараджа из Индии, как расплатился за проигрыш молодой шейх из пустынь Аравии. Крильон наклонился к Аните и тихонько пропел для нее:
Не играл бы ты, дружок, Не остался б без порток…Мадемуазель Жонкьер с легким треском сложила веер и, словно играючи, коснулась им щеки своего спутника:
– Так и быть! Ставь, если тебе все еще мало…
Крильон шагнул к столу рулетки, произнеся громко:
– Bankoў!
Крупье внимательно оглядел игрока.
– Рад видеть вас невредимым, – сказал он. – Но в прошлый раз вы были гораздо моложе.
– Не спорю.
– Тогда вы приехали из Женевы, а теперь откуда?
– Прямо из Гонконга.
– Снова изволите играть на все?
– Да. Ставлю, как всегда, на тридцать шесть…
«Инфернальная» Анита Жонкьер, стоя в стороне, с напряженным вниманием следила за шариком, который долго не мог успокоиться в заколдованном круге рулетки, пока не ударился в номер тридцать шесть. В публике и среди игроков возникло беспокойство:
– Чудеса… Откуда такое везение?
– Банк сорван! – провозгласил крупье.
И тут все услышали злорадный, почти ликующий смех.
Это смеялась Анита, юная и красивая женщина, которая под модной прической типа «Клео» старательно укрывала свои безобразно оттопыренные уши. Крупье взмахнул широким траурным покрывалом, закрывая рулетку, словно наложил вечный траур на гроб с усопшим покойником.
– Иди за мной, – велела Крильону красавица, и, склонив голову, он покорно последовал за нею, как верный паж за своей гордой и неприступной королевой.
Вдруг она обернулась к нему. На языке, для всех не понятном (на русском языке!), она четко сказала:
– Больше ты никогда не будешь играть. И вообще отныне ты должен меня слушаться… лишь одну меня! Только меня… Надеюсь, что повторять не придется.
– Да, моя любовь, – ответил Крильон женщине, которую сам же и купил по дешевке на крыльце сахалинского трактира…
Они покинули казино и навсегда растворились в этом неугомонном, сверкающем мире – в мире нищеты и богатства, в мире скромности и подлости, часто меняя свои имена и меняя страны, названия отелей и курортов… Мы потеряли их!
В эпилоге – возвращение старых долгов
Мне никогда не встречался на полках букинистов роман Жохова о сахалинской каторге, и я не знаю, какой же гениальный конец для него он придумал. Время слишком безжалостно к людям, одинаково равнодушное к плохим и хорошим, к талантливым и бездарным. С тех пор прошло много-много лет, никто из моих героев не уцелел, и остался теперь один только я, чтобы сказать то, чего не успели сказать другие.
* * *
Время было тяжкое – лето 1942 года…
Советский консул в Сиднее просмотрел австралийские газеты. Вести были неутешительны: от Воронежа и Барвенково наши войска отжимались к Волге «панцирными» дивизиями гитлеровских генералов – Паулюса и Клейста… «Да, тяжело!» Впрочем, и на Тихом океане положение американцев ничуть не лучше, чем на Восточном фронте. Японская военщина, совершенствуя тактику «прыжков лягушки», быстрыми десантными бросками перемещалась с острова на остров, с атолла на атолл, и теперь возникла прямая угроза беззащитной Австралии.
Над Сиднеем пролился оглушительный ливень. Секретарь доложил консулу, что его желает видеть королева Семнадцати Атоллов, владеющая русским языком.
– Я не знаю такого королевства, а принимать у себя всяких авантюристок у меня нет ни времени, ни желания.
Секретарь сказал, что королева произвела на него впечатление вполне порядочной женщины; она желает передать в советский Фонд обороны сбережения, оставшиеся после ее мужа – короля и владельца Семнадцати Атоллов.
– Что-то я не помню такого государства.
– Его никто не знает, – ответил секретарь, – хотя группу этих живописных атоллов, затерянных в океане, можно отыскать на любой карте мира. Еще в тридцатые годы на них высадился самозванный король, объявивший атоллы своим владением. Он даже издавал там газету, продавая каждый ее экземпляр по цене одной сигареты, и газета Семнадцати Атоллов выходила под странным девизом: «Полиция всех стран, разбегайся!»
– Что за анекдот? – удивился консул.
– Никакого анекдота… В этой газете король объективно отражал события в нашей стране и на фронте, печатал в переводе на английский стихи Симонова, Твардовского и Суркова.
– Откуда он черпал все это?
– На атоллах имелась мощная радиостанция, способная принимать передачи из Москвы, а гимном своего королевства он избрал нашу популярную песню: «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила…»
– Можете не продолжать, – сказал консул. – Наверное, это какой-нибудь белоэмигрант, страдающий приступами ностальгии? Но куда же смотрела Лига Наций? Почему его там не сцапали?
– Пытались! – объяснил секретарь. – Я уже выяснил, что перед самой войной на эти атоллы позарилась Англия, пославшая миноносец для ареста короля Семнадцати Атоллов, но жители островов дали такой отпор пришельцам, что миноносец вернулся в порт Веллингтон, имея немало раненых.
– Даже не верится, – сказал консул. – Но сейчас не такое у нас положение, чтобы отказываться от помощи….
Да! Мы не отказались, и знаменитый Рахманинов давал концерты в помощь героической Красной Армии, в адрес советского Красного Креста нескончаемым потоком шли посылки от эмигрантов, живущих в США, Аргентине или Бразилии, переводили деньги украинцы и духоборы из Канады, бедняки слали анонимные денежные сбережения в самые трудные для нас дни 1941 года: «Вместе с вами плачу кровавыми слезами. Примите от русского – русскому народу в его трудный час». Среди эмигрантов, разбросанных по всему миру, от Патагонии до Аляски, ходили по рукам стихи Георгия Раевского:
Да, какие б пространства и годы До тех пор ни лежали меж нас, Мы детьми одного народа Оказались в смертельный час…– Хорошо, – согласился консул, – я приму королеву. Но в беседе с нею как лучше именовать ее?
– Все королевы имеют одинаковый титул: «Ваше Величество».
* * *
Она представилась лишь именем – Анита.
– Ваше Величество, – приветствовал ее консул, – мне было приятно узнать о святых порывах вашего благородного сердца.
Одетая очень скромно, королева держалась с достоинством, и, наверное, в молодости она была красивою женщиной, если бы ее не портили большие оттопыренные уши. По-русски же она говорила чисто, без какого-либо акцента. Королева просила консула не считать ее белоэмигранткой:
– Мы с мужем покинули Россию еще в пятом году, когда на Сахалине высадились японцы. Сейчас наше королевство уже вошло в сферу боевых действий на океане, недавно к нам заходила поврежденная американская подлодка, мы живем под угрозой захвата атоллов японскими парашютистами.
– Простите, но как вы оказались на Сахалине?
– С матерью, которая искала среди ссыльных мужа и, не найдя его, продала меня первому прохожему, чтобы не умереть от голода… Купивший же меня человек и стал королем Семнадцати Атоллов. Незадолго до своей смерти он просил не принимать от СССР никакой благодарности, не раз повторяя, что возвращает родине старые долги…
– О каких долгах идет речь? – спросил ее консул.
– Я не вникала в эти вопросы, но догадываюсь, что мой муж когда-то был близок к революционным кругам. В эмиграции он внимательно следил за вашими успехами, радуясь им вместе со мною. Вы не думайте, – торопливо добавила Анита, – что мы на своих атоллах жили дикарями среди дикарей. Мы выписывали ваш журнал «СССР на стройке», иногда до нас доходили даже ваш «Огонек» и газеты. Его королевское величество, мой супруг, очень болезненно переживал неудачи на русском фронте. Мне кажется, это и ускорило его кончину. Перед смертью он говорил, что не может купить для русской армии танковую колонну, но он обязан помочь родине чем может…
Анита сказала, что, исполняя волю покойного мужа, она передает Красной Армии большую партию драгоценного на фронте пенициллина и прочих медикаментов, просила принять в дар для советских детей, осиротевших в войне, два контейнера с консервированными соками.
– Это не только мой личный дар отчизне, – сказала Анита, – но и всех жителей, населяющих наше королевство.
– У вас было и население? – удивился консул.
– А как же! Мало ли в мире людей, разочарованных в цивилизации, ищущих покоя от мирской суеты? Мы принимали всех, – сказала Анита. – Даже тех, кто скрывался от правосудия, принимали просто романтиков, наконец, у нас находили приют потерпевшие кораблекрушение возле наших атоллов. Мой муж ввел на островах конституцию, ограничивавшую его королевский абсолютизм, составил гражданский и уголовный кодекс, в котором была только одна жестокая статья.
– Смертная казнь? – спросил консул.
– Нет, любое преступление каралось изгнанием…
Консул встал и от имени своего народа поблагодарил женщину за те пожертвования, которые она сделала ради общей победы человечества над фашистской Германией и самурайской Японией. А потом, когда королева удалилась из его кабинета, он сказал секретарю:
– Черт знает, какие ситуации преподносит нам жизнь!
Консул включил радиоприемник. Сидней повторял недавние сводки. Слышался голос Черчилля: «Стремительность японского нападения превзошла все наши ожидания… Картина весьма мрачная, отчаянное положение, и даже более». В эфире резко вибрировал надломленный голос Рузвельта, говорившего, что потери в этой войне невероятны, никто в США не ожидал такого поворота событий… Консул крутанул ручку настройки, и Берлин отозвался ему лающим голосом Риббентропа, вещавшего, что наличие японских дивизий на восточных границах России «облегчает наш труд, поскольку Россия, во всяком случае, должна держать войска в Восточной Сибири в ожидании неизбежного японского нападения!»
Консул раздраженно выключил радиоприемник.
– Все равно, – сказал он, – мы обязательно победим…
* * *
Заключив с нами пакт о нейтралитете, Япония исподтишка готовила нападение на СССР по секретному плану «Кантокуэн» – удар мощной Квантунской армии со стороны Дальнего Востока. Среди самурайской военщины стало очень модным выражение: «Не опоздать на автобус!» – не опоздать к разделу мира, который готовила гитлеровская Германия, союзная Японии.
Летом 1942 года они, казалось, были близки к тому, чтобы первыми вскочить в этот политико-стратегический «автобус»: вермахт, лязгая железными сцеплениями гусеничных траков, уже выкатил свои танки на берега Волги.
Но в Токио скоро поняли, что дела у немцев складываются совсем не так, как мечтал о них Гитлер в светлые лунные ночи. От обгорелых руин Сталинграда вермахт был отброшен назад, следовательно, «автобус» ушел по историческому маршруту без них – без самураев!
Вынужденные отложить нападение на СССР, японцы все время войны вредили нашей стране где только могли. Япония задерживала и топила наши торговые корабли, нарушая коммуникации между Владивостоком и портами Америки; японский флот, громыхая броней и выпуская с подлодок торпеды, запирал для нас международные проливы, выводящие в открытый океан.
И до самого конца войны с Германией мы не могли быть спокойны за безопасность наших дальневосточных рубежей. Япония устраивала провокации у наших границ, обстреливала из пушек и пулеметов советскую территорию, она до самого краха гитлеризма вела шпионаж в пользу Германии.
В самый канун капитуляции фашизма, 5 апреля 1945 года, Москва заявила о денонсации (непродлении) пакта о советско-японском нейтралитете, уже не раз нарушенном заправилами Токио. По всей Европе вылавливали военных преступников для будущего процесса в Нюрнберге, а вечером 8 августа того же года японский посол в Москве получил заявление Советского правительства, начинавшееся словами: «После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась единственной великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны…» Отправляя это заявление в Токио, посол сказал:
– Наш автобус сковырнулся в пропасть…
Да! Понадобилось всего двадцать три дня, чтобы Япония была разгромлена. В августе, когда тысячи японских солдат и офицеров бросали свое опозоренное оружие под ноги наших десантников, освободивших Северный Китай и весь Сахалин, в кабинете консула снова появилась владычица Семнадцати Атоллов.
На этот раз Анита выглядела даже торжественно.
– Ну вот и все! – возвестила она. – Можете меня поздравить: отныне я уже не королева… Год назад я продала свои атоллы с плантациями под размещение на них базы американских подлодок и теперь могу быть гораздо щедрее, чем раньше.
Анита выложила перед консулом чек на большую сумму в долларах и сказала, что ее дни, наверное, уже сочтены:
– Какая там Анита? Зовите меня Верой Ивановной…
Ей было жаль, что муж не дожил до этих дней:
– Он был бы счастлив узнать, что японская колония Карафуто снова сделалась русским Сахалином, а город Отомари опять будет называться Корсаковском… Да, мне известно, – сказала Вера Ивановна, – что до самого Дня Победы нефть Северного Сахалина заполняла баки советских танков, дошедших до Берлина, сахалинский уголь распалил пламя котельных топок кораблей, высаживавших десанты на причалы Порт-Артура… Вы бы знали, как мне хочется плакать! Там, где отгремели раскаты ваших пушек, давно-давно отзвучали наши слабые выстрелы. Мне, сопливой калужской девчонке, и не снилась такая судьба, какая выпала на мою долю… Нет, не стоит меня благодарить: это я благодарю свою родину за право называться русской!
Она ушла, и консул, стоя возле окна, задумчивым взором пронаблюдал, как эта стареющая женщина навечно затерялась в разноликой уличной толпе…
Второго сентября Япония подписала акт о капитуляции.
На далеком Сахалине, ставшем советским, снова ярко разгорелись старинные маяки – Крильон и Жонкьер.
Они освещали путь кораблям, уходящим далеко…
После этой войны земля Сахалина, не раз омытая нашей кровью, украсилась памятниками вечной славы – в честь героев, павших за освобождение острова, и эти памятники неслышно сомкнулись с памятниками тем, кто еще раньше сложил свои головы на этой многострадальной земле, которая уже никогда не станет для нас каторгой… Неужели мне не удалось найти конец для романа?
Старая история с новым концом
ОЧЕВИДНО, с годами человек острее чувствует личную соприкосновенность к событиям своего бурного века.
Пятый класс школы я заканчивал перед самой войной и тогда же впервые прочитал повесть Бориса Лавренева «Стратегическая ошибка» о прорыве летом 1914 года германских крейсеров «Гебен» и «Бреслау» в Черное море. Ограниченный в своих познаниях, я следил лишь за развитием сюжета и многое не понял, но сама фабула повести надолго осталась в сердце.
Сейчас мою память снова тревожат старые, еще детские воспоминания о «стратегической ошибке» британского Адмиралтейства, которую лучше назвать политической диверсией. Сам хлебнувший морской воды и многое заново переосмысливший, я теперь могу судить о событиях прошлого с гораздо большими подозрениями…
Итак, читатель, я приглашаю тебя в жаркие дни лета 1914 года, когда молодой Уинстон Черчилль занимал в Уайтхолле руководящий пост первого лорда британского Адмиралтейства.
* * *
Загадки этой истории возникли за год до начала войны, Однажды в Афинах встретились офицеры немецких и английских кораблей, дислоцированных в Средиземном море. Было ясно, что за столами банкета расселись будущие соперники в борьбе за господство на морях, и тем более подозрительно звучали доводы англичан, убеждавших немцев не выводить «Гебен» из Средиземного моря.
– Когда суп закипает, – намекали они, – хорошая кухарка не отходит от горячей плиты. Если же Германия имеет свои интересы на Ближнем Востоке, то вашему «Гебену» лучше оставаться в этом пекле, нежели бесцельно торчать в Гамбурге…
Поверх отчета об этой встрече в Афинах рукою кайзера Вильгельма II была наложена скоропалительная резолюция: «Близится возможность раздела Турции, и потому корабль, – имелся в виду „Гебен“, – на месте абсолютно необходим». Гросс-адмирал Альфред фон Тирпиц осмелился возражать императору:
– Ваше величество следует советам англичан, наших эвентуальных противников, желающих ослабить Германию в Северном море, тогда как британская эскадра остается на Мальте, и, случись политический конфликт, она в два счета разломает «Гебен» заодно с крейсером «Бреслау».
– Случись конфликт, – задиристо отвечал Вильгельм II, – и наши «Гебен» с «Бреслау» окажутся нужнее возле берегов Сирии или Египта, наконец, их появление возле Босфора заставит очнуться от сладкой дремоты весь мусульманский мир…
«Кайзер, – писал Тирпиц, – особенно гордился нашей средиземноморской эскадрой, я же весьма сожалел об отсутствии „Гебена“ в Северном море».
Прошел год. Нервозный, иссушающий июль 1914‑го породил знаменитый «июльский кризис», возникший после выстрела в Сараеве, который наповал сразил эрцгерцога Франца Фердинанда. Мир засыпал в тревоге, ибо в Берлине и в Вене отчетливо, как никогда, постукивали каблуки генштабистов. «Все движется к катастрофе, – сообщал Черчилль жене. – Мне это интересно, я испытываю подъем и счастье…»
Италия тогда примыкала к союзу с Германией и Австрией. Но итальянцы рассуждали: «Нам до этого эрцгерцога – словно до тухлой сардинки». Июльские дни пылали жарой, когда на рейде адриатического порта Бриндизи неслышно появились две затаенные тени, невольно пугающие итальянцев своим грозным видом.
– Немцы! – говорили жители. – Не хватает им своей колбасы, так они притащились за нашими макаронами…
«Гебен» был линейным крейсером (почти линкором), а «Бреслау» считался крейсером легким. Их якоря прочно вцепились в грунт. Командовал ими контр-адмирал Вильгельм Сушон. В его салоне приятно пахло апельсинами, свежий ветер шевелил бланком расшифрованной телеграммы с предупреждением о близкой войне. Сушон вызвал флагманского механика.
– Бикфордов шнур подожжен, – сказал адмирал, – и не сегодня завтра мир будет взорван. А что делаете вы? Почему машины «Гебена» едва выжимают восемнадцать узлов?
Вопрос был непрост. Английская разведка сработала плохо, в Лондоне продолжали думать, что «Гебен», лучший в мире линейный крейсер, способен выдерживать скорость 24–28 узлов. Но флагманский механик, вздохнув, огорчил Сушона:
– Увы, в котлах потекли трубки, и даже восемнадцать узлов мы выжмем лишь на короткой дистанции. Необходим капитальный ремонт, для чего следует убраться в гавани рейха.
– В уме ли вы? – вспылил Сушон, потрясая перед механиком бланком радиограммы. – Берлин полагает, что Гибралтар уже перекрыт для нас, а британский адмирал Траубридж держит свои крейсера на Мальте с машинами «на подогреве»…
Механик поклялся Сушону, что машинная команда «Гебена» не ляжет спать, пока не заменит в котлах текущие трубки:
– Я понимаю, что без лишних узлов нам не выдержать гонки с отличными «ходоками» адмирала Траубриджа…
Предварительно погасив огни, тяжко дыша соплами воздуходувок, германские крейсера медленно перетянулись в Мессину. Французская эскадра адмирала Ляпейрера не могла выставить против «Гебена» достойного соперника, но Траубридж держал на Мальте три крейсера, способных сообща разделаться с «Гебеном», хотя за один бортовой залп он выбрасывал сразу 3260 килограммов рвущейся стали…
В кают-компании Сушон вполне здраво рассуждал:
– Уайтхолл способен усилить Траубриджа хотя бы еще одним крейсером, и тогда от нашего могущества останется на дне моря паршивая куча ржавеющей стали. Италия, союзная нам, страшится войны, испытывая давнее отвращение к Габсбургам, угнетавшим ее. Боится войны с Россией и Турция, не раз уже битая греками и славянами. Сейчас многое зависит от решения первого лорда британского Адмиралтейства…
Таковым и был в ту пору Уинстон Черчилль.
– Адмирал Сушон, – говорил он, – не такой уж глупец, чтобы протискиваться через Гибралтар, и мы не позволим ему это сделать, ибо, усиливая флот Открытого моря кайзера, «Гебен» и «Бреслау» представят несомненную угрозу флоту нашей метрополии. Самое лучшее – открыть перед Сушоном лазейку на восток, загнав немцев в Черное море, и пусть с крейсерами кайзера возятся русские… Для нас, англичан, двойная выгода от такой комбинации: мы обезопасим подступы с моря к Суэцу, а русский флот, связанный единоборством с «Гебеном», не осмелится появиться на берегах Босфора!
Траубридж получил приказ: издалека следить за германскими крейсерами, но атаковать их не следует. Франция же тем временем совсем не думала о «Гебене» и «Бреслау», занятая активной переброской резервов из Алжира в Марсель, чтобы спешно укрепить свой фронт на Марне свежими дивизиями.
1 августа «бикфордов шнур», запаленный от выстрела в Сараеве, дотлел до конца, и германский посол граф Пурталес от имени великой Германии объявит войну народам великой России. Теперь на Певческом мосту, где располагалось министерство иностранных дел, сразу ощутили, что возня союзников с «Гебеном» и «Бреслау» может отозваться залпами большой мощи в наших водах. Министр Сазонов даже не скрывал государственной тревоги, говоря озабоченно:
– Срочно! Нашим послам усилить политическое давление в Лондоне и Париже, дабы союзные флоты не позволили германским кораблям прорваться в Дарданеллы, где их появление сразу же придаст Энверу-паше излишние военные амбиции.
Впрочем, военный министр Энвер-паша давно укрепил эти амбиции еще в Берлине, а свои усы он закручивал на манер германского кайзера. Еще до войны, чтобы оплатить покупку кораблей для турецкого флота, он нагло лишал чиновников жалованья, а женщин заставлял продавать свои волосы. Политическая ось «Стамбул – Берлин» была выкована заранее, и кайзер обещал пантюркистам Тифлис на Кавказе, Тевриз в Персии, Каир в Египте. Так что Сазонов недаром опасался турецких амбиций.
– Мы, русские, сознательно бережем нейтралитет Турции, как провинциальная гимназистка бережет свою невинность, – говорил он. – Но «Гебен» может спутать все карты в той большой игре, которая называется Большой Политикой…
Возможно, ибо один «Гебен» сразу в два раза увеличивал мощь всего турецкого флота. В здании у Певческого моста состоялась деловая беседа с офицерами Главного морского штаба. Чиновники МИДа еще судили о лирике союзнической чести и рыцарской верности договорам, но моряки без лишних эмоций сразу предупредили Сазонова, что Черноморский флот не имеет таких мощных кораблей, чтобы расправиться с «Гебеном»:
– Можно понять французов, озабоченных перекачкою дивизий из Алжира в Европу, но… О чем думают в Лондоне? Первый лорд Адмиралтейства, по сути дела, повесил замок на ворота Гибралтара, не выпуская немцев на просторы Атлантики, его крейсера стерегут подходы к Адриатике, чтобы Сушон не укрылся в австрийском Триесте. Зато сэр Черчилль выставил перед «Гебеном» и «Бреслау» широко открытую мышеловку, украсив ее куском жирного сала… Таким лакомым куском для адмирала Сушона будет являться прорыв в наше Черное море!
Сазонов закончил консилиум, поставив диагноз:
– В правящих кругах Турции еще сильна партия разумных людей, желающих сохранить нейтралитет, и Турция вряд ли рискнет воевать против нас заодно с немцами. Однако появление германских крейсеров в Босфоре может послужить провокацией для того, чтобы партия войны победила сторонников мира…
Указывая на опасность «Гебена» и «Бреслау», Сазонов заклинал правительства Англии и Франции: «Мы считаем очень важным для нас, чтобы прохождение (в Босфор) этих двух кораблей было предотвращено вами… силой!»
* * *
«Гебен» и «Бреслау» легко распарывали встречные волны.
Сушон, деловито-сосредоточенный, постукивал пальцами по светлым табло тахометров, в колебании стрелок которых указывалось число оборотов гребных валов. При этом он заметил:
– В котлах все течет по-прежнему, и как бы нам не пришлось делать капитальный ремонт в Стамбуле…
Берлин каждый час тревожил Сушона радиограммами срочных депеш, и каждая из них противоречила другой. Адмирал пускал их бланки на ветер, жарко обвевающий крейсера от желтых берегов близкой Африки.
– Сейчас, – говорил адмирал на мостике, – в Берлине каждый прыщ возомнил себя стратегом морской войны. Сидящие на берегу возле каминов любят давать советы тем, кто болтается в море. Я не решил, что делать, но я буду делать лишь то, что подскажет мне интуиция и …может быть, сам Тирпиц!
Мир уже трещал по всем швам, а эфир напоминал свалку позывных и ответных сигналов. В этом чудовищном хаосе шумов и разрядов французские радисты Туниса умудрились выловить едва попискивавшие, словно придавленные мыши, переговоры «Гебена» с «Бреслау». Адмирал Ляпейрер выслушал доклад:
– Немцы шляются где-то близко, – предупредили его. – Но установить их точные координаты невозможно…
Ляпейрер держал флаг на дредноуте «Курбэ», который плоским блином разлегся посреди безмятежного Тулонского рейда.
– Хоть кто-нибудь, – взывал он, – может ли четко дать мне ответ, началась ли война Франции с Германией? Париж советует мне ловить «Гебена», но при этом умники Парижа указывают ловить его только при открытии боевых действий на море.
– Россия уже вступила в войну, – отвечали адмиралу.
– Так это русские: им всегда что воевать, что мириться – один черт, лишь бы они были первыми… Срочно свяжитесь по радио с англичанами на Мальте, что они скажут?
– К великому сожалению, – отвечали адмиралу, – Париж еще не дает нам согласия на вскрытие пакета с секретным радиокодом для связи с нашими союзниками…
В ночь на 3 августа «Курбэ» покинул Тулон. За кормою флагмана, будто на привязи, тащилась эскадра французских кораблей, которые двигались к берегам Алжира. В это время Ляпейрер был уверен, что немцы маневрируют возле Мессины, но англичане считали, что Сушон уже вырвался в открытое море.
В салоне флагманского «Индомитэбла» адмирал Траубридж вникал в суть директивы, полученной от Черчилля, который указывал ему: «Ваша цель – это „Гебен“. Следуйте за ним, куда бы он ни пошел… война, видимо, неизбежна». Траубридж размышлял вслух перед Кеннеди, командиром «Индомитэбла»:
– Сушона видели огибающим Сицилию с юга. Конечно, он побаивается быть запертым в Адриатике на австрийских базах и, возможно, станет прорываться в Атлантику – даже под пушками Гибралтара… Не так ли, дружище?
– Сейчас, – хмуро отреагировал Кеннеди, – важно знать позицию Италии: останется ли она третьим, который хохочет, когда двое дерутся? Кому, нам или своим союзникам, она откроет ворота Мессинского пролива для прохода кораблей?
Впрочем, сама Англия еще хранила свой гордый нейтралитет. А на французской эскадре по-прежнему даже не знали, что Германия уже объявила войну Франции. На рассвете 4 августа адмирала Ляпейрера не слишком-то вежливо разбудили:
– Срочная радиограмма из Алжира!
– О боже, что там еще стряслось? Читайте.
– «Гебен» уже громит своим главным калибром гавань Филиппвиля, а «Бреслау» обстреливает наш порт Бона…
На «Курбэ» подняли пары, заторопившись на запад, но там немецких крейсеров уже не было. Зато их обнаружили англичане, и при виде «Гебена», спешащего на восток, в рубках «Индомитэбла» возникло немалое смятение. Кеннеди спрашивал:
– Между нами войны еще нет, и давать ли мне салют, дружески приветствуя германского адмирала Сушона?
Траубридж через оптику дальномера оглядел серые тени немецких крейсеров, грузно летящих в сторону Сицилии:
– Если мой коллега Вилли Сушон не поднял на «Гебене» своего адмиральского флага, значит, и нам давать салют не надобно. Срочно радируйте в Лондон, что я уже повис «на хвосте» у Вилли и выпускать его из своих рук я не собираюсь…
Уайтхолл отвечал ему так, что от удивления можно было упасть с мостика: «Гебен» советовали задержать, сделав ему предварительное предупреждение. Кеннеди возмутился:
– «Гебен» – это же не домашняя кошка, чтобы хватать ее за шкирку! Предупреждение возможно только бортовым залпом, на который он ответит нам тем же, а тогда… война?
Эфир над Средиземным морем снова вздрогнул – Черчилль повторно радировал, что крейсера Сушона лучше оставить в покое до 5 августа, когда британский кабинет собирается объявить войну Германии. Сигнальная вахта доложила Траубриджу:
– Германские крейсера выбросили из труб хлопки густого дыма – буруны увеличились… уходят! Да, на всех оборотах винтов «Гебен» и «Бреслау» отрываются от нас…
Ясно, что Сушон рвался прямо в Мессинский пролив, куда англичане боялись соваться. Траубридж спокойно досмотрел, как в синеве моря утонули мостики и трубы немецких кораблей:
– Нам тоже отходить малым ходом… на запад.
Потеряв визуальный контакт с Сушоном, Траубридж отправил свои крейсера бункероваться углем в Бизерту, а легкий крейсер «Глостер» послал патрулировать возле Мессинского пролива. Между тем Сушон уже прибыл в Мессину, где комендант порта напомнил ему, что Италия остается нейтральной:
– Моему бедному народу даже в мирные дни не хватает на макароны, так зачем нам ввязываться в ваши дела? Будет лучше, если вы уберетесь отсюда в двадцать четыре часа.
– Мы обещаем вам это, – успокоил его Сушон…
Ночью он был разбужен шифровкой от гросс-адмирала Тирпица: СЛЕДОВАТЬ В ДАРДАНЕЛЛЫ. Правда, Турция, еще не завершив мобилизации, прикидывалась сугубо нейтральной, но маска миролюбия сама упадет с лица султана, когда под окнами его гарема с грохотом положат якоря мощные германские крейсера… Сушон между тем не скрывал своего беспокойства.
– Меня, – говорил он, – сейчас тревожит самый насущный вопрос: куда делся Траубридж? Итальянские рыбаки болтают, будто его крейсера стерегут нас возле берегов Греции, дабы не допустить нас в Адриатическое море. Охотно верю, что это похоже на правду, но тут возможны всякие вариации на извечную тему: как полизать меду, чтобы тебя не покусали пчелы?
– В любом случае, – твердо решил Сушон, – гросс-адмирал Тирпиц прав: нам открыта дорога только на восток…
Покинув Мессину, «Гебен» и «Бреслау» ринулись на прорыв, их бронированные форштевни расталкивали сумятицу волн.
– Горизонт чист! – докладывали сигнальщики.
– Это подтверждает мое мнение, – говорил Сушон, – что Траубридж не желает связываться с нами… Кажется, его не будет беспокоить лишь наше движение на восток.
Один только легкий крейсер «Глостер», неожиданно появившись из утренней мглы, никак не отлипал от германских крейсеров, постоянно радируя на Мальту о своих маневрах. Конечно, в немецких экипажах он вызывал лишь жалкое презрение:
– Врезать бы ему из главного калибра, чтобы отстал… Нашему «Гебену» достаточно рыгнуть, чтобы эта английская шавка упала в обморок, задрав кверху лапки…
Однако доблестный «Глостер» сам врезал снаряд под ватерлинию «Бреслау», и тогда вмешался «Гебен», всей броневой мощью вставая на защиту слабого приятеля. Услышав рычание его орудийных башен, «Глостер» увильнул в сторону, тем более что Траубридж радировал ему: Не рисковать. А в рубках «Гебена» штурмана уже раскладывали карты Эгейского моря:
– Стоит проскочить мыс Матапан, и все тревоги этой сволочной жизни останутся далеко за кормой, а мы попадем в блаженную страну восточной неги и пылких одалисок…
Вечером 10 августа турецкий султан Мехмед V из окон своего дворца разглядел серые махины «Гебена» и «Бреслау».
* * *
Русский посол в Стамбуле заявил великому визирю:
– Согласно международным правилам корабли воюющих держав могут находиться в нейтральных портах, каковыми являются ваши, не долее одних суток, после чего Россия вправе требовать от вас разоружения немецких кораблей, интернирования их экипажей.
На этот демарш дипломата визирь султана отвечал:
– Все верно! Но ваш протест, господин посол, попросту неуместен, ибо пришедшие к нам «Гебен» и «Бреслау» уже давно куплены Турцией для нужд своего флота…
Вслед за этим эскадры Англии и Франции блокировали выход из Дарданелл в Эгейское море, словно запечатали пробкой бутылку; тем самым они давали понять Сушону, что ему лучше искать легких побед на водах Черного моря. Сазонов в эти же дни имел неприятную беседу с английским послом Бьюкененом:
– Не скрою, нам будет нелегко объяснить русской общественности, каким образом ваш могучий флот позволил крейсерам Германии благополучно проскочить в Дарданеллы, создав угрозу на юге России. Наши морские круги тоже не понимают этого!
Бьюкенен отвечал, что для него остается непостижимым странный, почти нелепый прорыв немецких крейсеров:
– Осмеливаюсь думать, это случайное совпадение самых непредвиденных обстоятельств, что никак не может опорочить незапятнанной чести флага королевского флота.
– Возможно, – кивнул Сазонов, как бы нехотя соглашаясь с послом. – Но для нас, русских, несомненно одно: Россия обретает на Черном море опасного противника, а флот султана отныне правильнее именовать германо-турецким…
Англия была возмущена, газеты открыто винили Черчилля, а крикливые ораторы в лондонском Гайд-парке призывали:
– Адмирала Траубриджа пора тащить на виселицу…
Но сначала был награжден орденом Бани командир крейсера «Глостер» («за дерзость и самообладание»), затем потянули к ответу и адмирала Траубриджа. Суд британского Адмиралтейства жесток. За время своей очень долгой истории он приговорил к повешению множество адмиралов за нарушение ими инструкций, хотя именно эти нарушения и приводили Англию к победам. Но Траубриджа трибунал оправдал, ибо, оказывается, секретные инструкции Адмиралтейства им нарушены не были…
Между тем Энвер-паша настырно, почти с мольбою просил Сушона принять командование над всем турецким флотом:
– Чин вице-адмирала вам заранее обеспечен, только устройте мне замечательный повод для нападения на Россию…
С гафелей крейсеров были спущены германские флаги, на мачты взметнулись турецкие флаги с полумесяцем. В кубриках немецкие матросы, хохоча во все горло, толпились возле зеркал, примеряя на свои головы красные мусульманские фески.
– Ого! – веселились они. – Мы так прекрасно выглядим, что теперь уже не стыдно показаться на бульварах Одессы…
Турция еще колебалась между войной и миром, но Берлин давил на Сушона, а Сушон давил на турок:
– Я пришел сюда не ради того, чтобы любоваться синевою Босфора. Каждый день, проведенный здесь без пользы для общего дела, я считаю позором для себя… и для вас!
Теперь Сушон угрожал не только черноморцам – калибр его орудийных башен устрашал и султана, говорившего визирю:
– Боюсь, если мы не объявим войну России, этот Сушон оставит от моего Сераля груду дымящихся головешек…
Судьба войны отныне целиком находилась в руках Сушона, который сознательно провоцировал Турцию на войну:
– Если войны нет, ее надо сделать. Уверен, что два-три хороших залпа по крышам Одессы – и Турецкая империя сама свалится в войну, как слепец проваливается в колодец…
22 сентября Сушон получил пакет от Энвера-паши, который указывал, что всякое терпение иссякло: «Добейтесь господства на Черном море, найдите русский флот и атакуйте его без объявления войны…» Сушон сразу оживился:
– На турецкие эсминцы «Тайрет» и «Муавенет» посадить немецкие экипажи, но флаги нести русские. Огней не гасить!
В три часа ночи они ворвались в гавань Одессы, торпедируя русские корабли и обстреливая спящий город. Одновременно с этим «Гебен» обрушил снаряды на Севастополь, но отполз в сторону, получив три ответных снаряда с береговых батарей. В ту же трагическую осень «Гебен» огнем с моря разрушил вокзал и порт в Феодосии, а крейсер «Бреслау» бомбардировал Новороссийск. Немецкие снаряды рвались на улицах Поти…
Английский посол Бьюкенен только пожимал плечами:
– Casus belli! Это формальный повод к войне…
В ноябре черноморские броненосцы вступили в открытый бой с «Гебеном» у мыса Сарыч. «Гебен» получил прямые попадания в корпус, в команде было столько убитых и раненых, что Сушон, прикрываясь «шапками» дыма, счел за благо ретироваться. Но скоро отомстил обстрелом Батуми. Однако в конце года черноморцы с ним расквитались, поставив мины по его курсу, и флагман турецко-германского флота дважды содрогнулся при взрывах, после чего и потащился в ремонт, надолго выбитый из игры…
Под конец войны и в канун революции русские моряки все-таки загнали «Гебен» и «Бреслау» в теснину проливов, где они и прятались, словно крысы в норе, зализывая свои раны.
…Адмирал Вильгельм Сушон скончался в 1946 году, пережив гибель монархии Гогенцоллернов и крах гитлеровского режима. О нем все забыли… Я вспомнил о Сушоне, когда писал роман «Моонзунд»: ведь осенью 1917 года эскадра Сушона прорывалась к нашему Петрограду. Но это еще не конец истории.
* * *
Уходящий от нас XX век оказался слишком трудным для каждого человека, и не все секреты его, военные и политические, расшифрованы до конца. Пусть читатель не посетует, если я снова вернусь к себе – крохотной песчинке, затерявшейся в стихийном хаосе грандиозных событий.
Недавно я задал себе вопрос: что я делал в феврале 1942 года? В ту пору я умирал от голода в блокированном Ленинграде, не имея даже пайки хлеба по карточкам, зато в конце месяца меня щедро «отоварили» 25 граммами какао в порошке… Я выжил назло всем чертям! Я выжил, еще не зная тогда, что именно в феврале 1942 года «стратегическая ошибка» Уайтхолла получила скандальное продолжение, о чем я тоже писал в своей документальной трагедии «Реквием каравану РQ-17».
Да, это был скандал, весьма схожий с тем, какой случился в начале первой мировой войны. Академик И. М. Майский, тогдашний посол в Лондоне, писал, что «два крупных германских военных судна „Шарнхорст“ и „Гнейзенау“, ремонтировавшихся в Бресте (французском), прорвавшись через Ла-Манш и Па-де-Кале, ушли в Германию. Англичане были потрясены как необыкновенной дерзостью немцев, так и поразительной близорукостью собственной обороны…». Британское Адмиралтейство, столь гордое своими традициями и умением многое предвидеть заранее, совершило, казалось бы, непростительный промах. Гитлеровские крейсера удачно проскочили под самым носом английской брандвахты и укрылись в гаванях своего «рейха». Англичане опять были разгневаны, требуя наказать виновных.
А кого наказывать? Во главе британского кабинета стоял все тот же Уинстон Черчилль. «Он выглядел плохо, был раздражителен, обидчив, упрям. Депутаты (парламента) были критичны, взвинчены. Встречали и провожали Черчилля плохо», – писал Майский, невольно придя к выводу, что прорыв крейсеров вызвал правительственный кризис.
Но еще подозрительнее казался прорыв линкора «Тирпиц» в фиорды Северной Норвегии, где этот лучший линкор Гитлера растворился в заполярных туманах как грозное привидение. Бросивший якоря на стоянке в Нарвике, на самом краю Европы, линкор уже не являл собой столь зловещую угрозу для Англии, ибо вся его мощь была направлена против нашего Северного флота.
Чувствуете, как невольно смыкаются, будто копируя одно другое, события в двух мировых войнах? И в обоих случаях видна рука Черчилля, отводящего грозу от берегов Англии, чтобы осложнить тяготы войны для нас, для русских…
А ведь нам тогда было и без того невыносимо трудно: наши войска отступали, кровью писались первые страницы Сталинградской битвы. Северный флот не обладал тем могуществом, как английский, чтобы вступать в единоборство с «Тирпицем» и «Шарнхорстом», а именно эти две «большие дубины» Гитлера постоянно угрожали нам из фиордов Норвегии.
Дальнейшее хорошо известно. Летом 1942 года «Тирпиц» вышел на перехват союзного каравана, но был атакован нашей подводной лодкой К-21, после чего он надолго затаился в фиордах – на ремонте. Мне памятен и морозный декабрь 1943 года, когда из бухты Ваенга, где базировались наши эсминцы, ушла в море английская эскадра адмирала Фрейзера и вернулась обратно в Баенгу после того, как разделалась с одиноким «Шарнхорстом». Я не забыл заснеженные пирсы гавани, вдоль которых протянулись длинные ряды носилок, на которых стонали раненые английские моряки: они своей кровью расплачивались за политические «форсмажоры» своего правительства.
«Стратегические ошибки» британского Адмиралтейства пришлось исправлять совместными усилиями союзных флотов, и всей правды о коварстве Уинстона Черчилля мы, конечно, еще не знаем. Но злокозненная подоплека давних событий еще долго будет привлекать внимание историков флота и тех политиков, которые не разучились выискивать аналогии между тем, что было вчера, что есть сегодня, и тем, что может случиться завтра…
Будем внимательны к истории. Она – наш учитель!
Примечания
1
Ян Собеский – король Речи Посполитой в 1674–1696 гг. В 1686 г. заключил договор с Россией, известный под названием «Вечный мир» (прим. ред.).
(обратно)


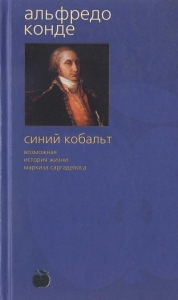
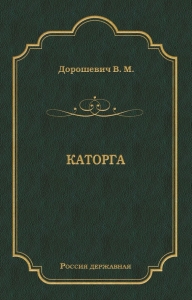


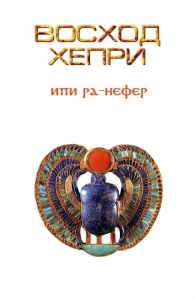
Комментарии к книге «Каторга», Валентин Пикуль
Всего 0 комментариев