Андрей Ветер Время крови
В книге использованы авторские иллюстрации.
Край света (1765)
Шаман
Плясавший возле костра человек был одет в сильно потёртые узкие штаны из грязной оленьей шкуры. Его голый торс, вымазанный медвежьим жиром, выглядел щупло, кожа на груди и животе лежала вялыми складками, похожая на мокрую коричневую бумагу, обвислые мышцы на руках зыбко подрагивали. И всё же его внешность внушала страх. Лицо, мелко изрезанное морщинами, сверкало чёрными злыми глазами, подёргивался квадратный подбородок, поросший жидкими седыми клочками. Почти совсем лысый череп не отличался гладкостью и был будто весь измят чьими-то жестокими пальцами; за ушами и над шеей свисали сальные волосы, длинные и редкие.
Человек держал в одной руке бубен, в другой – короткую палку, которой он ритмично стучал в бубен. Сильно согнутые в коленях ноги косолапо перескакивали то вперёд, то вбок, следуя не ритму бубна, а какому-то иному звуку, не слышному никому из присутствовавших людей, кроме шамана.
Вокруг огня расположились на расстеленных шкурах молчаливые фигуры, облачённые в прокопчённые кожаные одежды, и следили узкими глазами за каждым движением старого танцора. Их круглые лица выражали неподдельный интерес и напряжённое внимание. Пламя то становилось ярче и выхватывало фигуры зрителей из темноты жилища, со стен которого свисали меховые связки и всевозможные ремни, то притухало, и люди почти исчезали во мгле. Только их глаза продолжали блестеть.
Старик прорычал что-то и отложил бубен. Постояв некоторое время в полном молчании, он начал напевать какую-то неровную мелодию, иногда переходя на крик, иногда – на шёпот. Его руки парили в воздухе, как бы нащупывая невидимые предметы. Затем он вдруг нагнулся к земле и подхватил круглый камень, валявшийся под ногами. Не переставая двигаться, старик поднёс камень ко рту, подышал на него и внезапно резко отвёл обе руки от лица, стиснув камень между ними. Его ладони двигались так, словно перетирали камень, и через несколько минут из голых рук стали сыпаться мелкие камешки.
Сидевшие вокруг продолжали хранить молчание, но многие задвигались, возбуждённо закачали головами, вытянули шеи, впитывая каждой порой кожи всё, что происходило на их глазах. Камешки не переставали сыпаться из рук шамана, и вскоре на полу образовалась целая груда мелких камней.
Старик неожиданно рухнул на колени и стукнулся лбом о землю. Его ладони разжались, и все увидели, что подобранный им с земли камень остался таким же целым и гладким, как в начале таинственной пляски. Куча камешков у его ног пришла через его руки из небытия.
– О, Седая Женщина силён, как прежде! – донёсся голос из темноты.
Шаман медленно оторвал лицо от земли и взглянул на костёр. Выпустив камень из ладоней, он рукой почесал у себя в паху, затем вытянул её в сторону, лениво шевеля пальцами.
– Принесите мне голову, – проговорил он скрипучим голосом.
Кто-то быстро подбежал к нему, держа за рога только что отрезанную оленью голову. Голова тяжело стукнулась о землю, из её рта вывалился, как мокрая лента, язык. Шаман мелко задрожал, притронувшись к оленьему языку, вялые мышцы на его спине пошли волнами, зад приподнялся, подрагивая. Лицо старика вжалось в землю, и оттуда донеслись его слова:
– Олень скажет слова.
Человек, бросивший шаману оленью голову, ловким движением отсёк язык животного под корень и вложил его в вытянутую руку шамана. Тот принял его на ладонь, медленно сел, обвёл невидящими глазами всех собравшихся и запихнул олений язык себе в рот. Теперь его отталкивающее лицо, со свесившимся изо рта длинным языком, стало ещё отвратительнее. Шаман принялся раскачиваться, болтая языком, как маятником, и громко мыча.
Прошло изрядно времени, прежде чем старик прервал своё мычание. Опустившись головой к земле, он отрыгивающими движениями освободил рот от оленьего языка и проскрипел:
– Они уйдут, мы прогоним их. Олень говорит, что белые люди уйдут и сожгут свою крепость…
Утро
Ночь, орошённая лунным блеском, постепенно отступала, долина наполнялась ровным светом, пространство пропитывалось серебристой дымкой. Воздух стоял неподвижный, тихий.
– Теперь уж совсем рано светает, – проговорил высокий молодой человек, сладко потягиваясь и почёсывая подбородок, покрытый редкой порослью. – И ночи уже не столь тёмные.
– Ежели до зимы вдруг доживёте, то удивитесь, какие тут ночи глухие, точно бесконечные, – отозвался второй человек, поднимаясь из-под тёплого одеяла.
– Чего ж не дожить-то? – Юноша одёрнул красный камзол, в котором провёл ночь, и быстро надел изрядно помятый зелёный мундир, оставив его расстёгнутым. – Отчего ж не дожить до зимы? Время, поди, за пятки не прикусывает.
– Вам виднее, Алексей Андреич, вы человек служивый, – сказал второй, потирая красное лицо, опутанное чёрной бородой. Ему давно перевалило за сорок; крупный, плечистый, он был похож на заспанного медведя. Он пошевелил бородой, неторопливо натянул поверх бесцветной косоворотки безрукавку из овчинки мехом внутрь, погладил широкими ладонями штаны из грубой шерсти, присел несколько раз, разминая ноги, поплясал на месте, оглядываясь. Восемь нарт стояли полукругом возле костерка, тут и там лежали на земле пушистыми буграми меха, послужившие только что людям постелями, громоздились сумки и мешки. Поднимавшиеся поодаль пологие холмы были покрыты прозрачным лиственничным лесом и белевшими, как заплаты на чёрной земле, огромными пятнами снега. Этот снег наметался в течение долгой зимы, спрессовывался ветрами, утрамбовывался и теперь не желал плавиться на солнце, нависая многометровыми козырьками на склонах и истекая холодной водой. – Эх, красота-то какая! А вот ещё зазеленеет вовсю… Жаль, что ненадёжны здешние красоты, всюду за ними можно ждать подвоха.
– Что за беда, Пал Касьяныч, – возразил Алексей Андреевич, – вы так говорите, будто опасаетесь чего… Проводник-то нам зачем ваш, Чукча этот, а?
– Эх, батюшка, Алексей Андреич, воля ваша, вы человек военный, к дисциплине приучены, к порядку. Но дикий люд знаете слабо, коли рассчитываете на их преданность. Я Чукчу в проводники взял, только чтоб с пути не сбиться. Но жизнь свою, ежели что, он ради нас класть не станет. Я тут шестой год купеческим делом занят, кое-что успел познать. Так вот будь я проклят, если рискну положиться на кого из Чукоч в трудных обстоятельствах. Упаси Бог…
Покуда Павел Касьянович произносил эти слова, зашнуровывая тяжёлые свои башмаки и громко посапывая, из-за чёрных камней, рассыпанных по склону холма, появился сутулый человек, облачённый в кухлянку с большим капюшоном – просторную кожаную рубаху, надеваемую через голову; ноги его, обутые в сапоги из прокопчённой кожи, мягко ступали по мокрой земле.
– Лёгок на помине, – крякнул Павел Касьянович. – Будите сестрицу, Алексей Андреич. Чай будем пить и в дорогу собираться. Марья Андреевна небось совсем умаялась. Ну да ничего уж, половину пути от фактории покрыли.
Молодой человек, ещё раз оправив свой мундир, подошёл к нартам и склонился над фигурой, плотно закрытой меховыми одеялами:
– Маша, время вставать.
– Я уже давно пробудилась, дорогой мой господин поручик, я просто лежу, – донёсся из-под покровов нежный голосок. В следующую секунду показалось круглое молодое девичье лицо с живыми синими глазами и в ворохе светлых волос. Откинув шкуры, девушка вытянула перед собой руки и потянулась. Она казалась очень тоненькой и хрупкой. – Как почивали, Марья Андреевна? С добрым вас утречком, – поприветствовал её Павел Касьянович.
– Должна вам признаться, спать в верхней одёже крайне неудобно, – проговорила девушка. – Каждый день пути убеждает меня в этом всё сильнее.
– Главное, чтобы не застудиться, весна выдалась поздняя, долгая, холодная. Одно слово – Чукотка, – отозвался Павел Касьянович, присаживаясь над углями. – Вот доберёмся до Раскольной, там уж поуютнее вам будет, а тут мы на открытой тундре.
Маша села и пожала плечами:
– Я не жалуюсь. Теперь уж почти всё позади, скоро два месяца, как мы с Алексеем в дороге. И ведь поначалу-то погода просто зимняя стояла, не то что теперь. Осталось какие-то пару дней потерпеть… Алёша, ты не польёшь мне воды, чтобы я ополоснула лицо?
Она носила мягкое коричневое дорожное платье до земли, и теперь, когда она поднялась, край подола опустился с саней в лужицу.
– Ой! – Девушка приподняла юбку, показались босые ноги, – а хорошо, господа, что уже почти настоящее лето. Земля студёна, но приятна.
– Обуйся, Машенька, немедленно, – всполошился Алексей, – застудишься!
– А мне хочется босиком землю потрогать.
– Не та ещё погода, чтобы голыми ногами ступать, обувайся! – подчёркнуто строгим голосом сказал офицер. – И шубку-то накинь…
Чукча-проводник приблизился и сел у костра на землю.
– Однако, – заговорил он, – моя плохой сон имей.
– Плохой сон? – переспросил Павел Касьянович, слегка нахмурившись. – Что за сон? Почему плохой, Михей? Растолкуй.
– Нельзя, – отрицательно покрутил головой Чукча, названный русским именем Михей, – плохой сон рассказывай, потом плохой сон становись правда. Нельзя говори плохой сон.
– Что ж ты делать хочешь? – полюбопытствовал Алексей, устанавливая над костром треногу с котелком.
– Олень бить надо, – ответил спокойно Михей, – жертва делай.
– Оленя в жертву приносить? – уточнил молодой человек. – Зачем? Кому?
Чукча мотнул головой влево:
– Хозяин холма.
– Что за хозяин холма такой? – спросила Маша. – Эта земля, поди, никому не принадлежит.
– Не в том дело, Марья Андреевна. Чукчи считают, что всякая вещь имеет своего хозяина. Даже самая крохотная вещица, – объяснил Павел Касьянович, – потому как у каждой штуковины, живой и неживой, есть своя страна, свой мир. А в каждой стране должен быть свой хозяин.
– Не понимаю, – пожала плечами Маша, одёргивая смявшуюся шерстяную юбку и набрасывая на плечи полушубок.
– Видите, Марья Андреевна, каменные глыбы вокруг нас? В каждой из этих глыб живёт свой хозяин.
– Духи?
– Вроде того. Одежда, которую мы носим, тоже имеет своего хозяина. Мы пользуемся одеждой, но мы не хозяева. – Павел Касьянович опустился на колени и принялся раздувать угли, не переставая говорить. – Настоящий хозяин превращает ночью нашу одежду в живых существ, и эти существа гуляют, толкуют меж собой, танцуют. Но мы этого не видим. Этого нельзя увидеть глазами. Даже если мы проснёмся ночью, то будем видеть только нашу одежду. Между тем Чукчи уверены, что одежда оживает, сумки наши оживают, ножи, ружья, поваленные деревья, камни. И всё это происходит из-за силы их хозяев.
– Касьяныч говори очень верно, – поддакнул Михей, – очень верно, всяка вещь имей хозяин-дух.
– Странно это всё, – пожала плечами девушка. – Много вы, Пал Касьяныч, про диких знаете?
– Я купец, сталкиваюсь с ними лишь по торговым делам. Но повидать и услышать довелось всякого… Сейчас он забьёт оленя, чтобы умилостивить хозяина этого холма.
– Зачем? Разве он просил об этом?
– Про это Михей нам нипочём не скажет. – Павел Касьянович отодвинулся, раздув пламя костра и подбросив веток под котелок с водой. – Михей со мной давненько знаком, но никогда не откроет того, что запрещает суеверие. Порой на моих глазах он совершал что-то совершенно необъяснимое, но, сколько я ни упрашивал, ничего он растолковать не хотел…
– Оленя бить надо, – хмуро повторил Михей.
– Бей, – согласился Касьяныч, – но возьми своего. Моих не тронь, я лишних не брал…
Олени стояли чуть в стороне, стреноженные и связанные между собой длинными ремнями. Их было двадцать. Чукча обошёл животных, осматривая и что-то бормоча себе под нос на своём языке; в правой руке он держал длинное копьё с большим наконечником.
Остановившись перед выбранным оленем, Михей ухватил его за рога, и тот слегка попятился, предчувствуя недоброе. Михей отвёл его в сторону, не переставая бормотать, и остановился. Погладив оленя по морде, он отступил на пару шагов и ловко, не теряя ни секунды, ударил его копьём под сердце. Животное дёрнулось, присело, качнулось, ударило копытами. Михей не позволил ему рухнуть произвольно и сильно толкнул таким образом, чтобы олень завалился пробитым боком вверх.
– Вишь, как кладёт его, – шепнул Касьяныч, – постарался, чтобы раной наверх…
– Почему?
– Говорят, если олень свалится на раненый бок, то это плохое предзнаменование.
Чукча повернул тушу убитого животного головой к холму, прыткими движениями вырезал в боку оленя квадратное отверстие и окунул в него, как в колодец, руку.
Маша зажмурилась и поспешила отвернуться.
– Разве это так уж нужно? – всхлипнула она.
– Враги кругом, – заговорил Михей и брызнул кровью сначала по направлению к холму, затем зачерпнул ещё крови и окропил землю вокруг себя. – Духи всё время рыскай рядом, свои пасть разевай. Много опасный духи вокруг. Моя давай им дары во все стороны. Моя проси защиты один дух, давай выкуп другой дух. Очень трудно живи, ничего не получай даром…
Затем Михей сходил к нартам и вернулся с топором. Ухватившись за раскидистые рога, он нанёс удар у самого основания рогов, срубив одним движением верхушку черепа вместе с рогами.
– Ловко управляется, – невольно восхитился Алексей, не отрывая взора от кровавой сцены.
– Ну что? – окликнул туземца Касьяныч. – Хозяин доволен?
Чукча молча закивал.
– Ехай можно, – сказал Михей, вымазывая оленьей кровью свои щёки.
– Давай выпьем чаю, Машенька, – Алексей подал сестре кружку.
– Пожалуй, мне сейчас не хочется ни пить, ни есть, Алёша. Будемте собираться в путь, Пал Касьяныч…
Шёл 1765 год. Чукотка продолжала оставаться территорией, не покорившейся Российской империи. Никакие карательные походы против местных племён, продолжавшиеся почти тридцать лет, не смогли поставить Чукчей на колени. Время от времени регулярные войска нападали на оседлые деревни туземцев и вырезали всех жителей, но с кочевниками справиться не удавалось. Нередко казачьи отряды захватывали огромные стада оленей, натыкаясь на передвижную группу Чукчей, но дикари без труда уводили своих оленей обратно в тундру. В конце концов Россия – огромная, заполненная пушками и порохом, усыпанная войсками, ощетинившаяся штыками, облачённая в красочные мундиры, победно прошагавшая в 1760 году по улицам Берлина – уступила диким людям, одетым в прокопчённые шкуры. Из столицы поступил приказ свернуть военные действия против Чукчей, ибо казна тратила на них слишком большие средства, не получая взамен никакой прибыли…
– Хороша сегодня погодка, – проговорил Касьяныч, глянув на Машу. – Легко дышать, вольготно ехать. Скоро совсем уж по-летнему станет.
Ехали санным поездом, который на Севере называется аргиш: первой нартой правил Михей, остальные были привязаны последовательно друг за другом и не нуждались в том, чтобы ими правили. Касьяныч ехал на вторых санях, Маша – на третьих. Далее следовали четыре нарты с грузом. Алексей замыкал караван, приглядывая за грузовыми санями, где громоздились мешки и коробы с товаром. На поводу у каждых саней бежал так называемый заводной олень, то есть предназначенный для перемены усталых. Нарты, на которых сидели люди, были запряжены парой оленей, грузовые же тянулись одним животным. Ездоки сидели на своих санях, свесив ноги по сторонам или поставив их на полозья; при неровностях земли ногами можно было подправить ход нарты и не дать ей опрокинуться.
Иногда перед караваном возникали массы спрессованного снега, нависающие на склонах холмов. Снег успел подтаять снизу и грозил обрушиться внезапно, сминая всё на своём пути. Михей благоразумно объезжал зловещие снежные козырьки стороной. Маша любовалась красотами весны и чувствовала себя легко. Иногда из-за монотонности движения она впадала в дремоту, благо на ездовых нартах можно было откинуться назад, так как они имели нечто подобное сиденью со спинкой из тонких гладких палочек, связанных между собой ремнями. Шубка её была наглухо застёгнута, чтобы уберечь от ветра, колени прикрыты волчьей шкурой. И всё же Маша никак не могла назвать нарты удобным транспортом.
В те годы на Чукотке не знали иного способа передвижения. Только нарты, лёгкие или тяжёлые, по крепкому зимнему или по талому весеннему снегу и даже иногда по летнему ягелю, но в любом случае нарты. Дорог не было, никакая телега не прошла бы ни по бесконечным кочкам, ни по ерниковым и стланиковым зарослям, и колёса быстро увязли бы в заболоченных во многих местах пространствах тундры. Местные оленеводы постоянно ходили пешком, выпасая свои огромные стада, не выказывая при этом ни усталости, ни раздражения; они жили на могучей груди этого необъятного края, никуда не торопясь, не ведая суеты. Охотник мог уйти из своего кочевого стана пешком, ничего не страшась, провести в тундре не один день в полном одиночестве и вернуться с добычей, неся её на своей спине. Но купцы, путешественники и военные люди не были приспособлены к пешим переходам на Чукотке и всегда пользовались санями.
Встречи
Перевалив через сопку, караван внезапно остановился. Впереди, в залитой водой долине между холмами, виднелись три ездовые нарты с людьми. Они находились настолько далеко, что ни лиц, ни каких-либо деталей разглядеть не представлялось возможным.
– Кто ж такие? – насторожился Касьяныч.
Михей обернулся к нему:
– Два русский, один нет. Каждый имей ружьё. Сани лёгкие, груз совсем нет.
Алексей, услышав эти слова, выразил сомнение:
– Неужто отсюда что-то видно?
– У них, батенька вы мой, – отозвался Касьяныч, – зрение хоть куда, не нам с вами чета. Ежели Михей что-то утверждает, стало быть, так оно и есть.
– Кто ж такие? – Алексей привстал, опираясь на спрятанную в кожаные ножны шпагу.
– Потерпите, Алексей Андреич, вскорости узнаем, – без тени беспокойства сказал купец.
– Не опасно ли нам приближаться к ним? – повысил голос Алексей. – Не разбойный ли какой люд? Как думаете, Пал Касьяныч?
– Откуда здесь разбойники? А коли и воры, – сказал купец, – куда ж нам теперь? Ежели что, нам от них не уйти: они налегке, а мы гружёные. Держите ружьишко или пистолет наготове, авось отобьёмся при нужде. Удача любит удалых…
Аргиш с шумом двинулся вниз по склону, подминая полозьями стелющиеся кустарники. По мере того как незнакомцы становились ближе, Алексей смог разглядеть их. Один из белых людей был одет в кухлянку, как Чукча, на другом же был полинялый казацкий кафтан красного цвета. Тому, что в кухлянке, можно было дать лет двадцать, другому – за тридцать. Оба держались уверенно, спокойно. Сидевший рядом с ними на нарте дикарь заметно превосходил белокожих спутников годами, но точно определить его возраст было невозможно. Его штаны были сшиты из волчьих лап с оставленными на них когтями. Каждый их трёх незнакомцев имел на поясе по паре ножей, а также по пять-шесть мелких мешочков и примитивных деревянных фигурок, изображавших людей и птиц. Судя по всему, эти трое давно заметили купца и его спутников и теперь терпеливо дожидались, когда караван приблизится. Левый глаз туземца был слегка прикрыт, вероятно повреждённый когда-то острым звериным когтем во время охоты или ножом в рукопашной схватке.
– Ба! – воскликнул купец. – Никак сам Иван Копыто встречает нас.
– Здравствуй, Касьяныч, – приветственно поднял руку над головой молодой человек, одетый по-дикарски, – здравствуйте и все вы, кого не знаю.
– И тебе, Гриша, желаю здравствовать, – обратился купец к казаку, затем перевёл взгляд на дикаря. – И тебя рад видеть, Ворон.
– Здравия желаю, – громко сказал Алексей, прикладывая пальцы к треуголке. – А я было решил, что на тутошнем раздолье никого случайно не встретишь.
– Ну, – улыбнулся молодой человек, которого купец назвал Копытом, – не совсем мы тут случайно.
– В дозоре мы, – уточнил тот, что был одет по-казачьи.
– Приключилось что? – спросил Павел Касьянович.
– Да было дело… с Чукчами, – ответил Иван Копыто и посмотрел на Михея. – Вот мы и осматриваемся. Заодно сюда прикатили, на дорогу.
– На дорогу? – Алексей засмеялся. – Какая ж тут дорога, сударь? У вас тут, похоже, свои понятия, до коих нам никогда не дойти.
– Отчего ж не дойти? – в свою очередь улыбнулся Иван Копыто. – Вы, я гляжу, при мундире, стало быть, по военному делу направляетесь в Раскольную. Начнёте служить и освоитесь весьма скоро.
– Нет, не начну, – Алексей отрицательно качнул головой, – с военным делом в Раскольной покончено.
– В каком таком смысле?
– Я везу пакет с приказом губернатора о выводе всех, кто находится на регулярной службе в Раскольной. Фортеция приказала долго жить… Впрочем, об этом капитан Никитин объявит сам…
– Конец Раскольной! Вот тебе и бабьи ласки! – Казак звонко шлёпнул себя по коленям. – Слышь, Касьяныч, а ты с товаром к нам едешь. Да ещё красавицу везёшь с собой.
Казак оскалился сквозь бороду и выразительно стрельнул глазами в сторону Маши; у него был красивый нос и жгучие чёрные глаза.
– Это, отец мой, – отозвался купец, возвращаясь к своей нарте, – не я красавицу везу, а господин поручик. Это, господа, кхе-кхе… позвольте представить вам… Марья Андреевна, сестрица Алексея Андреича.
Иван и Григорий почтительно наклонили головы, темнолицый же дикарь, сопровождавший их, остался неподвижен, но внимательными глазами осмотрел одетую в полушубок девушку, ненадолго задержав взгляд на её лице, обрамлённом цветистым русским платком.
– Извини, Машенька, – Алексей повернулся к сестре, – мы тут вовсе забыли о церемониях, я даже не представил тебя…
– Полно тебе, полно. Успеем ещё перезнакомиться, – отмахнулась девушка, по-доброму улыбаясь.
– А что ты, батенька, – крякнул купец, усаживаясь в нарте, – говорил про Чукоч-то?
– Чукчи растревожились в последние дни не на шутку. Уже дважды к фортеции подступали, грозили, но скрылись, маловато их. – Иван Копыто устроился на санях.
– Маловато или не маловато, там видно будет, – произнёс Григорий. – А двоих наших подкараулили и порешили втихую.
– Никак опять дикие драться надумали? – спросил Алексей Сафонов. – С войной уж давно покончено.
– Для них бумаг с указами не существует, сударь. С купцами у них в Позёме разлад случился по пьяному делу. Ходит слух, что их подбивает на смертоубийство Седая Женщина, – ответил казак.
– Неужто баба верховодит? – изумился Алексей.
– Нет, батюшка мой, – засмеялся Павел Касьянович, – Седая Женщина вовсе не баба. Это известный в здешних краях шаман. Скверный мужик, злобный, настоящий сумасшедший. Русских всегда люто ненавидел.
– Простите, господа, – вступила в разговор Маша, – но не могли бы мы всё-таки двинуться в путь? Зачем нам время попусту растрачивать, когда вы упомянули о возможной опасности?
– И то верно, – сразу согласился Иван Копыто, – а ну, Григорий, разворачивай. Только не забудь для начала малость влево взять, позже выправим.
– Зачем влево? – поспешил спросить Алексей.
– Алёша, – позвала Маша брата, – этим людям лучше ведомо, что делать. Не обременяй их лишними вопросами.
– Вопрос не из хитрых, сударыня, – с живостью заговорил Григорий, – мы тут повстречали покойника, не хотим лишний раз наезжать на него.
– Что за покойник? – спросил Алексей.
– Бог весть… Одинокий, брошенный. Возможно, больной был, вот семья и оставила, чтобы духи его болезни за семейным очагом не увязались. Нет ничего страшнее, чем дух порчи, дух болезни…
Всю дорогу от Горюевской фактории Маша не переставала осыпать Павла Касьяновича вопросами. Он был человеком осведомлённым, многое повидал сам на Чукотке, ещё о большем слышал. Вот и теперь, когда полозья нарт вновь зашелестели по талому снегу, она громко позвала купца:
– Пал Касьяныч, что это за человек?
– Который? О ком спрашиваете, душа моя? – уточнил он.
– Иван Копыто… – И она смутилась.
– Он здесь первый следопыт. Гришка тоже следы читает, но он слабее. А Иван… Он тут с малолетства, казачий сын. Говорят, его отца убили дикие, и он мальчонкой то с Чукчами кочевал, то с Юкагирами, то с Коряками. Так и вырос среди снегов и лесов. Сам он не очень про своё детство говорит. Вот этот дикий, что рядом с ним сидит, ему вроде приёмного отца.
– Приёмный отец? Вот этот дикарь с татуировкой на лице? – Глаза девушки выражали сомнение, разглядывая штаны туземца, сшитые из волчьих лап.
– Да, его называют Вороном, он из Волчьего Рода Юкагиров, – уточнил купец, – у них много разных родовых групп… Ворон и Копыто частенько наведываются ко мне в Горюевскую. Мне рядом с ними всегда спокойно, надёжные они очень.
– А почему он Копыто?
– Иван-то? Не знаю. Какая-то история была с диким оленем… То ли он оленю копыто оторвал руками, то ли ещё что-то… В пути, следуя на санях один за другим, путешественникам было трудно переговариваться, поэтому разговор быстро скомкался.
Новые знакомцы Алексея и Маши ехали на своих нартах отдельно, иногда приближаясь, иногда удаляясь от каравана. Когда в очередной раз следопыт в казачьем кафтане приблизился к обозу, Алексей Сафонов помахал ему рукой.
– Вот вы, сударь, про шамана говорили, – закричал Алексей, обращаясь к казаку и стараясь перекрыть шум полозьев по мокрой земле, – про того, у которого женское имя!
– А что про него говорить? – громко отозвался Григорий, слегка обернувшись через плечо.
– Почему он женщиной назван? Что ли, на бабу похож?
– Совсем не похож! Он почти совсем лысый, волосья только
сзади, за ушами… Шаманы часто берут странные имена, чтобы спрятаться за ними, как за маской, и чтобы злые духи не могли узнать их…
Тут Григорий замолчал и устремил взор на Ворона, поднявшего вдруг руку. Через несколько секунд все остановились.
– Никак учуяли что-то, – тихо сказал купец. Казак взял в руки ружьё.
– Опасность? – спросил Алексей, на что Касьяныч молчаливо пожал плечами.
Из-за лежавшего впереди чёрного лесочка вышли четыре рогатых оленя, на которых сидели люди. За спинами наездников виднелись колчаны со стрелами и большие луки, в руках они держали длинные копья. Они неторопливо переехали через снежную полосу, и копыта оленей зачавкали по слякотной земле.
– Ишь ты! – воскликнул купец удивлённо.
– Что такое? – спросила Маша, затаившись.
– Верхом на оленях. Должно быть, надумали возвратиться в своё стойбище уже после снега, когда на нартах неудобно катить.
– Держите все ружья наготове, – велел Иван Копыто. – Если только кто-то из них потянется за стрелой, бейте без промедления.
Сам он поднялся с саней и отступил в сторону на несколько шагов, переводя взгляд с четырёх наездников на Михея и обратно. Четверо Чукчей на оленях медленно приблизились.
– Зачем ружьё направлять?! – крикнул один из них. – Зачем меня убивать хотел?
– Кто вы? Откуда и куда путь держите? – спросил Григорий в ответ, поднимаясь во весь рост.
– Красная Вода ехать, родня посмотреть.
– На Красное Озеро? Что ж у вас за родня там? – продолжал свой расспрос Григорий. – Не Седая ли Женщина?
– Нет, такая женщина совсем не знай. Зачем седой женщина? Моя молодой женщина ищи для моя сын.
Чукчи слезли с оленей и подошли совсем близко, опираясь на копья, как на посохи. Двое из них оказались юнцами, два других – стариками. На тёмных лицах молодых угадывалась печать враждебности, хоть и тщательно скрываемая. Старики выглядели совершенно спокойными, даже равнодушными. На поясе одного из них висела связка мышиных черепов и воронья голова, у другого на шее болталась шкурка горностая, служившая ему оберегом.
– Откуда же вы взялись такие, коли не знаете Седую Женщину? С этим злодеем все Чукчи знакомы. – Григорий покачал головой, не опуская ружейного ствола. – Даже я, русский казак, и то знаю этого подлого колдуна.
– Давай чай пить, – сказал старик со шкуркой горностая, – давай разговор делать, давай убивать не надо.
– Хорошо говоришь, дед, но некогда нам огонь разводить, – подал голос Иван Копыто, не опуская ружья. – А почему ты думаешь, что мы хотим убить вас? Разве меж нами война?
– Как не думай так? Твой ружьё мой голова смотри. Зачем? – Он повернулся к одному из молодых Чукчей и что-то сказал ему по-чукотски.
Алексей, держа в руке тяжёлый взведённый пистолет, подошёл к Ивану:
– Как вам кажется, что у них на уме?
– Полагаю, драться они сейчас не станут, – едва слышно отозвался Иван. – Посидим немного, побеседуем. Может, удастся выведать, что на уме у этих бестий.
– Не рискуем ли мы?
– В неспокойное время рискуешь всегда.
– Быть может, сразу лучше захватить их в плен? – предложил нерешительно Алексей Сафонов.
– А вы уверены, что за нами сейчас не следят другие? И уверены ли вы, что ваш проводник не примет их сторону? Я не уверен ни в чём, поэтому предпочитаю выждать. Отведите-ка Марью Андреевну подальше, а мы пока подёргаем этих Чукоч за языки.
– Машенька, – Алексей остановился около сестры и Павла Касьяновича, – побудь пока тут, на санках. Павел Касьяныч, Иван просит вас держаться возле Маши на всякий случай…
– Понимаю, – кивнул купец, почёсывая свою смолистую бороду, – у него нос на беду всегда навострён.
Перед Чукчами опустился на корточки Ворон. За спиной у Ворона лежал в колчане лук, сильно отличавшийся от луков, которыми были вооружены Чукчи. Этот лук был вдвое меньше и сделан не из дерева, а из распиленных бивней моржа.
– Это эскимосский лук, – пояснил Иван Копыто, заметив вопрос во взгляде Алексея Сафонова. – Отец высоко ценит его.
– Я слышал, что Седая Женщина будит в Чукчах злобу, – сказал Ворон по-русски, обращаясь к Чукчам, – слышал, что он подбивает к войне. Многие ваши уже были у крепости на Красном Озере, угрожали.
Алексей Сафонов удивился, услышав, насколько чисто говорил Юкагир по-русски.
– Моя не знай Седая Женщина, – ответил старик с горностаевой шкуркой на шее.
– Седую Женщину знают все ваши. Он вселяет в людей злобу, – повторил Ворон, – он злой человек, его надо убить.
Глаза молодых Чукчей вспыхнули огнём. Один из них подался вперёд:
– Твой язык желай смерть шаману. Твой язык желай смерть всем Чукча. Твой сердце храни ненависть. Чукча всегда побивай Юкагир. Твой сердце помни это и храни злость. Твой имей злой сердце и злой язык. Твой худо говори о хороший шаман.
Старик с горностаем озабоченно покачал головой, несдержанность молодого воина помешала ему вести задуманную игру.
– Значит, ты всё-таки знаешь Седую Женщину? – Иван включился в разговор со своего места.
Старик промолчал, а юноша запальчиво ответил, почти выкрикнул:
– Да, моя знай шаман, моя следуй призыв Седая Женщина!
Иван заметил, как рука молодого Чукчи осторожно потянулась к висевшему на поясе боевому ножу, и незаметно для других подмигнул Григорию. Казак встал, будто бы разминая ноги, и сделал несколько шагов в сторону; там он медленно опустился на корточки, держа ружьё на коленях. С нового места ему был открыт второй молодой чукотский воин. Ворон продолжал сидеть неподвижно, глядя в глаза разозлившемуся Чукче.
– Мой народ всегда воевал против твоего, – проговорил Ворон, – потому как твоё племя воровало и продолжает воровать наших женщин и наших оленей.
– Твой люди похож на трусливая собака! – воскликнул молодой Чукча. – Русский помани тебя, и твоя бежит сразу. Твоя живи, как собака на цепи. Твоя нет гордость. Твоя нет свобода…
Голос его делался звонче и звонче, молодой человек распалялся и уже не мог сдерживать себя, несмотря на то что старик открыто дёргал его за рукав, призывая к спокойствию. Иван увидел, как затаился Михей, сидевший чуть поодаль, видел его руки, застывшие возле пояса с набором охотничьих и боевых ножей. Возможно, он не принадлежал к последователям Седой Женщины и не мыслил драться, но он был Чукча по духу и по крови, и никто не мог поручиться, что у него на уме.
И вот настал момент, когда вспыльчивый юноша утратил контроль над собой и ринулся на сидевшего перед ним Ворона. В руках у обоих дикарей мелькнули большие ножи. Чукча, сделав выпад, встал на обе ноги, но Юкагир не стал подниматься с земли; он позволил неосторожно замахнувшемуся врагу открыться и молниеносно нанёс ему в живот удар. Юноша вскрикнул от неожиданности и будто завис над Вороном, насадившись на стальное лезвие боевого ножа. Юкагир немедленно опрокинул Чукчу на бок, ибо по своему возрасту не обладал уже той крепостью мышц, чтобы долго удерживать тело врага, и вонзил в него нож ещё раз – теперь уже в самое сердце.
Маша закричала, заслоняя глаза обеими руками и пряча лицо в плечо Павла Касьяновича.
Старики-Чукчи качнулись, словно нож Ворона воткнулся в них, а не в их молодого спутника. Второй юноша тут же вскочил и поднял копьё, готовясь метнуть его.
– Не дури, сукин сын! – крикнул ему Григорий, но проворный туземец уже замахнулся, и в следующее мгновение громкий выстрел сшиб его с ног. Пуля попала ему под рёбра, он скорчился, выпустил древко копья, вцепился в рану руками и затряс головой. Алексей увидел выступившие на его лоснящейся коже крупные капли пота.
Иван многозначительно посмотрел на Михея, что-то бросив ему по-чукотски; тот торопливо замахал руками, не двигаясь с места. Алексей шагнул вперёд, держа в вытянутой руке пистолет, направленный на Чукчу с горностаевой шкуркой на шее. Иван тоже перевёл ружьё на старика.
– Всё! Хватит дурить! – оглушительно рявкнул он.
– Всё! Всё! Нет убивать! – закивали старики, и в их глазах появились слёзы.
– Почему не уняли своих парней? – грозно подступил к ним казак.
– Как удерживай? Кровь кипит, война хочет. – Стало быть, воевать ехали? – склонился над ними Григорий. – На Раскольную шли? Отряд там гуртуете, черти? Вот я вам…
Старики не ответили. Очень медленно они поднялись и пошли к своим поверженным сыновьям, волоча копья, как ненужные палки. Ворон аккуратно вытер лезвие ножа о кухлянку сражённого врага.
– Моя сын, младшая сын… – Cтарик с горностаем указал худой рукой на воина, над которым склонился Ворон. – Моя последняя сын. Русский убивай два мой сын три зима назад. Ещё одна сын убит на медвежья охота. Все сын убит. Зачем моя нужен? Убивай моя тоже!
– Что делать будем? – Алексей остановился возле Ивана.
– Поедем дальше. Незачем нам мешкать.
– А с этими что? – Алексей кивнул на стариков.
– Оставим здесь. Заберём у них стрелы и оленей. До своих доковыляют, если захотят, они ходоки знатные.
– Алёшенька! – послышался голос Маши. Она упала ему на грудь, бледная и дрожащая.
– Что, душа моя? – Поручик повернулся к сестре, и она обвила его шею ледяными руками. – Не бойся, всё кончено. Не смотри на них, отведи глаза. Пошли подальше.
– Ноги нейдут, отнимаются.
– Это от страха, голубушка, от страха, я знаю. Но ты уже не бойся, – успокаивал её поручик.
– И в животе холодно, прямо сковано всё льдом, – продолжала жаловаться девушка едва слышным шёпотом.
– Присядь сюда, тут на мехах уютно…
– Сударь, зачем вы повезли сестру сюда? – тихим голосом спросил Иван, взяв Алексея Сафонова за локоть. – И дорога не из лёгких, и времена не из лучших…
– Матушка у нас скончалась недавно… Да ещё кое-какие неприятности. Вот Марья Андреевна и решила присоединиться ко мне…
– Что ж… Не будем тянуть… Михей, трогай поезд. Гриша, стрелы отнял у них? Не ровён час, пустят их нам в спину.
Ворон подошёл к старикам, будто желая сказать что-то, поразмыслил и направился к нартам, так и не проронив ни слова. Казак ловко снял со всех колчаны и бросил их в свои сани. Подстреленный пулей Чукча ещё подёргивался и стонал. Смерть принимала его медленно, с неохотой.
– Едем!
Ночь
Ночью погода переменилась, поднялся ветер и принёс с собой беспокойство. Костёр, вокруг которого стояли нарты, временами почти задувало.
– Не волнуйтесь, Марья Андреевна, – обратился Григорий к Маше, – завтра к полудню будем в фортеции.
Было видно, что девушка пришлась казаку по сердцу и он хотел поддержать её, развеять её страхи.
– А что, если нам встретятся ещё дикие?
– Не думайте об этом. Встретятся – посмотрим. Не впервой… Вас испугала кровь. Я понимаю, такие зрелища не для девичьих глаз. – Он извлёк кисет из кармана и набил трубку. – Но этого здесь не избежать…
– Как ужасно устроен мир, – прошептала она и внимательно посмотрела на его спокойное лицо, осветившееся раскуренной трубкой, затем перевела взгляд на сидевшего чуть поодаль Ивана.
Молодой человек неслышно беседовал о чём-то с Вороном, этим жутковатым туземцем, что так ловко расправился с бросившимся на него врагом. Ни в ком из них не чувствовалось ни беспокойства, ни сожаления. Рядом с ними примостился Алексей. Маше казалось, что её брат немного переживал за то, что не успел принять участия в стремительно произошедшей схватке. Михей не принимал участия в разговоре; он уединился на своей нарте и углубился в раздумья, прикрыв глаза. Все нарты, по распоряжению Ивана, стояли не распряжённые на случай, если пришлось бы внезапно сниматься с места.
– Как ужасно устроен мир, – повторила девушка, разглядывая Ивана; в сравнении с людьми его возраста, которых знала Маша, он был не по годам серьёзен и суров. Умел ли он шутить? Умел ли открывать свою душу? Она снова посмотрела на Григория, у него тоже были мужественные черты лица, но он казался всё же человеком иной закваски. В нём чувствовалась не только смелость, но и великая печаль. – Неужели вам совсем не страшно? Вы когда-нибудь боитесь?
– Бывает, – кивнул Григорий, – все мы живые люди. Но только, Марья Андреевна, боюсь я как-то не целиком. Будто бы на одну половину боюсь. Вторая же моя половина точно знает, что опасаться мне нечего и что всё в руках Господа.
– И всё-таки вы держите палец на спусковом крючке. Даже сейчас вы не расслабляетесь. Я вижу это. – Она грустно покачала головой.
– На Бога надейся, а сам не плошай, – ухмыльнулся он.
– Все они тут странные, – присоединился к их разговору Павел Касьянович, устраиваясь поближе к костру и кутаясь в одеяло, – особливо следопыты.
– Странные? – не поняла девушка.
– У меня к здешнему краю интерес денежный, – пояснил купец, – я могу мой интерес звонкой монетой измерить. За эту монету и подвергаю себя опасностям. А вот их, Гришку или Ивана, к примеру, не понимаю. Впрочем, с Копытом дело яснее: он тут вырос, для него тут всё родное. А вот ты, Гриша, что забыл здесь?
– Что я забыл здесь? Не в том дело, Касьяныч, важно, чего я не хотел видеть там… – Григорий прикрыл глаза, возрождая в своём воображении сцены прошлого. – Как-то раз я повстречал на улице мальчишку лет семи, крохотного такого паренька, щупленького. Стоял страшный мороз, а мальчуган был одет совсем почти по-летнему, может, на шее только шарф тёплый был намотан. Он просил милостыню. Наутро я наткнулся на его закоченевший трупик за поленницей. Я сразу узнал его по шарфу… И тогда я впервые задумался, насколько там люди одиноки, слабы и беззащитны… Не странно ли, не ужасно ли, что, живя среди людей, человек не может защитить себя…
– Эка ты, братец, загнул, – покачал головой купец. – Так уж и беззащитен?
– Именно. Как-то уж так складывается, что здесь приучаешься жить собственными силами, а там маленький человек полностью зависит от других, только от других… Смилостивится кто-то, бросит кусок хлеба – будет маленький человек жить. А нет – так и подохнет. И нет никакой разницы, каков этот маленький человек, сильный или слабый, умный или глупый. Можно, конечно, вором сделаться, но кто не хочет, тому там остаются только две возможности: либо рабом быть, либо побираться. Всё зависит от господ. Потому и ходят многие с протянутой рукой, что никак иначе нет возможности просуществовать… Там всюду маленькие люди, даже господа и те – маленькие люди перед другими господами. А тут все равны друг перед другом и перед природой.
– Неужто здесь, в окружении лесов и дикого зверья, человеку живётся легче? – не поверила Маша.
– То-то и оно, сударыня, что легче. Здесь ведь надеяться на чью-то милость никак не можно. Тут, конечно, все пожирают всех, но и там то же самое, разве что там люди хотят выглядеть благородно и от звериной своей сущности открещиваются, однако по-звериному рвут друг друга на куски, раздавливают, пьют кровь… А воспитанием там приучают мыслить так, будто мы все братья во Христе, повторяют одни и те ж добрые слова. Но куда ж доброта подевалась? Где вы встречали её?
– А здесь что?
– Здесь, Марья Андреевна, совершенство. – Он широко повёл рукой, и пустил дым из трубки в серое небо. – Совершенство сокрыто в этой дикости, в этой беспощадности, в этой красоте. Уж я знаю… Здесь всё увязано друг с другом, все пожирают всех и на том держатся, не стесняясь, не оправдываясь и не прикрываясь словами о совести и государевой надобности. Здесь царят честность и сила. Я полагаюсь лишь на собственную силу. Если я слаб, то я проиграю в борьбе за жизнь, но у меня всегда есть шанс. А там, у вас, шансов нет, потому как там нет равных условий. Тот, кто рождается нищим, обречён на нищету; добыть себе денег для достойного существования он может только подлостью… Но можно ли после этого назвать его существование достойным? Да и что есть достойное существование, спрошу я вас? Возможность носить ордена на груди, спать на дюжине подушек, насыщаться от пуза и пить до беспамятства? Будь смирен и богобоязнен, уважай старших – разве не этому учат там? Но найдёте ли вы такого человека, который соблюдает эти правила искренне, в сердце своём? Я там таких не встречал. Но здесь я вижу их во множестве… Нет, Марья Андреевна, я пришёл сюда и эту мою жизнь не променяю ни на какие богатства…
– Вам нравятся трудности?
– Мне нравится жизнь, Марья Андреевна, – сказал он с вызовом, – жизнь ради самой жизни, коей меня наградил Господь, а не ради вылизывания княжеских сапог и не ради государевой надобности.
– Но ведь ежели так рассуждать, – грустно улыбнулась Маша, и её лицо сделалось на несколько мгновений очень взрослым, – то получается, что вы отказываетесь принимать то, что вам дано свыше. Ежели Бог определил вам судьбу нищего, то зачем вы протестуете?
– Господь даёт нам возможность выбора, а не проторённую дорожку. В этом я твёрдо уверен, и я мой выбор сделал.
– А где вы жили раньше? – спросила Маша.
Григорий хотел сказать что-то, но в эту минуту к ним подошёл Алексей.
– Как вы тут, господа? Не застудились на таком ветру?
– Нет, Алёшенька, мы хорошо сидим под этими мехами и очень интересно беседуем. Ты не нальёшь ли мне чаю?
– Сию секунду… – Поручик нагнулся над котелком. – Пал Касьяныч, а куда подевался Михей? Что-то я не вижу его.
При этих словах все сидевшие у огня разом огляделись. Иван, услышав слова поручика, резко поднялся на ноги. Проводника не было.
– Куда ж он… – Купец пожал плечами. – Вот вам, Алексей Андреич, и слова мои про Чукоч. Помните, что я говорил? Нельзя им доверять, нет в них преданности.
– Да, братцы, – удивился Иван Копыто, подходя к ним, – ловко он ушёл. Я ничего не заметил. Точно птица упорхнул. – Следопыт обернулся к Ворону. – Оплошали мы с тобой, отец… Михей-то, верно, струхнул с нами оставаться, решил к своим податься.
– Что делать будем? – спросил Алексей.
– Спать. Вы с сестрой ложитесь спать. Да и вы, Касьяныч, сосните малость. Я подежурю с Григорием. – Иван положил длинное ружьё не плечо. – Затем я чуток посплю, а Ворон покараулит…
Марья Андреевна взяла поручика за рукав и прислонилась губами к его уху.
– Алёша, будь любезен…
– Что, душенька?
– Я отойду, как обычно, за оленей. А ты отвлеки тут всех… слишком уж теперь много мужчин стало.
– Машенька, милая моя, я так кляну себя, что не отговорил тебя от этой поездки. Тебе приходится терпеть все эти неудобства. Мне даже в голову не могло прийти, что ты будешь так нуждаться… Всё-таки я просто тупой солдафон!
– Братец, не терзай себя. Никто не виноват, кроме меня самой, что я забыла о всех сложностях… Ну, пойду.
– Ты уж прости меня, душенька, но я побуду поблизости от тебя, – запротестовал Алексей, – подержу пистолет в руке на всякий случай. Вишь, Михей-то наш сбежал, подлец. Кто знает, что задумал этот нехристь? Тут, как я понял, ни в чём нельзя быть уверенным.
Пришелец
Из сна Машу вырвал не то внутренний толчок, не то чей-то тихий, но настойчивый голос. Она открыла глаза и освободилась от укрывавшего голову одеяла. Человек, которого она увидела, был Чукча, очень старый Чукча. Кто он и откуда он взялся на их стоянке, девушка сказать не могла. Удивило её и то, что сидевший неподалёку Иван Копыто не обращал никакого внимания на старика.
Заметив, что девушка посмотрела на него, Чукча опустился на корточки и положил тощие руки, сильно высунувшиеся из потрёпанных рукавов кухлянки, на колени. Под коричневой кожей отчётливо выделялись вздутия вен. От его одежды – штанов и кухлянки – сильно пахло дымом. Старик смотрел очень спокойно, во взгляде его сквозило любопытство. Он улыбнулся, сощурившись, и узкие глаза его сделались совсем незаметными во множестве глубоких морщин.
– Ты хорошая, – проговорил он по-русски глухим голосом, – я рад увидеть тебя.
– Меня? – не поняла она и поднялась на локтях.
Иван Копыто встал и сделал несколько шагов, обернулся, посмотрел на Машу, но не обратил ни малейшего внимания на Чукчу, словно его не было.
– Я хотел посмотреть на тебя, – сказал старик.
– Зачем? – удивилась девушка и на всякий случай оглянулась, к ней ли были обращены слова незнакомца, не стоял ли рядом кто-нибудь ещё. – Кто ты?
– Скоро ты проснёшься и будешь смотреть на всё новыми глазами.
– Разве я сплю?
– Мы все спим до поры. – Старик вновь улыбнулся, теперь чуть шире прежнего, и Маша увидела его подгнившие зубы. – Я рад, что встретился с тобой. Ты должна принести мир на нашу землю…
Он протянул руку и положил её Маше на лоб. Она вздрогнула, ощутив шершавое прикосновение сухой морщинистой кожи, но не испугалась и не отодвинулась. Наоборот, она испытала внезапное тепло, потёкшее от её лба вниз по телу и заполнившее всё её существо. Вместе с теплом накатил сон.
Во сне Маша увидела отца, который неторопливо шагал по пыльной дороге, волоча за собой громадные птичьи крылья тёмно-коричневого цвета. Порой отец подпрыгивал, и тогда дорога сотрясалась, как подвесной мост. Затем появилась мать, на ней был кружевной чепец; она вдруг превратилась в полосатый шлагбаум, качнулась вверх и вниз, повернулась горизонтально, перегородила подвесную дорогу и уронила чепец в густую пыль. Сразу после этого появился Алексей. Он был похож на мальчика и браво маршировал по дороге, чеканя шаг. За ним шагали такие же мальчики, все наряженные в причудливые мундиры.
И вдруг всё исчезло, утонуло в вязкой черноте…
Сожжение
Утром Иван Копыто отрицательно покачал головой.
– Никого здесь не было и быть не могло, Марья Андреевна. Даже если бы я задремал, что просто невозможно…
– Вы не спали, сударь, вы бодрствовали. Я очень ясно видела это.
– Неужто я бы не обратил внимания на него? Да и следов никаких нет. Вам просто пригрезилось… Давайте в путь собираться. Алексей Андреич, не сочтите за труд, пригоните сюда вон тех олешков, что отделились от нас.
Олени, на которых указал Иван, стояли поодаль, жадно вылизывая землю, где люди справили нужду. Пока поручик, придерживая шпагу, бегал за ними, остальные мужчины запрягали нарты.
Оставалось сделать последний рывок до крепости. Размышляя об этом, Маша вздыхала с облегчением. Там их ждали баня, деревянные стены, какое-то общество.
Путь прошёл без осложнений. Когда выехали к Красной Реке, пару раз Ворон останавливал сани и указывал на берег. Там в кустах виднелись спрятанные чукотские лодки.
– Кто-то заготовил байдарки. Надобно место припомнить…
Крепость появилась в поле зрения, едва перед путниками открылось обширное пространство Красного Озера. Водная гладь тянулась до горизонта. Берег был гористый, ближайшие холмы густо заросли снизу до середины склонов кедровым стлаником, сквозь который можно было пройти, только пользуясь медвежьими тропами. На северных склонах повсюду виднелось много снегу.
– Какая прелесть! – вырвалось у Маши, и она всплеснула руками.
– Да, здесь понимаешь, что такое истинная красота, – согласился купец. – Но со временем к ней привыкаешь и перестаёшь замечать.
– Неужели?
– Да, замечать перестаёшь. Однако покой испытываешь всегда. Наверное, покой – это вошедшая и прижившаяся в нас красота.
– Быть может, – сказала Маша и звонко рассмеялась.
Иван и Григорий оглянулись на неё и улыбнулись. Улыбнулся и всегда мрачный Ворон.
– Гляньте! – Григорий указал чуть влево. Там стояла на рыхлом снежном ковре в окружении деревьев одинокая яранга – большая приземистая конусовидная палатка, покрытая шкурами. Вокруг неё бродило несколько оленей, в снегу темнели щепки, кости, сидели две небольшие собаки с взъерошенной шерстью.
– Остановимся? – спросил Григорий. Иван молча кивнул. Навстречу им из яранги вышел молодой Чукча и внимательно осмотрел всех прибывших. Увидев Машу, он оживился и быстро заговорил.
– Его отец умер два дня тому назад, – перевёл Иван. – Чукчи хоронят покойников на следующий день после смерти, но его отец велел ждать приезда молодой русской женщины. Этот парень считает, что вы, Марья Андреевна, и есть та женщина.
– При чём тут я? – испугалась девушка.
– При чём тут она? – насторожился Алексей Сафонов.
– Этого я не знаю, – сказал Копыто и посмотрел на Чукчу, – он тоже не знает. Он лишь передаёт слова отца. Говорит, что все родственники уехали, испугались, что покойник будет долго лежать без погребения. Этот парень остался здесь один. Его зовут Кытылкот, это переводится на русский язык как Вставший Внезапно. Он просит вас войти в дом.
– Меня? – Маша неуверенно закачала головой.
– Не бойтесь, я буду сопровождать вас, – заверил Иван.
Внутри было сумрачно и смрадно. Позади остывшего кострища лежал на земле старик, одетый в белые шкуры. Посмотрев на него, Маша едва не вскрикнула и вцепилась в руку Ивана.
– Это он, – прошептала она.
– Кто?
– Дед, приходивший сегодня ночью ко мне… к нам на стоянку…
Иван задумался, медленно перевёл взгляд на Кытылкота и спросил у него что-то. Выслушав ответ, он сказал Маше:
– Кытылкот говорит, что его отец не мог никуда ходить этой ночью, так как был мёртв. Значит, к вам приходил его дух.
– Я не верю, – Маша испуганно бросилась к выходу, – я не верю! Это был просто сон!
– Марья Андреевна, – Иван, внимательно поглядев на покойника, пошёл следом за девушкой, – почему вы так взволновались?
– Что там случилось? – подступил к нему Алексей Сафонов. – Что испугало Марью Андреевну?
– Мертвец испугал. Она видела его нынче ночью. Во сне видела… Я был знаком с этим дедом. Его зовут Хвост Росомахи.
– Хвост Росомахи?
– Да, так его называли. В последние годы он был одним из самых непримиримых Чукчей. Он был сильным шаманом.
– У них тут все шаманы или как? – с ноткой язвительности спросил поручик.
– Не все называют себя шаманами, но многие имеют шаманский дар.
– Что же он хотел от Маши?
– Не знаю. Мы не сможем угадать. Это покажет время. Он сказал ей какие-то слова, когда приходил. Она поймёт их, когда наступит нужная минута. – Иван повернулся к Кытылкоту и переговорил с ним. – Он просит нас задержаться здесь для погребения старика. Его надо сжечь.
– Сжечь? Какое мы имеем к этому отношение? – возмутился Алексей. – Мы, чёрт возьми, не дикари какие-нибудь, чтобы участвовать в этом. Мы… Я просто не понимаю… В конце концов, это решительно невозможно…
Григорий обменялся с Иваном тихими фразами, тот кивнул и сказал:
– Я не знаю, чего хочет Хвост Росомахи, но раз он приходил к Марье Андреевне…
– Приходил? Да это всё глупости! – крикнул Алексей и рубанул ладонью по воздуху. – Глупости!
– Ваша сестра утверждает, что дед разговаривал с ней по-русски, а он не понимал при жизни ни единого русского слова. Марья Андреевна узнала его, войдя в эту палатку. Узнала, Алексей Андреич!
Или вы не верите ей? Для чего ей сочинять? Пусть это был лишь сон, сударь, но согласитесь, что сон очень уж необычный, раз он так лихо привязан к жизни.
– Я ровным счётом ничего не понимаю. – Поручик снял треуголку и нервно постучал по ней пальцами, будто стряхивая пыль.
– Хвост Росомахи – шаман, – сказал Иван, – он знает и умеет то, чего мы с вами предположить не смеем.
– Умеет? Он же умер.
– Тело умерло, сударь, но не он.
– Я отказываюсь понимать такую чертовщину! Все эти варварские фокусы, демоны какие-то, чушь всякая… Надо как-то разобраться…
– Воля ваша, но позвольте вашей сестре присутствовать при сожжении трупа. Бояться нам тут нечего. До фортеции осталось не более десяти минут езды. Вон она, Раскольная, видна как на ладони отсюда… Я вышлю Григория вперёд. Если будет нужда, к нам направят казаков.
– Не могу взять в толк, в чём вы меня хотите убедить. – Алексей нахлобучил шляпу обратно на голову.
– Алёша, – Маша уже оправилась от потрясения и подошла к брату, – я остаюсь на эту… церемонию. В конце концов, это даже любопытно. Когда ещё доведётся увидеть, как происходит погребение дикого язычника, тем более сожжение.
– Это очень мудро с вашей стороны, сударыня, – улыбнулся Иван Копыто и вернулся к сыну умершего шамана.
Кытылкот, уже изрядно заждавшийся, немедленно привёл двух оленей, предназначенных для убоя. Павел Касьянович с Григорием, оставив нарты для Маши и Алексея, поехали к Раскольной, бастионы которой ясно прорисовывались в мягких солнечных лучах, а Ворон остался помочь с погребением. Он развёл небольшой костёр перед входом в ярангу и подтащил к нему принадлежавшую Хвосту Росомахи нарту. Через пару минут Кытылкот свалил обоих оленей ударом ножа в сердце и сломал им ноги топором, Ворон помог ему отпилить им рога. Маша и Алексей следили за их действиями, будто заворожённые беспощадностью происходившего и яркостью пролившейся на снег крови. Жуткие нравы туземцев пробуждали в них отвращение, но ритм, в котором двигались Ворон и Кытылкот, погрузил молодых людей в некий транс. Вид побежавшей крови не вызвал у Маши тошноты. Иван, Ворон и Кытылкот вошли в ярангу и долго находились там, совершая ритуальное очищение покойника пучком травы, однако ни Марья Андреевна, ни её брат этого не могли видеть. До их слуха донеслись только звуки заклинаний, затем послышался громкий шорох шкур. Неожиданно для них Кытылкот и Ворон появились с обратной стороны жилища, неся покойника на меховой подстилке. Иван же вышел спереди и направился к одной из собак, привязанных к дереву.
– Кытылкот! Я бью? – спросил он по-русски, указывая на псину.
Чукча кивнул. Пока он и Юкагир укладывали покойника на нарту и привязывали его к ней, Иван Копыто увёл собаку за ярангу. Через несколько секунд собака взвизгнула, и вскоре Иван вернулся, держа в руке испачканный кровью топор.
– Вы убили её? – вяло спросил Алексей.
– Да, её дух будет охранять заднюю сторону жилища, где вынесли мертвеца. Так полагается делать.
– Неужели надо ещё кого-то убить? – Маша осмотрелась, будто ища чего-то.
– Больше никого.
Нарту с привязанным к ней покойником перенесли на костёр. Глядя на мертвеца, Маша подумала, что этот старый Чукча вовсе не умер, а просто отдыхал, нарядившись в красивую одежду из белой кожи. Но вот к нему подошёл его сын, помедлил пару секунд и быстрым движением перерезал ему горло длинным ножом.
Маша вскрикнула, выведенная ужасным зрелищем из задумчивости. Зажмурив глаза, она долго стояла, обнимая брата и пытаясь справиться с накатившей на неё слабостью. Ноги её дрожали. Когда она вновь посмотрела на сани с мертвецом, то увидела, что поверх покойника были наложены поленья, уже медленно занимавшиеся огнём. Она вытянула шею, желая разглядеть лицо шамана и в то же время страшась этого зрелища. Лицо мертвеца не поменяло выражения. Крови на разрезанном горле не было. Хвост Росомахи продолжал притворяться спящим.
Кытылкот обошёл погребальный костёр и остановился перед девушкой.
– Он благодарит за то, что вы, Марья Андреевна, с уважением отнеслись к просьбе старика, – перевёл его слова Иван.
– Да, да, конечно. Теперь мы можем ли уйти?
– Можем.
– Тогда поедемте в фортецию, – попросила она, – я совсем ослабла от всего этого.
– Не сомлеешь ли? – с беспокойством спросил сестру Алексей.
– Теперь уж нет… Я собралась, я в порядке… Но вот когда он клинком по горлу… Это кошмарно…
– Мы можем ехать, Марья Андреевна, – сказал Иван Копыто, – здесь всё закончится само.
– Скажите мне, он весь сгорит? – спросила она, отворачиваясь от дыма и прикрывая нос рукавом полушубка, чтобы хоть немного оградить себя от отвратительного запаха, вдруг повалившего от костра с внезапной силой.
– Что не сгорит, будет зарыто в золе…
Оставшийся до крепости путь провели в глубоком молчании. К крепости подъезжали с северной стороны, где к стенам прилегали изрядные наносы снега; утрамбованный зимними ветрами, влажный, он растаивал обычно лишь к середине лета. Уже перед самыми воротами Алексей спросил, повернувшись к Ивану:
– Вы знали его лично?
– Кого?
– Этого шамана, – уточнил поручик, нахлобучивая треуголку пониже.
– Да. Я много раз останавливался в его яранге. Когда-то он хотел отдать мне свою дочь в жёны, но она умерла. Это окончательно убедило его, что Чукчам нельзя родниться с белыми людьми.
– Он хотел, чтобы вы взяли в жёны дикарку? Вы – русский человек…
– Я слышал, что когда-то великие русские князья вступали в брак с ордынскими красавицами и не считали это зазорным. Случалось такое? – спросил следопыт.
– Это разные вещи, – заговорила Маша, – там речь шла о княжеской крови, о княжеских дочерях, пусть даже о татарских женщинах или о половчанках. Но здесь ведь просто дикари.
– А разве я не дикарь, Марья Андреевна? – задумчиво спросил Иван. – Признайтесь, что вы смотрите на меня как на дикаря. Я же чувствую, что непонятен вам, чужд.
– Это не так, – неуверенно возразила она.
– Это так, – едва заметно улыбнулся он.
С того момента, как повстречались следопыты, Маша не раз обращалась мысленно к Ивану и удивлялась: этот дикарь притягивал её внимание вопреки всему. От него шёл терпкий запах кожаной одежды, пропитанной жиром и дымом, и это неприятно задевало Машу. Она понимала, что мужчина, будучи охотником и следопытом, не мог благоухать помадой и пудрой, как светский лев, но от Ивана исходил запах грязи, никак иначе Маша не могла назвать это. У него были тёмные руки, выразительно черневшие неухоженными ногтями и складками кожи на пальцах. Его недавно выбритое лицо могло показаться Маше привлекательным в других обстоятельствах, скажем, если бы такой человек – прилично, конечно, одетый и причёсанный – явился на губернский бал, тогда она бы увидела в нём скрытую силу, богатый жизненный опыт, оплетённый тайнами сотен трагедий; да, он был бы ей крайне интересен. Здесь же, в окружении дикой природы, Иван являл собой просто естественную часть природы, но никак не мог представлять собой человека, достойного её внимания. Маша не умела объяснить этого себе, но чувствовала что-то в таком роде. Да, Иван Копыто был для неё дикарём, и всё же он умел изъясняться, пусть и не отточенным слогом, и умел слушать. Несмотря даже на вонючую грязно-коричневую кухлянку и привязанные к поясу деревянные языческие амулеты, он настолько сильно отличался от своего приёмного отца-Юкагира и от Чукчей, что Маша, обращаясь к нему, говорила «сударь» и «вы». А ведь он занимал положение не выше крестьянского, а то и ещё хуже – бездомного скитальца. У него ничего не было, кроме ружья, связки ножей и запряжённой оленями нарты, однако он вёл себя как равный среди равных, не проявляя ни тени подобострастия. Наоборот, сквозившая в каждом его жесте независимость заставляла Марью Андреевну чувствовать себя в некоторой степени существом низшего порядка. И это изумляло девушку, даже пугало немного.
– Всё не так просто, – сказала она и вздохнула, – двумя словами этого не объяснить. Мы привыкли к другой жизни, другому поведению.
– Я кажусь вам грубым? Не смущайтесь, сударыня, я способен понять это.
– Не в том дело… Для вас тут всё естественно, к примеру эти похороны… Должно быть, вы привыкли… Я не знаю, я затрудняюсь… Я совершенно обессилела от всего, что увидела за последние дни…
Раскольная
Крепость Раскольная представляла собой квадрат со стороной примерно в триста шагов. За высоким частоколом стояли командирские покои, канцелярия с пристроенным к ней большим амбаром, гауптвахта, кузница, десяток тесно лепившихся друг к другу жилых изб, некоторые были в два этажа, и небольшая церквушка. Почти все избы были украшены резьбой; кое-где белели прибитые над входом оленьи черепа с ветвистыми рогами. На двух противоположных стенах крепости возвышались бревенчатые башни. С наружной стороны укрепления расположились ещё пять домов. В зимнее время у них по соседству обычно стояли также юкагирские и корякские чумы, принадлежавшие семьям тех туземцев, которые рассчитывали найти защиту от враждебных Чукчей у казаков, не надеясь на собственные силы. Сейчас этих конусовидных кожаных палаток насчитывалось четыре, возле них лежали сваленные в кучу нарты.
Приезд Павла Касьяновича, хорошо известного всем в гарнизоне, и поручика Сафонова с очаровательной сестрой произвёл в крепости приятный переполох. Когда Алексей и Маша въехали в сопровождении Ивана в ворота, внутри стоял гомон, от которого путники успели отвыкнуть за два месяца. Остановившийся посреди двора обоз был облеплен людьми.
– Касьяныч, дорогой мой, да неужто ты не привёз водки? Не поверю! Не расстраивай меня!
– Мешки с мукой нам сейчас очень кстати. Маловато, конечно, но всё равно хорошо.
– А табачок, табачок привёз?
– Маслица бы коровьего, Касьяныч, у нас всё вышло.
Всюду сновали бородачи в расстёгнутых тулупах, а то и просто в длиннополых рубашках. Громкие голоса неслись со всех сторон, слышался звон молотка в кузнице, лаяли лохматые собаки.
– Вот мы и добрались, – с наслаждением проговорила Маша, поднимаясь с нарты.
– Теперь вы сможете отдохнуть, сударыня, – сказал Иван.
Как из-под земли возле Маши вырос высокий молодой человек с худым лицом.
– Позвольте представиться, сударыня, – выпалил он, выразительно шевеля чёрными усиками и почтительно склоняя голову, – подпоручик Тяжлов. Вадим Семёнович Тяжлов. Прошу простить, что я не при параде. – Он молодецки выпятил грудь, и тулуп его распахнулся, показывая застёгнутую до верхней пуговицы белую полотняную рубаху.
– Очень приятно, господин подпоручик. – Она ответила кивком и улыбкой, распуская платок, покрывавший её голову.
За спиной Тяжлова она увидела сутулую фигуру в капитанском мундире и поняла, что это и был комендант фортеции. В свои пятьдесят лет капитан Никитин выглядел совсем стариком, непокрытая седая голова была растрёпана, но сзади волосы лежали тугой косицей. Капитан слегка приволакивал левую ногу, рядом с ним шагал Григорий, быстро рассказывая что-то ему.
– Рад приветствовать вас, сударыня, – проговорил Никитин, останавливаясь перед прибывшими, – и вам также, господин поручик, желаю здравия… да-с, желаю всем здравия… Редко мы видим в нашем захолустье новые лица, крайне редко. И посему весьма рады, весьма… Милости просим…
– Разрешите доложить, господин капитан, – вытянулся Алексей Сафонов.
– После, голубчик, после. – Глаза старого вояки были по-стариковски влажными. – Пока что размещайтесь. Думаю, что лучше всего вам у Полежаева в доме остановиться. А вам, сударыня… Какие ж чудесные глазки у вас, детка моя, просто ангельские… Простите старика за вольности… Думаю, что вас в доме Прохорова устроить лучше всего, там Устинья присмотрит за вами, сделает всё наиприятнейшим образом… Вот Григорий покажет вам, куда шагать… Как только обоснуетесь, голуби мои, так прошу ко мне на чай, там и обсудим, с чем пожаловали…
– Дозвольте мне, господин капитан, проводить нашу гостью, – вызвался подпоручик Тяжлов, бодро скалясь. Капитан кивнул, и туго стянутая сзади косица вильнула, как крысиный хвост.
– Как тут всё? – по-свойски обратился к капитану Иван Копыто.
– Всё, слава Богу, тихо. Никто из Чукоч с того дня так и не появлялся, разве что Хвост Росомаший с семейством. Но он сам по себе, с военным отрядом диких не якшался. Скончался колдун дня два тому, упокой Господь душу его. А ведь сколько мы с ним сил потратили в былые годы на войну, на беспокойство всякое, а? И вот на тебе! К самой смертушке своей вдруг заделался смирным человеком.
– Мы сейчас проезжали там, – сказала Маша, готовая последовать за подпоручиком Тяжловым, но задержавшаяся, заслышав имя шамана, – мы видели его погребение… Жуть какая!
– Господи владыко! Чего тут только увидеть приходится, – капитан опять тряхнул косичкой. – Попервой всё было любопытно и странно, а теперь уж никакого интереса, голубушка моя, ни к колдовству их, ни к голым их дикаркам… Простите старику его откровенность.
– Пойдёмте, сударыня, я провожу вас к Устинье, – напомнил о себе Тяжлов и взглянул на Алексея Сафонова. – Вы не будете возражать, господин поручик, что я оказываю столь явные знаки внимания вашей сестрице? Если бы вы прожили здесь несколько времени, вы бы поняли, что такое для нас тут появление очаровательной женщины!
В доме Маша увидела худощавую Устинью, женщину лет двадцати пяти, с добрым, кротким лицом; она замешивала тесто на столе. Заметив Машу, она улыбнулась и вышла навстречу.
– Устинья, принимай гостей! – громко объявил Тяжлов, грохоча сапогами по дощатому полу. – Комендант распорядился, чтоб Марья Андреевна у тебя пожила.
– Доброго здоровья, барышня! Ах, какая вы хорошенькая, просто прелесть! Да что ж это я вас в сенях-то держу, проходите в горницу, устраивайтесь. Сейчас пошлю Степана за вещичками вашими.
Комната была просторная и светлая, на деревянном полу лежали цветные холщовые половичками, на стенах были растянуты медвежьи шкуры. В красном углу под образами стояли на маленькой полочке какие-то чукотские деревянные куколки.
Ближе к вечеру Устинья отвела Машу в баню, стоявшую на самом берегу озера, шагах в пятидесяти от крепостной стены. С наслаждением скинув с себя одежду, Маша впервые за два месяца почувствовала себя легко, расслабленно, непринуждённо. Отпала надобность прятаться от посторонних глаз, чтобы обмыть интимные части тела или справить нужду, просить всякий раз попутчиков отвернуться и краснеть при этом.
– Отдыхайте, барышня, небось с дороги-то ноги совсем служить отказываются. Я скоро вернусь, веничком пройду по вашей спинке, волосы вам расчешу после купания.
Разглядывая свою обнажённую кожу, быстро раскрасневшуюся под горячим паром, она оглядывалась на весь проделанный путь от Усть-Нарынска до Раскольной и не могла поверить, что смогла выдержать эту трудную дорогу. Напрашиваясь брату в спутницы, она не представляла даже десятой доли тех неудобств, которые ей предстояло испытать. Те немногие разы, когда на почтовых станциях была возможность обмыться целиком, стоя в корыте, казались после утомительной езды поистине райским наслаждением. Люди попадались разные, всё больше хмурые и необщительные. Лишь на Горюевской фактории, то есть почти уже возле самой Раскольной, повстречался, наконец, человек с тёплым сердцем и живыми чёрными глазами – Павел Касьянович Чудаков. В его обществе прошло четыре дня. Маша без колебания назвала бы эти четыре дня самыми приятными из всего путешествия, если бы они не омрачились столкновением с Чукчами и омерзительной сценой погребения старого шамана.
И вот настоящая баня, с паром, с запахом растомившегося дерева, с мутным воздухом. Машино сердце разомлело от удовольствия. Она легла на спину, поглаживая бёдра руками, вытянулась на горячих досках и закрыла глаза.
Замужество
Главный недостаток Маши заключался в том, что она жила исключительно сердцем и воображением. Об этом недостатке прекрасно знала её мать, Василиса Артемьевна, и переживала, что лирические мечтания дочери могли омрачить её жизнь. Василиса Артемьевна была настоящая русская дворяночка – очень набожная и чувствительная, верила во всевозможные приметы, гаданья, заговоры, в юродивых, в домовых, в скорый конец света. Она не пропускала ни одного нищего без подачки, никогда никого не осуждала, не сплетничала. Замуж вышла против своей воли, но считала, что так и полагалось устраивать семью. Муж её умер давно, и Василиса Артемьевна отдала сына, следуя воле усопшего супруга, на военную службу, а дочь воспитывала так, как считала нужным сама, и более всего старалась привить ей мысль о правильном замужестве.
Едва Маше исполнилось восемнадцать лет, мать выдала её за майора Бирюковского, тучного пучеглазого мужчину, потерявшего когда-то в походе кисть левой руки. Замужество вырвало Машу из сладкого сна, сквозь розовую дымку которого она взирала на будущую жизнь. Образы нарисованных в обольстительных мечтах юных избранников её сердца были грубо вышвырнуты в бездну небытия холодной рукой вялого супружеского существования. Майор оказался человеком скучным, насквозь изъеденным молью, ленивым. Молодая жена интересовала его только первое время, пока в нём клокотала кратковременная страсть. Затем огонь затух, и Маша почувствовала себя как бы заброшенной в шкаф вместе с ненужными старыми платьями. Она не понимала, что майор продолжал любить её какой-то ему одному свойственной любовью, но влечение его к её молодому телу действительно ушло. Он стыдился этого и прятал свой стыд за маску равнодушия, проводя время за карточным столом в кругу таких же отставников и пропахших нафталином дам, которые то строго изламывали брови, то отмахивались платочком, то убеждали всех в каком-то грядущем несчастье.
Через год скончалась Василиса Артемьевна. Из близких людей у девушки остался только брат Алексей, с которым она виделась, к её огромному сожалению, крайне редко из-за его военной службы. Иногда он наезжал в дом Бирюковского и привозил с собой своих товарищей. Одним из них, курчавым и звонкоголосым Михаилом Литвинским, Маша серьёзно увлеклась. Причиной тому были вовсе не душевные качества Михаила, а мечтательность девушки, которую старалась заглушить Василиса Артемьевна. Как все девушки, которым не удалось полюбить, Маша хотела чего-то, сама не зная чего именно, поэтому она с лёгкостью наделила Михаила всеми возможными чудесными особенностями, которых сама не знала, но с помощью которых в её пылком воображении создался портрет юноши, не имевший ничего общего не только с Михаилом Литвинским, но и с действительностью вообще. В этот созданный ею облик она влюбилась горячо и искренне.
Алексей недолюбливал мужа своей сестры и предпочитал появляться в доме Бирюковского, когда отставной майор отсутствовал. Иногда же, сталкиваясь с ним, Алексей обменивался с Бирюковским незначительными фразами, кои полагалось говорить при встрече, и далее молча ждал отъезда майора.
Однажды, когда Маша находилась в доме одна и ожидала приезда брата, к ней вошёл Михаил. Он был бледен и решителен.
– Я у ваших ног, Марья Андреевна. Не губите! Молю вас о снисхождении! – Молодой офицер склонился до самого пола и поднёс к своим губам край её тёмно-синего платья.
– Что вы? Поднимитесь, прошу вас…
Воображение не раз уносило Машу за пределы того, что считалось дозволенным по законам обыкновенной морали, но то было лишь воображение. Теперь же у её ног находился юноша, и его глаза горели огнём.
– Поднимитесь, прошу вас, – повторила Маша и почувствовала, как по телу её разлилась непреодолимая слабость. – Поднимитесь.
– Никогда! Только если вы пообещаете составить мне счастье!
– Но что вы? О чём вы?
Её сердце сжалось от восторга и ужаса, кровь вскипела в молодом теле. Михаил придвинулся к ней и взял её руку. От прикосновения его пальцев у Маши закружилась голова. Она даже не подозревала, сколь велика была в ней жажда физической любви и сколь легко её мечтательность открывала Михаилу доступ к её обаятельно-стройному телу.
Никогда раньше она не ощущала такого пламени у себя между ног. Огонь испепелял её, лишал силы, делал беспомощной. «Ужель это и есть настоящее чувство?» – спросила она себя, уплывая в неведомые глубины пьянящих ощущений.
Она очнулась от забытья, когда дверь внезапно распахнулась и на пороге появился Бирюковский. Маша, вся тёплая и разнеженная, с трудом открыла глаза и не сразу осознала, что именно произошло. Затем она вздрогнула, поняв, что её груди обнажены и что Михаил ласкал их настойчивыми руками и губами. Она похолодела. Ей показалось, что внутри у неё что-то оборвалось, будто комок горячего сердца вдруг зашипел и упал к низу живота.
Увидев полураздетую жену и прижавшегося к ней человека в офицерской форме, Бирюковский застыл в изумлении. Его обычно выпученные глаза сощурились, затем вновь раскрылись, но уже полные слёз. Он поднёс к лицу руку без кисти и красным отворотом рукава потёр лоб. Он пошевелил губами, желая что-то сказать, но не произнёс ни звука, после чего с внезапной силой ударил головой о могучий дверной косяк раз, другой, третий.
Маша закричала, неловко прикрывая себя, Михаил вспрыгнул на месте, метнулся влево, вправо, подбежал к двери, где опустился на пол отставной майор.
– Миша! – позвала она, но голос сорвался.
Молодой человек лишь махнул рукой, перепрыгнул через обмякшее тело Бирюковского и скрылся. Майор пришёл в себя и медленно поднялся.
– Нет, нет, – сказал он невнятно и пошёл, не глядя на Машу, в свой кабинет. Маша задрожала и в следующую секунду упала без чувств. Бирюковский не появлялся до самого вечера, но на ужин пришёл, хотя не притронулся ни к чему. И вновь он повторил несколько раз, поглядывая на жену:
– Нет, нет, нет…
– Простите, – шептала она едва слышно, – я понимаю, что мне нет оправданья, но…
– Нет, нет, нет…
Он произносил это «нет» то и дело, словно вслушиваясь в это слово, наслаждаясь им, играя с ним, изучая его. Маша не смогла усидеть за столом и поспешила уйти. Уже в дверях она услышала, как он очень громко, горько, с отчаяньем воскликнул:
– Нет!
Ночью дом всполошился из-за прогремевшего в кабинете майора выстрела. Слуги нашли его на полу в луже крови с простреленной грудью. Правая рука сжимала пистолет. Тело его мелко содрогалось. Приехавший врач объявил, что майор выстрелил в себя неудачно, пуля не затронула сердце, но пробила лёгкое. Помочь несчастному было нечем.
Проплакав возле лежавшего в беспамятстве мужа, Маша то и дело повторяла:
– Простите меня, простите…
После похорон она вдруг почувствовала непреодолимую потребность скрыться. Она не могла видеть людей, которые до того появлялись в доме Бирюковского. В глазах каждого из них она читала осуждение, их холодные взоры протыкали её, как сталь шпаги, хотя никто не знал о причине самоубийства.
– Алёша, – пыталась она объяснить брату свои ощущения, – мне невозможно оставаться тут. Мне стыдно, понимаешь? Мне стыдно… Но мне стыдно не того, что случилось со мной, милый мой братец. Нет, мне стыдно другого. Я совершенно спокойна за то, что влюбилась в Михаила Литвинского. Я сейчас уже понимаю, что это глупо… Но я молода, красива, мне опротивел мой муж, едва не задушивший мою натуру. Я полагаю, что имела право увлечься красивым человеком. Но майор покончил с собой из-за меня, вот что огорчает меня. Его смерть лежит на мне. Видишь ли, Алёша, я рада, что осталась одна. Его общество тяготило меня, теперь же я освободилась. Я не радуюсь его смерти, но радуюсь моей свободе. Да, его смерть лежит на мне, но я всё равно радуюсь моей свободе. Этого никто не поймёт. А стыдно мне того, что они – все эти лицемеры – этого не понимают. Мне стыдно, что я должна жить рядом с ними и делать скорбное лицо… Я не желаю. Мне невозможно тут.
– Что я могу сделать, душа моя? – пожимал плечами Алексей. – Хорошо бы отправить тебя отсюда, но куда? Не в столицу же. У нас таких средств нет.
– Я тоже не знаю. Но здесь я не останусь.
– Пережди некоторое время, Машенька. Я скоро должен отправиться на Чукотку с пакетом в фортецию Раскольную. К осени вернусь, мы с тобой потолкуем.
– Как чудесно, что ты уезжаешь! – оживилась Маша. – Я поеду с тобой!
– Нет, как можно! На край света!
– Это будет очень полезно для меня, Алёша. И даже не вздумай отговаривать меня…
– На край света…
– Может, Алёшенька, край света для меня лучше всего сегодня…
Вечер
Выйдя из бани, Маша заметила неподалёку сидевшего на корточках Григория. На коленях у него лежало ружьё. Увидев её, казак поднялся и провёл рукой по бороде, как бы приводя её в порядок.
– Вы кого караулите? – весело спросила она.
– Вас, Марья Андреевна.
– Разве есть нужда? – удивилась она. – Или я тут не в безопасности? Вот же крепость, рукой подать.
– Бережёного Бог бережёт.
– Значит, вы намерены сделаться моим ангелом-хранителем? – Она кокетливо наклонила голову и остановилась перед Григорием. От него сильно пахло табаком.
– До ангела-хранителя мне далеко, – Григорий замялся, – но если позволите, сударыня, то я буду приглядывать за вами.
Он вдруг показался Маше необыкновенно грустным. Сильный, мужественный, с выразительным лицом, с чёрным взглядом, он выглядел в то же время каким-то беззащитным, стоя перед ней, распаренной, посвежевшей, молодой. Он напряжённо ожидал её ответа. Маше даже подумалось, что её ответ как-то повлияет на его жизнь, возможно, даже разрушит её. И она с готовностью сказала: – Разве я вправе запретить вам? Извольте, приглядывайте. – Тут она кокетливо улыбнулась и добавила: – Но в меру!
– Зря вы смеётесь надо мной. Гляньте-ка вон хотя бы туда, Марья Андреевна. Видите? На той горе видите точки? Уже темнеет, но всё же можно разглядеть… – Григорий вытянул руку.
– Где? Ах, вижу, вижу. Что же это? Как же я узнаю? Разве я отгадчица? Неужели дикари подкрадываются? – Она с тревогой всматривалась в чёрные шарики, скатившиеся с белых гор.
– Нет, – он засмеялся, – это медведи. Сейчас начинается время медвежьих свадеб. В эту пору самцы весьма раздражительны, между собой дерутся да и вообще свирепы. Они, случается, и сюда забредают. Когда медведь в этаком настроении, к нему не всякий охотник отважится подступить.
Они быстро дошли до крепости. Войдя в ворота, Маша увидела высокую фигуру Тяжлова. Григорий тоже приметил подпоручика и сказал:
– Я, пожалуй, оставлю вас, сударыня. Не желаю встречаться с ним.
– С кем? – Маша сделала вид, что не поняла казака.
– С барином.
– С которым? Кто же тут барин?
– А вы небось не догадываетесь? Тяжлов у нас тут один барин. Я сюда от таких, как он, долгую дорогу проделал. И вот на тебе! – Григорий яростно сплюнул. – Уже и сюда, на край земли, они приезжают оттуда…
– С лёгким паром, сударыня! – подошёл Тяжлов, шевеля усами. Он успел переодеться в мундир и надел по случаю парик с буклями. – Вас уже ждут у коменданта. Братец ваш, господин то есть поручик, уже отрапортовался, так что мы целиком в курсе того, что государыня императрица утвердила указ сената о ликвидации Раскольной и что наше прозябание тут подходит к радостному концу. Позвольте сопровождать вас в командирские покои.
Офицер галантно предложил Маше руку, и она с немалым удивлением заметила, что Григорий успел бесшумно скрыться, будто растворившись в сером воздухе. Следуя за Тяжловым, она оглянулась и увидела, что казак отошёл уже далеко. Держа длинное ружьё на плече, он направлялся к Ивану, стоявшему в обществе бородатых мужиков и темнолицых туземцев под крепостной стеной возле амбара. Внезапно девушку охватило сильное желание оттолкнуть локоть подпоручика и пойти за Григорием, постоять со следопытами, послушать их разговоры. О чём они имели привычку беседовать, находясь подле Юкагиров и Коряков? Что тревожило их? Неужели у них были общие темы с дикарями?
– Вы меня вовсе не слушаете, Марья Андреевна, – громко сказал Тяжлов, – вы задумались о чём-то?
– Нет, просто я утомилась.
– Надеюсь, наше общество вернёт вам хорошее расположение духа…
Комендантский дом были невелик, но очень опрятен. Машу удивило, что хозяйством у капитана Никитина занималась пожилая чукотская женщина. Она была одета в русское платье, но, как уверил Тяжлов, пошловато улыбнувшись, носила под платьем чукотский комбинезон, как было заведено у туземок.[1]
– Вы не удивляйтесь, ангел мой, что у меня тут Чукчанка, – подошёл к Маше капитан, потирая глаза. – Как моя Авдотья отдала Богу душу два года тому, так я и привёл эту… Мне без хозяйки трудно. А эта… она славная хозяйка, чистюля знатная, не то что остальные дикие… Только вот к бане никак не удаётся её приучить… Отец Никодим крестил её, дал имя – Пелагея. Только она, поди, так и не поняла, что такое крещение. Тут у Чукоч кто угодно соглашается креститься, ежели за это подарки дают. Иногда по несколько раз приходят креститься ради подарков…
В доме капитана Никитина собралось пять служивших в крепости офицеров, включая самого коменданта, а также Павел Касьянович, Алексей Сафонов, Маша и две женщины, представленные новоприбывшим как жёны двух сидевших за столом господ. Помимо этого, присутствовал местный священник Никодим, человек сумрачный, неразговорчивый, но гораздый выпить.
Когда все уселись за стол, Тяжлов бодрым голосом предложил:
– Господа, а не устроить ли нам праздник?
– Праздник? – вскинул седую голову капитан Никитин.
– А у нас что? Али не торжество? – спросил кто-то. – Нет, я про иное толкую. Праздник по случаю наших гостей, – ответил Тяжлов таким тоном, будто его крайне удивляло непонимание коменданта. – Впрочем, господин поручик не совсем гость, он сюда по службе явился. Но вот зато Марья Андреевна есть настоящая гостья, никак иначе я не согласен её видеть. Вы, господа, подумайте только, какой она путь проделала, сопровождая по доброй воле своего брата! Предлагаю поднять за это наши бокалы!
– А что, судари мои, – широко улыбнулся Павел Касьянович, – почему бы и не погулять? Почему бы и впрямь не устроить праздника? Завтра же!
– Стоит ли из-за меня поднимать такой шум? – смутилась Маша, но в душе была польщена вниманием мужчин.
– Шум? – Капитан затрясся в мелком радостном смехе, заколыхав сединами. – Голубушка, Марья Андреевна дорогая, мотылёк вы мой нежный, о чём вы говорите! Поверьте старому солдату, весь гарнизон сочтёт за счастье поучаствовать в празднике. Здесь так редко можно найти повод для веселья. А ваше появление – знак свыше. Вы привезли нам известие об окончании нашей службы здесь… Знаю, знаю, что не вы, а ваш братец, но это всё одно… Мы устроим праздник с состязаниями в стрельбе.
Обе офицерские жены переглянулись. Они были несколько старше Маши, успели потерять за время проживания в Раскольной не только несколько лет жизни, но также свежесть и блеск в глазах. Они прекрасно понимали, что очаровательная сестра поручика Сафонова обошла их, едва ступила на территорию крепости, и что их мужья непременно распустят хвосты перед Машей. Всё это было закономерно, но ни одну из них не устраивало. Однако проявить открытую враждебность к гостье старого коменданта они не смели и потому с готовностью закивали.
Просидели за столом до темноты и зажгли сальные свечи.
Праздник был назначен на следующий день, о чём капитан Никитин с удовольствием объявил казакам на вечерней поверке. Те дружно загудели.
– Добро! А что на приз выставлено?
– Бутылка водки победителю и лисья шкура в придачу! – отозвался купец, стоя возле коменданта.
– Добро!
Перед сном Маша поднялась на крепостную стену полюбоваться окрестностями, после чего с удовольствием отправилась спать. Сон поглотил её сразу и унёс в неведомые дали.
Ночь прошла спокойно, если не считать, что чуть за полночь в крепость приехал какой-то казак и сразу направился к старому капитану, беспардонно разбудив старика.
– Ну, чем похвастаешь, Пётр? – почёсывая голые колени, спросил всклокоченный капитан.
– Толкутся они, ваше благородие, у истоков Красной, ну, где река выбегает из озера. Нас засекли, сучьи дети, и Василька загубили. Две стрелы. Одна в спину, другая в горло.
– Царствие ему небесное, – капитан неторопливо перекрестился, – хороший был солдат. Удалось тебе забрать его или там оставил?
– Со мной он, я без Василька не вернулся бы, мы с ним, чай, не один пуд соли съели…
– Ладно. А что дикие? Сюда пойдут, как думаешь?
– Пойдут. Шумят у себя в стане, шаманят. Человек сто, может, наберётся, не более.
– Добро, Пётр, добро, голубчик. Потрудился ты на славу. Теперь вот что, ты снеси Василя к отцу Никодиму. Но никому не говори ничего. Завтра у нас торжество намечено, так что шуметь не будем про Василя. У Никодима во дворике снега полно. Пусть Василь денёк полежит там, упокой Господь его грешную душу, затем проводим по-христиански. И пойди скажи сторожевым, которые впускали тебя, чтобы про Василя не болтали языком… На-ка вот тебе, выпей стопку. С возвращеньем тебя, соколик. И помянем брата нашего Василя.
– Благодарствую, ваше благородие…
Веселье
Погода с утра выдалась такая, что превзошла все самые смелые надежды обитателей крепости. Стояла весна, но настоящего летнего тепла ещё не было, поэтому ясное небо заставляло всех с особой живостью радоваться солнцу.
Покуда люди готовились к состязаниям, размечали дистанции, устанавливали мишени, Маша стояла на крепостной стене и любовалась видом на Красное Озеро. Бесшумным шагом к ней подошёл подпоручик Тяжлов, одетый в зелёный мундир, с начищенными золотыми пуговицами, со шпагой, в зелёной треуголке.
– Если не знать, что вокруг шныряют дикие, то можно подумать, что мы находимся в раю, – сказала Марья Андреевна, заметив присутствие Тяжлова. – Вы только полюбуйтесь: какие горы, какое озеро!
– Да, сударыня, но это лишь красивое обрамление суровой жизни, своего рода театральная декорация, – ответил он и посмотрел на сверкающую гладь воды. – Мы слышим чудесную тишину за крепостной стеной и радостные голоса по эту сторону частокола. Однако в любую минуту на нас могут ринуться сотни и сотни свирепых туземцев, чтобы не просто испортить нам задуманный праздник, но и лишить нас жизни.
– Вам нравится пугать меня, сударь.
– Ничуть, Марья Андреевна. Просто я знаю положение дел. Поинтересуйтесь у кого угодно, хотя бы у коменданта; капитан – человек бывалый. Он знает цену этому обманчивому покою за частоколом. Несколько наших разведчиков сейчас патрулируют окрестности.
– Я спрашивала у следопытов. Они говорят, что теперь Чукчи на самом деле не хотят воевать, не то что раньше…
– Следопыты? Иван, что ли, с Гришкой? – Тяжлов презрительно дёрнул усами. – Они и вовсе готовы отказать диким в умении совершать атаки… Нет, сударыня, к сожалению, опасность вернулась в эти места.
Подпоручик Тяжлов нарочно сгущал краски. Ему хотелось, чтобы у Маши создалось впечатление, будто гарнизон ежедневно жил под угрозой нападения со стороны коварных Чукчей. Тяжлову нравилось выглядеть человеком героического времени, а не бездельником на военном плацу, который не представляет, чем бы занять голову и руки. Он точно знал, что взбунтовавшихся туземцев едва ли могло набраться сто человек – эпоха беспрестанных кровавых столкновений в здешних местах канула в безвозвратное прошлое. Теперь уже никому не суждено было увидеть военный отряд в тысячу саней, покидающий крепость и уходящий в снежную мглу Чукотки. Десятка два или три казаков могли, конечно, отправиться в погоню за вороватыми дикарями и застрелить их, но разве это может сравниться с экспедициями знаменитого Павлуцкого, дравшегося с Чукчами лет тридцать назад…
– А что, Вадим Семёнович, – Маша повернулась к Тяжлову и посмотрела в его нагловатое лицо, – страшные тут были баталии? Мы по дороге сюда имели небольшое столкновение с Чукчами, но наши спутники легко справились с ними. Это было очень неприятно для меня, однако я понимаю, что это не был настоящий бой.
– Война с дикими всегда страшна, дорогая Марья Андреевна. – Он хищно шевельнул усами. – Жестокость, кровь…
– Оставим эту тему. Мне после некоторых сцен, виденных по дороге сюда, не хочется вспоминать о крови… Скажите, что там с состязанием? Когда оно начнётся? – Девушка быстро отвернулась от него и посмотрела за стену.
– Вам так любопытно?
– Разве мне представится другой случай увидеть, насколько ловки пограничники в стрельбе? И вообще, после долгого пути сюда мне хочется немного развлечься. Признаюсь, я большая любительница до шумных веселий, застолий, балов, танцев. Но последнее время в моей жизни было больше печальных минут, чем возможностей повеселиться. У вас случаются тут танцы?
– Танцы? Ежели в смысле светском, то нет, разумеется, нет… Где уж… Так, быть может, иногда под пьяные песни и хлопанье… Впрочем, это всё напоминает мне пляски дикарей. Никаких мазурок. Скажу вам откровенно, Марья Андреевна, мы тут очень быстро дичаем.
– Теперь уж скоро это прекратится, раз получен приказ о выводе войск.
– Надеюсь, что капитан Никитин не станет попусту тянуть время. Жаль, бумаги пришли так поздно. Пока суть да дело, выпадет снег, так что неизвестно, когда нам отсюда уходить…
– Так что со стрельбой? Я вижу, кое-кто уже собирается.
Состязание должно было состояться на самом берегу озера, перед воротами крепости, где нередко проводились учения в стрельбе и отработка штыкового боя. Принять участие в состязании хотели многие, но среди людей, отлично владевших ружьём, насчитывалось лишь пятеро, чьи имена гремели среди аборигенов и казаков. На них начали делать ставки ещё до начала соревнований.
– Почему ты не принимаешь участия? – спросила Маша у Алексея, спустившись со стены.
– Зачем выставлять себя на посмешище?
– Разве ты плох в этом?
– Я рассуждаю трезво: здесь людям приходится пользоваться оружием чаще, чем это делаю я. Если бы разговор шёл о фехтовании, я бы потягался с любым…
Стреляли без сошек, с дистанции в сто шагов. Мишенями служили оленьи черепа с нарисованными на них концентрическими кругами и прицельным очком в центре. Первыми стреляли рядовые, желавшие показать своё искусство, но не претендовавшие на приз; они стреляли просто ради удовольствия. В крепости проживало с десяток женщин, не считая нескольких туземок. Из них только две были жёнами офицеров и считались дамами высшего сословия. Простота и грубоватость манер сочетались у них с преувеличенным мнением о своём достоинстве, хотя обе они обладали вполне привлекательной внешностью. Маша оказалась единственной девушкой, выгодно выделявшейся среди других представительниц прекрасного пола, и была единодушно признана мужским населением крепости королевой праздника. Ей было поручено вручить приз победителю.
– Что я говорила тебе, душенька? – прошептала одна из офицерских жён своей подруге. – Они уже увиваются за ней, из кожи лезут вон, чтобы понравиться. Вот уж и королевой объявили…
Вышедшие на состязание мужчины то и дело поглядывали на Марью Андреевну, каждому из них было бы приятно получить прекрасно выделанную лисью шкуру из её рук.
Как и следовало ожидать от людей, для которых стрельба была не только забавой, но и средством существования, все они стреляли хорошо. Вскоре первые выставленные в качестве мишени черепа раскололись, и их заменили новыми. Комендант назвал имена стрелков, заслуживших право участвовать во втором туре. Иван Копыто и Григорий приняли известие о переходе во второй тур как само собой разумеющееся. Похоже, они не допускали мысли, что кто-то мог обойти их в стрельбе.
Участники соревнований отступили от цели ещё на двадцать шагов. Каждый выстрел принимался громкими криками и аплодисментами, иногда раздавался и свист, по-разбойничьи резкий и пронзительный. Некоторые из зрителей подбадривали участников состязаний, некоторые подтрунивали над ними, стараясь отвлечь от стрельбы, дабы не позволить им выйти в победители. Но даже шутки, зачастую довольно грубые, носили совсем беззлобный характер. С особым интересом следили за состязанием Коряки и Юкагиры, жившие возле крепости; они не издавали громких криков, не потрясали руками, но их узкие глаза светились восторгом.
К третьему туру осталось только пять стрелков: Иван Копыто, Григорий, подпоручик Тяжлов и ещё два рядовых казака с задорными лицами. Оленьи черепа установили ещё дальше.
– В качестве удачного попадания будет считаться выстрел, который собьёт кончик рога! – объявил комендант. – Время шуток кончилось, соколы мои! Ежели будет отстрелено несколько кончиков, будем сравнивать, кто сбил рог ближе к верхушке.
Выпустив свои пули по мишеням, рядовые казаки выбыли, продолжая улыбаться, будто ничуть не переживали из-за упущенного почти из самых рук приза.
В какую-то минуту Маша не удержалась и крикнула:
– Желаю удачи!
Кому адресовались её слова, сказать было трудно, девушка знала всех троих оставшихся стрелков. Поскольку в это время лицом к ней стоял только Григорий, он принял сие пожелание на свой счёт и поклонился в ответ. Девушка смутилась и опустила глаза. Видевший это подпоручик Тяжлов нахмурился и шагнул к Ивану.
– Слышь, Копыто, – буркнул он недовольно. – Зачем Марья Андреевна именно Гришке желает удачи?
Иван пожал плечами и посмотрел на Григория. В глазах казака он прочёл глубокое удовлетворение от того, что самая красивая девушка обратила на него внимание. И ещё Иван понял, что победа для Григория теперь была самым желанным подарком.
– Ваш черёд, господин подпоручик.
– Благодарю. – Офицер вышел на линию.
Некоторое время он делал вид, будто проверяет оружие, готовясь сделать выстрел, затем долго принимал классическую стойку. Напряжение нарастало. Тяжлов чувствовал это. Он давно готов был стрелять, но выжидал, когда Маша устремит на него свои глаза, она перешёптывалась о чём-то с одной из офицерских жён.
Григорий отступил на несколько шагов, не желая мешать подпоручику.
Наконец Тяжлов принял изящную позу, поднёс приклад к плечу, опустил ружьё и снова поднял его. Все затаили дыхание. Он плавно потянул спусковой крючок.
– Мимо! – крикнул кто-то. – Мимо! Господин подпоручик промахнулся!
Тяжлов грубо выругался себе под нос, не на шутку разозлившись на себя. Он понял, что переступил через дозволенную грань, покрасовался излишне и потерял на этом необходимую ему концентрацию. Не единожды уже именно желание показать себя в наиболее выгодном свете подводило его, но всякий раз он забывал об этом.
– Чтоб вам… – прошипел он.
Иван посмотрел на Григория.
– Пожалуй, я уступлю тебе очередь, – проговорил Иван.
– Зачем? – удивился казак, напряжённо глядя на далёкие черепа.
Иван медленно обвёл взором зрителей и очень тихо сказал:
– Если ты попадёшь в рог, я не стану стрелять. Как бы низко ты ни отстрелил его.
Григорий быстро посмотрел на товарища.
– Не станешь? Почему?
– Мне почему-то кажется, что тебе очень нужно победить сегодня.
– А если я промахнусь?
– Тогда я сделаю выстрел. Зачем упускать из рук водку и лису? Водку можно выгодно обменять на пули и порох. – Иван хитро сощурился.
Григорий усмехнулся:
– Что ж…
Иван отступил на пару шагов, чтобы не мешать другу, и опустил глаза. Через несколько секунд он услышал выстрел и дружные крики приветствия.
Теперь, когда рог был отстрелен, Григорий повернулся к Ивану. Тот посмотрел на олений череп. Рог был отбит посередине. Иван улыбнулся, зная, что сам он сделал бы более удачный выстрел.
– Я отказываюсь стрелять! – крикнул он неожиданно для всех и обеими руками поднял ружьё над головой. – Я не буду стрелять! Объявляйте победителя!
Толпа загудела, выражая удивление и восторг. Все приветствовали Григория, и никто не знал, каких сил стоило Ивану отказаться от выстрела, наступив на горло собственной гордыне.
Григорий шагнул к нему.
– Ваня, спасибо. Но скажи мне почему?
Иван пожал плечами.
– Я целился туда, куда мог попасть, – сказал ему казак, стараясь перекрыть гул голосов. – Но ты бы выстрелил точнее. Если бы ты стрелял передо мной, у меня не осталось бы шансов… Почему ты сделал это?
– А почему ты согласился на это, Гриша? Впрочем, что мне за дело… Я просто подумал, что мне это вовсе не нужно: победа, приз…
– Ты уступил, – казак стиснул Ивану руку, – ты уступил мне.
Лицо Ивана сохраняло спокойствие, почти равнодушие.
– Ты, поди, заметил, что я… что мне… – Григорий понизил голос.
– Помилуй, Гриша, что ж я такого заметил?
– Что на Марью Андреевну я смотрю… Стыдно мне говорить о том… Она ведь вон какая… Я давно привык тут чукотских девок брюхатить, но они ж – иное дело. А как увидел Марью Андреевну… Понимаю, что не пара я ей, но в сердце, вишь ты, впервые за столько лет песня зазвучала… Поверишь ли, Ваня?
– Поверю, – задумчиво ответил Копыто. – Иди ж за призом. Марья Андреевна ждёт, и старик тоже вон рукой тебя манит.
– Спасибо…
Война
Рано утром на следующий день появились Чукчи. Казаки едва успели возвратиться с устроенного позади крепости кладбища, где похоронили убитого дикарями Василя, как над крепостными стенами разнеслось предупреждение.
– Ого-го! – звучно кричали дозорные на вышках. – Дикие пожаловали! Тревога!
В сером воздухе Чукчи темнели бесформенной массой на берегу озера, медленно продвигаясь в направлении крепости.
– В ружьё! – скомандовал кто-то, и заспанное пространство Раскольной очень скоро оживилось, задвигалось.
– Откуда идут?
– Много ль их?
– По воде али по берегу надвигаются?
– Давно у меня руки на них чешутся!
Поднятый шум заставил обитателей стоявших за крепостной стеной избушек и чумов быстро проскользнуть в приоткрывшиеся специально для них ворота. Решительным шагом прошёл на стену капитан Никитин, застёгивая мундир и насаживая треуголку на непричёсанную голову. Появился и отец Никодим в длинном чёрном платье. Его худощавое лицо, облепленное неопрятной рыжеватой бородой, являло собой воплощение безудержной ненависти. Чукчи остановились на достаточном расстоянии, чтобы не быть досягаемыми пулями и ядрами.
– Неужто канальи решились? – не поверил капитан Никитин и потряс над головой кулаком. – Вот я вас!
– Вряд ли, господин капитан, – ответил Тяжлов, подошедший к нему. – Силы слишком не равны. А коли полезут, пальнём из пушек. Пара залпов, полагаю, поставит точку, господин капитан. Их же по пальцам пересчитать можно, поглядите, даже отсюда видать…
– Оно, голубчик, конечно, но вот ведь… Жаль, жаль… Два года жили мы спокойно, не знали беды. Я уж совсем уверился в том, что подполковник Пленисер твёрдо договорился с дикими, когда встречался тут с ними. Помните, Вадим Семёнович, сколько их тут собралось, диких-то? Штук сто байдар приплыло, по двадцать человек в каждой! А сколько на оленях пришло! Да, зрелище было не из рядовых.
– Ничего, господин капитан, зададим сейчас перцу этим тварям, тоже зрелище будет! – воскликнул Тяжлов.
– Признаюсь, очень мне не хочется бой принимать. Отвык я, старый стал, запалу внутреннего не осталось. Вот раньше, помню… Впрочем… Распорядитесь подготовить орудия, кхе-кхе… И вот ещё что… пришлите ко мне поручика Сафонова. Он небось после вчерашнего праздника храпит почём зря, а тут война. Пусть воочию убедится, чтобы в штабе потом доклад держать мог.
На стенах собралось к тому времени изрядно людей. Все гомонили, но волнения особенного не чувствовалось.
– Не-е, не пойдут… Кишка тонка у косоглазых…
– А вот как Седая их Баба, понимаешь, накрутит, так и попрут…
– Не-е, кишка тонка… Мы их передавим, как тараканов…
Вскоре на стену взобрались и женщины, которые не меньше казаков интересовались возможным развитием событий. Среди них Тяжлов сразу разглядел Машу. Она была взволнована, почти испугана. Подпоручик шагнул было к ней, но тут послышался лёгкий хлопок со стороны Чукчей.
– Смотри-ка, сукины дети! Палят по нам! Берданку прихватили.
– Небось твою, древнюю, которую ты им справил за пяток волчьих шкур! Пуля ударилась о брёвна.
– Вот ведь, черти, умеют, обучились кой-чему… А ну, ответим…
– Не приказывали…
Дикари медленно приближались, постепенно рассеиваясь по всему берегу. Они двигались, низко пригнувшись к земле, перебегая с места на место и застывая там, делаясь похожими на вывернутые из земли пни. Снова донёсся выстрел с их стороны, вспыхнуло дымное облачко пороха, и пуля глухо стукнулась в стену.
– Отставить смех! – пронёсся над людьми внезапно окрепший и удививший всех голос капитана Никитина. – Уведите отсюда женщин, не бабье дело! А ну, ребята, взяли на изготовку!
Но никто из женщин не покинул стену, всем было слишком интересно смотреть. Наступавшие Чукчи становились различимее, многие несли длинные копья с большими наконечниками-ножами, ещё большее число было вооружено луками и стрелами. У многих через плечо висели ремни, с помощью которых дикари метали камни.
– Пли!
Рассыпчато затарахтели вдоль частокола выстрелы, приправленные крепкими бранными словами, из которых самым безобидным выражением было «язвина тебе в рот, погань вонючая».
Сильно запахло порохом, над стеной густо потянулся сизый дым.
Ближайшие фигуры наступавших уткнулись в землю и застыли. Другие поднялись во весь рост и побежали к крепости. Казаки принялись быстро заколачивать новые пули в стволы.
– Орудие! Пли!
Пушечный выстрел осыпал картечью самую гущу бежавшей толпы. Чукчи отхлынули в разные стороны, попятились. С десяток тел осталось биться в агонии.
– Ну вот, – кивнул капитан, – дело нехитрое.
Дикари отступили к лесу, прячась за стволами лиственниц и берёз. Почти одновременно с грохнувшей пушкой и поднявшимся вверх столбом дыма испортилась погода. Испортилась как-то сразу, как по отмашке. Заморосил мелкий северный дождь.
– Всё, кончилось, – проговорил стоявший рядом с Машей Павел Касьянович. – Пойдёмте в дом, Марья Андреевна. Не столько от стрел надобно вам укрыться, сколько от дождя.
– Вы заметили, сколько там убитых? – тихим голосом спросила девушка, её руки дрожали.
– Да, голубушка, заметил. Могло быть и больше, если бы из пушек пальнули ещё пару раз.
– Не пальнут?
– Полагаю, что нет. Наш доблестный комендант – человек военный, но мягкосердечный. Без нужды не накричит и лишней пули не пустит. Не видит в этом, так сказать, удовольствия. Туго ему здесь приходится. Тут лучше служить тому, у кого сердце из льда, как у господина, например, Тяжлова. Этому дай только покомандовать…
– Маша! – послышался сзади голос Алексея. – Как ты?
– А что мне будет? – с грустью откликнулась она и обняла брата. – В животе и смерти Бог волен… Вот иду чай пить, Пал Касьяныч приглашает. А тебя господин капитан дожидается.
– Где?
– Вон там. – Она указала рукой на потерявшуюся среди рослых казаков фигуру коменданта.
Алексей в одно мгновение взлетел по лестнице на стену и протолкнулся сквозь толпу тулупов.
– Ну что тут? – чуть ли не выкрикнул он, подбегая к Никитину и возбуждённо глядя на старика.
– Откатились, батенька ты мой, – бодро отозвался Анисим Гаврилович, глядя на лес. Затем посмотрел на Алексея и спросил: – Угомонились они там или как? – Спросил так, будто Алексей Сафонов находился возле него с самого начала атаки и будто не Алексей хотел узнать у него, каково положение. – Вот, полюбуйтесь, сударь мой, какие дела творятся на земле! И скажите мне после этого: как нам быть? Как быть простым людям? Как быть тем, на кого надавливают и принуждают отвечать ударом на удар? Как быть? Как соблюдать заповеди Христовы? Вот я уже старик почти, не по годам, конечно, а по состоянию моему. И я не знаю ответа…
– Ужели всё кончено? – воскликнул Алексей растерянно.
– Как знать. – Комендант пожал плечами.
– Вот ведь… Как же так! – Алексей стукнул кулаком по бревну.
– Вас что-то заботит, господин поручик? – полюбопытствовал Тяжлов, улыбаясь состоянию Алексея Сафонова.
– Вот я опять не у дел. – Алексей с недоумением посмотрел на Тяжлова. – Покуда понимался на стену, война и закончилась… Капитан не расслышал его слов, а Тяжлов усмехнулся.
– А где Иван-то? – спросил Никитин.
– Копыто? – уточнил Тяжлов.
– Да, Копыто. Распорядитесь, Вадим Семёнович, чтобы его кликнули ко мне.
По стене прокатилось имя следопыта.
– Идёт, господин капитан.
– Надо бы переговорить с ними, голубчик, – сказал Анисим Гаврилович следопыту, когда тот остановился перед ним. Капитан кивнул через частокол в дождливое пространство. – Вразуми их, дружок, что мы не желаем воевать и что мы вовсе уходим отсюдова. Они, пожалуй, и без того уже не сунутся, но надобно, чтобы и успокоились к тому ж, чтоб ночью не прокрадывались к нам.
Иван стоял перед комендантом и смотрел через его голову. По его лицу текла вода, намокшие длинные волосы прилипли ко лбу и к щекам.
– Ты объясни этим бестиям неугомонным, что нам теперь до них нет дела.
– Я попробую.
– Копыто, – окликнул его кто-то из казаков, – ты только далеко не отходи, чтобы мы в случае чего из ружьишка могли достать какого-нибудь особливо норовистого сорвиголову.
Следопыт кивнул и неторопливо зашагал прочь. Алексей удивлённо проводил его взглядом. Спокойствие Ивана поразило его.
– Он что, прямо к ним пойдёт? Прямо к дикарям?
– А то как же-с? – пожал зелёными плечами капитан и выглянул за частокол. Алексей увидел его мокрую седую косу. Анисим Гаврилович, похоже, никогда не расплетал её. Она вяло лежала на потемневшем под дождём мундире.
– Но ведь это… Они легко убьют его…
– На то он и Копыто, чтоб ходить там, где остальные люди не умеют. Алексей быстрым шагом пошёл к лестнице и спустился вниз.
– Иван! Копыто! – позвал он.
Следопыт обернулся, услышав своё имя. Он стоял возле треноги, над которой болтался котелок с кипящей водой.
– К вашим услугам, сударь, – сказал он и зачерпнул кружкой из котелка воды. – Не глотнёте ли чуток чаю? Я страсть как пить хочу.
– Вы сейчас чай пить собрались? – не поверил Алексей.
– А что такое? Разве нельзя?
– Но ведь…
Алексей смутился. Иван был примерно одних с ним лет, может, на год-два старше, но он разительно отличался от Сафонова. Он был пронизан уверенностью и спокойствием. Глядя на него, Алексей мог бы поклясться, что следопыта не беспокоил предстоящий выход за ворота к рассвирепевшим дикарям.
– Вам… – Алексей хотел спросить, не боязно ли Ивану, но не посмел и спросил другое. – Помощь не потребуется?
Следопыт с удовольствием отхлебнул чаю и отрицательно повертел головой. Мокрые волосы его болтнулись и криво налепились на лоб.
Из-под навеса, пристроенного возле стены, вышел Григорий. Он криво нахлобучил мохнатую шапку и остановился возле костерка.
– Чего старик-то звал? – заговорил казак, не обращая внимания на Алексея.
– Надо сходить туда, – Копыто кивнул на ворота, – Гаврилыч хочет поговорить с ними.
– Когда?
– Сей момент, дай лишь чай допить.
– Я с тобой. Что возьмём?
– Только ножи, – ответил Копыто и поправил ремень, перетягивавший его кухлянку в поясе. Он крикнул что-то на непонятном языке стоявшим поодаль Корякам, и один из них подбежал к нему, держа в руке два ножа. У следопыта были свои ножи в чехлах, но эти два он сунул за спину под ремень. Проверив пару раз, насколько легко до них дотянуться, Копыто кивнул Григорию, и они уверенно двинулись к воротам.
Алексей стоял совершенно растерянный, провожая взглядом следопытов и чувствуя себя существом второго сорта.
– Алёша! – послышался голос сестры.
Поручик обернулся на зов. Маша стояла в дверях ближайшей избы. Она помахала ему рукой, призывая к себе.
– Зачем ты мокнешь под дождём? Что там происходит теперь? Почему ты бледный? – Она засыпала его вопросами.
– Видишь ли, Машенька… – Он наморщил лоб и задумался.
– Зайди в дом, сделай милость.
– Видишь ли, душа моя, я совершенно себя не узнаю. Я будто только что родился. Я ни на что не способен. Здесь все чем-то заняты, все успевают сделать нужное дело. Я же… Я же никому даже не нужен… Вот и сейчас…
– Что сейчас? – Она втянула его за рукав в дверь.
– Сейчас Иван отправился с Григорием к дикарям. Я было предложил мою помощь, но они меня словно и не услышали…
– Куда отправились?
– К Чукчам… Чтобы переговорить с ними…
Маша секунду смотрела на брата, затем вдруг оттолкнула его и побежала к крепостной стене.
– Машенька!
Девушка поднялась на стену. Стоявшие там люди негромко переговаривались. Маша вытянула шею и устремила взор на пространство, усеянное неподвижными телами убитых. Увидев Ивана и Григория, спокойно шагавших в сторону леса, она затаила дыхание. Иван время от времени поднимал над головой руку. Удалившись шагов на сто от стены, оба следопыта остановились. Минут через пять из леса вышли несколько человек и неуверенными шагами двинулись к ожидавшим их следопытам.
– А если они пустят стрелу? – Маша дёрнула за рукав стоявшего возле неё рыжеватого бородача, не сдержав своего волнения.
– Они могут, – сипло ответил мужик, – они всё могут. Одно слово – дикие.
– И что же тогда?
– Это уж как стрела полетит.
– А вы? Что тогда вы сделаете? – продолжала выпытывать девушка.
– Мы тогда, барышня, пальнём из ружьишек по этим сукиным детям, – медленно объяснил казак.
Тем временем Чукчи дошли до Ивана и Григория. Их было пятеро, за спинами у них висели колчаны. Они остановились шагах в трёх от следопытов и начали говорить. Двое из тех дикарей были одеты во что-то очень странное, ровное и длинное.
– Что за наряды на них? – спросила Маша.
– Это они в панцири укрылись, – засмеялся стоявший возле Маши казак.
– Панцири? – Вглядевшись, Маша поняла, что панцири представляли собой гибкие щиты от груди до колен, обёрнутые вокруг туловища. – Как же эти панцири сделаны?
– Они из толстых пластин, барышня, из вертикальных кожаных пластин. Пуля-то пробьёт эту броню, а вот стрела или нож застрянут… Но они, я гляжу, вроде спокойно толкуют. – Казак повернулся к своим товарищам. – Слышь, братцы, уболтает их Копыто, что ли?
– Уболтает, – уверенно ответили ему.
Минут через пятнадцать Григорий оставил Ивана одного и подошёл к крепостной стене.
– Они хотят увидеть господина поручика! – крикнул он. – Позовите сюда Алексея Андреича! Пусть выйдет к нам!
Услышав имя брата, Маша не на шутку перепугалась и побежала искать Алексея.
– Зачем тебе выходить туда? – остановилась она, заглядывая ему в лицо.
Он пожал плечами в ответ, и она прочла в его глазах сильное волнение.
– Ты не беспокойся, Маша, не беспокойся. – Он поцеловал её в лоб, его губы казались ледяными. – Ты же видишь, что никто уже не стреляет. Беспокоиться не о чем.
– Но зачем они зовут тебя? Разве ты имеешь какое-то влияние?
Он опять пожал плечами и тяжело вздохнул:
– Не знаю, у них тут свои правила, я не знаток… Ну, нечего тянуть, надобно идти. Он поправил шпагу и направился к воротам. Маша быстро перекрестила его в спину.
– Ваше благородие, – на пути у Алексея возник рослый казак, – пистолет вы уж оставьте здесь, не то они насторожатся. А я покараулю его, не извольте волноваться…
Алексей кивнул и протянул казаку пистолет. Выйдя за ворота, он остановился на пару секунд и подумал: «А ведь ты здорово трусишь, братец». Он стиснул кулаки и быстрыми шагами пошёл, даже почти побежал к Григорию.
– Что там? – спросил он, едва дойдя до казака.
– Всё нормально, ваше благородие. – Казак успокоительно кивнул. – Просто они хотят убедиться, что в фортецию приехал новый офицер и что мы не обманываем их, говоря о выводе войск.
– Всего-то?
И всё же Алексей не успокоился. Жуткие кожаные панцири, испещрённые следами ножей и копий, вызвали у него новый прилив холода к рукам и ногам. Тело налилось тяжестью. Он покосился на крепость, и она показалась ему в ту минуту невероятно надёжной, но такой недосягаемой. Над частоколом виднелись головы людей, торчали ружейные стволы, похожие издали на соломинки.
Иван попросил рассказать о постановлении сената, и Алексей подчинился, хотя чувствовал себя смущённым. Всё было нелепо: офицер выполнял указания какого-то следопыта, а не управлял ситуацией. Иван перевёл дикарям слова Алексея, и Чукчи удовлетворённо забормотали что-то.
– Вот и всё, мы можем возвращаться, – объявил Иван. – Теперь они направят в фортецию своих главарей.
– Всё? – удивился молодой офицер.
– Пойдёмте.
Самым тяжёлым испытанием для Алексея было повернуться к дикарям спиной, зная, что у них есть луки и стрелы. «Возьми себя в руки, будь мужчиной», – сказал он себе. Сделал первые шаги по направлению к крепости и обернулся: Чукчи спокойно шли в противоположную сторону. Увидев это, Алексей вдруг сразу повеселел, молчаливость улетучилась, захотелось общаться, и даже Иван Копыто, прежде не вызывавший в Алексее добрых чувств, сделался по-особенному милым. «Как выгодно быть трусом. Нужна самая малость, чтобы исправить настроение с подавленного на весёлое… Значит, я всё-таки трус?» – размышлял Алексей, широко улыбаясь и испытывая почему-то огромное облегчение от того, что признался себе в этом. Теперь для него отпадала всякая необходимость оправдываться перед самим собой в определённых ситуациях, теперь ничто не связывало его.
Совсем недавно поручик Сафонов раздумывал над тем, куда приложить всю силу своей молодости: посвятить ли себя целиком военной службе или отдаться служению женской красоте. Впрочем, в любовь он почти не верил, хотя увлекался быстро. Оставалась военная карьера, но она требовала усердия и того душевного порыва, который один лишь способен удовлетворить тщеславие молодости. Правда, Алексею приходилось слышать о людях, которые были напрочь лишены такого порыва и, надев на себя первый попавшийся хомут, честно работали до конца жизни. Но Алексей Сафонов не мог разрешить себе этого. Он был молод и слишком ценил свою молодость, чтобы дать ей исчезнуть в скуке и монотонности быта.
И вот он признал в себе труса. Стало быть, отныне не надо было думать о проявлении геройства, и это позволило сердцу поручика Сафонова биться ровно, без волнения. А коли так, то что же теперь делать? Куда девать тот пыл, который ещё несколько минут назад толкал молодого человека на активные действия, толкал его чуть ли не в пропасть прыгнуть? Во что теперь превратится вся эта неуёмная энергия?
Переговоры
В тот день никто из Чукчей не пришёл в Раскольную, они занимались своими убитыми. Зато наутро, едва забрезжил рассвет, перед крепостью стояли дикари, человек десять, требуя впустить их.
– Кто пришёл? – спросил капитан Никитин.
– Эгылгын, Наталкот, Кама-Тагын, – перечислял Иван, – Седая Женщина…
– Седая Женщина собственной персоной?
– Он же у них запевала, – кивнул следопыт.
Комендант велел открыть ворота, и дикари вошли в крепость. Со всех сторон к ним стягивались казаки, громко и оживлённо обсуждая туземных послов. Чукчи были одеты совершенно обычно, ничем себя не украсив по случаю торжественной встречи, если не считать одной ярко расшитой бусами шапочки, которая пятном выделялась в бурой массе туземцев. Почти все они были вооружены длинными копьями.
Капитан Никитин распорядился, чтобы перед домом, где находилась гауптвахта, на земле расстелили побольше шкур, и предложил дикарям сесть. Казаки плотно окружили пришедших, оставив место для офицеров. Поблизости от расстеленных шкур было поставлено несколько стульев для женщин, желавших посмотреть на переговоры.
Когда командир гарнизона объявил, что все в сборе и что можно начинать, Чукча в расшитой шапочке затянул какую-то песню. Все вокруг смолкли, словно им очень нравилась эта песня или же будто они страшились навлечь на себя гнев исполнителя, если бы помешали ему петь. Собственно, песней трудно было назвать это завывание, превращавшееся иногда в произнесение неразборчивых слов.
– Это и есть Седая Женщина, – шепнул Маше стоявший позади неё Григорий. – Поглядите на его шапку, это не простая шапка – шаманская. Он её надел, чтобы защитить себя от злых духов, которыми населена Раскольная.
К макушке шаманской шапочки была пришита косичка из чёрных волос. С левой стороны шапки свисали две длинные кисти, сплетённые из тонких кожаных шнурков и опускавшиеся почти до колен Седой Женщины. К одной из этих кистей были привязаны три нитки длиной примерно в палец, на которые были нанизаны красные бусины.
Когда шаман закончил песню, все оживились. Выступление Чукчи произвело на Машу гнетущее впечатление. Да и сам старик был неприятен и напоминал скорее покойника, чем живого человека. Его лицо, изрезанное бесчисленными морщинами, оставалось почти неподвижным, словно было сделано из воска, но глубоко посаженные чёрные глаза были живыми. Возле Седой Женщины стоял чукотский юноша в женском платье и с заплетёнными косицами. Над верхней губой юноши виднелся тёмный пушок, глаза горели каким-то таинственным мутным светом. Его лицо резко выделялось среди мужских лиц и напоминало странную маску, наделённую трагическими чертами. Маше почему-то подумалось, что этот юноша в женском наряде и шаман были как-то незримо связаны друг с другом и составляли единое целое.
– Это кто? – осторожно спросила она у Григория.
– О ком вы спрашиваете, сударыня?
– О том юноше в женском платье.
– А… Это мягкий мужчина…
– Кто? Простите, я не поняла, что вы сказали. – Маша с вниманием посмотрела на Григория.
– Мягкий мужчина, – повторил казак.
– Что значит «мягкий»?
– Марья Андреевна, – Григорий смущённо втянул голову в плечи, – это у них такие люди есть, которые ведут себя… как бы это…
– Как-нибудь особенно? – подсказала Маша. – Они не соответствуют мужскому образу?
– Вот именно. Не соответствуют, совсем не соответствуют. – Григорий обрадовался подсказке.
– И поэтому мужчины одеваются в женское платье? – уточнила девушка.
– Не только одеваются, – опустил глаза Григорий.
– В каком смысле?
– Ну, они вообще ведут себя, как женщины.
– Выполняют женскую работу? – спросила Маша, чувствуя, что Григорий не договаривал чего-то.
– И работу тоже, Марья Андреевна… Они у них навроде жён… Таким людям духи что-то нашёптывают и заставляют их вести такую жизнь.
– Какую жизнь? Я не понимаю. Что значит «навроде жён»?
– То и значит, Марья Андреевна. Именно это и значит. Потому они и называются мягкими мужчинами, не воины это уже и не мужчины. Они выбрали себе особую дорогу… Простите, но нам с вами этого не понять… Иногда они идут на это, чтобы избавиться от какой-нибудь страшной болезни по указанию шамана… Всякое тут может быть причиной… Вы, Марья Андреевна, у Ванюши спросите, он лучше объяснит… Ваня! Подойди к нам, сделай милость, дружок… Вот Марья Андреевна любопытствует, откуда и почему берутся мягкие мужчины.
– Мягкие-то? – Копыто поставил ружьё прикладом на землю и поскрёб пальцами заросший подбородок. – Ежели в двух словах, то они исполняют требования духа. – Следопыт взглянул на Машу и понял, что она не удовлетворилась таким объяснением. Он продолжил, говоря тихо, чтобы не быть помехой тем, кто вёл переговоры: – Дух является к человеку и требует от него начать другую жизнь. Иногда дух приходит к больному человеку, иногда – к здоровому… Тут нельзя дать точного определения, у кого как случается такое обращение… Ежели человек отказывается последовать требованию духа, то он начинает болеть.
– Как это?
– Болезнь… Бывает, что беспамятство на много дней, бывает, что сумасшествие… Должно быть, что-то приходит к ним в это время, но никто вразумительно ничего не объясняет. Я знал одного берегового Чукчу, который вдруг лет в тринадцать потерял чувствительность ног, а затем и вообще перестал двигаться; лежал, словно мёртвый тюлень. А до того он был очень сильным мальчиком, очень ловким и удачливым рыбаком. И тогда один шаман велел ему стать женщиной, он даже спал с ним.
– Спал? – Маша ужаснулась. – С этим мальчиком? Но ведь это…
– Да… После нескольких проведённых с шаманом ночей мальчуган встал на ноги и начал заниматься женской работой. – Иван задумался и через некоторое время продолжил свою речь: – Мягкий мужчина может пройти несколько ступеней, превращаясь из мужчины в женщину. Поначалу он лишь подражает женщинам в манере причёсывать и заплетать волосы. Однако не каждый, кто заплетает волосы по-женски, есть мягкий мужчина. Нет, не всякий. Шаманы иногда заставляют обычных мужчин заплетать волосы по-женски, чтобы избавиться от какой-то болезни.
– Зачем? – спросила Маша; ей было очень интересно, но всё казалось чересчур странным и непонятным.
– Думаю, что из-за гордыни, – ответил Иван, поколебавшись немного.
– Из-за гордыни?
– Гордыня часто бывает причиной наших болезней.
– Как так? Почему вы так думаете?
– Она суть почва для произрастания недугов. Чтобы вышибить из-под болезней почву, гордыню надобно переломить, отбросить её. Для этого мужчина, почитающий свои мужские качества особенными, должен поменять их на женские. Полагаю, что это может не всякий… Поди-ка, нарядись в женское платье, когда ты слывёшь за лучшего воина в своём племени! Но ведь надевают женскую одежду некоторые мужики, надевают, Марья Андреевна. И это есть вторая ступень посвящения мягкого мужчины. На третьей стадии превращения мужчина отказывается от всего оружия и вообще от предметов, коими мужчина должен пользоваться в жизни – аркан, гарпун, копьё… Он берётся за иголку и скребок для шкур. Даже в разговоре он принимает особое, женское произношение. Я видел много таких людей. Все они потеряли свою воинскую неустрашимость, силу, отвагу. Они любят маленьких детей. Играют с ними, как настоящие женщины. Короче, они становятся женщиной, сохраняя мужскую наружность. Эти мягкие берут себе мужей, при этом совершается обычный свадебный обряд.
– И как к ним относятся окружающие?
– Нормально, как к женщинам. Должен сказать, что такие семьи, как оно ни удивляет, очень прочны.
– А вы? Что вы думаете про них? – не унималась Маша.
– Ровно ничего, – пожал плечами Иван и повернулся к Григорию: – Ты что про них думаешь, брат?
– Теперь уж ничего, а раньше удивлялся, – сказал Григорий с ухмылкой. – Особливо однажды был удивлён, когда… Впрочем, не нужно об этом… Об этом нельзя, гадко оно…
– Если двое мужчин живут как муж и жена, – медленно проговорила Маша, пытаясь уловить суть дикого явления, – то разве это нормально? Откуда это идёт?
– Нам, то есть обычным людям, этого не понять, – уверенно сказал Григорий.
– Мягкий человек, – заговорил Иван снова, – нередко имеет в семье больше веса, чем его муж, так как в мягком человеке присутствует сильный дух. Однажды такой человек – его звали Мелкий Зуб – был осмеян по какой-то причине соседями. Он обиделся и ушёл из стойбища. Он ничего не взял с собой, кроме деревянного огнива и рогового лука, с помощью которого разводят огонь. По пути ему встретились два Коряка, они долго насмехались над ним, так как считали, что он вполне безобиден. Но он вдруг взял в руки роговой лук и положил на тетиву палочку, с помощью которой разводится огонь.[2] Этот лук, как вы видели, Марья Андреевна, очень мал, чтобы пользоваться им в качестве оружия, а тупая палочка никак не может служить стрелой. Но Мелкий Зуб сумел пустить её с такой силой в горло одного из тех Коряков, что она убила его. Это мне рассказал второй из тех Коряков. С тех пор он считает, что мягкие мужчины Чукчей обладают огромной скрытой силой… Взгляните на Седую Женщину и его мягкого человека. Седая Женщина гораздо ниже и более щуплый, чем его спутник. Этот мягкий человек раньше был очень силён, он мог бы свернуть шею любому, самому крупному быку, но вот теперь он ничего не может. Он стеснителен, как маленькая девочка, и прячет лицо, прикрываясь рукавом. Я не раз видел, как он возился с маленькими детьми и ласкал их, явно завидуя радостям материнства… Но теперь, Марья Андреевна, вы должны отпустить меня, так как я вижу, что комендант зовёт меня к себе…
Маша кивнула и вновь обратила взор к юноше, которого Григорий и Копыто называли мягким человеком. Услышав столь удивительные речи, она смотрела на него уже совсем по-другому. Да, он был выразителен и трагичен, но при этом был и ужасен. Подумать только, что он имел постоянную физическую связь с отвратительным шаманом! Какая мерзость! Даже не всякая женщина решилась бы сойтись с тем лысым стариком, прикрытым шаманской шапочкой, какими бы колдовскими качествами он ни обладал… А уж мужчина… Нет, нет и ещё тысячу раз нет! Маша отказывалась верить в возможность таких связей… Однако не верить Ивану и Григорию она не могла.
– Скажите мне, – она смущённо подёргала Григория за рукав, – неужели это всё правда?
– Марья Андреевна, поверьте, что я намеренно подозвал Ивана, когда речь зашла об этом. Он не испытывает смущения, говоря о таких вещах, для него нет ничего странного и противоестественного в жизни. Он вырос среди таких причуд. А вот я…
– Что же вы? – Маша заглянула ему в глаза.
– Я тут давно, сударыня, это верно, однако, как я уже рассказывал, воспитывался я далеко от этих мест, поэтому имею привычку к другим нравам. Я не всё умею высказать прямо…
– То есть вас эта тема смущает? Я верно поняла? Смущает, как и меня? – В её голосе послышалось облегчение.
– Вы угадали, сударыня.
– Тогда скажите мне сейчас же, откуда вы родом, непременно скажите.
Григорий потёр ладонью шею, словно ему было душно, и отвёл глаза.
– В чём же дело, сударь?
– Я не люблю об этом… Но ежели вы настаиваете…
– Настаиваю, – Маша произнесла это слово строго, но улыбнулась, – хватит делать тайны. Да и не открою я никому.
– Я из Санкт-Петербурга, сударыня. Я там вырос, но решил покинуть свет… Вот как оно… Про то здесь никто ни сном ни духом… Я ехал два года, сам не ведая куда, и добрался наконец до края земли… Чего не умел, тому научился, но таким, как Копыто, так и не стал. Память, вишь ты, мешает, мысли идут по-другому…
– Память?
– Да, Марья Андреевна, память о прошлом.
– А Иван для вас пример? Неужели? И даже то, что он гораздо моложе…
– Моложе – это ерунда. Он тут свой, вот в чём суть. По крови свой, по духу, по всему. Его ничто не удивляет. А я до сих пор иногда слышу, как сердце ёкает от неожиданности, когда что-то примечу необычное… Для меня здесь много необычного. Да кто я тут? Шесть лет мну снег ногами, а мне уж тридцать три отмерило… Нет, я тут только гость, давний гость, но всё же гость.
– Стало быть, вы не казак, а просто одеты так?
– Казак или нет… Как говорится, попал в стаю – лай не лай, а хвостом виляй.
– Странно, – Маша задумалась, – очень странно… Вот вы из Петербурга, а я там никогда не была… Вы из Петербурга, вы ходили по столичным улицам, посещали балы, но бросили всё. А я только мечтала о том, как поглядеть столицу. И вот мы встретились с вами здесь. На краю света… Но в Петербурге, должно, разминулись бы, как вы полагаете? Непременно разминулись бы…
– Может, и так, сударыня. Может, просто не обратили бы внимания друг на друга. – Он посмотрел куда-то вдаль и будто бы увидел в ту секунду шикарные экипажи на Невском. – Да-с, та жизнь, слава Богу, далече. Ничего из того не осталось…
– А много ли было? Григорий внезапно посуровел и сделался почти старым.
– Всё было у меня, сударыня. Только не нужно про это… Я уж почти забыл… Здесь мне легко, легче, чем было там… Да и зачем вы у меня спрашиваете? Разве не приехали вы сами сюда, на край, как вы изволили сказать, света? Разве такая поездка для молодой совсем женщины не есть бегство от чего-то? Вас ведь тоже не устраивает то, чем полна тамошняя жизнь…
– Да, вы правы… Но я не хочу об этом… Я не чувствую, что я имею право… Здесь, конечно, всё иначе, но… Долго ли они будут переговорами заниматься? Пожалуй, я пойду пить чай. Не хочу больше смотреть на это…
Маша поднялась со стула и пошла сквозь толпу казаков.
В это время прозвучал чей-то голос, очень громко и возмущённо:
– Это как же понимать, ваше благородие? Как же так, господин комендант? Мы, стало, обязуемся уйти отсюда и уничтожить фортецию?
Капитан Никитин обернулся к говорившему и кивнул, удивлённо выпучив глаза:
– Именно так, сокол мой.
– Но я и кой-кто ещё не желаем уходить отсюда! – Казак выпятил грудь и слегка выставил вперёд одно плечо. – Мы люди вольные, не регулярные, почему ж мы подчиняться должны такому указу? Куда ж мы подеваемся, ежели вы у нас кров отберёте? Мы тут дома поставили не для того, чтобы бросать их по чьей-то указке, ваше благородие. Пусть кто на регулярной службе, тот и подчиняется…
– Мы, дружок, позже об этом посудачим. Теперь у нас в первую очередь разговор с депутацией чукотской. А мы, русские люди, уж как-нибудь договоримся меж собой. – Командир гарнизона успокоительно помахал рукой и повернулся было к Чукчам.
Позади него зашумели другие бородачи:
– Как же это мы всё сжигать будем? А мы и дома наши? Нет, Анисим Гаврилыч, так дело не пойдёт! Ты нам был заместо отца родного, так неужто теперь ради этих диких ты нас без крыши оставишь?
– Ребята, прекратите шум! – крикнул комендант, и глаза его сделались решительными, как во время боевых действий.
Тем временем Маша подошла к своему дому. Григорий проводил её до двери, но она вошла внутрь, не посмотрев на него и не произнеся больше ни слова.
Неожиданно возле Григория возник Тяжлов.
– О чём это ты и Ванька шептались с Марьей Андреевной? – нагло оскалился Тяжлов.
– А ты кто таков, Вадим Семёныч, чтобы я перед тобой ответ держал? Я тебе не холоп какой-нибудь, чтоб ты с меня требовал. Коли любопытствуешь, так у Марьи Андреевны и спроси.
– Ты не очень-то ерепенься, Гриша, – Тяжлов спрятал улыбку и хищно сощурил глаза, – может, ты и не холоп, но я неуважения к моей персоне не потерплю. Ежели что, так я тебя в бараний рог скручу.
– А ты, сударь, моего уважения не заслужил. – Григорий отвернулся и пошёл прочь.
– Стой, подлец! Как ты смеешь спину мне показывать, когда я говорю!
Тяжлов побледнел и бросился за казаком. Двумя прыжками он обогнал его и схватил за ворот.
– Сукин сын… – зашипел Тяжлов.
– Ты, господин подпоручик, оставь свои барские замашки. – Григорий сделал внезапный рывок и лбом стукнул офицера в переносицу. Тот отшатнулся, заметался взором и в следующий миг получил удар кулаком в челюсть. Раскинув руки, Тяжлов рухнул в лужу.
Никто не успел заметить, как всё произошло, но некоторые повернули головы на звук и увидели опрокинувшегося на землю офицера. Тот медленно поднялся, покрытый бурой грязью.
– Теперь, Гриша, я тебя убью, – прорычал он.
– Вот те на, Вадим Семёнович, – ответил спокойно казак, намереваясь уйти, – а я-то решил грешным делом, что урезонил тебя. Неужто вызывать меня станешь?
Тяжлов заскрипел зубами.
– Ты мне не ровня, Гриша, меж нами благородная дуэль невозможна… Но я тебя убью, заколю, застрелю… Ты меня перед толпой… Я кровью смою… Попомни…
Чукчи
Весь следующий день Чукчи веселились. Они купили у казаков несколько бутылок водки, заплатив за них зимними шкурами волков, и начали пьянствовать на берегу озера.
Маша смотрела на буйство дикарей с крепостной стены. Алексей хотел было сходить поближе, но Иван Копыто категорически настоял на том, чтобы никто не приближался к Чукчам, пока они не протрезвеют.
– Вчера я видел среди них человека по имени Келевги, – начал рассказывать Копыто. – Этот Келевги имеет репутацию вздорного мужичонки, поднимает ссору по малейшему поводу. В последний раз, когда он приходил сюда, он принёс пару обтрёпанных оленьих шкур, из которых шерсть повылезала чуть ли не наполовину, и стал требовать, чтобы Касьяныч за них заплатил такую же цену, как за лучшие сорта. Но Касьяныч – тёртый калач, он даже разговаривать не захотел с ним. Услышав отказ, Келевги схватился за нож и набросился на купца. Хорошо, что рядом стояли казаки, они отдубасили буяна палками и выгнали за ворота.
– Не к тому ли вы говорите об этом, – спросил Алексей, – чтобы мы вели себя осторожнее?
– Да. Ведь когда Чукчи пьют, они совершенно теряют рассудок. Не в обиду им будет сказано, – продолжал Иван с грустью в голосе, – но в пьяном состоянии они приходят на грань сумасшествия. Мне жаль этих бедняг.
– Неужели все они пьяницы? – удивилась Маша, всматриваясь в фигуры туземцев на берегу. Некоторые из них сидели, некоторые лежали на земле, кое-кто танцевал, переваливаясь, как поднявшийся на задние ноги медведь.
– Никто из них не отказывается от водки никогда, – отозвался следопыт. – Даже Седая Женщина.
– Это их главный шаман?
– Он не главный. Просто в этот раз он возглавил тех, кто готов был ввязаться в драку. Он не вождь, не вожак, он ничуть не умнее других. Седая Женщина – натура неуравновешенная, легко возбуждающаяся, как все шаманы, долго не может усидеть на одном месте. Он часто ссорится с людьми, однажды подрался с тем самым Келевги, о котором я уже говорил.
– И что?
– Келевги его изрядно поколотил.
– Не побоялся стукнуть шамана?! – всплеснула руками Маша.
– Шаманы часто ведут себя несдержанно, они все очень нервные, поэтому нередко затевают ссоры. А умения драться у них нет и физической силой они не отличаются. Правда, всякий раз шаманы угрожают своему сопернику тем, что обратятся к духам за помощью… Что до Келевги, то он не страшится никого из шаманов, так как считает себя самого человеком особого сорта. Его имя переводится как Дух-Человек, так что он тоже в некотором роде шаман, хоть никто не признаёт за ним никакой сверхъестественной силы.
– Значит, шаманы тоже пьют водку? Вот тебе на! – засмеялся Алексей.
– Однажды я гостил в одном стойбище и ко мне пришёл Седая Женщина, – вспоминал Иван. – Он хотел выпить и долго уговаривал меня продать ему бутылку спирта. Не знаю уж, почему он думал, что у меня есть бутылка спирта, но он вёл себя очень настойчиво. Он никак не мог отойти от предыдущего пьянства, у него трещала голова. Кроме того, он хотел, чтобы я составил ему компанию. Он сказал мне так: «Я буду с тобой откровенен. Выпивка делает меня слишком скверным. Когда я выпью, моя жена сторожит меня и убирает все мои ножи. Но когда её нет со мной, я боюсь пить». Он показал мне длинный шрам на своём плече, который, как он объяснил, явился результатом пьяной драки, случившейся в отсутствие жены.
– Женой он называет того юношу в женской одежде? – поспешила спросить Маша.
– Да. Но в тот раз у него, кажется, ещё не было мягкого человека, а была настоящая женщина. Она умерла потом от оспы. Оспа здесь для всех – страшнейшая беда.
– Скажите, а у них случаются какие-нибудь праздники? Или же они только пьянствовать любят? – полюбопытствовал Алексей.
– Праздников очень много, сударь. Вы посмотрите хотя бы туда, – следопыт вытянул руку, – видите вдалеке груду рогов?
– Да, какая-то куча. Я полагал, что это хворост навален.
– Нет, это рога, много рогов. Олени сбрасывают рога на протяжении всего года. Быки-производители теряют их по осени, старые олени – зимой, молодые быки – ранней весной, важенки – после отёла. Так вот Чукчи собирают все сброшенные рога и перевозят их при перекочёвках с одного пастбища на другое. Когда же груз становится слишком тяжёлым, то они совершают так называемый обряд выставления. Это настоящее торжество. Богатые оленеводы устраивают этот праздник раза три в год. Весна считается наиболее подходящим временем для проведения праздника рогов. Тут вы можете увидеть всё – песни, угощения, пляски.
– Подумать только, – воскликнула Маша, – оказывается, праздник можно устроить даже по случаю никому не нужных оленьих рогов!
– Жертвоприношения тоже можно отнести к праздникам, скажем жертвоприношение огню, молодому месяцу… Есть также праздник благодарения, который устраивается каждой семьёй по крайней мере один или два раза в год. Всякая неожиданная поимка ценных зверей, например голубого песца или хорошей росомахи, может служить поводом к проведению этого праздника.
– А чтобы не по случаю чьей-то смерти? – не унималась Маша. – Такие праздники случаются?
– Бега, – сразу ответил Иван, – пожалуй, нет ничего более весёлого, чем бега.
– Это состязания?
– Да, зимние. Устроитель бегов рассылает приглашения соседям. На шесте вывешивается приз. Бегают по кругу до тех пор, покуда не начнут валиться от усталости. Победителем считается самый выносливый… Много у Чукоч всяких состязаний. Такие развлечения им очень по сердцу. Они и наперегонки на нартах носятся, и по мишеням из луков стрелы пускают… Думаю, что вам что-нибудь удастся повидать. Скоро мимо Раскольной пройдут пастухи, прогонят свои стада, наверняка остановятся ненадолго поблизости. Но долго не пробудут здесь, так как оленье стадо не стоит на месте, олени находятся летом в постоянном движении из-за того, что их кусает мошкара…
– Иван! – донеслось снизу. Все обернулись на голос, звал Григорий. – Спустись ко мне, потолковать надо.
– Кажется, он чем-то озабочен, – сказал Алексей. Иван пожал плечами.
– А что вчера произошло между ним и подпоручиком Тяжловым? – спросила Маша.
– Вздор, какой-то вздор. Тяжлов постоянно домогается драки, – следопыт остановился и развёл руками, – такой уж он человек.
– Вы недолюбливаете его?
– Господина подпоручика? Почему ж недолюбливаю? У меня нет причин для этого. А что до его дурного характера, так я и похуже людей встречал.
– Скажите, сударь, как по-вашему, они будут драться? – Голос Алексея дрогнул. – Здесь это принято?
– Разве что на ножах, – ответил Иван после недолгого колебания. – Но тут Вадим Семёныч не потягается с Григорием, ловкости не хватит. Вот если он за шпагу возьмётся, тогда ему не найдётся равных. Но шпага в Раскольной не в почёте, казаки предпочитают дубины или пики, а лучше всего кулаки… Вы уж извините меня, Марья Андреевна, я должен идти.
Следопыт кивнул и быстро пошёл вниз, легко переступая по деревянным ступеням. Алексей Сафонов не без зависти проводил взглядом ладную фигуру Ивана, одетую без всякого шика, почти бедно, но всё же выглядевшую на удивление изящно. Украдкой посмотрев на сестру, мол, не догадалась ли она о его мыслях, он снова перевёл взгляд на Ивана и признался себе, что испытал вдруг нечто похожее на зависть к этому дикому обитателю крепости. Иван остановился перед Григорием.
– Ты звал?
– Вишь ты, какое дело складывается, Ваня, – заговорил казак, – надумал я уйти ненадолго. Не хочется мне, чтобы неприятности случились.
– Ты не про Тяжлова ли говоришь?
– Про него, чертяку прилизанную, про него, про его барское отродье, – ответил Григорий. – Думаю, что надобно мне на пару деньков уйти, чтобы он поостыл маленько, а то ходит, глазами рыскает, того гляди с кулаками бросится… Схожу в горы, поохочусь. Вернусь – поедим козлятины. Господин подпоручик, ясно дело, обиду не забудет, но охладится, зубищами щёлкать перестанет.
– Может, ты и прав. Нечего зря кровь мутить, – согласился Копыто.
– Не хочешь со мной?
– Нет, Гриша, меня Гаврилыч просил последить за дикими, чтобы не натворили чего по горячим следам. Ты же знаешь их: договориться о мире – одно, а соблюдать его – совсем другое дело.
– Оно, конечно, верно…
– Вижу, ты хоть и надумал идти, но не очень-то хочешь.
– Тоскливо мне, Ваня, ой как тоскливо… Любить очень хочется… – едва слышно сказал Григорий.
– Любить? – Копыто посмотрел сквозь него, словно не понял, о чём шла речь, и пытался увидеть это самое «любить» в пространстве. Затем сфокусировал взгляд на товарище и переспросил: – Любить? Да-с…
Охота
Григорий остановился, с наслаждением втягивая холодный воздух. Впереди виднелись в горном тумане каменистые пики – гольцы, постоянная обитель чукотского снежного барана. Северный склон, по которому взбирался казак, был ещё изрядно заснежен, хотя с ветвей лиственниц снег уже осыпался, и зелёный кедровый стланик почти всюду вылез из-под белого покрывала. Глядя на горы, Григорий подумал, что было бы здорово показать Марье Андреевне, как мохнатые кедровые лапы, с осени похороненные, вдруг начинают с шумом распрямляться, как пружины, швыряя к солнцу ослепительные крупицы подтаявшего снега. «Теперь уж поздно, – размышлял он, – зелень уж вся выперла. Через несколько дней тут не пройти будет». Весна на Чукотке развивается бурно, торопится жить, ибо лето скоротечно и непостоянно.
Григорий обернулся и посмотрел на Раскольную. Крепость выглядела крохотным квадратиком посреди холмов. Вокруг двигались чёрные точки – люди, олени, байдары на воде. Он неторопливо двинулся вперёд. Ему оставалось пройти совсем немного до вершины горы, там начинался спуск, оттуда крепость не была видна.
Над головой низко пролетели гуси.
Внезапно он увидел впереди неподвижного медведя, лежавшего на спине с задранными кверху лапами. Вся кожа на медвежьих боках была сорвана до мяса, а на лапах висела мохнатыми чёрными лентами. Медведь, точнее говоря, медведица была мертва. Вокруг неё на земле валялись клочья шерсти и вырванные куски потемневшего на солнце мяса.
Григорий взял ружьё на изготовку. Он прекрасно знал, что здесь произошло, – видел такие вещи пару раз: иногда старый медведь убивает свою жену-медведицу из-за ревности. Бывалые охотники рассказывали, что медведь, если медведица погуляла с другим самцом, сразу обнаруживает это и тогда убивает её и разрывает шкуру медведицы именно вот так – лентами.
Казак осмотрелся. Свежих следов самца поблизости не было. «Вот бы показать эту картину Марье Андреевне, – подумал Григорий, – то-то она подивилась бы». Он вздохнул и побрёл дальше, не переставая озираться. Пройдя ещё немного, он присел на поваленный ствол лиственницы и запрокинул голову к небу.
«А вот если бы сюда сейчас Марью Андреевну, – размышлял он, – не для того, чтобы задранную медведицу показать, не для знакомства со всей здешней красотой, а просто так… Просто, чтобы рядом была… чтобы мы вдвоём, только вдвоём… Вот коли бы так случилось, то как бы я повёл себя? Устоял бы? Не переступил бы через совесть? Ведь нравится она мне смертельно, никогда такого со мной не бывало. Едва глаза прикрою, так вижу её лицо… Хочу эту женщину, здорово хочу, нестерпимо хочу… и оттого мне тошно… Что же делать мне? Хорошо, что не случится никогда такого, чтобы мы с ней наедине остались. Нет, не сдержался бы я… Не понимаю, что со мной творится. Откуда этот недуг нагрянул?.. Удивительная штука – жизнь. Мечусь, страдаю, жажду чего-то. А что искать-то? Вот оно, самое главное – тайга, горы, голубое небо. Разве ж этого мало? Разве не за этим я пришёл сюда издалека? Разве нужно что-то ещё помимо этого? Да и есть ли что-то ещё? И вот я повстречал женщину, почти ещё совсем девчонку, и сердце моё впало в беспокойство… Что мне надо? Зачем думаю о ней постоянно? Не о женитьбе ж я помышляю… Неужто тело её меня свело с ума? Но ведь не видел я её тела… Если бы тело… Так ведь я любую дикую из здешних могу купить на день и на ночь. Зачем же связываться мне с Марьей Андреевной?.. А какие у неё глаза… Глупо всё это, мальчишество какое-то паршивое… Хотел ты воли, брат, вот и получай её, а про девицу эту думать забудь! Не пара ты ей, барышне оттуда. Не пара! Ты выбрал своё место под солнцем, нашёл его на краю света, вот и довольствуйся тем, что выбрал по доброй воле. И не пытайся охотиться за Марьей Андреевной, она тебе не добыча…»
Григорий почувствовал, как в груди у него всё сжалось, щиплющие комочки пробежали по спине. Он зачерпнул рукой мокрого снега и обтёр им лицо, но холодное прикосновение не взбодрило его и не отогнало возникший в воображении облик Маши.
– Ох, горе, горюшко! – закричал казак во всё горло и упал спиной в кустарник, стискивая кулаки с такой силой, будто желал раздавить терзавшее его чувство неодолимой любви.
Вчера он слукавил, разговаривая с Иваном: он покинул Раскольную, конечно, не ради охоты и не ради того, чтобы дать Тяжлову возможность успокоиться. Подпоручик Тяжлов был злопамятен, как самый коварный демон, и Григорий прекрасно знал об этом. Никакие два-три дня не могли исправить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону. Григорий ушёл из-за Маши, из-за неё же он не расправился с Тяжловым на месте.
– Знал бы ты, Вадим Семёнович, чего мне стоило не удавить тебя, – проговорил он, поднимая лицо к небу.
За годы, проведённые на Чукотке, он научился не обращать внимания на многие стороны морали, принятые в покинутом им Петербурге. Дворянская честь не стоила на Чукотке ничего, дуэль выглядела здесь клоунадой. Если кто-то хотел убить, то он просто убивал – кулаком ли, ножом ли, пулей, открыто или из укрытия…
Вспомнив сцену столкновения с Тяжловым, Григорий содрогнулся. От решительных действий его остановило только присутствие Маши. Он вдруг осознал, что не хотел выглядеть в глазах этой девушки таким, каким был в действительности. Он желал быть лучше. Это испугало его, и он поспешил уйти, чтобы разобраться в себе, прислушаться к себе. Кто он такой? От кого он убегал все эти годы? От других или от себя?
Он забросил ружьё на плечо, сделал несколько шагов вниз и остановился, прислушиваясь. Ветерок донёс до него лёгкий костяной перестук. Григорий внимательно осмотрелся, но не заметил ничего подозрительного.
Пройдя вперёд ещё немного, он увидел поодаль два помоста, закреплённых на разветвлениях деревьев. На каждом помосте лежало завёрнутое в шкуры тело. Судя по всему, это были юкагирские захоронения – арангасы. У основания деревьев на земле лежала разбитая посуда. Из-под шкур на одном из помостов торчала нога, обутая в новый кожаный сапог; в подошве сапога казак разглядел несколько надрезов в виде креста. Под другим помостом висели на верёвке два собачьих черепа; они-то и перестукивались, покачиваясь на ветру.
Григорий поморщился. «Что-то я не видел этих мертвецов тут раньше. Должно, совсем свежие арангасы… Не к добру я повстречал их, чёрт подери…»
Минуло часа два после того, как он начал спускаться с вершины горы, и он решил сделать привал.
Едва он сбросил со спины рюкзак и ружьё, его нога подкосилась, рванулась в сторону, заполнилась огнём, и Григорий упал. В следующую секунду до него донёсся звук выстрела.
Кто-то стрелял сверху, оттуда, где казак перевалил через гребень. Пуля прошла сквозь икру насквозь, хорошенько разорвав мышцу. Кровь быстро и горячо заполняла сапог. Григорий затаился на земле, не меняя своего положения и прикидываясь мёртвым. Стреляли издалека. Стрелявший не мог, конечно, понять, куда попала посланная им пуля, так что у Григория было время собраться с силами и встретить напавшего на него человека, если тот намеревался подойти ближе.
«Какой же подлец подкараулил меня? – размышлял Григорий, незаметно подвигая руку к упавшему ружью. – Или же никто не караулил, а шёл за мной? Но разве ж это надо кому? С Чукчами вроде наладилось… Позволь, позволь, друг любезный, а не Вадим ли это Семёнович за мной увязался?»
Мысль о Тяжлове пронзила его, как вторая пуля. Пламя ненависти вскипело в сердце, и Григорий едва не задохнулся от нахлынувшего на него чувства.
Подтянув к груди ружьё, он сделал несколько глубоких вздохов, приводя себя в уравновешенное состояние, ощупал ружейный замок – не повредилось ли что при падении – и осторожно взвёл курок. После этого он очень медленно, успокаивая себя едва слышным шёпотом, поменял положение и посмотрел наверх. Там, почти на самом хребте, вырисовывалась на синем небе фигура человека, неторопливо спускавшегося вниз и упиравшегося прикладом в землю. «Успел он загнать новый заряд или нет? – подумал казак. – Если это Тяжлов, то обязательно успел. Этот не рискнёт с пустой фузеей подойти. Впрочем, мне подпускать его, кто бы он ни был, близко так и так нельзя. Хорошо он пальнул, дьявол! Ежели это Тяжлов, то он попал случайно, для него расстояние шибко велико. Должно очень спешил разделаться со мной. А коли не Тяжлов…» Григорий осторожно, чтобы движения его оставались незаметными, поднял ружьё и поднёс приклад к плечу. Нога мучительно гудела и пульсировала, отдаваясь горячими ударами крови в голову. Стараясь дышать ровнее, Григорий взял далёкую фигуру на мушку. «Теперь главное – не спешить. Перезаряжать ружьё в моём положении крайне несподручно. Бить можно только наверняка».
Спускавшийся человек остановился, отдыхая и всматриваясь вперёд. Он стоял, положив руки на ружейный ствол. Было видно, что он устал и дышал тяжело. Через несколько минут он продолжил спуск.
Григорий дождался, когда фигура незнакомца стала достаточно хорошо видна. Промашки он не мог допустить. И вот указательный палец мягко потянул спусковой крючок. Оглушительно грохнул выстрел. Человек качнулся и упал навзничь. Его тело проехало вниз метров пять и застыло, упершись в ствол лиственницы. Обронённое оружие скользнуло ниже, но не доехало до казака.
– Добро пожаловать! – громко проговорил Григорий.
Не спуская глаз с упавшего, он начал перезаряжать ружьё. Пробитая нога болела и стесняла движения, но в конце концов казак загнал пулю в ствол и спрятал шомпол. Превозмогая боль, Григорий медленно побрёл вверх, чтобы опознать врага. Налегая всем весом на своё ружьё, он подтягивал почти безвольную окровавленную ногу, то и дело останавливался, мокрый от пота, приваливался к дереву, садился на землю…
И вот у его ног фузея поверженного врага. До самого убитого ещё далеко.
– Ну-ка, – устало выдохнул казак и поднял оружие, – так и есть, клеймо на прикладе «В.Т.», Вадим Тяжлов… Знать, я верно догадался, господин подпоручик… Ненависть пуще страха гонит…
Григорий поднял голову и посмотрел на распростёртое вдалеке тело подпоручика.
– Был бы ты при мундире, так я бы тотчас тебя раскусил, барин. Но ведь ты кафтан казацкий нацепил, небось чтобы в фортеции не обратили на тебя внимание, когда уезжал. Эх ты! Горе-вояка! – крикнул казак. – Даже в спину не сумел меня поразить… Оставайся ж тут, корми телом своим птиц и волков…
Он повернулся и пошёл вниз, но в следующий миг его простреленная нога подвернулась, и он кубарем полетел вниз, теряя сознание.
Иван Копыто
Дней через пять возле крепости стояло уже с десяток новых туземных шатров, повсюду бродили олени. Беспрестанно подъезжали новые и новые дикари. Вдоль берега виднелись наваленные друг на друга нарты, которые должны были пролежать в куче до конца лета. Тут и там дымилось над кострами мясо диких оленей, лосей и баранов, за которыми аборигены и казаки отправлялись охотиться в горы…
Когда Маша вышла из избы, небо было покрыто мелкими белыми барашками, умиротворённо светило солнце. Дул ветер и доносил с озера шум воды. Иногда тявкали собаки, отгоняя друг друга от брошенных им подачек. Где-то за оградой стучал топор. Сквозь растворённые ворота виднелись люди, тащившие лодки к воде. Два стоявших перед кузницей казака бранились со злобой, без всякой причины, очевидно спросонок. Несколько Чукчанок, одетых в грязные комбинезоны из кожи, волочили куда-то по земле оленьи шкуры и лениво переговаривались, одна из них спустила одежду с плеч, и Маша видела, как лоснилась на солнце спина дикарки. Посреди крепости мирно курились угли двух костров, над которыми висели чёрные от копоти котлы.
Иван Копыто сидел возле перевёрнутых вверх дном длинных лодок и водил точильным камнем по лезвию ножа. У его ног лежала крупная псина и виляла хвостом, обгладывая кость. Туземцы, раздетые до пояса, занимались починкой стрел, сидя неподалёку от Ивана и перебрасываясь с ним иногда какими-то фразами. Иногда они смеялись над чем-то и хватались за лохматые головы.
– Иван! – позвала Маша, завидев следопыта, и поднесла руку к глазам, закрываясь от солнца.
Он поднялся и молча подошёл к ней, пряча нож в кожаный чехол. Его лицо сильно заросло с тех пор, как Маша видела его в последний раз.
– Вы не заняты сейчас? Не согласитесь ли вы сопровождать меня? Я хотела бы сходить к тому месту, где был сожжён тот шаман, помните? – Девушка опустила глаза, смутившись своей просьбы.
– Хвост Росомахи? Зачем вам это, сударыня? – Следопыт запустил руки в свою шевелюру и поскрёб пальцами.
– Мне надо посмотреть… побывать там… Я не знаю, не уверена… – Маша неопределённо взмахнула руками. – В голове моей что-то странное происходит. Меня тревожит этот старик. Ведь он приходил ко мне зачем-то, он сказал, что рад был увидеть меня… Что означают его слова?
– Рано или поздно это откроется.
– Но что откроется? Не страшная ли какая-то вещь? – Девушка сложила испуганно руки на груди. – И как я пойму?
– Поймёте. Как только увидите нечто такое, о чём раньше и помыслить не смели, так и поймёте. Ведь он пришёл к вам, Марья Андреевна, будучи уже умершим. Разве не так? И разве этим самым он не вселил в вас уверенность в том, что мир наш не так прост, как казался вам прежде?
– Так, конечно, так, – закивала она с готовностью. – Это и пугает меня. Ведь вера моя в Господа всегда была сильна, непоколебима. Но, стало быть, чего-то не хватало во мне, какой-то изъян имелся в сознании. Верить-то верилось, однако ощущать потусторонний мир и принимать его всем существом… Нет, этого я не могла и не могу по сию пору. Видно, это лишь думалось, что он есть, загробный мир, только в мыслях… В действительности ж я, получается, мыслила о нём как о сказке, как о вымысле… У вас тоже так?
– Я не раз видел, как душа возвращалась в мёртвое тело, сударыня, – спокойно ответил Иван.
– Не может быть! Как же так?
– Шаманы знают, как это сделать.
– Но разве это возможно? – Маша всплеснула руками. – Разве… Ведь только Господь наш Христос мог положением рук воскресить умершего. А шаманы… Это просто чародейство какое-то, дьявольское колдовство…
– Не понимаю, что заставляет вас думать так, Марья Андреевна. Ничто не способно существовать в этом мире, если оно не сотворено Всевышним. – Иван задумался. – Если у шаманов есть сила поднимать немощных и возвращать к жизни умерших, то эта сила дана им Богом, и только Богом. Ничего и никого больше нет вокруг нас, кроме Создателя.
– Но дьявол?
– Если он и есть, сударыня, то он лишь одна из многих сил, которыми управляет Бог. Потому как ежели дьявол не есть часть Бога и существует в противоборстве с Господом, то выходит, что Бог не всемогущ. А с этим я уж никак не могу согласиться.
– Но все эти шаманы, – заговорила Маша после некоторого раздумья, – они произносят, я слышала, заклинания, исполняют колдовские песни… Что это?
– Это их молитвы. Не спешите судить об этом, Марья Андреевна. Я полагаю, вы многое ещё откроете для себя.
– Хорошо, пусть так… Но мне не терпится… Итак, вы пойдёте со мной? Давайте пешком, – предложила Маша. – Я хочу прогуляться. И мы сможем поговорить спокойно.
– Разве у вас нет более достойного собеседника?
– Достойного? – Она пожала плечами. – Это такое понятие… Знаете, сударь, я ведь и впрямь поначалу видела в вас просто дикаря, не ужасного, не опасного, но всё же дикаря… Эта одежда, ножи, кличка, ваш приёмный отец… И вы тут всё знаете, а я не понимаю ничего. И вот вдруг я подумала: я здесь хуже самого необразованного человека, и ни моё происхождение, ни мои деньги не помогут мне на этой земле… А вы… Вы умеете читать следы на земле, распознаёте дорогу по звёздам… Я с трудом выучила немного по-французски, но изъясниться на нём не смогу. Вы же запросто беседуете с Чукчами и с Коряками на их наречиях. Так кто же из нас двоих образованнее? Как только ко мне пришло это, я не перестаю задаваться вопросом: чем определяется степень нашей образованности?
Маша взяла Ивана за руку.
– Вот я уже без боязни касаюсь вашей ладони.
– Разве прежде вы опасались сделать это? – удивился следопыт.
– Я привыкла к чистой коже, ваша рука казалась мне грязной, – смущённо улыбнулась она. – Вам трудно представить, насколько нелегко мне даются эти признания. Я воспитана по-другому, приучена говорить не всё… Богу угодно было лишить меня в детстве отца, а в девичестве матери и законного супруга. О муже моём бывшем я совсем не жалею, хотя и печально мне, что он наложил на себя руки. Если быть до конца честной, то виновницей смерти я должна признать себя. Однако я бы не появилась здесь, если бы он не покончил с собой. Стало быть, его смерть предопределила мою поездку сюда…
– Ничто не случается без причины, но мы редко знаем, зачем нам даётся то или иное испытание. Бывает, слабому человеку нужно тяжело заболеть, а то и едва не умереть, чтобы в нём вдруг раскрылись неведомые силы… Жизнь есть тайна, и управляет этой тайной ещё более великая тайна.
– Вот ведь как вы рассуждаете хорошо, – Маша застенчиво опустила глаза, – а советуете мне искать более достойного собеседника.
– Лучший собеседник – сама жизнь. Никто правильнее не посоветует, чем она, никто точнее не направит.
– Люди озлобливаются на удары, наносимые ею. – Маша пожала плечами, не зная, что надо ответить Ивану.
– Мы заслуживаем хороших взбучек за наши вольности. За то нас и колотит судьба.
Маше стало жарко, она распахнула полушубок, подставляя грудь, закрытую лёгкой рубашкой, весеннему ветру. Иван бросил на неё косой взгляд и улыбнулся.
– Что вас смешит? – не поняла девушка.
– Я вижу, что вы смущаетесь. Вам угодно вести себя более раскованно, но вы не можете позволить себе этого. Я заметил это ещё в тот раз, когда рассказывал вам про мягких людей.
– Мне нечего смущаться, – бросилась она в атаку, – я не маленькая девочка. Меня, конечно, многое удивляет, но разве это главное?
– Я не хотел вас обидеть, – засмеялся следопыт. – Не гневайтесь на мою прямоту. Просто я не научился играть словами… Я вырос среди разных людей. Русские говорили мне одно, Чукчи – другое. Я воспитывался между двух огней, но оба огня давали мне свет. Я обучился грамоте в стране, где это совсем не нужно, но через это я понял, что есть знания и умения разного сорта. Я многое слышал про тот мир, куда никогда не попаду, и мне кажется, что я хорошо знаю тот мир.
– Тот? – уточнила Маша. – Вы говорите, как Григорий.
– Он мой близкий друг, сударыня. Я многое узнал от него. Я понял, что тот мир богат и красив, но я не желаю войти в него, даже в качестве гостя.
– Там много интересного и хорошего…
– Я верю вам, и всё же я не желаю туда… Я живу здесь, и только здесь. Меня это устраивает вполне. Я даже не хочу жить среди береговых Чукоч, ибо там иные привычки… Я живу здесь… Я доволен, у меня есть Ворон…
– Вы и впрямь считаете его отцом? – перебила его Маша.
– Да. Он воспитал меня. Он научил меня видеть жизнь. Никто из русских людей не рассказал мне того, что рассказал Ворон. Капитан Никитин, допустим, никогда не говорил о том, что в его сабле есть своя жизнь или в пистолете… А как можно жить, не зная таких простых вещей?
– Жизнь в сабле? – не поняла Маша. – О чём вы?
– О том, что в каждом предмете есть жизнь. Вся природа наделена жизнью. Нет вокруг нас ничего такого, что было бы мертво. Но большинство людей не умеет видеть жизнь во всём, даже здешние туземцы не все понимают это. Не все умеют видеть, как двигаются предметы, не обладающие – с нашей точки зрения – жизнью. Чукчи говорят про каждый предмет, что он имеет хозяина, но чаще говорят, что предмет имеет голос. Это означает, что предметы живут и действуют посредством заложенных в них качеств.
– Я не понимаю.
– Ну вот возьмите, к примеру, камень. Он срывается с места, катится с грохотом с горы и попадает в человека, которому он хочет навредить.
– Поэтому Чукчи считают, что камень наделён жизнью?
– Да. Он наделён возможностью двигаться. Но двигается он не по собственному желанию, а по воле хозяина. А над хозяином стоит Творец, который руководит всей природой. По воле Творца хозяин камня может убедить человека подобрать его и сделать своим амулетом, но человек думает, что он сам хочет сделать камень своим амулетом.
– И вы верите во всё это?
– Зачем мне верить в это, когда я знаю это. Я знаю, что всякая вещь имеет не только своего хозяина и голос, обладает не только своим духом, но и духом человека, который ею пользуется. Вы говорите о вере, но что есть вера? Слово-то какое странное, непонятное, неопределённое. Вы лишь хотите верить, но как же так? На чём стоять будет ваша вера, ежели не на знаниях, не на уверенности?
– Пожалуй, вы правы, нужна уверенность, а не вера. – Маша неопределённо развела руками. – Однако живые предметы – это уж слишком как-то…
– Есть одна история о том, как злой дух поймал маленького мальчика. Мальчик притворился мёртвым, пытаясь обмануть духа. Но дух не верил, что мальчик умер, и предусмотрительно поставил возле него свой ночной горшок. Он испражнился в этот горшок и велел испражнению караулить мальчика, а сам отправился спать. Как только мальчик зашевелился, сосуд сразу захрипел, закричал. Злой дух проснулся и подошёл посмотреть на пленника, но мальчик лежал неподвижно. Дух опять пошёл спать. Тогда мальчик быстро вскочил и наполнил горшок своими собственными испражнениями до краёв, тем самым заставив горшок служить себе… Сказка грубая, Марья Андреевна, но правдивая.
– Правдивая?
– Может, я не так выразился… Я хотел сказать, что история толковая, показательная…
– По мне, так она больше похожа на чудесную сказку, – улыбнулась Маша.
– А что не похоже на чудесную сказку, Марья Андреевна? Рождение и смерть, поди, чудеснее всякого вымысла – было что-то и вдруг этого уже и нет, или наоборот. Куда подевалось? Откуда взялось? Вы оглянитесь, всмотритесь в землю. На ней ничего нет сейчас, кроме весенней грязи. Но через пару-тройку дней повсюду появятся цветы. Откуда они вдруг? Они же не ногами, как мы, притопают. Вас не удивляет это? Это ли не чудо? Вот растут здесь ещё, к слову сказать, мухоморы… Вы их двумя пальцами раздавили б без труда, но вы не сможете раздавить камень. А вот мухоморы эти прорастают сквозь камни и дробят их на мелкие куски своими шапочками. Как же так? Как объяснить это чудо? Что за сила такая таится в них? Умеете ли вы растолковать это, Марья Андреевна?
– Вот вы, Иван, говорите постоянно о духах. Но откуда в вас такая уверенность? Разве вы видели духов? Хотя бы одного?
– Несколько раз, – спокойно ответил Копыто.
– Расскажите, каков он. – Маша иронично усмехнулась.
– Трудно сказать. – Следопыт задумался, будто припоминая что-то. – Иногда смотришь на него и видишь, что он маленький, как комар. Но он всё время растёт, пока смотришь на него, изменяется, раздувается, становится как человек. Смотришь дальше, а он уже на горе сидит, вот какой огромный, и ноги его в землю упираются. Затем глянешь, а он снова крохотный, не больше пальца. Нельзя сказать точно, какой он.
– Вы сами видели это? – спросила Маша. – Собственными глазами?
– Да.
– У меня нет причины не верить вам, но всё это слишком невероятно… И что, ко многим приходят духи?
– Ко всем. Но не каждый видит их.
– И ко мне приходят тоже, хоть я и не верю в них?
– Да, – убеждённо ответил Копыто, – духов не интересует, верите вы в них, Марья Андреевна, или не верите. Это как дождь. Он не спрашивает вашего желания, не требует вашей веры, он просто начинает лить на вас…
Некоторое время они шли и не разговаривали, затем девушка остановилась и взяла следопыта за локоть.
– Сейчас я скажу вам нечто такое, что мне кажется очень странным, – заговорила она. – Похоже, что во мне что-то произошло за то время, как я попала сюда. Изменения какие-то. Я стала слышать шаги.
– Шаги?
– Да. Когда кто-то идёт, я слышу, как земля отзывается. Это не шорох травы, не крошки песка, нет, это другое. Какой-то отзвук. Я его телом слышу, не ушами.
– Это хорошо. Вы пробуждаетесь.
– Пробуждаюсь? От чего? – не поняла Маша.
Он не ответил и указал рукой вперёд. Там на изрытой земле чернели между голыми деревьями угли, валялись кости и череп собаки. Маша обратила внимание на невысокий шест, к которому были привязаны кожаные мешочки и грубо вырезанная деревянная кукла в форме птицы.
– Вот оно, то самое место, – сказал Копыто. – Здесь Хвост Росомаший был сожжён. Тут, похоже, зарыты его останки. Я, пожалуй, отойду чуток в сторону, а вы тут постойте сами, одна… Раз вам хотелось сходить сюда, надо побыть одной…
Она растерянно посмотрела на следопыта. Он бесшумно удалялся. Маша не знала, зачем нужно было прийти к месту погребения шамана, возможно, ею двигало простое любопытство. Теперь она стояла над размокшими углями и не понимала, как себя вести. Она испытывала неловкость.
Позади послышался шорох, и она обернулась. Между деревьями стояли Чукчи, человек пять. Они разглядывали её с откровенным любопытством. Круглые тёмные лица дикарей были неподвижны, как маски. Маша перевела глаза с одного туземца на другого и узнала среди них Михея, почему-то сразу похолодев из-за этого. Она отступила на пару шагов и позвала:
– Иван!
В следующую секунду следопыт уже бежал к ней, виляя среди деревьев. Она успела разглядеть его взволнованное лицо, сверкающие глаза, приподнятое ружьё.
Чукчи что-то крикнули ему. Послышался свист. Маша повернула голову к дикарям и увидела, как один из них крутил над головой ремень. В следующее мгновение из ремня вылетел, как пуля, камень. Маша не успела проследить траекторию его полёта, но увидела, что Иван Копыто дёрнул головой, зацепился ногой об ногу и упал, перекувыркнувшись пару раз.
– Что вы делаете? – Маша бросилась к распростёртому между древесными корнями следопыту. На его спутавшихся волосах появилась кровь.
Ещё мгновением позже цепкие руки схватили её за локти и за шею…
Маша
Сказать, что Маша испугалась, когда ей поверх головы накинули вонючую шкуру и поволокли куда-то, было бы не совсем верно. Произошедшее не столько испугало её, сколько ошеломило, лишило ориентации. Ни куда, ни зачем, ни что-либо ещё девушку не интересовало. Она просто выпала из системы координат времени, пространства и чувств. Холодное ожидание – вот что заполняло её притихшее существо.
Она почувствовала, как её бросили в деревянную лодку, как под ней качнулось дно, как заколыхалась вода. Затем всё пропало – возможно, Маша потеряла сознание – и появилось уже, когда она открыла глаза. Над ней кто-то склонился, она узнала Михея. Она приподнялась на локтях и увидела со всех сторон озеро. Слева, где лежал холмистый берег, низко над водой летели гуси.
– Михей, зачем вы забрали меня? Зачем похитили? Разве вы желаете мне зла? – Она говорила очень тихо, голос срывался. – Разве я сделала вам что-то дурное?
– Нет дурное, нет зла, – ответил бывший проводник, серьёзно глядя на девушку.
– Тогда почему?
– Моя не знай много. Моя делай, что велит Утылыт.
Остальные Чукчи не обратили внимания на завязавшийся разговор и молча налегали на вёсла.
– Утылыт? – не поняла девушка. – Это кто же?
– Шаман.
– Зачем же этому шаману нужно, чтобы вы пленили меня? Ты знаешь это? Ты можешь объяснить мне? Когда вы отпустите меня?
– Моя не знай ничего толком. – Михей помолчал недолго. – Утылыт прознавай про твоя и решай, что твоя имей сила.
– Я имею силу? О чём ты говоришь, Михей? Ты взгляни на меня, какая я худенькая. Откуда во мне сила?
– Утылыт много знай, что моя не знай и твоя не знай. Утылыт знай, что Росомаший Хвост разговаривай с тобой. Росомаший Хвост большой шаман. Росомаший Хвост не приходи к тебе просто так. Утылыт хоти видеть тебя и брать у тебя твой сила.
– Опять ты про какую-то силу! Откуда взялся этот твой Утылыт? Что он вообще понимает в жизни, если думает, что я могу чем-то помочь ему и дать какую-то силу… Послушай, Михей, – взмолилась Маша, – ты растолкуй этому Утылыту, когда мы доберёмся до места, что нет во мне ничего особенного. Росомаший Хвост ошибся, придя ко мне. Понимаешь?.. А лучше всего, давай повернём обратно! Ты затем один навестишь Утылыта и объяснишь, что посмотрел на меня ещё раз и убедился, что нет во мне ничего полезного… Ты слушаешь меня?
– Так делай нельзя, иначе большая беда приходи. Моя не моги обманывай Утылыт. Утылыт умей видеть, умей слышать, умей убивать… Утылыт умей втыкать в себя нож, в грудь, в живот…
– Умеет втыкать в себя нож? Ты хочешь сказать, что вонзает нож в своё тело?
– Да. И кровь не беги. Умирать нету.
– Этому шаману не страшен даже нож? Разве такое может быть? – Маша задрожала. – Ты просто пугаешь меня. Такого не бывает, не может быть. Это лишь разговоры, Михей. Тебя обманывают, и твоих друзей тоже обманывают… Есть же законы природы…
– Моя видеть, как Утылыт протыкай себе живот…
Маша сжалась.
– Мне холодно. Михей набросил поверх её полушубка лежавшую на дне лодки медвежью шкуру.
– Скажи, зачем вы убили Ивана? – робко спросила Маша. – Разве надо обязательно убивать?
– Копыто очень крепкая человека. Копыто легко не умирай. Моя много раз гляди, как Копыто теряй шибко много крови, но не умирай.
– Так ты полагаешь, что он только ранен? – воодушевилась девушка.
– Моя не знай. Когда камень кидай, хоти кидай хорошо.
– Зачем же вы метнули камень? Разве нельзя было переговорить с Иваном?
– Копыто не пускай тебя до Утылыт. Копыто не люби Утылыт.
Утылыт
На берегу стояли в ряд чукотские шатры, не менее десяти штук. В сгущавшейся мгле можно было разглядеть, что повсюду во множестве лежали недавно снятые с оленей шкуры и куски разделанного мяса. Людей не было видно, все, должно быть, находились в ярангах. Со стороны леса доносился тревожный хохот куропаток и мерный гул множества копыт.
– Ходи сюда, – сказал Михей, указывая на крайнюю ярангу, возле которой в беспорядке белели разбросанные кости. – Ходи сюда.
Маша, уставшая от долгой поездке в лодке, остановилась перед входом и наклонилась, чтобы растереть ноги. Нижняя часть остова жилища была обложена камнями, кое-где камни поднимались до уровня колена. На одном из таких нагромождений лежал безрогий олений череп.
– Отдыхать потом, – Михей подтолкнул девушку в спину, – отдыхать потом, Утылыт дожидайся давно…
Михей откинул шкуры входного полога, и Машу окатил изнутри красный свет костра. Кострище было устроено посреди шатра и обложено камнями по кругу.
Перед очагом сидела полуголая дикарка. Она была молодая, но совсем не женственная. В её лице проглядывались мужские черты. Широкий нос, узкие губы, грубо срезанный подбородок, раскосые глаза. Сальные волосы её были коротко обрезаны. На ней были надеты только замусоленные кожаные штаны, на ремне висел нож в грубом чехле. Чукчанка сильно сутулилась, и её отвислые груди касались лоснящегося живота.
– Утылыт, – указал на дикарку Михей.
– Это? Вот эта женщина и есть тот самый шаман? Это и есть Утылыт? – Маша не поверила собственным глазам. Она готовилась увидеть человека, похожего на Седую Женщину, с обликом которого она успела связать всех шаманов Чукотки, но перед ней был не устрашающего вида мужчина, а неухоженная женщина, почти невзрачная. – Михей, неужели ты рассказывал мне про неё? Это она умеет вонзать в себя нож и оставаться невредимой?
– Да. Утылыт.
– Странно. Она совсем не выглядит… А что означает её имя? – прошептала Маша, буквально пожирая глазами Чукчанку.
– Моя не знай, – ответил Михей. – Неправильный имя.
– Почему неправильное имя?
– Чужая язык. Очень похожа язык Чукча, но не язык Чукча. Похожа на Деревянный Голова, но Утылыт не Деревянный Голова. Неправильный имя.
– Утылыт, – Маша повернулась к Чукчанке и просительно сложила руки на груди, – зачем я нужна тебе? Для чего ты велела похитить меня? Неужели ты не понимаешь, что за мной явится погоня?
В ответ на это дикарка достала откуда-то из-за спины круглый бубен на короткой ручке и стукнула по нему несколько раз. При этом после каждого удара она покачивала им, и казалось, что бубен продолжал гудеть некоторое время после этого, рассылая по сумрачному жилищу ноющие звуки.
Очаг сильно дымил, и дым, клубясь и кривляясь, поднимался вверх и скапливался плотной массой под сводами шатра, почти скрывал от глаз шесты, составлявшие каркас конической части жилища. Из густого дыма выплывала медвежья шкура, свисавшая с горизонтальной перекладины, словно контуры неведомого зверя, протянувшего когтистые лапы вниз. Эта чёрная шкура всколыхнула в Маше беспокойство.
Яранга была поделена на две половины меховым пологом, и вот из задней половины жилища вышла вторая женщина, тоже молодая и тоже полуголая. Но она выглядела гораздо приятнее, чем Утылыт. У неё было округлое лицо, небольшой нос, в меру пухлые губы. Гладко расчёсанные чёрные волосы стекали по спине до поясницы.
Надетый на неё комбинезон был спущен до пояса и висел на бёдрах рыхлой коричневой массой. В руках она несла небольшую ступку и перетирала там что-то пестиком.
– Это тоже шаманка? – спросила Маша.
– Нет, это жена Утылыт, – ответил Михей.
– Жена? То есть как жена? – Маша оторопела, ей вдруг сделалось нестерпимо жарко.
– Жена. Готовь еда, спи рядом, обнимай…
– Боже! Михей, я ничего не понимаю, растолкуй мне…
– Однако моя уходи. – Михей оборвал Машу на полуслове и быстро вышел.
Маша повернулась было за ним, но тяжёлый звук бубна заставил её замереть. Медленно обернувшись, она посмотрела на шаманку. Чукчанка глядела на неё исподлобья, сверкая глазами. Вторая женщина села рядом, делая вид, что её не интересовало происходившее в доме, но в действительности то и дело бросала украдкой на Машу быстрые взгляды.
В яранге было жарко, и Маша сняла полушубок, аккуратно положив его возле себя. Утылыт жестами велела ей сесть, указав перед собой и что-то сказав по-чукотски. Голос её звучал глухо, словно доносился из глубины живота. Длинноволосая женщина, которую Михей назвал женой шаманки, сходила к очагу и вернулась с котелком, в котором булькала похлёбка.
– Я не хочу кушать, – отказалась Маша.
Утылыт удивлённо посмотрела на неё и ответила что-то на своём языке.
– Я не понимаю, я ничего не понимаю, – покачала головой Маша. – Надо позвать Михея, он поможет нам разговаривать.
Утылыт вдруг улыбнулась. Лицо её сделалось сразу каким-то измученным, старческим, безобразным. В следующую секунду она засмеялась, опустив голову, и принялась трепать себя по коротким волосам. Маша с недоумением следила за ней, иногда переводя взгляд на длинноволосую дикарку, но та сидела спокойно, словно ничего особенного не происходило.
– Я ничего не понимаю, – вновь сказала Маша, стараясь говорить так, чтобы голос её звучал мягко, почти вкрадчиво. – Если я чем-то порадовала вас, то мне очень приятно. Но если вы смеётесь надо мной, то я не понимаю, что вызвало у вас смех…
Вдруг длинноволосая женщина поднялась и что-то громко крикнула. Её босые ноги топнули по разложенным шкурам, выражая явное раздражение. Выпрямившись, дикарка выставила вперёд голые груди, шлёпнула себя по животу и поставила руки на бёдра, всей своей позой воплощая негодование ревнивой жены.
Утылыт оборвала свой смех и подняла глаза на жену. Её лицо вновь преобразилось, оно как бы приобрело черты волка, вытянулось, оскалилось. Маша содрогнулась, словно увидела перед собой настоящее чудовище. Ревнивая жена не замолчала, но заговорила чуть тише, хотя голос её продолжал звучать сварливо. Под жутким взглядом шаманки она снова села.
Переведя взор с шаманки на её жену, Маша подумала, что эта длинноволосая дикарка была, пожалуй, даже привлекательна. По крайней мере, она не вызывала никаких неприятных чувств. Конечно, смотреть на её нагие груди было неловко, но Маша вынуждена была признать, что они были красивы, не то что омерзительные отвислые мешки на грудной клетке Утылыт.
«Здесь так жарко. Неужели и меня они заставят раздеться? Нет, я не смогу ходить так, не смогу при них… Это такое падение… Это такое…» – подумала она и сказала:
– Послушайте, я в толк не возьму, как мы будем общаться с вами, раз вы не знаете по-русски… Но я очень устала. Я бы хотела лечь… Понимаете? Лечь… спать… – Она сложила ладони вместе и приложила их к щеке, изображая подушку. – Не понимаете? Вижу, что не понимаете…
В эту минуту Утылыт неторопливо стянула с себя штаны и предстала перед Машей во всей своей неухоженной наготе. Маша отвела глаза, но вскоре опять посмотрела на шаманку. Взяв в руки бубен, Утылыт мелкими шажками прошла по кругу, поглаживая свободной рукой поверхность бубна и издавая какие-то шипящие звуки. От неё исходил стойкий запах грязного тела.
Сделав несколько кругов по яранге, шаманка вышла наружу. Маша с удивлением посмотрела на длинноволосую дикарку и указала рукой на вход в жилище.
– Куда же она? Она же совсем голая!
Чукчанка ответила ей равнодушным взглядом. Снаружи послышались звуки бубна. Машу одолело любопытство, и она приблизилась к откинутым шкурам входного отверстия. В лунном свете Маша увидела нагую женщину, стоявшую на четвереньках с откляченным задом; она передвигалась мелкими шажками, иногда вскидывала бубен и ударяла по нему палочкой. Время от времени шаманка поднималась в полный рост и начинала раскачивать бёдрами, голова её при этом крутилась так, будто готова была сорваться со своего места. Её короткие волосы растрепались и вздыбились. Маша отступила в шатёр, потрясённая и испуганная увиденным.
– Что она делает? – обратилась она к длинноволосой, опять забыв, что та не умела говорить по-русски.
Прошло немного времени, и звуки бубна снаружи стихли. Чуть позже Утылыт вернулась в ярангу. На её возбуждённом лице было написано удовлетворение. Она неторопливо прошла в дальний конец дома и положила бубен на груду мехов. Её голое тело выглядело как-то ненатурально, как-то по-кукольному; руки покачивались, будто пришитые слабыми нитками или будто жившие своей отдельной жизнью.
Длинноволосая Чукчанка прошла по жилищу взад-вперёд, пристально наблюдая за шаманкой и желая понять, что было у той на уме. Она явно опасалась чего-то.
– Ах, – вздохнула Маша, – если бы вы понимали по-русски…
Утылыт достала откуда-то широкий кожаный ремень, на котором висел какой-то непонятный продолговатый коричневый предмет, и потрясла ремнём перед лицом Маши, и та увидела, что привязанный предмет – мышца с оленьей ноги, икра.[3]
– Я не понимаю! – почти закричала Маша. – Я ничего здесь не понимаю! Отстаньте от меня! Что вам надо?
Увидев ремень, длинноволосая дикарка решительно шагнула к Утылыт и, схватившись за него, потянула на себя. Лицо её пылало негодованием. Утылыт строго посмотрела на свою жену и дёрнула ремень к себе. Так они тянули ремень, угрюмо, с сопением, каждая на себя, одна – отталкивающая своей наготой, другая – бесспорно привлекательная в своей полуобнажённости.
– Зачем вы дерётесь из-за этого куска мяса? – взмолилась Маша.
Никто не отозвался на её вопрос, но Утылыт с силой ударила длинноволосую по голове кулаком, и та рухнула на месте. Шаманка засмеялась, поворачиваясь к белой девушке. Её омерзительные отвислые груди сильно раскачивались и в свете костра становились то длиннее, то короче. Машу охватил панический ужас, когда дикарка подступила к ней и принялась грубо стаскивать с неё платье.
Обнаружив под верхней юбкой нижнее белое бельё, шаманка снова гадливо засмеялась.
– Что вам надо?! – Маша закричала, но голос внезапно пропал, сделался жалким шипением. Она почувствовала, как по телу растеклась леденящая вялость, в голове возникла тяжесть.
Шаманка сдёрнула с девушки одежду и цепко схватила её за колени. Маша безвольно упала на шкуры. В глазах всё замелькало. Огонь, грязная голая кожа, жидкие клочковатые волосы на лобке дикарки, ремень с икрой оленя… Этим ремнём шаманка обвязала свои бёдра, и теперь грязная оленья мышца раскачивалась у неё впереди, как мужской половой орган…
– Зачем? – шевельнула губами Маша. – Зачем… что я вам… не могу…
В глазах у неё потемнело, она поняла, что готова лишиться сознания, и откинулась на спину.
– Уйдите…
Дышать становилось труднее, воздух словно загустел, сделался вязким и горячим.
– Уйдите…
Она отмахнулась от шаманки слабой рукой, но Утылыт продолжала приближаться к ней короткими прыжками. Ноги дикарки тряслись, как в лихорадке.
И в этот миг за спиной Утылыт выросла длинноволосая Чукчанка. В её руке Маша успела увидеть длинный нож. Лезвие вспыхнуло над головой шаманки и резко опустилось, вонзившись в её спину.
Утылыт закричала и быстро повернулась к длинноволосой женщине. Нож торчал у ней под левой лопаткой, воткнутый по самую рукоятку. Утылыт бешено затрясла головой и замахала руками. При этом руки её невероятным образом изогнулись, словно сделанные из резины, и легко дотянулись до застрявшего в спине ножа. Левой рукой Утылыт вырвала из своего тела нож и выставила его перед собой. Маша ясно разглядела тёмное отверстие, где только что торчало оружие, но крови там не было.
Длинноволосая Чукчанка отступила от Утылыт, в глазах её вспыхнул страх. Шаманка сделала выпад, махнула рукой слева направо. Длинноволосая отшатнулась, схватилась за горло, между пальцами у неё брызнула кровь. В следующее мгновение дикарка упала.
Маша закричала и поползла назад, отталкиваясь ладонями от земли и взбрыкивая ногами. Голова её затряслась, глаза зажмурились. Мгновением позже она услышала хрип и посмотрела перед собой. Утылыт стояла лицом к ней, выпучив глаза, и корчилась.
Позади неё виднелся мужчина; он набросил на шею шаманке верёвку и стягивал её из всех сил. При этом он то и дело отклонялся, стараясь не попасть под бешено вращавшийся в руке шаманки нож. Постепенно Утылыт затихла, меж её губ потекла густая слюна.
Мужчина опустил руки, и шаманка свалилась ему под ноги, тряхнув отвислыми грудями. Чукча что-то сказал, обращаясь к Маше. Черты его лица показались ей знакомыми, но она не сразу сообразила, что это был Кытылкот, сын Хвоста Росомахи. Она была чересчур напугана и обессилена, чтобы разбираться в том, кто был её спаситель и был ли это спаситель. Ей лишь хотелось, чтобы завершилась как можно скорее эта часть кровавого спектакля.
Тогда он шагнул к ней и поднял её на ноги. На несколько мгновений он замер, оглядывая обнажённое снизу тело белой девушки, глаза его блеснули, но он отвёл взгляд и бросил Маше несколько шкур, чтобы она укрылась. Посмотрев на мёртвую Утылыт, он велел Маше покинуть ярангу.
Снаружи стоял шум, на который девушка раньше не обратила внимания, поглощённая событиями в шатре Утылыт. Повсюду сновали люди, они размахивали руками и кричали. Истошно лаяли собаки. Краем глаза Маша увидела беззвучную, как тень, пролетевшую над головой сову. Несколько коренастых фигур обступили Машу, следуя указаниям Кытылкота. Один из мужчин на ходу завязывал ремни кожаного панциря. Все они держали в руках длинные копья.
В мерцающем свете факелов проявились три бегущих тени – три воина; один держал в руке неровный овальный щит из кожи. Приблизившись, они крикнули что-то людям, охранявшим Машу, и замахали руками в сторону жилища Утылыт. Услышав ответ, они зарычали свирепо и кинулись в атаку, выставив перед собой копья. Маша зажмурилась, приготовившись принять мучительную смерть. Раздался стук древка о древко, удары наконечника о наконечник, кто-то взвыл, кто-то охнул.
Кытылкот рывком потащил Машу за собой. Оглянувшись, она разглядела упавшие на землю тела тех, кто только что напал. Один из них пытался подняться на ноги, но всё время опрокидывался лицом вниз и хватался за живот.
Кытылкот втащил Машу в лодку…
Через минуту кровавое сумасшествие осталось позади. Берег стремительно удалялся, погружаясь во тьму. Огни костров и факелов превратились в мерцающие точки, крики растаяли. Пространство наполнилось плеском воды. Маша сидела ослабшая и неподвижная. Единственное желание, которое овладело её усталым существом, – обмыться, содрать с себя невидимую липкую плёнку гадливых ощущений. Но у Маши не хватало сил даже на то, чтобы зачерпнуть воду ладонью и плеснуть ею в разгорячённое лицо.
Байдара поплыла влево вдоль берега, то есть направилась в сторону Раскольной. «Неужели всё закончилось? – удивилась Маша, лёжа на спине и глядя в звёздное небо. – Неужели этот кошмар завершился так же внезапно, как начался? Но зачем всё это было? Зачем, Господи, ты послал мне это испытание? Я ничего не поняла из этого, но ужасно испугалась. Я едва не умерла от страха. И я благодарю тебя, Боже, за то, что ты позволил мне пройти невредимой через это испытание…» И тут Маша похолодела. Откуда она взяла, что всё закончилось? Откуда знать ей, что сын Росомашьего Хвоста не замыслил чего-то своего, какой-то своей пакости?
Девушка приподняла голову и посмотрела перед собой. В темноте едва угадывались очертания дикарей, работавших вёслами. Сколько их было? Четверо? Пятеро? Зачем они захватили её? Зачем вступили в бой с другими дикими?
Сколько прошло времени с тех пор, как они покинули становище Утылыт, Маша не смогла бы сказать. Время перестало существовать для неё. Нетерпеливое ожидание чего-то нового заставило её сжаться.
И вот подул ветер. Подул как-то сразу, подняв волны и обрызгав людей ледяными брызгами. Кытылкот что-то скомандовал своим людям…
Поиски
Сидя в байдаре, Алексей Сафонов с любопытством смотрел в затылок Ивану, пристроившемуся на носу лодки. На спине следопыта висел тёмно-коричневый колчан со стрелами, украшенный двумя тонкими белыми полосками из бус. Лицо Ивана, измождённое, сильно заросшее, с провалившимися чёрными глазами, казалось офицеру воплощением уверенности и спокойствия. Следопыт всё больше и больше удивлял Алексея и пробуждал в нём уважение и добрую зависть…
Когда Иван Копыто вернулся в крепость, бледный, с окровавленной головой, с мутным взглядом, без Маши, Алексей сначала растерялся, затем рассвирепел, а после того запаниковал.
– Что с сестрой? Кто её забрал? Как ты мог допустить? Какой бес тебя попутал?
Вопросы и упрёки сыпались из молодого офицера, как горох из опрокинутого мешка. Он метался по покоям Анисима Гавриловича, размахивал руками и требовал немедленных действий.
– Охолодись, батенька ты мой, – отвечал седовласый капитан, задумчиво покусывая нижнюю губу, – не пори горячки.
– Однако надобно что-то решительно делать!
– Сделаем. Вот Ваня полагает, что это Белозубые забрали Марью Андреевну…
– Какие Белозубые? – не понял Алексей.
– Чукчи из рода Белозубых, – пояснил Копыто, – у них некоторые мужчины особую татуировку на лице делают. У одного из тех, кого я видел, на щеках был тот рисунок…
– И что с того?
– Я думаю, что они уплыли в своё зимовье, – сказал Иван. – Поплывём туда.
– Почему именно поплывём?
– Я видел следы байдары на берегу. Марью Андреевну посадили в ту байдару, – ответил следопыт. – Мимо фортеции они не проплывали, стало быть, направились в другую сторону, то есть к своему зимовью…
– Так давайте же ехать за ними! – воскликнул Алексей. – Нельзя медлить ни минуты!
Сборы были быстрыми. Капитан Никитин покричал подпоручика Тяжлова, но никто не мог сказать, куда подевался Вадим Семёнович, и тогда Анисим Гаврилович махнул рукой.
– Всегда этот гусь пропадёт куда-нибудь в самый нужный момент. Ладно-сь, Ваня, голубчик, возьми пятерых казаков и отправляйся искать Марью Андреевну.
– Я тоже поеду! – выступил вперёд Алексей. – Я не смогу сидеть здесь и просто ждать исхода дела! Нет, господа, я еду…
Они плыли всю ночь. Иван Копыто сидел впереди, голова его была перевязана платком. Иногда он поглядывал через плечо на Алексея, словно намереваясь сказать что-то, но ничего не говорил.
Берег выступил из утреннего тумана внезапно. Призрачно прорисовались конусные верхушки десяти чукотских шатров. Алексей поправил треуголку и взял в каждую руку по пистолету. Иван взвёл курок своего ружья. Байдара мягко ткнулась в твердь и зашуршала днищем о песок. Следопыт легко выпрыгнул на землю и огляделся.
Стойбище выглядело спящим, но что-то настораживало Ивана. Один за другим ступили на берег казаки, держа ружья наготове. Взлохмаченные, невыспавшиеся, они, казалось, готовы были сорвать своё раздражение на первом появившемся дикаре.
– Тихонько, братцы, тихонько, – шепнул им Иван. – Не всё у них тут ладно.
– А что вас беспокоит, сударь? – подошёл к нему Алексей.
Тот пожал плечами в ответ и двинулся вперёд. Через несколько шагов он увидел неподвижные тела убитых Чукчей и указал на них Алексею.
– Вот что меня беспокоит. Ссора у них тут произошла изрядная. Но почему? Это надо бы понять…
– Слышь, Копыто, – негромко позвал Ивана один из казаков, – поди сюда.
Следопыт пошёл на зов и остановился перед шатром Утылыт.
– Э, друзья, да бабёнку-то эту прикончили, – проговорил он, заглядывая внутрь. – Не она ли была причиной здешнего раздора? Давайте быстро обойдём все яранги, есть ли тут кто живой… Должно, все разбежались…
Минут через пять один из казаков вывел к Ивану испуганного дикаря.
– Гляньте на этого. Перепуган до смерти.
– Я тебя видел где-то, – шагнул Копыто к Чукче. – Ты кто?
– Я знаю его! – воскликнул Алексей, приближаясь к дикарю быстрыми шагами. – Это Михей. Он был у нас проводником на пути в Раскольную.
– То-то, я гляжу, рожа знакомая, – кивнул Иван. – Помню, помню, сбежал он ночью… А скажи-ка нам, Михей, что тут стряслось? Кто убил Утылыт? Не из-за неё ли вся заваруха тут приключилась? Перестань глаза прятать, братец… А не ты ли был среди тех, кто напал на меня? Ну-ка, ну-ка! Точно! Вспомнил я тебя, подлеца!
– Стало быть, Маша здесь? – Алексей бросился на Михея и вцепился в ворот его кухлянки. – Я тебя, пса вонючего, сейчас на куски изрублю! Где Маша? Отвечай же, гнусная тварь!
Михей не пытался освободиться от хватки офицера. Его глаза смотрели куда-то вдаль, будто не видя или не желая видеть стоявших перед ним людей.
– Алексей Андреевич, – Иван положил руку на плечо поручика Сафонова, – не так прытко. Спрячьте пистолеты и дайте мне с ним посудачить.
И он заговорил на чукотском языке. Михей начал отвечать ему, поначалу без видимой охоты, но затем воодушевился.
– Где же Маша? – Алексей то и дело теребил Ивана за рукав, но тот не обращал внимания на офицера.
Когда разговор был окончен, Копыто устало провёл рукой по своим глазам:
– Спать хочется чертовски…
– Сударь, не томите, рассказывайте же! – почти закричал Алексей и в сердцах сорвал с головы треуголку, широко взмахнув ею в воздухе.
– Марьи Андреевны тут нет. Но она была здесь. Её велела привезти сюда Утылыт, та самая шаманка, которая лежит сейчас мёртвая в крайнем с того края шатре… Коротко говоря, всему виной была Утылыт. Здешние Чукчи выбирали между ней и Кытылкотом, сыном Росомашьего Хвоста, помните такого, сударь? Вот этот самый и убил шаманку. Из-за того здесь и кровопролитие случилось. Многие испугались такой беды и сразу покинули зимовье, даже домашний скарб не взяли с собой.
– А Маша?
– Её увёз Кытылкот.
– Куда? Зачем?
– В сторону Раскольной. Мы где-то разминулись. Помните, на короткое время поднялся сильный ветер? Должно быть, Кытылкот пристал где-то к берегу…
– Надо немедленно отправляться за ним!
– Нет, мы должны отдохнуть, – сказал твёрдо Иван. – Люди устали грести. Нужен отдых.
– Но Маша…
– Сначала отдых! – Иван повысил голос, и Алексей вздрогнул, как если бы на него гаркнул старший по званию. Иван Копыто обернулся к казакам: – Братцы, давайте пошарим у них, надо найти оленинки, перекусить… Ну, Михей, а ты почему не ушёл? Давай сказывай.
– Однако моя сильно бояться. Утылыт имей верёвка, который держи моя жизнь. Моя хоти отыскать эта верёвка и бери верёвка себе. Тогда моя не бояться совсем и шибко радоваться.
– Верёвку мы тебе другую подберём, – мрачно засмеялся кто-то из казаков, – вздёрнем где-нибудь недалече, чтобы другим неповадно было русских девиц воровать…
– Ты поедешь с нами, Михей, – сказал Иван, – в фортецию. Перед комендантом ответишь за разбойное твоё поведение и перед Касьянычем за побег… Иди к байдаре и жди, да не вздумай сбежать – застрелю…
На еду и отдых ушло не меньше часа. Алексей отказался кушать, находясь в нервном ожидании. Он устроился на поваленном дереве немного в стороне от казаков и погрузился в свои думы. Его яркая фигура в зелёном мундире, перехваченном трёхцветным шарфом, живописно смотрелась на фоне грязно-коричневых чукотских жилищ. Позади стойбища поднимались пологие горы, покрытые ещё голым лесом. Неподалёку от чукотского селения бродили несколько оленей, остальное стадо ушло за бежавшими в панике людьми.
Алексей задумчиво достал из ножен шпагу и провёл ею по земле, оставляя неровные следы. В который раз, приехав в этот далёкий от родного дома край, он думал одно и то же – беспомощен человек в незнакомых обстоятельствах. Почему у него – у русского офицера Алексея Андреевича Сафонова, молодого, красивого, сильного, образованного, – всё здесь не ладилось? Куда подевалась его уверенность в себе? Откуда пришло ощущение собственной никчёмности? Почему он видел в каждом из здешних бородатых мужиков могучую силу, против которой он не смел бы выставить ничего? Неужто всё дело в том, что здесь жизнь была более настоящей, а потому более суровой, то есть здесь, в глухом и диком краю, жизнь была настоящей жизнью, а не театральным изображением жизни, каковым теперь представлялось Алексею его недавнее существование там, в отлакированном обществе губернского высшего света? Балы, ухаживания за томными барышнями, вальсирования по зеркальному паркету, парадные мундиры, сомнительная болтовня в обитых бархатом кабинетах, прогулки на лошадях, обеды за богато убранными столами, оскорбления, дуэли, извинения… Неужели всё это не только могло иметь место в его совсем недавней жизни, но было для него очень важно?
А Маша? Алексей представил лицо сестры… Сколько ей, слабой девушке, пришлось испытать за последние дни? И во всём виноват, конечно, только он, и никто другой. Ведь именно Алексей привёл в её дом своего товарища, Михаила Литвинского, этого жалкого щёголя, вечно напудренного и нарумяненного… «Ах, почему в те дни Михаил не казался мне такой ничтожностью, как кажется мне нынче? – Алексей рассуждал, продолжая рисовать кончиком шпаги непонятные значки на земле. – Впрочем, это понятно. Все мы, и я в том числе, были заняты тем, чтобы выглядеть уверенно и непринуждённо в нашем круге и чтобы во время танцев наши движения были точны и изящны… Разве готов я был увидеть в людях что-то иное? Но теперь… Теперь я уже не тот… Однако как объяснить самому себе, каков я теперь? Что изменилось во мне? Разве я откажусь от светских балов? Разве не захочу пройтись парой с миленькой девушкой в танце? А коли так, то я буду, выходит, вести те же поверхностные разговоры, касаясь неглубоких тем… Но ведь и здесь я не рассуждаю ни с кем о смысле жизни. Здесь я, пожалуй, вообще ни с кем не имею возможности общаться из-за отсутствия достойного, образованного собеседника. И всё же здесь куда больше основательности в людях, даже когда они молчат, чем там, в прошлом… Странно я рассуждаю. Я уже думаю о моей недавней жизни как о деле конченом, к которому нет возврата, между тем как вскоре я вернусь туда. Мне больше некуда деться. Я больше не умею никак иначе жить… Всё это странно, всё это мучительно, но вместе с тем радостно… Уже не в первый раз я замечаю, что на душе у меня становится легче, когда я признаюсь себе в том, что я не столь хорош, как мне это представлялось раньше… Странно».
– Ваше благородие, – подошёл к Алексею коренастый казачок, пережёвывающий кусок мяса, – Копыто велит собираться в путь.
– Собираться? Это очень даже славно! Засиделся я тут, задумался. А в походе не время думать, действовать надо в походе! Не так ли, братец?
– Оно, конечно, так, ваше благородие…
Очень скоро они отплыли от стоянки Чукчей и быстро двинулись по направлению к Раскольной. Ветер дул им в спину и подгонял байдару.
– Не зевайте, братцы, – напоминал казакам Иван, – поглядывайте на бережок, нет ли огонька или дыма…
– Вы полагаете, что Кытылкот устроил где-то стоянку? – спросил Алексей.
– Надеюсь на то, – отозвался следопыт, – Марья Андреевна, поди, уж на ногах не держится из-за всего, что с нею приключилось. Отдых ей нужен. А Кытылкот… Думаю, что у него нет ничего дурного на уме…
Прошло не более получаса, и Иван воскликнул:
– Вон они! Должно быть, они. Лодка на берегу, люди какие-то возле леса… Греби к берегу!
Иван Копыто оказался прав. На берегу их встретили, держа в руках луки и копья, люди Кытылкота. Чукчи вели себя настороженно, готовые вступить в бой, если на то будет нужда. Их лица выражали решимость. Они не могли знать наверняка, как поведут себя русские казаки, искавшие похищенную русскую девушку.
Следопыт крикнул им что-то по-чукотски, они ответили, закивав головами. Вперёд выступил Кытылкот. Иван Копыто забросил своё длинноствольное ружьё за спину и уверенно пошёл к дикарю, протягивая ему руку для пожатия. Алексей внимательно следил за Чукчами, положив руки на пистолеты, заткнутые за пояс. Минутой позже следопыт обернулся.
– Всё в порядке, дело тут мирное. Кытылкот на нашей стороне.
– Где же Маша?! – в нетерпении крикнул Алексей.
– Она в полном порядке, только притомилась.
– Да где же она?
– Там, впереди, где костерок горит. Мы все идём туда…
Алексей не стал дожидаться остальных и бегом пустился в указанном направлении. Ноги его цеплялись за выступавшие из земли корни и ветки.
– Маша! Родная моя!
– Алёшенька!
– Как ты, душа моя?
Она лежала подле огня, укутанная в шкуры. Алексей с разбега упал возле сестры, целуя её руки.
– Со мной теперь всё хорошо. Теперь уже не страшно. Эти дикари не причинили мне вреда… Ночью начался было шторм, и мы пристали к берегу… Вот я здесь… И ты здесь… Как ты нашёл меня?
– Это Иван Копыто, а не я…
– Он жив? Боже, какое счастье! – Маша приподнялась на локтях и стала высматривать следопыта, и Алексей немало удивился её волнению. – А я уж думала, что его убили… Ты знаешь, Алёшенька, они с такой силой метнули в него камень, что просто нельзя было не умереть от этого удара в голову… Ведь его в голову ранило?
– В голову. Вот он сам шагает, видишь, платком перевязан…
Иван Копыто не сразу приблизился к Маше, но долго беседовал о чём-то с Кытылкотом. Наконец, он направился к Маше и Алексею.
– Я рад видеть, Марья Андреевна, что вы в полном здравии, – опустился он на корточки и положил ружьё поперёк колена, – а то уж я, признаться, начал беспокоиться…
– Вы? Беспокоиться? – изумился Алексей, а Маша широко улыбнулась. – Да по вашему лицу ничего не сказать было! Вы словно из камня! Я даже решил было, что вы вообще ни за что и ни за кого не беспокоитесь.
– В этом вы, сударь, ошибаетесь, – спокойно ответил Иван, – иногда я едва сдерживаю себя. А знали бы вы, какую обиду и досаду я испытал, когда случилось то треклятое нападение… Этот камень мне в голову… До сих пор не могу простить себя! Как я мог не заметить тех мерзавцев?
– Не судите себя. – Маша протянула следопыту руку. – Тем более что всё уже кончилось. Вы очень быстро нашли меня, хотя это «быстро» показалось мне вечностью… Извините меня за мой вид, – она одёрнула прикрывавшие её шкуры, – моё платье, увы, совершенно разрушено, порвано в клочья…
Девушка смущённо подтянула меха к самому подбородку, пытаясь спрятаться за ними. Её глаза жадно разглядывали лицо следопыта, и она сама удивлялась своему волнению. Почему это мужское лицо, выразительное, с чертами, почти отталкивающе резкими и красивыми одновременно, казалось ей теперь таким родным и желанным?
Уловив в себе эту мысль, Маша испугалась. Если бы ей предложили зеркало в тот момент, она бы не решилась взглянуть в него, боясь не узнать себя – настолько, подумалось ей, она стала не похожа на себя внешне и внутренне после всего случившегося.
– Мы так внезапно расстались… – прошептала она, протянув Ивану руку.
– Я поговорил с Кытылкотом. Вот как выглядит вся эта история, – начал рассказывать следопыт. – Когда Утылыт впервые услышала шаманский призыв, одним из требований духов было превращение её из женщины в мужчину. Здесь это случается нередко. Иногда даже заболевшему человеку знахари говорят вести себя не так, как этого требует пол больного, чтобы тем самым обмануть духов болезни… Утылыт мало-помалу стала вести образ жизни мужчины. Она даже взяла себе недавно жену.
– Я видела её, – сказала Маша.
– Но женщина не может родить от женщины, даже от той женщины, которая ведёт мужской образ жизни. Это ясно как день. А Утылыт слышала в шаманском призыве условие – иметь ребёнка от своей жены. Как быть? И тогда она позвала к себе Кытылкота, чтобы он помог ей в этом.
– Как шаман? Колдовством?
– Нет. Как мужчина. Они спали втроём. Это вполне нормально для тех семей, где мужем является женщина. Но Утылыт не была простая женщина, она была шаманка, поэтому хотела иметь третьим в этом деле не заурядного мужчину, а шамана. Кытылкот устраивал её, а Кытылкота устраивала жена Утылыт. Поэтому он часто появлялся в доме Утылыт. Но он ничего не знал о планах Утылыт похитить Марью Андреевну. Когда он рассказал о том, что Хвост Росомахи видел белую девушку во сне, разговаривал с ней после собственной смерти и велел дождаться её, чтобы она приняла участие в его погребении, тогда Утылыт и решила, что Марья Андреевна тоже как-то связана с её шаманской стезёй. Я даже допускаю, что она решила сделать вас своей женой, сударыня.
– Всё именно так и есть, – согласилась Маша, – это она и пыталась сделать…
– Как только Кытылкот узнал о вашем похищении, он бросился в становище. Не так давно его отец был ярым противником русских, но перед смертью вдруг изменил своё отношение к пришельцам. Он говорил Кытылкоту, чтобы тот соблюдал мир с русскими и учился у них. И вот, представьте себе, что мог подумать Кытылкот, узнав о вашем, Марья Андреевна, похищении. А тут ещё оказалось, что в этом деле замешана Утылыт! Он просто взбесился, узнав про это. Ну, дальше вы всё знаете…
– Почему же они все передрались между собой?
– Одни – сторонники Утылыт, другие хотели следовать за Кытылкотом. Могло сложиться и хуже, если бы все пастухи находились в стойбище, но кое-кого не было дома. Будем считать, что всё сложилось наилучшим образом…
– Ничего себе «наилучшим образом», – проворчал Алексей.
– Поверьте мне, сударь, – сказал следопыт, – крови могло пролиться куда больше… Впрочем, пора забыть об этом. Если вы, Марья Андреевна, достаточно отдохнули, то мы можем отправиться в путь. Плыть нам долго, почти весь день…
– Я готова… Если бы вы могли представить всю степень моей благодарности и мою радость…
Возвращение
Вечерело. Воздух постепенно насыщался мягкой синевой. Байдары плыли близко от берега. Тихий людской говор, звук волн и редкие вскрики гусей навеивали сон.
– Скоро доберёмся, – сказал Иван через плечо, обращаясь к Маше, – теперь уже рукой подать.
В этот миг что-то вспыхнуло на берегу, затем ещё и ещё. Через секунду до находившихся в лодках людей донеслись звуки выстрелов.
– Стреляет кто-то…
– Пошли к берегу. Кытылкот, приставай! – крикнул Иван.
– Слышь, Копыто, – крякнул кто-то из казаков, – может, мимо пройдём? Темно уж, чтобы ввязываться…
Иван только хмуро посмотрел на говорившего и промолчал. На лице его лежала печать огромной усталости.
– Иван, – наклонился к следопыту Алексей, – не рискуем ли мы, идя сейчас к берегу? Не достаточно ли с нас на сегодня?
Следопыт помолчал немного, налегая на весло, затем сказал:
– Выстрел знакомый был.
– Знакомый? – Алексей не понял его. – В каком таком смысле, сударь?
– У каждого ружья свой голос, как у человека. Далековато пальнули… Я не уверен, но похоже на Григория…
Алексей Сафонов с сомнением посмотрел в сторону тёмного берега. Он уже свыкся с тем, что Иван был наделён самыми необычными качествами, но последние слова следопыта сильно удивили офицера.
– Если вы и впрямь распознаёте… – Алексей растерянно пожал плечами.
Байдары зашуршали по береговому песку, и Чукчи из лодки Кытылкота первыми ступили на землю.
– Гриша! – громко позвал Иван, выпрыгивая из байдары. Сделав казакам знак, чтобы они были готовы к любой неприятности, он последовал за Кытылкотом и его людьми.
– Э, братцы! – донёсся до них слабый голос.
– Гриша, ты ли это?
– Я, кто ж ещё?
Через десяток шагов Иван и его спутники остановились перед небольшим шалашиком. Оттуда показалось измученное лицо Григория. В сгустившемся сумраке казак выглядел белым как снег. Длинные волосы налипли на грязной коже лба, борода взлохматилась, нос заострился, потрескавшиеся губы сжались в полоску.
– Какого лешего тебя тут носит? – Иван наклонился над ним.
– Меня не носит, Ваня. Я лежу. Нога у меня прострелена.
– Кто ж тебя? – Иван оглянулся, услышав позади себя шаги, и увидел Алексея и Машу.
– Наш разлюбезный Вадим Семёнович, – скрипнул зубами Григорий.
– Тяжлов? Вот сукин сын! Простите, Марья Андреевна, за грубость, но просто иногда нет мочи сдержаться, – сказал Иван и опустился возле Григория. – И что же ты? Неужели отпустил его?
– Как же, – казак усмехнулся с достоинством, – так-таки он уйдёт от меня… Хлопнул я его, подлеца. Лежит там, в горах.
– А ты что же? Что тут было? Кто сейчас стрелял? Мы слышали несколько выстрелов с разных сторон.
– Забавная история приключилась со мной, Ваня, – проговорил Григорий. – Подсобите-ка мне встать, а то сам не могу.
– Рассказывай, не тяни, – нетерпеливо толкнул его в плечо Иван.
– Дело было так. После того как Тяжлов меня подбил, я затаился. Выждал минутку и бахнул в него. Попал, слава Богу. Но нога-то у меня прострелена… Я было пошёл к нему, но оступился и упал вниз… Должно быть, сознание потерял. Не помню ничего из того… Помню только Ворона, как он возился со мной.
– Ворон? Так он тоже тут?
– Нет, он ушёл. Залатал мне ногу наскоро и ушёл за лодкой и за людьми. Он ведь что-то почувствовал, когда Тяжлов из Раскольной ушёл. Ворон побрёл за ним, но подоспел ко мне, когда всё уж случилось. На гору он меня бы не втащил, староват твой отец для этого. Но подволок сюда, к берегу. Устроил мне здесь, как видишь, шалашик и ушёл. А тут вдруг возьми и объявись эти сволочи!
– Кто такие?
– Смешно говорить. Просто злая игра судьбы, Ваня.
– Не томи. Кто тут был?
– Помнишь тех Чукоч, которые напали на нас сразу после того, как мы повстречали Касьяныча, Марью Андреевну и господина поручика?
– Как же не помнить. Удачно мы с ними разобрались.
– То-то что удачно! Вот эти самые старики, чьих детей мы с Вороном положили там, выросли тут как из-под земли, бесовские отродья! А с этими двумя стариками ещё пяток дикарей. Должно, надумали по законам кровной мести со мной разобраться. Того деда, что с горностаем на шее, я сразу узнал и понял, что у них на уме. Обложили меня, черти, со всех сторон и ну палить из луков и фузей. Ещё бы самую малость – и вам бы досталось только моё бездыханное тело.
– Надо бы прочесать всё вокруг, – вступил в разговор Алексей.
– Бросьте, ваше благородие, – слабо улыбнулся Григорий, – куда уж тут искать их… Да и не для чего… Нормальное это дело…
– Какое дело? – не понял Алексей.
– То, что старики отыскали меня… Месть здесь в порядке вещей… Надо ли ожесточаться на них за это?
Григорий замолчал. Иван посмотрел на Кытылкота и спросил по-чукотски:
– Возьмёшь его в свою байдару?
– Да.
– Тогда скажи своим, чтобы они перенесли его в лодку.
– Когда Хвост Росомахи приходил ко мне, – заговорила вдруг Маша, – он сказал, что я принесу мир. И вот я смотрю на всё, что произошло за последние дни, и вижу только горе, причиной коего явилась я. Ведь Тяжлов обозлился из-за ревности, верно? Я же понимаю… И вот он лежит где-то в лесу, и дикие звери объедают его кости. Пусть он негодяй, но всё же человек… Мне очень жаль… А Утылыт? Теперь она тоже мертва из-за меня. И те её соплеменники, вставшие на её сторону… Не много ли беды я принесла с собой?
– После бури наступает покой, – подошёл к ней Иван. – Иногда буря должна вывернуть больные деревья с корнем, чтобы оздоровить лес, сударыня.
Уже совсем стемнело. Маша смутно видела перед собой лицо следопыта в свете луны.
– Вы полагаете, что я зря виню себя? – спросила она, всматриваясь в его глаза.
– Никому из нас не дано знать всего наперёд, и тем более скрытых причин. Даже шаманы не знают всего, а ведь они, Марья Андреевна, вхожи в такие миры, о которых нам с вами не ведомо ровным счётом ничего… Кто знает, какой глубокий смысл лежит за вашим приездом? Быть может, ваше похищение было необходимо для того, чтобы мы подобрали Григория здесь и не дали ему погибнуть… Или разве не мог Росомаший Хвост ждать вашего приезда для того, чтобы был повод расправиться с Утылыт? Она ведь многих в страхе держала; Михей тому хороший пример…
Маша промолчала. Усталость вновь охватила её, и девушка поспешила сесть в лодку. Алексей заботливо укрыл её шкурами.
– Теперь уж недолго осталось, – шепнул он. Маша кивнула. Она ещё не знала, что через несколько дней наступит настоящее лето, повсюду запестреют ягоды и цветы и что обилие цветов, которые распустятся вдруг как по волшебству, будет поражать воображение, что лето пролетит быстро, в сентябре погода резко испортится, заморосят нудные северные дожди, берега Красного Озера пожелтеют увядшими мхами, а с севера медленно наползут серые снеговые тучи. Не знала она, что, когда казаки подожгут крепость, покидая её, всем будет невыразимо больно смотреть на пылающие стены, за которыми прошли многие годы. Не знала Маша, что расплачется, прощаясь с Иваном и Григорием, поцелует их обоих, как можно целовать только очень близких людей, и скажет:
– Странно и печально, что всё кончилось… Я уже полюбила Раскольную. Но я бы не смогла жить здесь, я понимаю это совершенно ясно… Путь предстоит трудный, но я еду домой, вернее… Теперь уж это слово «дом» представляется мне каким-то не совсем верным… Домой ли я еду? Конечно, там не дом, я понимаю, там просто стены и улицы, хорошо мне знакомые, но там мне привычнее… Она не знала, что произойдёт дальше… Через два месяца Григорий погибнет в тайге, тело его будет съедено волками, как был съеден труп подпоручика Тяжлова. Иван Копыто обоснуется в Анадырской крепости, пробудет там до 1771 года, когда из неё, как из Раскольной, будет вывезено всё казённое имущество, а сама фортеция тоже будет предана огню. Затем Иван с Вороном уйдёт к Юкагирам; чуть позже Ворон умрёт от оспы, Копыто сложит его кости в кожаную сумку и до конца своих дней будет носить эту сумку всюду с собой. Кытылкот возглавит род Белозубых Чукчей и станет убеждённым сторонником мирных отношений и торговли с русскими людьми; он настолько тесно сойдётся с Павлом Касьяновичем Чудаковым, что вскоре купец начнёт учить туземца грамоте и сделает его своим доверенным лицом на среднем Анадыре. Сам Павел Касьянович будет убит однажды каким-то разбушевавшимся пьяным дикарём в Горюевской фактории; Кытылкот будет искать убийцу, как искал бы убийцу близкого родственника, чтобы расправиться с ним, как того требовал закон крови. Охотничьи тропы сведут Кытылкота с Копытом, Копыто возьмёт в жёны младшую сестру Кытылкота; у Ивана родится дочь, которой он даст имя Маша. Ещё через двадцать лет на Анадыре появится русский исследователь по имени Антон Петрович Верницкий, который обоснуется среди оленеводов и женится на этой девушке-полукровке, очарованный её дикарской красотой. В глухой тайге он наткнётся однажды на останки чьей-то одежды и сумку из дублёной кожи. В сумке будет лежать письмо: «Дорогая Марья Андреевна! Сие послание я никогда не отправлю к вам, но не составить его я не могу. Я должен признаться вам, пусть это будет только на бумаге. Бог свидетель, я полюбил вас страстно. Я стал несчастен через эту любовь и теперь ищу смерти. Без вас мне нет жизни, любимая моя и глубокоуважаемая Марья Андреевна. День вашего отъезда из Раскольной подвёл черту под моей жизнью. Не хочу, чтобы вы знали об этом и винили себя за то, что стали причиной моей неуёмной тоски. Прощайте навсегда. Ваш друг Григорий Поленов». Антон Петрович Верницкий ужаснётся и обрадуется этому письму, а когда возвратится домой, то покажет его своей матери – Марье Андреевне Верницкой, урождённой Сафоновой. «Письмо всегда находит адресата», – скажет она, развернув ветхую бумагу…
Но сейчас, сидя в байдаре, окружённая тихой ночью и плеском воды под вёслами, Марья Андреевна не знала ничего этого, не могла знать. Её глаза закрылись от навалившейся усталости, и из неведомого пространства, называемого сном, к ней вышел старый Чукча, напевая странную песню…
Февраль – март 2001
Из рода Оленей (1880)
Буом-м, буом-м, буом-м…
Афанасий Поликарпович остановился, прислушиваясь. Редкие удары бубна, доносившиеся из заснеженного леса, звучали негромко, но властно. Бубен манил его, заставлял жадно вслушиваться. Иногда Афанасию Поликарповичу казалось, что его сердце начинало колотиться в ритм ударам бубна.
– Буом-м, буом-м, буом-м, – разливалось гулкое эхо.
Иногда сердце вдруг замирало, и пульс жизни растворялся в глубине его существа, натягивая невидимую, тончайшую нить жизни, готовую, казалось, вот-вот порваться. Но бубен снова подавал голос, и сердце продолжало стучать. Да, в звуках того бубна таилась власть, мягко подчинившая себе Афанасия Поликарповича, этого сильного, непокорного человека пятидесяти пяти лет. Он, конечно, не допускал мысли, что бубен в руках невидимого шамана тянул его к себе, как рыбак, подцепивший острым крючком огромную рыбину. Если бы в те минуты кто-нибудь спросил Афанасия Поликарповича, что увлекло его в лесную чащу, он бы сослался на обыкновенное любопытство. Но разве мог он, проживший в тайге более тридцати лет и знавший суть каждого таёжного звука, подчиниться зову простого любопытства? Нет, это чувство вообще не было свойственно Афанасию Поликарповичу; он привык тщательно обдумывать каждый шаг, взвешивать все «за» и «против», остерегаясь совершать опрометчивые поступки.
И всё же он медленно двигался вперёд, проваливаясь по колено в сугробы. Под подошвой меховой обуви громко скрипел снег. То и дело Афанасий Поликарпович останавливался, хмурился, настороженно поворачивал ухо к звукам бубна и спрашивал шёпотом:
– Что за чертовщина? Кто тут шаманит?
Бубен зазвенел ритмичнее, удары сделались более частыми. Они летели из-за еловых зарослей, и теперь к ним добавился мелкий металлический перезвон. Переступив через широкое бревно, покрытое толстым слоем мягкого снега, Афанасий Поликарпович взял винтовку наперевес. Неожиданно густые ветви раздвинулись, и он, запорошив окладистую бороду снежной пылью, вышел на просторную поляну, обрамлённую, как стеной, могучими елями.
– Буом-м, буом-м, буом-м…
В нескольких шагах от него стоял, сильно согнувшись в поясе, человек, одетый, несмотря на морозную погоду, только в просторные штаны из мягкой кожи и высокую меховую обувь. На обнажённом торсе незнакомца различались мелкие узоры тёмной татуировки. Особенно густо татуировка покрывала его грудь и плечи. Голова человека была опущена, длинные чёрные волосы свесились вперёд и закрыли его лицо. Изо рта полуголого человека валил густой пар. Вглядевшись в татуировку, Афанасий Поликарпович пришёл к заключению, что перед ним был один из якутских шаманов, которых обычно называли оюнами. Якут держал в левой руке круглый бубен, густо увешанный оленьими зубами по всей окружности, правой рукой он сжимал короткую палку-колотушку, обмотанную мехом. Низкое мартовское солнце светило из-за его спины и, пронизывая яркими лучами хорошо натянутую кожу нехитрого музыкального инструмента, делало его похожим на сияющую луну в руках человека. Гирлянда из оленьих зубов на бубне громко шумела при малейшем движении, а шаманский пояс с многочисленными подвесками в форме стрел и ножей откликался на каждый шаг металлическим перезвоном, и оюн утопал в постоянном шуме, даже когда он не стучал палкой.
Афанасию Поликарповичу не раз доводилось видеть шаманов, и всегда они производили на него сильное впечатление. Он был христианином, но в могущество оюнов верил даже больше, чем в чудотворную силу православных икон. Впрочем, верить в силу шаманов он верил, но сам никогда не подчинялся их власти. Зато других людей, беспрекословно выполнявших указания оюнов, будто потеряв собственную волю, видеть приходилось.
Сейчас он, бородатый, высокий, прямой, стоял на широко расставленных ногах перед длинноволосой, жилистой, полуголой фигурой и внимательно следил за её таинственными движениями. Афанасию Поликарповичу казалось, что он был спокоен и уверен в себе; он даже небрежно положил винтовку на плечо, всем своим видом говоря, что его ничто не тревожило и что он полностью контролировал ситуацию. И всё же он пришёл на таинственный зов оюна, пришёл, не сумев пропустить мимо ушей негромкие звуки шаманского барабана. Значит, его воля впервые не устояла перед зовом язычника.
Внезапно Якут застыл, сделавшись абсолютно неподвижным. Даже дыхание его оборвалось, и пар прекратил клубиться у рта. Голова его медленно, почти незаметно поползла вверх. Афанасий Поликарпович увидел узкий разрез глаз, затуманенные зрачки.
– Я ждал тебя…
Якут смотрел в никуда, но обратился он именно к пришедшему человеку. Было похоже на то, что он увидел Афанасия Поликарповича не перед собой, а где-то над макушками слабо качнувшихся елей. Услышав голос оюна, Афанасий Поликарпович вздрогнул, борода его шевельнулась, густые брови сдвинулись. В человеческом голосе ему почудился звон бубна.
– Я ждал тебя…
– Ты ждал меня? – Афанасий Поликарпович напрягся и с удивлением отметил, что спокойствие покинуло его. Или спокойствия не было и прежде, просто теперь он осознал это? От самой макушки его головы побежали вниз по спине мелкие холодные колючки. Выходит, не был он спокоен, как ему казалось, а давно пребывал в сильном волнении, давно не контролировал себя.
– Вспоминаешь ли ты о моей сестре? – спросил шаман по-русски и повёл головой, будто он был диким зверем, учуявшим добычу. Афанасий Поликарпович хорошо знал повадки таёжных хищников, и в стоявшем перед ним полуголом шамане он безошибочно угадал звериный дух.
– Вспоминаешь ли ты о моей сестре? – повторил оюн и ударил в бубен. Заколыхавшийся звук натянутой кожи мягко толкнул Афанасия Поликарповича и надавил на уши.
– О твоей сестре? Откуда мне знать твою сестру? – Он нахмурился, силясь распознать Якута. – Да кто ты таков, что расспрашиваешь меня? Разве ты знаешь меня?
– Мать-Зверь поведала мне, что я встречу тебя здесь.
– Я здесь случайно, – осторожно ответил Афанасий Поликарпович. – Мой отряд отклонился от намеченного пути по чистой случайности. Ты не мог знать.
Он снова услышал удар бубна и почувствовал, как ноги его сразу отяжелели.
– Мать-Зверь сказала, что ты придёшь сюда ко мне.
– Кто ты, оюн?
Якут опустил лицо вниз, а когда вновь поднял голову, его раскосые глаза пронзили Афанасия Поликарповича горящим взглядом:
– Я Бэс, Человек-Сосна.
– Бэс? Тебя зовут Бэс? – От удивления Афанасий Поликарпович чуть не задохнулся. – Тот самый? Брат Бакаяны? Не может быть! Но ты же… Ты всегда был обыкновенным разбойником, ты никогда не был оюном. Я не знал, что ты оюн…
Он отступил на шаг, громко скрипнув снегом. Бэс распрямился, опустил колотушку, но левую руку оставил в полусогнутом положении, будто управляя невидимыми поводьями, протянувшимися от его бубна в пространство.
– Я оюн и могу одолеть тебя, вор моей сестры.
– Давнее дело, – усилием воли Афанасий Поликарпович заставил себя поднять руку, отмахиваясь от слов Якута. – Чего уж нынче ворошить? Где же ты пропадал столько лет? Твоя сестра давным-давно скончалась. Сын у меня от неё остался, единственный мой отпрыск.
Полуголая фигура сдвинулась вперёд на полшага, угрожающе зашумев оленьими зубами на бубне и подвесками на поясе.
– Сын Бакаяны? Она родила сына? Ах, теперь я знаю, почему Мать-Зверь сказала, что я не смогу убить тебя! – В очередной раз взметнулась рука с палкой, и бубен звонко отозвался на удар. – Моя несчастная сестра родила от тебя сына. Это означает, что мы с тобой породнились, а кровника убивать нельзя… Но я не хочу быть с тобой в одной семье!
– Ты хочешь отомстить мне, варвар? – Афанасий Поликарпович отступил ещё и, неудачно поставив ногу, осел в сугроб. Еловые ветви мохнато качнулись над его головой. Винтовка соскользнула с плеча и стукнула его холодным затвором по голове. Он скрипнул зубами и стряхнул с себя туман, вдруг застлавший глаза. Теперь только заметил он в глубине поляны вторую человеческую фигуру, одетую, как полагалось, по-зимнему. – Ага! У тебя тут и помощник притаился. Ловушку мне учинили, сучьи дети! Не выйдет! Не дамся, туземные псы!
Афанасий Поликарпович нервно дёрнул затвор, пальцы в меховой рукавице соскользнули, не вернув рычаг обратно. Оюн зажмурился, вытянул шею и мрачно тряхнул головой. Удар колотушки по бубну разлил вокруг звенящий гул, и по телу Афанасия Поликарповича прокатилась сверху вниз волна слабости. Он всё же смог надавить ладонью на затвор и услышал знакомый, успокаивающий звук скользнувшего в ствол патрона.
– Прощай, Человек-Сосна.
Якут опять ударил в бубен и покачал им в воздухе. Слабость, пробежавшая во всем членам Афанасия Поликарповича, сгустилась и свинцовой тяжестью наполнила ноги и руки. Но он уже направил винтовку на татуированную грудь шамана. Рывком сбросив рукавицу, он обнажил ладонь и судорожно надавил пальцем на спусковой крючок. Прозвучавший выстрел показался ему необычайно громким. Якут взмахнул руками и отшатнулся, однако не упал. Глаза Афанасия Поликарповича разглядели крохотное тёмное отверстие, появившееся на голой коже туземца. Как во сне, все движения казались ему бесконечно растянутыми во времени, медленными, ленивыми. Бубен вывалился из разжавшихся пальцев шамана, перевернулся в сияющем воздухе и наполовину утонул в снегу, оленьи зубы, нанизанные на нить, плавно колыхались и перестукивались. Афанасий Поликарпович вяло передёрнул затвор. Краем глаза он увидел, как вылетевшая из патронника гильза провалилась с шипением в снег. Фигура второго Якута испуганно вскрикнула и поднялась в воздух, прыгнув по направлению к раненому шаману, тяжело колыхнулась меховая накидка, соскользнула с длинноволосой головы беличья шапка с пришитыми вдоль нижней кромки хвостиками. Винтовка оглушительно хлопнула и выплюнула вторую жгучую пулю. Человек-Сосна опрокинулся на спину. Второй Якут опустился на колени возле него.
И тут перед Афанасием Поликарповичем вырос олень. Он мог бы поклясться, что никакого оленя до того момента не было на поляне. Но теперь олень появился. Наклонив могучую голову, украшенную мощными ветвистыми рогами, он мчался на Афанасия Поликарповича, шумно взбивая снег и поднимая его густыми хлопьями в солнечные лучи. Человек решил было снова выстрелить, но почувствовал сильную хватку невидимой руки, которая буквально вырвала у него винтовку. В следующую секунду олень ударил Афанасия Поликарповича рогами, подбросил над собой, мотнул туда-сюда, не позволяя человеку опомниться, и понёс его между деревьями прочь от места, где лежал оюн по прозвищу Человек-Сосна.
Это случилось в Месяц-Когда-Жеребят-Держат-На-Привязи-Чтобы-Они-Не-Высасывали-Дойных-Кобыл.
***
Чича был учеником и помощником Человека-Сосны. Он знал таинственную силу оюна, имел возможность убедиться в ней не раз, а потому внезапная гибель наставника не просто потрясла его, но почти лишила сил. Он опустился в снег на колени, упал лицом на грудь Бэса, усеянную тёмно-синими узорами татуировки, и ощутил, как вдоль его щеки потекла жаркая кровь смертельно раненного наставника.
– Мать-Зверь не велела мне пятнать себя позором, не велела убивать этого русского. Но во мне кипела ненависть. Ненависть душила меня. Это единственное чувство, с которым я не совладал за всю мою жизнь. Я ненавидел этого русского, – проговорил Бэс тихим голосом, когда возникший неизвестно откуда олень унёс русского на своих рогах, – я хотел напустить на него смерть и заманил его. Мать-Зверь не позволила мне совершить этот поступок. Ты видел, Чича, ты видел, как она сама уничтожила моего обидчика.
Бэс тяжело задышал, тело его мелко задрожало, будто желая вытрясти из себя застрявшие пули. Затем он затих, глаза затуманились.
– Передай моему сыну, чтобы похоронил меня на Волчьем Холме. Ты знаешь, где это, он тоже знает, – прошептал Бэс. – Мои кости должны лежать только там. Там примет меня Мать-Зверь.
– Я всё сделаю, – кивнул Чича.
– Сумку отдай моему сыну, но бубен оставь здесь, где я упал… Видишь, Чича, даже оюну не позволяется следовать голосу ненависти… Зато я узнал, что моя сестра родила сына… Я многому научил тебя, Чича, и я хочу, чтобы ты шёл своей тропой. Не смотри на моего сына. Помни, что у каждого из вас своя дорога… Помоги ему с моим телом и расстанься с ним… Передай, чтобы нашёл сына… сына того русского… Кровь подскажет… Пусть спросит Мать-Зверя…
Чича кивнул. Якуты знали, что у каждого шамана было звериное воплощение, которое было принято называть Матерью-Зверем. Это воплощение звали любовно матерью не потому, что звериное воплощение было женского пола, а по той причине, что из него рождалась сила шамана, в нём же таилась и душа шамана. Зверь был бесплотным духом, но раз в году он мог появляться на земле. И тогда зверь-душа совершал удивительные вещи. Матери-Звери разных шаманов нередко вступали в ожесточённые схватки между собой, иногда они лежали, сцепившись, в продолжение нескольких месяцев и даже лет, не будучи в силах одолеть друг друга.
Олень был Матерью-Зверем Бэса, и он явился во плоти, чтобы отомстить человеку, выстрелившему в оюна. Именно так Чича оценил всё происшедшее. Возможно, он ошибался.
Оюн издал едва слышимый вздох и закрыл глаза, его морщинистое лицо застыло. Бэс, известный шаман из рода Оленей, могучий и непоколебимый Человек-Сосна, которого страшились не только сородичи, но и люди из других племён, закрыл глаза и умер.
Чича провёл весь день в сборах. Прежде чем отправиться домой за сыном Бэса, Чича одел неподвижное тело наставника и туго спеленал его кусками кожи. После этого он не без труда поднял покойника на дерево и густо обложил хвойными ветками. Бубен, как было велено, Чича оставил на том самом месте, где оюн упал, сражённый пулями; он установил шест и повесил бубен на его верхнем конце.
Неделю Чича добирался на лыжах до зимовья Оленьего рода, что давно было обустроено на берегу Мутного Ручья. Три конусообразных жилища, сложенные из толстых жердей, стояли на заснеженном обрыве и на фоне тёмного леса выглядели игрушечными, хотя высотой каждое из них было около десяти метров. Позади конусных строений стояли немного покосившиеся от времени прямоугольные бревенчатые амбары с двускатными крышами, из которых доносилось мычание коров. Чуть дальше виднелся низкий квадратный дом, напоминавший формой усечённую пирамиду, на плоской крыше которого возле дымившейся трубы играли две большие лохматые собаки. Завидев Чичу, псины радостно залаяли.
Якут, обессилевший не столько от долгого пути, сколько от терзавших его воспоминаний, ввалился в хорошо протопленный дом и грузно опустился на ближайшие деревянные нары. Обитатели дома приветствовали его дружным гулом.
– Где Медведь? – устало спросил Чича и сбросил с себя меховую шапку. Освободившись от лямок большой походной сумки, он покопался в ней и бережно достал длинный кожаный мешок, испещрённый мелкими рисунками.
– Что случилось? – подошёл к нему человек с длинными волосами, затянутыми сзади в косу. Ему едва ли исполнилось двадцать лет, но жёсткие складки возле рта свидетельствовали совсем не о мальчишеском характере; на подбородке ясно различалась татуировка синего цвета, выполненная в форме треугольников. – Почему ты вернулся один?
– Эсэ, твой отец велел передать тебе его оюнскую сумку. – Чича протянул юноше мешок.
Сына Человека-Сосны звали Эсэ, что в переводе на русский язык означает Медведь. Весть о кончине отца Эсэ встретил молча, лишь тёмные глаза его будто бы закричали, вспыхнули чёрным огнём, затем потускнели, сделались мрачно-матовыми. Все, кто присутствовал при этом, уверяли потом, что в помещение будто проникла волна ледяного холода, даже огонь в очаге колыхнулся и едва не затух.
– Сила, которой был наделён твой отец, не помогла ему. Пули, выпущенные русским, сразили его.
– Кто же был тот русский? – спросил Эсэ. – Зачем отец вызвал его туда своим бубном?
– Я не знаю его имени, я не видел его прежде. – Чича развёл руками. – Но Бэс сказал, что ненавидел того русского… Послушай, твой отец сказал, что его кости должны лежать на Волчьем Холме.
– Да, – кивнул Эсэ, – он не раз говорил мне, чтобы я отвёз его туда после его смерти.
Эсэ двумя руками взял шаманский мешок отца и поднёс к груди. Теперь эта длинная кожаная сумка, наполненная магическими предметами, принадлежала ему.
– Да будет так, – он медленно закрыл глаза, – завтра же ты поведёшь меня к телу моего отца, а после я отправлюсь к Волчьему Холму.
Эсэ был настоящий оюн. Он без труда подражал голосам всех птиц и зверей и умел предсказывать погоду, даже не глядя на небо. Но самым главным его качеством было то, что он иногда ни с того ни с сего впадал в транс и тогда начинал вещать от имени невидимых духов. Голос Эсэ делался неузнаваемым, на лице проявлялись чужие черты, в глазах отражалась бездна пугающего неведомого мира, куда могли проникать из людей только шаманы. Когда с Эсэ случалось такое, он обязательно описывал какую-нибудь опасную ситуацию, в которой должен был очутиться кто-то из близких родственников. Он рассказывал, в чём именно заключалась опасность и как её можно избежать. При этом он никогда не помнил ничего из сказанного им и не переставал удивляться тому, что пересказывали ему другие.
– Ничего страшного, – потряхивал он длинными волосами. – Пусть я ничего не помню, важно, что вы слышите и помните это. Некоторые охотники из числа ходивших промышлять вместе с Эсэ утверждали, что неоднократно были свидетелями того, как он, сидя у костра и ведя спокойную беседу, внезапно обрывал разговор и будто превращался в камень на несколько минут. Все, кто видел его в такие минуты, говорили, что вся его фигура становилась тогда сосредоточением повышенного внимания. Эсэ вслушивался, но его уши не имели к этому никакого отношения. Он слушал что-то внутри себя. Его глаза смотрели при этом так, как если бы он двигался по чьим-то следам, оставленным на влажной земле. Затем он вскакивал, словно подхваченный беззвучным ураганом, и молча мчался куда-то, схватив лук со стрелами. Вскоре он возвращался и звал товарищей:
– Я свалил оленя, пойдёмте разделывать его.
– Как тебе удаётся сразу отыскать дичь? – спрашивали у него.
– Мне указывает голос, – отвечал Эсэ. – Он говорит, куда мне нужно немедленно пойти, и там я вижу оленя или косулю. Голос ведёт меня. Но я должен всегда спешить, ведь голос быстро пропадает, я могу не успеть за ним, и тогда дичь уйдёт.
– Чей же это голос?
– Хозяин леса подсказывает мне.
Эсэ обладал всеми нужными качествами, чтобы стать могущественным оюном. Если бы он твёрдо выбрал путь шамана, то достиг бы таких высот, какие не снились никому из его народа. Но чрезмерно вспыльчивый характер, неукротимый нрав и неуёмная жажда действий сводили к нулю все его задатки. Он предпочитал заниматься разбоем на дорогах, нападать на купцов и сборщиков ясака,[4] уводить чужой скот, а не развивать в себе способности шамана. На сородичей своих он взирал немного свысока, считая их существами вялыми и бесполезными.
– Якуты должны быть не только скотоводами, но и воинами! – пылко упрекал он их. – Вы же похожи на жалких рабов. Неужели не слышите вы в своих сердцах зов предков? Вы стоите на коленях перед белыми людьми. Они не перестают унижать вас, а вы только и умеете терпеть. Сколько это будет продолжаться? Разве не осталось в вас гордости?
– Русские давно пришли сюда, – отвечали ему соплеменники, – они правят в наших краях. Теперь уж ничего не исправить.
– Вы превратились в трусливых псов, – продолжал Эсэ, – ни в ком из вас не вижу я воинской силы. Вы говорите, что русские и другие белые люди пришли сюда давно. Но разве это означает, что они должны быть хозяевами здесь и что мы обязаны платить им ясак? Эта земля всегда принадлежала нам! Поднимите головы! Проснитесь!
Но сородичи не хотели отзываться на призывы Эсэ. В их сердцах давно уже не осталось места для войны, для ненависти, для протеста. Они жили покорно, не сетуя ни на что. Они боялись слов Эсэ. Человек-Сосна тоже осуждал их за безволие, никогда не жил на одном месте, беспрестанно бродяжничал где-то. Он тоже не уставал говорить о воинском пути. Якуты боялись этих слов, так как чувствовали скрытую за ними неведомую стихию, казавшуюся им даже более страшной, чем колдовская сила оюнов. Кроме того, они не понимали, о какой свободе вещали Эсэ и его отец. Разве не вольны они были в любое время ездить где угодно? Для чего им становиться воинами? Да, они платили русским подати и тем самым отнимали у себя самих часть добычи, но это стало неотъемлемой стороной их существования. Зачем же бороться против того, с чем они давно смирились?
– Теперь ты отправишься мстить за смерть отца? – прозвучал испуганный голос из дальнего угла дома.
– Буду мстить, – кивнул Эсэ, открыв глаза. Его подбородок нервно дрогнул, крапинки синей татуировки на нём шевельнулись.
– Чича рассказал, что убийцу твоего отца сразу уничтожил олень. Кому же ты будешь мстить?
– Отец велел мне отыскать сына его убийцы. Чича, верно ли я понял его последние слова?
Чича молча кивнул.
– Вы слышали? Отец хотел, чтобы я нашёл сына его убийцы!
– Но зачем тебе искать его? – послышался всё тот же голос из тёмного угла. – Зачем мстить, если на преступника уже обрушилась кара Матери-Зверя? Наши люди давно сошли с пути кровной вражды.
– Сын является продолжением плоти своего отца. Во мне течёт кровь Человека-Сосны, во мне кипит тот же дух предков. Как я могу не мстить? Неужели вы совсем позабыли, что такое род? Неужели в вас не осталось ни капли того, что позволяет вам ощущать биение собственного сердца в теле вашего ребёнка? Неужели вы стали думать, что люди оторваны друг от друга? Вы, может быть, позабыли, что такое жизнь, но я-то помню наставления Бэса! Я помню, что сын является прямым продолжением отца, а дочь – продолжением матери. Плоть и кровь родителей составляет плоть и кровь детей. Сын убийцы несёт в себе все качества своего отца, и это означает, что он сам является тем же убийцей. Я найду его, чтобы отомстить, не могу не найти его. Таков мой выбор. Однажды отец вывел меня на тропу, с которой я не вправе сворачивать. Я воин, и если голос Кыдай-Бахсы, Покровителя кузнецов,[5] повелит мне убивать всех встречных русских, я подчинюсь этому голосу.
– А наказывать придут нас…
Эсэ хмуро взглянул на говорившего, но ничего не ответил. Казалось, что пробудившаяся в нём ненависть к русским затмила все другие чувства.
На следующее утро он ушёл на лыжах в сопровождении Чичи. Они не разговаривали по дороге. Трудный путь не допускает такой роскоши, как разговоры. Добравшись до места, они принялись за дело, продолжая молчать. Им не требовались слова. Они понимали друг друга без слов.
Спустив заледеневшего покойника с дерева на верёвках, обложили его огнём со всех сторон, чтобы труп оттаял. Для себя они устроили небольшой шалаш из еловых ветвей и сидели там, изредка подходя к трупу и ощупывая его. То и дело один из них затягивал заунывную песню-заклинание. В конце концов наступил момент, когда Эсэ достал острый разделочный нож, отмёл рукой горячие угли, освобождая для себя место, и опустился перед трупом отца на колени. Чича установил рядом треногу и повесил на неё котёл, заполнив его снегом, который очень быстро растаял над огнём. Заготовив кипяток, Чича присоединился к Эсэ. Тот уже неторопливо разрезал суставы оттаявшего наполовину мертвеца. Теперь песни не звучали. Если бы не треск сучьев в костре и не гудение котла, то можно было бы сказать, что странное действие происходило в полной тишине. Якуты работали умело, ловко и неторопливо. Они знали, что тело оюна следовало расчленить так, чтобы не повредилась ни одна кость. Отрезанные куски плоти бросали в котёл и кипятили их до полного размягчения мяса. После этого вылавливали отваренные куски и бережно соскабливали рыхлое мясо с костей. Валивший от котла смрадный пар не мешал им; они не выказывали ни малейших чувств по этому поводу.
Когда растянувшаяся почти на всю ночь процедура была завершена и гладкие белые кости легли одна к другой, они бережно завернули их в оленью кожу, перевязали её туго ремнём, а отваренное трупное мясо зарыли глубоко в оттаявшую под костром землю. Чёрный котёл, в котором было сварено тело оюна, перевернули вверх дном и накрыли им кострище. На котёл они положили шаманский пояс Человека-Сосны, который сняли, приступив к расчленению трупа. Дело было сделано, кости оюна были готовы к последнему пути.
Так поступали всегда их далёкие предки: если умершего нельзя было доставить по какой-то причине в нужное место, они привозили его кости и хоронили их. Кости – ствол всякого живого тела, поэтому им проявлялось уважение. Так говорили предки, так говорили настоящие Якуты.[6]
***
Три года подряд Эсэ приезжал в середине лета на Волчий Холм, чтобы поклониться могиле отца, а также в надежде услышать там голос Матери-Зверя. В прошлом его отец часто уединялся на этом холме и общался с Матерью-Зверем. Но Эсэ до сих пор не получил никаких указаний могущественного невидимого существа и поэтому не предпринимал никаких шагов. Он знал, что отца застрелил русский человек. Но кто именно? Умирая, отец просил Эсэ найти сына того русского. Где же искать его? Русских много, очень много. Они живут в малых и больших городах, плавают на пароходах по рекам, перевозят с места на место товары, рубят лес, скупают меха, продают водку. Где и как искать того, о ком одинокий воин не знал ровным счётом ничего?
Эсэ опустился на корточки перед конусовидным шалашиком, высота которого едва ли достигала полутора локтей. В том шалашике лежали кости отца. Когда Эсэ приехал к погребению в первый раз, он привёз священную шапку, принадлежавшую Человеку-Сосне. То была меховая шапка с короткими оленьими рогами. Он положил её перед погребальным сооружением, но ветер и дождь разрушили мех, остались только рога, и Эсэ прислонил их к шалашику.
В этот раз он ощущал себя странно и неуютно возле могилы отца.
– Мне тяжело дышится сегодня, – сказал он в полный голос и повернулся к своему гривастому коню. – Ты ничего не чувствуешь? Тебя ничто не беспокоит?
Шевельнулись, громко вздохнув, кроны деревьев. Медленно, словно играя сам с собой, всколыхнулся у подножия холма ветер и плавно покатился вверх по склону. Или то был не ветер? Жёлтая осенняя трава покорно склонилась под движением его невидимых рук, затем сразу зашелестела круговыми волнами, когда ветер взобрался на вершину, где сидел, опустив голову на грудь, Эсэ. Конь протяжно фыркнул, будто откликаясь на звук ветра.
С пологой стороны Волчьего Холма виднелось приземистое деревянное строение. Стены его, сделанные из поставленных под наклоном жердей, производили впечатление покосившихся, обветшалых. Густо заросшая травой плоская крыша низкого сооружения усиливала это впечатление. За многие годы дождь намыл грязи на стену, обращённую к вершине холма, и почти сравнял с той стороны крышу с поверхностью холма. Да, этот домик-дулга казался совсем непригодным для жилья. Но Эсэ знал, что строение в действительности было крепким. И крыша, и наклонённые стены были наложены в несколько слоёв, между которыми лежали дёрн и глина, и опирались внутри на мощные вертикальные столбы. Когда-то здесь жила большая семья Якутов. Вдоль стен до сих пор стояли дощатые нары. Иногда он замечал следы людей, заходивших в дулгу. Судя по всему, там от случая к случаю ночевали проезжие охотники. Однажды он пришёл, когда уголь в открытом очаге у правой стены ещё продолжал излучать тепло – гости покинули дулгу совсем недавно. Но Эсэ ни разу не видел людей возле заброшенного дома.
Не разводя огонь, он устроился слева от покосившейся деревянной двери, положил на нары возле себя винтовку и почти сразу погрузился в глубокий сон. Его конь остался возле входа, привязанный к орешнику. Эсэ никогда не беспокоился за безопасность коня на Волчьем Холме, так как вокруг лежало множество заговорённых его отцом камней. Сила их была настолько велика, что даже после гибели отца они продолжали отпугивать диких зверей от этого места.
Единственное, что запомнил Эсэ из нахлынувшего на него и умчавшегося прочь, как ураган, внезапного видения, были руки отца, сложенные лодочкой. В руках густо колыхалась тёмная кровь. Якут хорошо слышал её вязкий плеск, видел блики на её поверхности, чувствовал её горячий вкус на своих губах. Он проснулся в тот момент, когда отец поднёс руки и налил кровь в рот Эсэ. Видение ушло, но кисло-солёный вкус во рту остался. Эсэ проснулся, но почему? Что вырвало его из сна?
– Глянь-ка, лошадь…
Человеческий голос заставил Эсэ насторожиться. В дулге царил густой вечерний сумрак, но снаружи было ещё достаточно светло.
– Да, лошадь, – откликнулся второй голос. – Седло-то какое! Чтоб мне пусто было, если это не колчан к седлу прицеплен. Похоже, кто-то из диких, раз с луком разъезжает. Нынче лук мало кто пользует. Я, сказать честно, ни разу никого с луком не видел. Кто же тут есть, Кондрат?
– Не Тонги ли?
– Не-е, Тонги лошадей не уважают, они всё больше оленный люд.
– Стало быть, Якут, – заключил первый голос. – Я слыхал, что в тутошних местах дикарь какой-то разбойничает. Поговаривают, что уж не первый год лиходействует. Кондрат, а ежели это его конь?
– Ты языком-то не шибко мели, уши лучше насторожи, язви тебя в душу!
– Что-то не видать никого. Не в избе ли он притаился?
– А ну поворотись вон туда. Вишь, жердь торчит, сумка к ней привязана какая-то лохматая, шалашик какой-то внизу, рога к нему приставлены оленьи. Небось идолище. Надобно ухо востро держать. Поганое тут место. Чур меня…
Эсэ очень осторожно, чтобы не произвести ни малейшего звука, опустил ноги на земляной пол и шагнул к приоткрытой двери. В быстро сгущавшейся мгле он увидел двух людей в длинных охотничьих куртках, перепоясанных патронташами. Один из говоривших вёл под уздцы серого прихрамывавшего коня, второй сидел верхом на рыжей кляче. Оба остановились и настороженно осмотрели холм. Тот, что вёл коня под уздцы, скинул с плеча двуствольное ружьё, поспешно переломил его, проверяя, заряжено ли оно, и взял его наперевес.
– А что, Кондрат, верно говорят, что их некоторые шаманы людей пожирают?
– Глупости, – Кондрат передёрнул плечами, – никогда такого не видел. Хотя…
– Что «хотя»? Чего же ты умолк?
– Прикуси язык, леший. Сердце что-то колотит сильно. Не к добру это.
– Кондрат, я вот слышал от мужиков, что этот Якут разбойный вроде не убивает никого, а только грабит. У нас с тобой и отнять-то нечего.
Эсэ потянулся к ружью, оставленному на нарах. Он, как верно заметил только что один из охотников, никогда не убивал людей. Он резал скот и дырявил стрелами сторожевых собак. Совершая разбойные нападения на мелкие караваны, он угрожал путникам оружием, стрелял над их головами, мог даже ударом приклада свалить кого-нибудь с ног и лишить сознания, но ни разу не пускал пулю в человека. Возможно, некоторые из тех, кому он нанёс удар по затылку, умирали, так и не придя в себя, но Эсэ не знал об этом. Он не желал им смерти. Был лишь один человек на всём свете, кого Эсэ убил бы при встрече без колебаний, – сын того русского, который застрелил Бэса. Но Эсэ не представлял, где и как искать его. Другие русские его не интересовали. Однако сейчас он вдруг взял винтовку. Вкус крови, оставшийся во рту после забывшегося сна, ощутился с новой силой. А что, если один из этих незнакомцев и есть тот самый сын? Не случайно он видел только что во сне отца с пригоршней крови. Это, конечно, был знак.
– Кровь подскажет мне, – вспомнилось наставление отца. – Видно, один из них и есть нужный мне человек. Но который? Я застрелю обоих… Ах, почему я никогда не помню видений и забываю наставления, пришедшие во сне?..
Он приучил себя никогда не спешить, поэтому стрелял без промаха. Он знал, что всегда лучше выждать лишнюю минуту, чем спугнуть жертву. Точна пущенная пуля или стрела означала сытный ужин; поспешность и суетливость сулили голод. Сейчас он взял винтовку не для того, чтобы обеспечить себя пропитанием, но это не повлияло на его неторопливость. Он упёр приклад в плечо и просунул ствол в дверной проём. Первой целью он наметил человека с ружьём в руках. Он успел рассмотреть его шелушившуюся кожу лица, потрескавшиеся губы с двумя большими коричневыми болячками, грязный шарф, туго обёрнутый вокруг шеи, засаленный картуз.
Эсэ потянул спусковой крючок, и за брызнувшим пороховым дымом увидел взметнувшиеся вверх руки русского. Второй закружил на месте, пытаясь сдержать заплясавшую от страха рыжую кобылу. Он прокричал что-то невнятное в сторону дулги, прижался к шее лошади, затем попытался снять с плеча своё ружьё. Эсэ передёрнул затвор и выстрелил снова. Пуля пробила жертве грудь и свалила его в пожухлую осеннюю траву.
Вкус крови во рту Эсэ усилился.
***
Ивану Васильевичу Селевёрстову 1 сентября 1880 года исполнилось ровно двадцать семь лет, и в этот день у него кончились последние деньги. Для человека, не привыкшего ни к какой работе, это означало большую беду. Впервые за время долгого путешествия из Санкт-Петербурга в Сибирь Ивана Васильевича охватила настоящая паника. В Олёкминске Селевёрстов жил уже пятые сутки, спустившись вниз по течению Лены из Иркутска, и готов был плыть дальше, но купцы, к обществу которых он прибился, остановились здесь на неопределённое время, поджидая кого-то из своих задержавшихся в пути товарищей.
Олёкминское население, толпясь живописными кучками, праздновало прибытие последнего парохода. Поздним летом в Олёкминске редко бывало шумно. Настоящее оживление там было заметно ранней весной, перед открытием навигации, когда посёлок превращался в центр, где жизнь била ключом: туда стекалось множество рабочих, жаждавших найма, уже нанятых матросов, лоцманов, горнорабочих. С открытием навигации товары всегда подвозились громадными партиями, ежедневно вниз по реке отправлялись суда самого разного рода. На лодках, установленных в один ряд возле самого берега и накрытых брезентовыми навесами, открывалась бойкая ярмарка. Вечерами весь посёлок оглашался песнями, звуками гармонии, криками и бранью. Такое шумное существование продолжалось до конца июля, затихая к середине августа, к началу же осени село заметно пустело и жизнь в нём замирала до следующей весны.
Стоя посреди улицы, Иван Васильевич Селевёрстов наблюдал последний, видимо, в том году праздник. Повсюду перед избами сидели на лавках бабы и старики. Перед добротно срубленным кабаком шумели, размахивая руками, пьяные мужики. Среди них возвышалась шатающаяся фигура могучего рыжеволосого бородача; он сжимал в руке штоф и, то кланяясь до земли, то норовя поцеловать кого-то из товарищей, угощал их водкой. Справа пестрела гурьба молодиц в ярких сарафанах. Посреди улицы толпа ребятишек окружила небольшую телегу, запряжённую клячей, и худощавый разносчик, потрясая козлиной бородой и сыпля прибаутками, предлагал пряники и крендели. Чуть позади возвышался над избами синий купол церквушки, резко выделяясь на порозовевшем фоне предзакатного неба.
Иван Васильевич держался в стороне, не решаясь пройти сквозь пьяную толпу. Его страшили могучие кулаки и бранная речь мужиков, не меньше пугали его и появившиеся возле кабака матросы. Эти матросы сошли на берег днём с двух пароходиков, подошедших к пристани. Внешний вид этих длинных плоскодонных посудин был столь непривычен, что сразу привлёк внимание Селевёрстова. Колёса на пароходиках располагались не сбоку, как обычно, а сзади; что до котлов и машин, то они стояли не внутри корпуса, как обыкновенно, а на палубе – котёл на носу, а машина на корме. Каюты тоже были устроены на палубе в виде дощатых сараев. С первого взгляда на пароходы Иван убедился в их особенности, и это убеждение навело его на мысль, что начальство тоже было людьми особенными. Селевёрстов подумал, что капитан непременно примет его на борт, если Иван объяснит ему своё положение.
С самого момента прибытия пароходиков Селевёрстов выискивал глазами капитана, но не мог заставить себя подойти к пристани. Теперь же, когда команда изрядно набралась водки и потянулась обратно к своим плоскодонкам, Иван понял, что тянуть больше нельзя. Пароходы могли отчалить в любой момент. Утомлённый ожиданием и собственной нерешительностью, он пошёл следом за шумной толпой. Отставая на десяток шагов от основной команды, плелись два здоровяка в порванных рубахах; по щеке одного из них стекала кровь из-за уха.
Эти двое продолжали медленно идти по дороге, качаясь из стороны в сторону, когда другие матросы уже поднялись на палубу. Тут Иван Селевёрстов заметил фигуру, черты лица которой показались ему знакомыми. Человек был одет в простые штаны и свободную куртку, но его осанка и манера держать голову выделяли его среди матросов, а тот факт, что вся команда кланялась ему, проходя мимо, говорил о его высоком положении на пароходе. В руках этого начальника Селевёрстов приметил ружьё, убранное в непривычного вида чехол из весьма мягкой кожи и украшенный довольно длинной бахромой по всей длине чехла. Приклад, впрочем, оставался открытым.
– Ах ты, сучье племя!..
Иван Васильевич вздрогнул, невольно сбавив шаг, и перевёл взволнованный взгляд на кричавшего. То был один из двух отставших матросов. В чём-то он, видать, осерчал на своего столь же пьяного спутника и хватил его здоровенным кулаком прямо в нос.
Послышался громкий хруст, пострадавший отшатнулся, брызнув кровью на выцветшую рубаху, и рухнул на спину.
– Я тебя собакам скормлю, тварь недоношенная! – не унимался первый, занося могучую руку над упавшим.
– Ефим! – услышал Селевёрстов властный окрик и увидел спрыгнувшего на причал человека с зачехлённым ружьём. – Отойди от Савелия! Смотри, рожу разобью!
Ефим услышал приказ хозяина, но не захотел остановить движение своего тяжёлого кулака и влепил им с всего маху в ухо лежавшего под ним собутыльника. Надо полагать, что первая ссора произошла между ними уже в кабаке, так как рубаха каждого из них была разорвана, а из-за уха Ефима тянулась запёкшаяся уже струйка крови. Стукнув поверженного противника ещё пару раз наотмашь, Ефим повернулся к хозяину и оскалился. Оскал был недобрым, в глазах пылал красный огонь. Матрос явно потерял способность контролировать себя. Он широко шагнул пару раз, и каждый его шаг был похож на прыжок. Только теперь Иван Селевёрстов заметил, что совсем недалеко от дравшихся лежала груда коротких брёвен, над которыми возвышался воткнутый топор. Ефим сделал скачок и, без труда вырвав топор из бревна, двинулся на хозяина. Тот остановился, перехватил ружьё, но не торопился извлекать его из чехла. Иван застыл на месте, ожидая скорой расправы озверевшего матроса над своим капитаном.
– Господи милостивый, – только и успел прошептать он, когда Ефим взмахнул рукой и метнул топор. Ивану показалось, что тяжёлый свист вращавшегося оружия заглушил все остальные звуки на улице. Топор с громким стуком вонзился в борт парохода. Метнув топор, Ефим сильно согнулся и, увлекаемый весом своего тела, продолжал быстро двигаться дальше, но тут его твёрдый потный лоб наткнулся на резко выдвинувшийся вперёд приклад ружья. Матрос остановился, мотнув головой, охнул и, расставив руки, повалился назад.
– Поднимите его, ребята, – распорядился хозяин, взмахнув ружьём, – окатите его водой.
Только тут Иван Селевёрстов обратил внимание на то, что остальные матросы стояли и смотрели на схватку хозяина с пьяницей. Всё произошедшее заняло, оказывается, не более тридцати секунд, и гулявшие на улице не все даже обратили внимание на стремительную стычку.
– Окатите его водой и оставьте на палубе. Только непременно свяжите до тех пор, пока не очухается… Экий ты зубастый, Ефим, – покачал головой капитан, слегка склонившись над развалившимся в его ногах гигантом. После этого он окинул взглядом длинное селение, вытянувшееся вдоль берега и уже погружающееся в вечерний сумрак, и остановил взор на Селевёрстове. Иван Васильевич смутился пристального взгляда и даже сразу забыл, что хотел встретиться именно с этим человеком, чтобы проситься на борт. Он затоптался неловко и хотел было отвернуться, но, к его неописуемому удивлению, незнакомец обратился к нему по имени:
– Селевёрстов! Иван! Ты ли это?
– Я…
– Что за чёрт! Откуда ты здесь? Какими судьбами? – говоривший быстро приблизился к Ивану Васильевичу, смотря ему прямо в глаза. – Да ты, братец, не узнаёшь меня, что ли?
– Галкин? Саша Галкин! – Иван всплеснул руками.
Александра Галкина он не видел много лет. Когда-то они учились в Петербурге, общались каждый день, шалили, писали эпиграммы и любовные послания барышням. Затем как-то однажды Галкин объявил, что не намерен продолжать учёбу. Все подумали, что он пошутил, но через несколько дней он исчез. Чуть позже до студентов доползли слухи, что у его отца случились какие-то крупные неприятности на его золотом прииске. Это ли повлияло на решение Саши бросить учёбу, никто не знал да и не очень, если быть до конца честным, интересовался. Галкин просто выпал из их поля зрения, и вскоре про него никто уже не вспоминал.
– Как же ты меня узнал? – удивился Иван, жарко пожимая руку старинному товарищу.
– У меня, братец, глаз намётанный. Жизнь требует этого, – ответил тот не без удовольствия. – Теперь признавайся, каким ветром тебя сюда занесло? Дела какие?
– Дел нет, – с некоторым оттенком вины сообщил Иван Селевёрстов и развёл руками. – Я просто путешествую. А теперь вот остался совсем без средств.
– Да ну?
– Хотел проситься к тебе на пароход, чтобы добраться до какого-нибудь города.
– Зачем же тебе в город, коли у тебя никаких дел нет? – пожал плечами Александр Галкин. – Да и не смогу я тебя в город доставить. Мы тут в сторону сворачивать будем – с Лены на Олёкму. А знаешь что? У тебя решительно никаких дел нет?
– Решительно.
– Тогда присоединяйся ко мне. Раз ты путешествуешь, тебе не вредно будет взглянуть на Сибирь поближе.
– Куда же ты путь держишь, Саша?
– Золото искать, – понизив голос, ответил Галкин.
– Разве здесь есть золото? – удивился Иван.
Галкин хитро улыбнулся.
– Эти пароходы принадлежат мне, – кивнул он через плечо. – Эти люди нанялись ко мне рабочими. Тот пьяный матрос, что кинулся на меня с топором, тоже мой работник. Поэтому я ограничился хорошенькой оплеухой. Ежели б он не был из моей команды, я бы застрелил его. А моего человека мне калечить нет причины, потом ведь лечить его придётся. Есть в моей команде и доктор, и инженер, и прочие специалисты. Так что, как видишь, дело у нас серьёзное.
– Но я ничего не умею, – Селевёрстов нервно сплёл пальцы рук, – впрочем, выбирать не приходится. Чем же я буду заниматься у тебя?
– Без дела сидеть не придётся, это я тебе гарантирую. Пошли ко мне в каюту чай пить. – Галкин потянул Селевёрстова за локоть и крикнул куда-то в сторону: – Вы, мужики, про Савелия-то не забудьте, подсобите ему до палубы добрести, а то Ефим, сволочь такая, ему изрядно навалял!
– Значит, за золотом? – Иван задумчиво улыбнулся, когда они поднялись на борт первого пароходика и вошли в тесную дощатую каморку, увешанную всевозможными картами, планами, приборчиками с латунной отделкой.
Александр положил на письменный стол поверх стопки бумаг свою зачехлённую винтовку и любовно погладил видневшийся приклад ладонью.
– Это мне один человек из Америки привёз в подарок. Называется «винчестер». Чудесное оружие. Да ты присаживайся, сейчас я кликну насчёт чаю. Борис! Ты где?
Снаружи откликнулся голос:
– Слушаю, что прикажете?
– Организуй-ка нам чайку послаще.
– Сей момент…
– Никогда бы не подумал, что мне предстоит это… – Селевёрстов опустился на скрипнувший деревянный стул и обвёл каюту беглым взглядом. – Так ты говоришь, что здесь есть золото?
– Сибирь богата всякими металлами. Правда, лежат они глубоко. Чем ценнее металл, тем глубже спрятан он от глаз человеческих. Природа будто делает так, чтобы человек долго и много трудился, прежде чем ему удастся разбогатеть. – Александр довольно крякнул. – А я люблю трудиться, люблю руками поработать и ногами походить.
– И как же ты намерен искать золото?
– Не забывай, братец, что я родился в тайге, на прииске, которым владел мой отец. Так что детство моё было окружено кипучей работой золотодобытчиков. Я знаю об этом благородном металле, конечно, не всё, но столь много, что вполне мог бы поучить и тебя. Если любопытно, то я расскажу тебе кое-что.
– Да, да.
– Считается, что сибирское золото появилось наносным путём. Его вроде как много тысячелетий тому назад вода снесла с первоначального нахождения в Китае. Чтобы найти нынче это золото, надобно снять все позднейшие наносы и добраться до пласта глины или песку, в котором находятся крупинки, листики или кусочки золота. Поиски золотоносного песка называют здесь «разведкой на золото». Чаще всего разведки проводятся в тех местах, где находятся или прежде находились прииски, так как в геологах всегда теплится надежда, что жила или пласт, откуда добывалось золото, имеет необнаруженное ещё продолжение близ разработанного места. Управление существующих приисков посылает на разведки снаряжённые им партии с инженером во главе, который и должен выяснить, есть ли золото в исследуемой местности.
– Так ты имеешь указание от Управления приисков?
– Нет, я сам по себе, – резко сказал Александр. – После того как Галкинский прииск был отобран у моего отца по сфабрикованному делу, отец запретил мне когда-либо связываться с Управлением. Впрочем, коли уж быть точным, отец велел мне вообще не связываться с золотом. Но я, как видишь, не последовал его совету в этом. Но про Управление я наказ помню, так что я сам по себе.
– Разве ж это законно?
– Ты прав. Я действую не по закону. Всё золото, где бы его ни нашли, должно продаваться не иначе как в казну. Правительство уплачивает владельцу прииска соответствующую сумму денег за доставленное золото. Ни хозяин прииска, ни рабочие не должны оставлять себе ни крупинки. Это строго преследуется. В случае, если золото обнаруживается какой-либо разведывательной партией, никто из золотоискателей не имеет права унести его с собой. Согласно букве закона, я обязан составить протокол, сколько именно долей или золотников оказалось в выкопанных шурфах. Вынутое из шурфа и промытое золото должно быть брошено обратно в шурф и оставаться там до начала официальных работ. Я же намерен добывать его без всякого контроля со стороны властей.
– Про это рано или поздно станет известно. Ужель ты не боишься?
– Я хочу жить вольно. Мой отец был честным промышленником, но его оклеветали и лишили всего, чем он владел. Я не хочу служить государственному закону, который без всякой причины может одним махом разрушить моё благополучие, построенное честным трудом. Если уж подвергать себя риску, то осознанно, то есть изначально знать, что ты живёшь не по установленному государством закону.
– Я боюсь за тебя, Саша.
– Не бойся. Я не разбойник, никого не убиваю и не граблю. Но золото, которое отыщу (а я отыщу его, будь уверен), не отдам никому! – Галкин сжал губы. – Вон со мной сколько людей. Каждый получит свою долю, я никого не обижу. Дай только добраться до места и шурфы отбить. Завтра мы отправляемся в путь, так что не грех бы тебе попрощаться с живой землёй.
– В каком смысле? – испугался Иван.
– Мы уходим в дикую глушь, в снега. Там всё покажется тебе вымершим. Так что простись на время с привычными тебе улицами деревень, с толпами пьяных мужиков. До следующей весны тебе сюда нипочём не возвратиться, даже если тебе сильно не понравится жить в тайге.
***
– К водоразделу между Олёкмой и Амгой идут русские. Много русских, целый отряд. Это те самые, с которыми тебе надо встретиться, сын мой…
Голос прозвучал настолько отчётливо, что Эсэ от неожиданности вздрогнул и только теперь понял, что голос слышался в его сне. Голос не принадлежал человеку, в этом Эсэ мог поклясться. Но не принадлежал он и животному. Голос назвал его сыном, но то не был голос его отца.
– Видно, Мать-Зверь разговаривала со мной. – Он взглянул на затухший костёр. – Русские идут к Амге. Вот какие русские мне нужны. Значит, на Волчьем Холме, когда я впервые почувствовал вкус крови, я убил не тех людей. Они ни в чём не виноваты. Что ж, ничего не поделать: я выбрал путь войны, а война не знает пощады. Зато теперь я доберусь до тех, кто мне нужен, я отыщу сына убийцы и расквитаюсь с ним. Жаль, что я не знаю, кто именно из русского отряда нужен мне. Как мне определить его? Буду убивать всех подряд, и в конце концов пуля настигнет того, кому она предназначена. Много крови придётся пролить. Это её вкус тревожит меня…
Было ещё совсем темно, когда он продолжил путь. Три дня назад он покинул место захоронения отца, оставив возле погребального шалашика застреленных русских охотников. Он забрал их лошадей, ружья и кое-что из личных вещей. С тех пор у него на языке то и дело ощущалось присутствие крови. Иногда ему казалось, что она просачивалась сквозь поры изнутри и затапливала всю полость рта, и тогда он начинал торопливо сплёвывать кровь, но наружу выходила только обычная слюна белого цвета. Иногда кровь будто вытекала внезапно из носоглотки горячей волной, и тогда Эсэ начинал давиться. Но каждый раз всё заканчивалось очень быстро.
Минул ещё день, и вечером Эсэ добрался до небольшого селения Тунгусов у излучины ручья, который назывался Чёрный Пень. Селение состояло из трёх изб русского типа и одного чума конической формы. Чуть в стороне от изб возвышались на высоких столбах два помоста, заваленные какими-то снастями, и виднелись два бревенчатых амбара на сваях вышиной почти в человеческий рост. Тут и там на перекладинах покачивались, просушиваясь, выделанные шкуры лисиц и волков. В просторном загоне топталось несколько оленей, а возле изгороди перед ближайшей избой стояла на привязи понурая кляча. Навстречу Эсэ бросились, громко лая, лохматые собачонки.
– Я хочу заночевать, – сказал он ровным голосом появившемуся из-за скрипнувшей двери Тунгусу средних лет и, не обращая на собак внимания, легко соскочил с коня на мёрзлую землю. – Куда лучше поставить лошадей?
Из-за спины первого Тунгуса вышел второй, совсем старый, с длинными седыми волосами и жиденькой бородёнкой.
– Мы займёмся твоими лошадьми, юноша, – сказал он по-якутски. – Входи внутрь.
– Моего коня я расседлаю сам.
– Твой конь, тебе решать.
Первый Тунгус, видимо сын старика, неторопливо подошёл к лошадям убитых русских охотников и принялся развьючивать их. Когда Эсэ повернулся к нему спиной, Тунгус с любопытством оглядел пришитый к спине его короткой куртки контур двуглавой птицы, вырезанный из медвежьего меха.
Когда Эсэ вошёл в избу, в лицо ударила волна забытого за лето домашнего запаха. Этот запах был свойственен только жилищам оседлых Тунгусов и Якутов. Здесь пахло сухим деревом, смолой, кожей, дымом и едой. Посреди большого помещения стояла железная бочка, неизвестно каким образом попавшая сюда; сбоку и наверху в ней были вырезаны отверстия, внутри пылал огонь. Судя по всему, кто-то из местных Тунгусов решил соорудить из бочки некое подобие печки, которую видел где-нибудь на русской фактории. Старик указал рукой за «печь», где, согласно этикету, находилось место самого почётного члена семьи и место для гостя.
– Мы собрались на ужин, юноша. У нас есть очень вкусная рыба. Ты голоден? – поинтересовался старик.
– Я с удовольствием поем. – Он устроился на нарах, заваленных мягкими шкурами.
С потолочных балок свисала сохнущая одежда. Слева и справа от двери сидели на нарах женщины и дети, за ними, ближе к огню, расположилось несколько мужчин средних лет. Они кивнули Эсэ, но не сказали ему ни слова, негромко обсуждая что-то своё. Вскоре в дом вернулся Тунгус, занимавшийся лошадьми. Он пробрался к старику и, склонившись к его уху, произнёс что-то. Старик удивлённо поднял брови и посмотрел на Эсэ.
– Мой сын говорит, что ты оюн. Это правда?
Все находившиеся в доме сразу замолчали. Единственным звуком, нарушавшим тишину, было потрескивание топлива в очаге. Слово «оюн» вызывало в людях трепет. Оюн – человек, обладающий силой, лекарь, колдун, предсказатель.
– Почему ты думаешь, что я оюн? – спросил Эсэ.
– Мой сын видел оюнскую сумку на твоём седле. Но ты слишком молод для оюна, – покачал головой старик.
– Оюном был мой отец. Его звали Сосна, Человек-Сосна. Сумка досталась мне от него. Он так хотел. Но его священную шапку с рогами оленя я оставил возле его могилы. А бубен его висит над местом гибели отца. У меня нет ещё моего бубна, поэтому я не могу проводить важных церемоний, – пояснил Эсэ. – Отец научил меня многому, хотя я умею недостаточно, чтобы называть себя оюном. Но пусть я не очень сильный оюн, я всё-таки воин.
– Воин? – удивился старик. – За всю мою жизнь я не помню случая, чтобы кто-нибудь назвал себя воином в наших краях. Не потому ли ты носишь двуглавую птицу на куртке?
– Да, – Эсэ с вызовом обвёл глазами всех собравшихся, – я воин.
– Время войн на здешней земле прошло очень давно, юноша, – с некоторым осуждением произнёс кто-то из темноты.
– Война никогда не заканчивается, даже если её не видно. Так устроен этот мир. Покуда в наших сердцах горят желания, человек будет стремиться задавить и подчинить себе другого.
– Должно быть, этот юноша пришёл к нам из прошлого. – Старик глянул на сидевших вдоль стен Тунгусов. – Раньше о воинах часто вспоминали, но я не видел ни одного воина, только воспоминания. Воины жили здесь задолго до моего появления на свет. Я слышал от деда, что наши племена сильно дрались между собой и сильно сопротивлялись русским. Мне не довелось этого увидеть, я никогда не воевал сам. Я ловил рыбу и занимался охотой. Но я хотел бы взглянуть на то время, когда наши люди не сидели на одном месте, а вольно разъезжали на оленях повсюду, не боялись потерять крышу над головой, не боялись наказаний русских властей, не боялись смерти. Я никогда не думал, что может появиться тот, кто откажется принять нынешний порядок вещей. Когда я был ещё мальчиком, мне открылась печальная истина. Я узнал, что земля, на которой живу я и на которой испокон веков жили мои соплеменники, принадлежит русским. Некоторые наши возмущались и даже поговаривали изредка о том, чтобы выгнать отсюда белых людей, но после недолгого раздумья все приходили к единодушному выводу, что ни Тунгусы, ни Якуты, ни все остальные не в силах одолеть белокожих пришельцев, объявивших себя нашими хозяевами. Мои сородичи смирились с этой мыслью, и она стала казаться нам само собой разумеющейся. Мы пользуемся вещами, которые покупаем у русских, а они пользуются нашей землёй. И всё же мы продолжаем жить в лесу, а не в городах, поэтому мы отличаемся от них, мы думаем иначе. Однако мы давно не воюем против белых людей, мы стараемся дружить с ними.
Все молчали, огонь гудел.
– Меня сильно удивляет, что в тайге вдруг появился воин. – Седые волосы на подбородке старика задрожали.
– У него есть колчан, лук со стрелами, – подал голос сын старика, – у него есть несколько ружей.
– Ты пользуешься стрелами? – ещё больше удивился старик. – Сейчас редко встретишь такого умелого охотника. Мы стреляем только из ружей, хотя патроны стоят очень дорого и за ними приходится чересчур далеко ездить. Мы также ставим капканы. К сожалению, самодельные ловушки не могут сравниться с железными капканами русских, за которые тоже надо платить. Да, мы сильно теперь зависим от белых людей, но мы уже свыклись. А ты пользуешься не только ружьём, но и стрелами. Это очень хорошо.
– Отец научил меня.
– Может быть, ты появился, чтобы объявить о повороте времени? Может быть, твой приход означает, что далёкая наша жизнь, когда мы не были обязаны платить русским ясак, обещает вернуться? Я не видел той жизни, но уверен, что она была хороша. Наши предки не знали огнестрельного оружия, но знали, что такое свобода. Возможно, мои внуки сумеют глотнуть свободного воздуха? Не для того ли ты пришёл, юноша?
– Я не знаю, – ответил Эсэ и улыбнулся. – Этого мне не дано знать. Я должен свершить одно важное дело, о другом я не думаю сейчас.
– Послушай, ты устал. Я хочу, чтобы сегодня ты лёг спать с моей дочерью, – громко произнёс старик, и тени людей закачались вдоль стен, недоумённо завертели головами, задвигали руками. – Так было принято раньше. Хозяин предлагал уважаемому гостю свою жену. У меня давно нет жены, но есть дочери. Ты, юноша, возьми старшую из них.
Эсэ давно не лежал с женщиной. Незадолго до своей гибели отец привёз в селение девушку из чужого улуса и отдал её Эсэ. Якуты считали грехом брать для сына жену из своего и даже из чужого, но ближайшего рода. Богачи старались брать женщин из других улусов или отдалённых наслегов своего улуса.[7] Человек-Сосна не был богатым человеком, но специально отправился в долгое путешествие, чтобы привезти сыну подходящую женщину. Увидев ту, что приглянулась ему самому, он решил, что она понравится и сыну. Шаман не спросил её согласия, не заплатил за неё выкуп, не предупредил никого о своём намерении. Он просто украл её, как крадут бессловесную скотину.
– Теперь у тебя есть жена, – сказал он. – Она понравилась мне, и я увёл её. Она из далёких краёв, так что жена из неё должна получиться славная. Хорошо, когда родство далеко, хорошо, когда вода близко. Не следует брать жён вблизи, хотя бы и чужеродок.
С тех пор у Эсэ была законная жена. Первое время он брал её с собой в походы. Она разжигала ему костёр, ставила шалаш, готовила пищу, ухаживала за лошадьми. Она никогда не вспоминала о том, что была украдена, никогда не сетовала, что в родном доме ей жилось спокойнее и уютнее. Когда Эсэ говорил, она слушала молча. Когда он приказывал, она повиновалась. Человек-Сосна оказался прав: из неё получилась хорошая жена. Но через год пришло время ей рожать, и она не смогла больше сопровождать мужа. Эсэ оставил её в постоянной деревне под присмотром своих тёток, и жена произвела на свет двойню – сына и дочь. Однако семь месяцев спустя дети скончались от чахотки, сама же она, хоть и ослабла от болезни, держалась из последних сил, решив дождаться приезда Эсэ. Он в то время был на промысле, а когда появился, то застал жену совершенно измученной. Она встретил его слабой улыбкой.
– Я ждала тебя, мой муж. Я знала, что не умру, пока не увижу тебя… – Она с трудом шевелила губами; кожа туго обтягивала её выпиравшие скулы. – Я была тебе хорошей женой, несмотря на то что в твоём сердце никогда не находилось тепла для меня. Ты спал со мной, но всегда думал о чём-то своём. Ты не позволял мне проникнуть в твоё сердце. И всё же я постоянно была возле тебя. Когда ты отправлялся на охоту, я сопровождала тебя. Когда ты совершал дерзкие нападения на ясачных людей, я помогала тебе. Ты даже доверял мне твоё ружьё и не боялся, что я оскверню его моим прикосновением. Другие мужчины не разрешают этого своим жёнам, потому как видят в них только рабынь. Ты не похож на других. Ты был строг со мной, но ни разу не поднял на меня руку. Ты особенный человек. Я сравнивала тебя с другими мужчинами постоянно и видела, что ты сильнее и мудрее их, хотя ты моложе многих из них. Я прислушивалась к их речам у костра, и понимала, что они похожи на домашних собак, в то время как ты похож на дикого волка. И я стала гордиться тобой, а затем и полюбила тебя. Жаль, что любовь моя уйдёт вместе со мной. Жаль, что наши дети покинули этот мир, так и не испытав на себе красоту твоей силы. Я хочу, чтобы ты знал: я благодарна твоему отцу за то, что он увёз меня из моего дома и отдал тебе… Теперь, когда я дождалась тебя и сказала тебе всё, что накопилось во мне, я могу спокойно уйти. Мой путь завершён. Прощай. Наступит время, и мы свидимся опять, но не здесь…
Вспомнив эту сцену прощания, Эсэ нахмурился. С тех пор прошло полтора года, но он так и не выбрал новую жену. Нет, он не тосковал по усопшей, никогда не вспоминал её. Однако со смертью жены в душе его произошёл какой-то очередной поворот. Судьба отняла у него отца, затем жену. Должно быть, Покровитель кузнецов показывал этим, что Эсэ не следовало иметь близких родственников. Семейные узы мешали воину. Впрочем, он мог заблуждаться.
Он отогнал набежавшие воспоминания и посмотрел на старика. Тот качнул седой головой и повторил:
– Я хочу, чтобы ты спал сегодня с моей старшей дочерью.
– Спасибо. Мне нужна женщина.
– А мне нужно смелое потомство, юноша. Я не прошу калым за мою дочь. Но прошу, чтобы ты влил в неё своё семя, дабы она родила детей с твоей горячей кровью. Я хочу, чтобы они выросли воинами. И даже если ты будешь редко появляться здесь, считай мою дочь своей женой и воспитывай её детей, как должен воспитывать настоящий воин. Придёт время, и они пойдут за тобой. Как тебя называть, юноша?
– Медведь.
– Человек-Медведь, – с явным удовольствием произнёс старик.
Нары, на которых устроился Эсэ, отгородили на ночь тряпичным навесом, однако Эсэ чувствовал сквозь эту тонкую загородку, как прислушивались к его дыханию все обитатели дома. Их всех влекло происходившее в тёмном углу. Им всем казалось, что вторгшийся столь внезапно в их жизнь юноша-медведь должен был сделать что-то особенное. Им чудилось нечто гигантское, необъятное, таинственное. Они жадно вслушивались. Им хотелось быть там, за занавеской. Но ничего необычного не доносилось до их ушей, Тунгусы слышали только ритмичное, хорошо знакомое всем дыхание самца, смешанное с дыханием самки.
Пришедшая к нему женщина уже знала мужчин и вела себя смело. От неё исходил стойкий запах, и когда тела отодвигались друг от друга для короткого отдыха, этот запах с особой силой окутывал Эсэ. Иногда женщина расслаблялась, изнурённая жадными натисками воина, и бросала руки безвольно, иногда сама приходила в неистовство и тогда начинала бешено стучать о него раскрытыми бёдрами, обливая горячей влагой.
Ночь прошла быстро. Эсэ не отпускал партнёршу до самого утра. Уже при тусклом дневном свете, пробившемся сквозь окно, затянутое мутным рыбьим пузырём, он в последний раз овладел женщиной, глядя ей в глаза. Теперь он мог разглядеть её лицо. Оно было совсем непривлекательным, не соответствовало исходившей от женщины страсти. Но это не огорчило Эсэ. Оросив её промежность напоследок ещё раз, он поднялся и сгрёб свою одежду в охапку.
– Мне нужно омыть себя, – сказал он, выглянув из-за грязной занавески.
– Отец велел, чтобы баня была готова с раннего утра, так что можешь идти, – сказал кто-то из Тунгусов.
***
Берега Лены в том месте, где стоял Олёкминск, чрезвычайно живописны, по обе стороны тянулись густые леса, виднелись нависающие скалы. Селение стояло почти напротив устья реки Олёкма, куда и свернули, продолжив свой путь, оба пароходика. Теперь они медленно пошли вверх по течению, по совершенно незнакомому фарватеру. Ночами температура опускалась настолько низко, что палуба частенько превращалась в ледяной паркет, по которому Иван Селевёрстов никак не мог научиться передвигаться.
– Смешно подумать, что ещё не наступила настоящая осень, не говоря уже о зиме, а тут уже заморозки по ночам, – рассуждал Иван.
– В Сибири есть места, где снег остаётся лежать всё лето. Тебе много всякого предстоит увидеть, – посмеивался Галкин.
На четвёртые сутки плавания по Олёкме Иван проснулся утром, разбуженный каким-то особенным шумом на палубе. Было ещё очень рано, воздух казался насквозь промёрзшим, но, несмотря на это, все уже покинули свои постели. Поспешно одевшись, Иван вышел наружу и сразу понял, в чём крылась причина общей суеты, – пароходики пристали к берегу для разгрузки.
Место, выбранное для зимовки, было диким. На обоих берегах стояла глухая и неприветливая тайга, где, похоже, никогда прежде не ступала нога человека. Острые верхушки елей покачивались, словно пытаясь дотянуться друг до друга и нашептать что-то тайное. Широкие кедры, похожие на сказочные чудовища, простирали во все стороны свои длинные ветви. Повсюду виднелись густые, хоть уже и обнажившиеся по-осеннему, заросли малины, краснели гроздья рябины. Ветви дикого хмеля заполняли всё свободное пространство между деревьями, из-за чего местность выглядела непроходимой. Земля была покрыта снегом.
– Красотища! – с удовольствием протянул Галкин, подходя к Ивану. – Как тебе тут?
– Диковато. Здесь небось шагу ступить нельзя, чтобы на зверьё какое не натолкнуться, – предположил Иван.
– На то она и Сибирь, чтобы защищаться от людей диким зверьём. Здесь всё будет против нас, дружище. Но мы это сопротивление сломим и пробьёмся, куда нам надобно.
– Боязно как-то. – Селевёрстов неопределённо развёл руками. – Да и топором я работать не мастак.
– Научишься, привыкнешь и полюбишь этот край. Мороз будет вскорости казаться тебе лучшим из всех возможных благ. Вот поглядишь, как застонет тайга под ударами топоров и кайл. Ты, конечно, сперва все руки сотрёшь, обмозолишься, но это не беда. Труд – лучшее из всех лекарств, известных человечеству.
Селевёрстов очень быстро убедился в правоте слов своего товарища. Поначалу он испытал странное чувство при звуке первых ударов топора. На него одновременно нахлынули чувства грусти и гордости при виде шумно валившихся на холодную землю гигантских стволов.
Тайга действительно застонала под натиском человеческой энергии. И Селевёрстов ощущал себя частицей этой внезапно бросившейся на многовековой лес энергии. Он тоже взмахивал топором и слушал, как звенящее лезвие впивалось в дерево. Сознание собственной причастности к происходившему воодушевляло Ивана Васильевича и возвышало его в собственных глазах. Совсем недавно он был слабым и бесполезным городским человеком: пусть у него и водились крупные деньги, но он ничего не совершал, ничего не чувствовал, кроме бесконечной скуки. Теперь же он прокладывал дорогу, строил жильё для себя и своих спутников. Надолго ли он тут обоснуется? Он не знал ответа и не хотел знать. Он просто жил каждой минутой, он наслаждался чувством жизни и благодарил судьбу за то, что она свела его столь неожиданным образом с Сашкой Галкиным.
– Как ты? – обязательно обращался к нему во время обеденного отдыха и вечером Галкин и осматривал руки Ивана. – Уже лучше. А ты, брат, молодец, не из плаксивых, хоть и привык к столичным нежностям…
В первый же день Селевёрстов попал в историю, о которой вспоминал затем всякий раз, когда приходилось отлучаться со стоянки. Дело было так. Поработав минут пятнадцать с топором в руках, Иван почувствовал, что тело его заныло от активных движений и даже в животе заурчало – то ли от разыгравшегося голода, то ли от желания справить нужду. Подержавшись за живот, Иван решил всё-таки присесть под кустик. Рабочие отличались бесхитростностью, но Селевёрстов ещё не привык к мысли, что спускать штаны в пределах видимости надо было не из-за простоты нравов, а исходя из мер безопасности. Итак, завершив своё дело, Селевёрстов готов уже был выпрямиться, как услышал у себя за спиной глухой рык. Неожиданный звук заставил его напрячься. Слегка повернув голову, Иван увидел в нескольких шагах от себя громадного волка, верхняя губа которого приподнялась и мокро подёргивалась, обнажая белые клыки. Селевёрстов так и остался в полупривставшем положении, отклячив голый зад, не решаясь подтянуть штаны. Зверь, низко опустив голову и вытянув её вперёд, смотрел на белые ягодицы человека и едва слышно рычал.
Трудно сказать, чем закончилось бы свидание Ивана с матёрым волчищем, если бы Галкин случайно не обратил внимания на неестественно вывернутую и застывшую неподвижно голову Ивана над кустами. В одно мгновение почуяв неладное, он выхватил из чехла «винчестер» и быстрыми шагами, почти бегом, двинулся к Селевёрстову. Лобастую голову волка он увидел сразу, сделав всего пару шагов. Едва хищник заслышал посторонний шум, его жёлтые глаза метнули холодный взгляд в сторону шагов, живот его втянулся. Галкин остановился, вскинул винтовку и выстрелил без промедления. Волк отпрыгнул, прижал уши, громко заскулил, криво вильнул, осев задом, и свалился набок, колотя лапами по воздуху.
– Как ты? – В четыре прыжка Галкин оказался подле Ивана.
– Пожалуй, я снова присяду, – вяло произнёс тот в ответ. – Ноги ослабли, да и нужда, похоже, снова взяла. Ты, Саша, может, постоишь чуток рядышком? Как-то не по себе мне сейчас сделалось.
– Куда ж мне деваться. Эй, Борис! Дуй сюда! Тут Селевёрстов приманкой устроился работать, так я с его помощью серого завалил.
На его зов прибежал, ломая ветви, Борис Белоусов. Этот казак, служивший ещё при отце Александра Галкина и выполнявший самые различные задания, был предан Александру всей душой и относился к нему как к собственному сыну, хотя всегда почтительно называл его «барин».
– Добрый зверюга, – ухмыльнулся Белоусов и взвалил волка на свои плечи. – Прикажете разделать, барин?
– Не пропадать же мясу. А шкуру, когда выделаешь её, отдай-ка Ивану. Пусть служит ему реликвией и напоминанием о том, что жизнь – штука непрочная, хотя тем, наверное, и привлекательная.
В этот первый день работы Галкин не позволил Ивану более работать с топором в руках, понимая, как трудно придётся недавнему неженке в новых условиях.
– Да и после встречи с матёрым небось пальцы трясутся. Не правда ли? – Александр похлопал Ивана по плечу.
Он поручил Селевёрстову наблюдать за облаками, замечать их направление, движение, форму, срисовывать по возможности выдающиеся облачные картины. Само собой разумеется, наказал ему постоянно записывать температуру и вообще всё, что было связано с погодой.
– А топориком помахивай для согреву и чтобы мозолью понемногу обрастать. Работы тут хватит на всех, – поговаривал Галкин. – Надобно будет расчистить около десятины земли от поваленных деревьев. Обустроить зимовье не так легко, как кажется на первый взгляд. Жилища надо на всех сложить, а погода уже шепчет о настоящих холодах. Рабочие, видишь, в первую очередь стали землянки рыть…
Через несколько дней пароходики развернулись и ушли обратно, скрывшись за поворотом.
– Куда это они, Саша? – забеспокоился Иван.
– Им надо поискать место для своей зимовки, – ответил Галкин.
Землянки ещё не были обустроены окончательно, и до поры до времени рабочим пришлось ютиться в холодных палатках. В палатке Галкина, который взял под свой кров Селевёрстова, жил также и Борис Белоусов. Иван сразу заметил, что казак был мастер на все руки.
– С таким попутчиком в тайге не пропадёшь, – не уставал повторять Галкин.
Прежде чем перенести вещи на берег с пароходика, Белоусов расчистил от снега и ветвей небольшое пространство земли и разостлал войлок, на который сложил весь скарб. Затем нарубил несколько жердей и, вколотив две из них в землю, укрепил на них третью в виде перекладины. После этого он попросил Ивана помочь ему, и они вдвоём накинули на перекладину брезент, оттянув его края в стороны и образовав таким образом два ската. Образовавшееся с задней стороны треугольное отверстие Белоусов плотно заделал войлоком, такой же войлок был сделан откидным с передней стороны и служил дверью. Все отверстия вдоль линии соприкосновения брезента и земли плотно заложили дёрном, поверх которого утрамбовали снег.
– Тут нам ни дождь не страшен, ни снег, – подвёл итог Белоусов.
– А спать как же? – забеспокоился Иван. – Прямо на земле, что ли?
– Сейчас мы насыплем толстый слой еловых и сосновых ветвей и прикроем их двойным войлоком. А уж поверх этого навалим наши подушки, меховые тюфяки, укутаемся в меховые одеяла и спать будем сладко-пресладко, барин, – успокоил Белоусов, улыбаясь и покрываясь множеством мелких морщинок.
Такая же палатка, только крупнее, была устроена для склада припасов и различных материалов.
– И долго нам жить так? – беспокоился в первый день Селевёрстов.
– Пока дом не построим.
– Никогда бы не поверил, если бы год назад кто-нибудь сказал бы мне, что я буду среди снегов сибирских спать в такой палаточке, – покачал головой Иван.
– Это ещё не снега. Дай срок, барин, увидишь настоящие сугробы, – откликнулся Белоусов.
– Поглядела бы на меня моя жена. – Иван Селевёрстов задумчиво сощурился на огонь костра.
– Так ты женат? – спросил Галкин.
– Женат, – кивнул Селевёрстов со вздохом, – женат, но всё равно что холостой. Весьма пустая история.
– Ты уж расскажи, порадуй меня разговором. Должен я знать хоть что-то из жизни моего старинного приятеля.
– Изволь. – Иван вздохнул. – Скакал я в Петербурге с одного бала на другой и на одном из них влюбился без памяти. Волосы у неё были гладко причёсаны, талия изящная, улыбка сверкающая, а танцевала она так мило и так много, что нельзя было не влюбиться в неё. Влюбиться ведь всегда очень просто, зато любить не всегда получается. Ну, наметили мы свадьбу, накупил я всякой драгоценной дряни в качестве подарков для моей родни, приобрёл дом, нанял двух лакеев, обрядил их в золотые ливреи с гербовыми позументами. Одним словом, я был ослеплён, вёл себя неразумно. Бывает, что делаешь глупости допустимые, всяческие милые глупости, и они просто забавляют. А у меня всё получилось дурно, началось страшное мотовство, которое, как легко предсказать, завершилось почти полным моим разорением. Мало-помалу все мои друзья отдалились от меня, жена отвернулась. Два года я терзался, пытался как-то наладить жизнь, вернуть былое, затем я сообразил, что просто погибну в тех условиях. И я решил уехать. У меня оставалось имение, которое я продал, расквитался с долгами и, взяв остаток денег с собой, поехал смотреть, как живёт моя родная страна. Вот так я добрался аж до середины Сибири!
– Любопытно было б поглядеть на тебя сейчас, ежели б ты со мной не встретился, – засмеялся Галкин.
– А может быть, судьба вынудила меня через всё пройти именно для того, чтобы я в какой-то определённый час выехал из Петербурга и попал в Олёкминск ровно в то время, когда ты там стоял.
– Может быть, братец, всё может быть…
Через несколько дней после высадки команды Галкина на берег облик местности, где началось обустройство зимовья, полностью изменился. Основные силы были брошены на постройку дома.
– Как славно, что я додумался закупить волов у Якутов. – Александр Галкин не скрывал своей радости. – Сейчас они нам помогут в строительстве, а после мы их забьём. Двойная, как видишь, выгода.
Иван Селевёрстов кивал. Четыре привезённых на одном из пароходов вола активно употреблялись в работе. Покуда одна партия рабочих рубила деревья и заготавливала брёвна, другая вывозила их из леса к месту строительства. Тайгу предварительно расчистили под дороги для возки брёвен. Впрочем, по этим дорогам невозможно было проехать на колёсах, да и телег у строителей не было. Брёвна перевозили на местных волокушах, которые были, как объяснил Ивану казак Белоусов, чисто таёжным изобретением. Волокуши представляли собой пару оглобель, крепившихся с одного конца, как полагалось, на шее вола, другой же их конец был закруглён кверху и волочился по земле. На закруглённых окончаниях крепился толстый деревянный брус, а на него укладывались для транспортировки брёвна. Так и служили волы тягловой силой, таща за собой по длиннющему бревну, которое людям было доставить не под силу. Перевозимые брёвна очень быстро утрамбовали наскоро проложенные дороги и отшлифовали их. Третья партия рабочих занималась собственно постройкой дома.
Иван Селевёрстов помаленьку участвовал в третьей группе, хотя в качестве постоянной обязанности вменили ему обустройство метеорологической станции. Иван же не упускал возможности знакомиться с плотницким делом и всё чаще и чаще брал в руки топор.
– Борис! – позвал Галкин. – Белоусов, где же ты?
– Иду, барин.
– Пора бы нам снарядить отрядец к перевалу из долины Олёкмы в долину Амги, – сказал Александр. – Нечего время попусту терять. Ты возьми с собой одного конюха из наших и одного Тонгу в качестве проводника.
– Сколько лошадей брать?
– Ты и конюх верхами и четыре на поклажу, значит, всего шесть, – решил Галкин. – Тонга пойдёт пешком.
– А почему Тунгус пойдёт пешком? – встрял в разговор Селевёрстов.
– Видишь ли, Ваня, этот народ до того привык к ходьбе, проводя всю зиму в передвижениях по тайге на лыжах, что для них пройти пешком сто пятьдесят вёрст – приятное занятие, – пояснил Галкин. – Ну, Белоусов, отправляйся составлять список нужных вещей, а я после гляну, проверю.
Рядом с ними, сидя на ящике из-под товаров, повар занимался стряпнёй для начальства: мыл мясо, рубил котлеты и заводил, как говорили сибиряки, тесто для пресных оладий. Кухня для рабочих была устроена неподалёку от их землянки.
– Жрать охота, – хлопнул себя по животу Галкин. – Что-то сегодня у меня аппетит разгулялся, а ты всё валандаешься. У рабочих, я чую, уже суп на подходе…
Его слова были прерваны донёсшимися издалека непонятными звуками.
– Что за чёрт? – Галкин взял «винчестер» и выпрямился, прислушиваясь.
– Вроде как кто-то сквозь тайгу прёт, – высказался повар, застыв с зажатым в руке разделочным ножом.
– Прёт и не таится, – кивнул Белоусов. – Может, Тонги перекочёвывают?
Через несколько минут между деревьями мелькнули развесистые рога бурого оленя, затем обрисовалась вся его величавая фигура. Олень шёл спокойной, уверенной поступью, иногда останавливаясь и оглядываясь. За ним появились его сородичи, столь же неторопливые и красивые. Вот выбежал телёночек, застыл на месте, подняв мордочку, и тут же бросился обратно в чащу, высоко вскидывая задние ноги. Треск сучьев становился громче, олений храп делался гуще. Вскоре отовсюду в лощину потекли струи громадного оленьего стада. Животные всех мастей и возрастов дружно выходили из тайги.
– Господи, какая красота! – вырвалось у Селевёрстова.
Не прошло и пяти минут, как по всему зимовью рассыпалось сотни полторы животных. Клубы пара заполнили воздух над стоянкой.
– Откуда же они? – не переставал задавать вопросы Иван. – Почему не боятся нас?
– Домашние, – растолковал Белоусов. – Слышь, бубенцами гремят.
Только тут Иван понял, что общий гул, производимый копытами животных, был пронизан звуками бубенчиков и колокольчиков, которые мотались на шеях большинства оленей. На некоторых оленях Селевёрстов заметил большие вьюки. Очень скоро показались и олени с седоками-погонщиками.
– Ха, русский, здравствуй! – приветствовали погонщики рабочих зимовья, спрыгивая с оленей и привязывая их к деревьям. Их широкие лица светились искренней радостью, и не было в них ни малейшего намёка на усталость от длительного перегона.
– А вот и Тонги, – сказал Белоусов, указывая на приехавших Тунгусов, – легки на помине.
Рабочие собрались вокруг погонщиков, говоривших по-русски с грехом пополам, и между ними завязался, несмотря на определённый языковой барьер, оживлённый разговор. Многие из рабочих никогда не видели оленей и теперь с любопытством оглядывали животных с раскидистыми рогами, гладили их, щупали рога и мех. Но особенное внимание привлекла к себе приехавшая девушка-Тунгуска. На вид ей было не более восемнадцати лет, зато стоявший возле неё муж явно приближался годами к шестому десятку.
– Тебя как звать, девка? – смеялись рабочие.
– Алёна, – с улыбкой отвечала девушка, скаля белые зубы, кутая голову в платок и усердно пыхтя курительной трубкой.
– Вишь ты! – смеялись рабочие. – Глаза раскосые, узкие, а имя наше носит!
– Хорошенькая она, – кивнул Галкин, подначив локтем Селевёрстова в бок, – и стройненькая.
– Это она-то стройная? – удивился Иван словам приятеля. – Да она на бочонок похожа. Ты только посмотри на неё.
– Эх ты, гусь столичный. Если бы на тебя столько же одежды навьючить, сколько на ней сейчас, ты бы вообще превратился в колобок. А на лицо она просто красавица, если сравнивать её с большинством Тонгов.
– Саша, почему вы Тунгусов зовёте Тонгами?
– Для простоты. На самом деле они ведь Тонгусы, а не Тунгусы, как принято говорить, – ответил Александр. – Это слово, видно, сочетание якутских слов «тонг», то есть «мёрзлый», и «ус», что означает «род». Якуты называют словом «мёрзлый» всякого человека, кто не умеет говорить по-якутски. Правда, теперь Тонги говорят по-якутски, может быть, даже лучше, чем на своём родном наречии.
– Они мирные или как? Не разбойники? Не опасно ли с ними рядом? – продолжал расспрашивать Иван.
– Теперь-то уж мирные, – крякнул Белоусов из-за плеча Галкина. – Но в былые времена русские с ними сильно рубились. И Якуты давали тут всем жару, и прочие поганые. А сейчас, конечно, они мирные, хотя всё равно дикие. Что же до разбойников, так они среди любого племени встречаются. Разве ж русский человек не берётся от случая к случаю за нож и топор? Помню, лет десять тому объявился возле Галкинского прииска какой-то человек. Рабочие покой потеряли, а конторские служаки особенно. Ни днём, ни ночью нельзя было в одиночку на дорогу выйти. Грабил и убивал, окаянный. Но попался-таки мне…
– Осудили его?
– Афанасий Поликарпович, царство ему небесное, велел вздёрнуть его на месте. Я прямо у дороги и пристроил его на дубочке, чтобы народу виднее было смотреть.
– Повесили? Как же так? Без суда? – не поверил Иван, но, увидев совершенно спокойные и даже деловито смотревшие на него глаза Белоусова, понял, что с ним не шутили. – Как же так?
– А вот так. – Казак обвёл пальцем вокруг своей шеи и указал рукой вверх.
***
Эсэ оставил в качестве платы за гостеприимство в селении Тунгусов одно из ружей и одну лошадь русских. Рыжую кобылу он взял себе как вьючную. Тунгусы не хотели брать лошадь, отказывались от подарка.
– Ясачные люди спрашивать будут, где взял её, – опустил глаза старик. – Что я скажу им?
– Тогда убей её и пусти на мясо, – ответил Эсэ.
Помимо своей винтовки, висевшей за спиной, у него имелось также двуствольное ружьё с изрядным количеством боеприпасов. Оружие никогда не обременяло Эсэ. Всё это он пристроил поверх тюков на рыжей кобыле.
Две недели минуло с тех пор. С каждым днём становилось заметно холоднее. Но Эсэ не тратил времени на сооружение шалашей, он обходился медвежьей шкурой и заячьей подстилкой, укрываясь с головой и совершенно не ощущая холода. Якут не спешил, но, выросший в тайге и познавший её тайны, он ехал весьма быстро, несмотря на глубокий снег.
Как-то раз до него донёсся издалека звук песни на два голоса. Пели русские. Пели на отдыхе. Мелодия была весёлая, слов же он не разобрал на расстоянии. Смеркалось. Ночь опускалась быстро. По левую руку от него тянулась почти совсем застывшая Олёкма. До того места, откуда можно было поворачивать к перевалу между долиной Олёкмы и долиной Амги, оставалось не более десяти дней, и русские, горланившие песню, могли иметь отношение к интересовавшему Эсэ отряду. Якут двинулся дальше, ориентируясь на голоса. Он не хотел подходить к ним слишком близко, так как не знал, сколько людей сидело подле костра, дым которого он уже учуял. Пели два человека, но могли быть и другие.
Эсэ искал русский отряд, в котором находился сын убийцы Человека-Сосны. Мать-Зверь сказала ему во сне, что отряд будет находиться на перевале между Олёкмой и Амгой, но больше никаких уточнений. Как выглядела жертва Эсэ? Каким образом узнать его?
Перед молодым воином стояла нелёгкая задача. Решив прикончить этого неизвестного ему человека, Эсэ вынужден был уничтожать всех светлокожих людей, которые могли иметь отношение к тому отряду. Знай он нужного ему человека в лицо, он не стал бы убивать всех подряд. Но он никогда не видел свою жертву и не знал имени.
Песня оборвалась, голоса зазвучали спокойнее. В таёжной тишине слышалось теперь даже потрескивание костра. До людей у огня оставалось не более ста метров, Эсэ различал жёлтое мерцание пламени меж древесных стволов. Он мягко соскользнул с седла и взял в руки колчан. Передвигаться следовало очень медленно. Ноги ступали настолько осторожно, что даже снег не хрустел под мягкими подошвами тёплых этэрбэсов. Этэрбэсы были сшиты из оленьей шкуры, а подошва сделана из тюленьей кожи, которую Эсэ постоянно покупал у кочевавших к Ледовитому океану охотников. Эта высокая, как чулки, обувь являлась не только незаменимой защитой от холода, но была также лёгкой и эластичной и не стесняла движений человека.
Эсэ опустился на колени. У костра он разглядел только два человеческих очертания. Чуть подальше стояли три лошади, на снегу лежали тюки. Значит, русских было действительно двое. Две лошади верховые, одна вьючная. Откуда и куда держали они путь?
Эсэ затаился, услышав хруст снега сбоку. Из мглы появился контур третьего человека. Это был Тунгус на лыжах.
– Эй, Сафрон, – позвал один из русских, – хватит снег топтать, садись щи хлебать.
– Моя ставь охрана от волка, – серьёзно ответил Тунгус.
– Чего он там делает?
– Колдует. Всякую ночь ставит какие-то палочки вокруг ночлега, – пояснил второй русский. – Говорит, что знает заговор против волков. Чёрт знает что творится на белом свете…
– Мне довелось видеть раз, как один шаман вылечил русскому охотнику сломанную ногу. Перелом был открытый, крови много, кость торчала. А он набросил шкуру поверх перелома, помял там руками и принялся в бубен стучать и песни петь. Когда шкуру с ноги сбросил, то нога была совсем целёхонька. Это я собственными глазами видел, вот тебе крест!
– Брехня, не верю, – крякнул другой.
– Я тебе верно говорю.
– Пустое. Крестят их, крестят, обращают в нашу веру, а они всё колдовством норовят заняться. Чудной, одно слово, народ. Зачерпни-ка мне ещё чайку. Хорошо, что у нас вдоволь чая.
– Хорошо, что мы скоро доберёмся до Олёкминска. Как ты думаешь, Прохор, сколько людей сбежит от Галкина? Сколько не сдюжит?
– Увидим.
Тунгус прошёл мимо костра и опять углубился в чащу. Он присел на корточки совсем близко от Эсэ и воткнул в снег еловую ветвь. Эсэ плавно поднял лук и натянул тетиву. Смертельная сила сконцентрировалась на кончике длинного металлического наконечника стрелы. Эсэ отпустил пальцы, и тетива напряжённо тренькнула на морозе. Стрела продырявила горло Тунгуса и вылезла на треть своей длины с обратной стороны. Смертельно раненный человек захрипел, но сидевшие у костра люди не услышали ничего или не обратили на хрип внимания. Эсэ перевёл расширившиеся в темноте глаза на огонь. На мгновение ему стало жалко этих беззаботных мужчин, ничего не подозревавших. Им было уютно сидеть перед пламенем. Им было хорошо.
– Сафрон! Куда ты подевался?
В ответ из тьмы мелькнула стрела и вонзилась вопрошавшему в спину. Мужчина охнул и привстал.
– Ты что, Прохор? – Его товарищ не понял, что случилось, он не мог видеть торчавшего в спине Прохора оперённого стержня. – Тебе нехорошо?
Прохор промямлил что-то и попытался нащупать стрелу руками, но толстая одежда не позволяла ему дотянуться. Он тяжело опустился на колени и повалился вперёд. Его товарищ не успел осознать, что произошло, так как в следующую секунду такая же стрела впилась ему в шею. Он умер сразу, а Прохор продолжал стонать, уткнувшись лицом в снег.
– Глупые, беззаботные люди! – Эсэ подошёл к ним и нагнулся. Чтобы извлечь стрелы, ему пришлось взрезать одежду на убитых, только после этого он смог выдернуть наконечники из плоти. Изучив покойников, он вернулся к Тунгусу.
– Тебе следовало научиться охранять ночлег от человека, а не от волков. Прости меня за эту стрелу, но таковы законы войны. Я не имел на тебя зла, и ты не держи его на меня. Мы давно не враги с твоим племенем, но ты был с белыми людьми и непременно выдал бы меня. У меня не оставалось выбора.
Он взялся за стрелу, пробившую шею, подёргал её туда-сюда, проверяя, в какую сторону лучше тянуть. Железный наконечник с широкими плечиками цеплялся за мягкие ткани, и Эсэ рванул древко стрелы вперёд. Оперение чавкнуло, исчезло в мякоти шеи и вылезло наружу с другой стороны, выпачканное липкой кровью. Якут протёр стрелу снегом и бросил в колчан.
Вот ещё глубже он погрузился в трясину убийств. Сейчас, рассмотрев лица мертвецов вблизи, он пришёл к выводу, что никто из застреленных им людей не мог быть тем, кто был нужен Эсэ. Его жертвам было лет по пятьдесят, а он искал относительно молодого человека.
Эсэ сглотнул слюну. Вкус крови привычно ополоснул глотку. Он вытащил из сумки длинный кожаный шнурок и привязал его к ветке дерева.
– Пусть эта полоска кожи останется здесь в знак того, что я прошу у вас прощения.
***
Люди, которых застрелил Эсэ на берегу Олёкмы, были посланы Александром Галкиным с зимовья в Олёкминск для того, чтобы организовать регулярное сообщение между экспедицией и посёлком. На следующее утро после нападения Эсэ на посланцев к месту их гибели пришли волки и разорвали оставшихся там лошадей. Трупы людей были сожраны чуть позже.
Тем временем Галкин снаряжал первую группу в сторону перевала. Белоусов составил точный список всего, что было уложено в тюки.
– Каждая мелочь должна быть записана, – пояснял важно казак любопытствовавшему Селевёрстову, – непременно надо указывать, где что лежит. Только так можно отыскать в дороге без труда нужную вещь, иначе придётся все тюки перевязывать заново. В пути такую роскошь допускать нельзя… Ну вот, завтра можно выступать. Александр Афанасьевич! Всё готово.
– Отлично. Поутру навьючим лошадей. А пока отдыхайте.
Тут и там рабочие гоняли оленей, постёгивая их хворостинами. Всем нравилось смотреть на грациозный бег этих животных по сугробам.
– Нельзя ли мне прокатиться верхом на олене? – попросил Селевёрстов. – Очень уж красиво бегают эти рогатые твари. Засмеявшись, Белоусов кивнул.
– Прокатитесь, ежели угодно. Только далеко вам не ускакать, барин.
Так оно и вышло. Несмотря на все старания, Иван свалился с оленя в снег.
– Непривычному человеку вовсе не так легко усидеть верхом на олене, когда он бежит, – успокаивающе растолковал казак, поднимая Ивана.
– Не понимаю, – Иван развёл руками, – я весьма неплохо сижу на лошади.
– С оленем надо иначе обращаться. Олень – существо хрупкое, на спине не может выдержать тяжести наездника, поэтому, чтобы вес человека приходился не на хребет, седло накладывают оленю на лопатки, то есть прямо над передними ногами. А там такое подвижное место, что без навыка никто не усидит. Стремян-то никаких нет.
– Это я понял, – кивнул Иван. – Попробую ещё разок.
– Эй, братцы! – послышался голос сзади. Обернувшись, Белоусов увидел угольщика Никифора.
– Что тебе?
– Утки прилетели на речку, – весело сообщил Никифор.
Олёкма уже стала, подёрнувшись тонким льдом, но её приток, тихонько шумевший немного выше зимовья, продолжал катить свои воды, лишь у самых берегов покрывшись ледяной коркой.
– На притоке, что ль, утки? – уточнил казак.
– Там, за угольными ямами.
– Так они уже улетели, пока ты шёл сюда, – засмеялся Белоусов.
– Нет, Борис Лексеич, они жировать прилетели, – заверил угольщик, улыбаясь тёмным от сажи лицом.
– Что значит «жировать»? – спросил Иван у казака, дёрнув его за рукав.
– Жировать? Наедаться будут перед ночлегом. Они решили там заночевать.
– Это разве можно угадать как-то?
– Городскому господину, конечно, не разобрать, а нашему брату это сразу понятно. Утки углядели единственную живую воду, вокруг ведь всё уж застыло. Они, естественно, сильно устали, перелёт на юг не лёгок. И теперь уж точно устроились на отдых, забыв об осторожности, – ухмыльнулся казак. – Не хотите пострелять уток, барин? Или на оленях кататься продолжите?
– Пожалуй, пойду с вами за утками, Борис Алексеевич, – решил Иван. Они сбегали в палатку за ружьями.
– Стрелять-то умеете? – поинтересовался казак, топорща усы.
– Приходилось, – нахмурился Иван, – не такой уж я неумёха, как вам всем тут кажется.
– А я что? Я молчу… Теперь давайте осторожненько, пригнувшись…
Они прошли угольные ямы и остановились. До слуха доносился ровный шум воды и многоголосое покрякивание.
– Блаженствуют утяти. – Казак улыбнулся и поскрёб ногтями заросший подбородок.
Они ступали как можно тише, тщательно избегая валявшихся повсюду сучьев.
– Кто-то вперёд нас пришёл. – Белоусов указал ружьём на отчётливые следы человеческих ног. – Вон чьи-то, а вот ещё. Первые поаккуратнее будут, осторожному кому-то принадлежат… Давай-ка, барин, теперь ползком.
Кусты, скрывавшие речушку, стали редеть. Иван Селевёрстов готов был заползти на валун, чтобы взглянуть на совсем уже близких уток, как Белоусов остановил его, властно вцепившись в загривок.
– Погодьте, барин.
– Что еще? – недовольным шёпотом откликнулся Иван.
– Погодьте. Слышу что-то неладное. – Казак настороженно вытянул шею. Его лицо приняло какое-то животное выражение, напряглось, ощетинилось. – Где ж это?
– Да что такое? – не мог понять Иван.
Тут до него донеслись звуки, явно не имевшие отношения к утиной охоте.
– Тужится кто-то? – спросил Иван, пытаясь разобрать природу звуков. – Будто плохо кому-то.
– Ага, – кивнул Белоусов и привстал. Пригнувшись, он обежал валун и остановился.
– Ах ты, червь болотный! – закричал он во весь голос и ринулся на кого-то, вскинув, как дубину, ружьё над головой.
Иван, позабыв об утках, поспешил к казаку. То, что явилось его глазам, заставило его сердце сжаться от ужаса и негодования. С обратной стороны валуна, ближе к воде лежала на спине Тунгуска Алёна, на неё навалилась огромная мужская фигура в длинном грязном тулупе с несколькими дырками на спине. Плотно заткнув широкой ладонью рот Алёны, мужик пытался второй рукой забраться внутрь её многослойной меховой одежды. Девушка сопротивлялась изо всех сил, но справиться с великаном ей не удавалось. Белоусов размашисто стукнул насильника ружьём по хребту, и тот грязно выругался. Выпустив Тунгуску, он резко обернулся и на его раскрасневшемся лице сверкнули безумные глаза.
– Ефим! – воскликнул казак.
– Уйди, Лексеич! – зарычал здоровяк. – Уйди, не то удавлю! Оставь!
Иван весь сжался. В памяти возникла сцена, виденная им на пристани Олёкминска. Он вспомнил бешеный блеск в глазах пьяного Ефима, вспомнил могучий бросок топора в Александра Галкина. Ефим был диким существом, свирепым, страшным.
– Уйди, Лексеич, зашибу! – поднялся на ноги Ефим, набычив растрёпанную голову и потрясая заплёванной бородой.
– Стой! – рявкнул незнакомым голосом Белоусов и поднял ружьё.
Ефим разинул рот, показав зиявшие пустоты на месте выбитых когда-то передних зубов, и прыгнул вперёд. Он ринулся прямо на направленные в его грудь стволы. Ивану почудилось на мгновение, что мощная фигура Ефима затмила собой всё вокруг, будто чёрная сила брызнула из неё, как чернила, и в одно мгновение замазала весь окружающий белоснежный пейзаж. Но Белоусову ничего такого не почудилось. Он привык видеть мир таким, какой он есть. Едва свирепый мужик рванулся в его сторону, казак спустил оба крючка. Два выстрела прозвучали почти одновременно. Ефим дёрнулся, вцепился руками в грудь, разрывая свой тулуп.
– Ох, ох…
– Чёрт, – сплюнул Белоусов, глядя на согнувшегося великана.
Ефим присел на корточки, дико растирая грудь, и завыл. Вдруг он напружинился, поджался по-тигриному и вновь прыгнул на Белоусова. Тот, правда, успел предварительно отступить и встретил рассвирепевшего Ефима мощнейшим ударом приклада в голову. Раздался громкий хруст. Могучая фигура нападавшего развернулась, взмахнув сразу обмякшими ручищами, и шумно упала в снег, подмяв затрещавшие ветви кустарника. Свалившись, Ефим захрипел, начал кашлять, потом мелко задёргал руками и громко застонал. В следующую секунду его стон сделался похожим на тонкий свист ветра, Ефим дважды икнул, подавился воздухом и затих.
Тунгуска продолжала лежать на спине, прижав ноги к животу, и смотрела на всё происходившее сквозь щёлочки испуганных глаз. Белоусов поставил ружьё прикладом в снег, легонько постучал им, словно хотел очистить его от грязи и крови, и тяжело вздохнул.
– Не следовало брать его на пароход, – тихо проговорил он. – Я предупреждал Александра Афанасьевича, что Ефим рано или поздно сорвётся с цепи. Это произошло раньше, чем я ожидал. Есть такие собаки, которые никогда не становятся ручными.
– Он ведь уже в Олёкминске с топором на Сашу бросился. Я сам видел. Почему не оставили его на берегу?
– То было пьяное дело. Здесь же никто не пьёт. Александр Афанасьевич очень уважал руки Ефима, больно хорошо плотничал этот мужик. Да и не всегда он бешеным был. Он при Галкиных лет, почитай, пять трудился. Не только плотничал, но и лисиц промышлять ходил, волков тоже, одним словом, любил пострелять. Как-то раз на Александра Афанасьевича изголодавшаяся стая напала, и ему бы нипочём не выбраться, если бы Ефим рядом не оказался. Он бросился в самую гущу и прикладом стал отбиваться от стаи. Ружья-то перезаряжать некогда было. Искусан Ефим был страшно, но ни гугу. Сам дрался, как зверь. Волчице одной голыми руками горло разорвал. Я когда подоспел к ним, увидел штук десять волков в кровавом снегу, и лишь три из них были застрелены. Да, Ефим уже тогда был горяч, но на своих никогда рук не поднимал. А потом, с год примерно тому, он вдруг запил. То есть не вдруг, конечно, он и раньше уважал это дело, но тут как лопнуло что-то в нём, кровь в голову ударила. Временами его узнать нельзя было. Всё время пил и пил, а напившись, на всех пёр с кулаками. Без крови не обходилось. Протрезвевши, не помнил он ничего. Злобным стал, хмурым, опасным. Но Александр Афанасьевич гнать его не хотел, жалел по старой памяти. Да и работу Ефим продолжал выполнять справно. Впрочем, Ефима хозяин предупредил, что драк его не потерпит.
Сказал, что два предупреждения сделает ему, а на третий раз просто застрелит. На пристани в Олёкминске был второй раз. Так что, барин, вы не серчайте. Ефим знал, на что шёл… Ну, ладно. – Казак нагнулся над Алёной. – Ты как, девка? Перепугалась небось?
– Да. – Она кивнула, моргнув раскосыми глазами.
– Ты за утками пришла сюда?
– Да. А он свалил, задушил.
– Ещё не удушил. Вот когда бы он снасильничал до конца, тогда, думаю, удушил бы, – цокнул языком Белоусов. – Шубы тебя твои спасли, зарылась ты в них, как в капустных листах. Ну, теперь уж в прошлом всё.
Иван помог Алёне подняться. Руки его дрожали гораздо сильнее, чем у неё. Он нагнулся над телом Ефима. Глаза мертвеца, только что пылавшие неукротимым огнём, замутнели, потускнели. Возле уха зияла чёрная дырка, откуда густо текла красная жижа.
Никогда прежде Селевёрстов не сталкивался с такой смертью. Ему пришлось несколько лет назад хоронить бабку и деда; помнил он и тихое угасание своей мамаши, обложенной десятком мягких подушечек. Но там всё было иначе. Смерть не выпячивала себя. Она подкрадывалась незаметно и накладывала на лица людей маску полного успокоения. Переход от жизни к нежизни происходил плавно, гладко, по-домашнему. Человек тихонько, почти незаметно перетекал из одного состояния к другому. Комнатная смерть была окутана запахом ладана, потрескиванием свечей и шёпотом родственников. Здесь же, стоя в нескольких шагах от шумного ручья, Иван стал свидетелем совершенно незнакомой ему грани бытия. Бурное, вулканическое клокотание жизни в человеческом теле оборвалось в один момент. Лицо Ефима побелело в считанные секунды, дыхание остановилось. Изменение в облике Ефима произошло столь быстро, что Селевёрстов содрогнулся.
– Умер, – изумлённо проговорил он.
– Умер, – спокойно согласился Белоусов.
– Что ж он такой здоровый был? – промямлил едва слышно Селевёрстов. – Из ружья даже его не свалить было. Ведь два заряда!
– Эх, барин Иван Васильевич. В ружье-то дробь была для уток. Эта мелочь сквозь тулуп лишь ужалила Ефима, как десяток пчёл. Что этому великану крохотные дробинки?
– А если бы… Если бы он…
– Я бы его зарезал, – спокойно ответил казак. – Нож всегда при мне, я им любую тушу вспорю.
– Борис Алексеевич! – Селевёрстов тупо смотрел на дикарку и казака. – Неужто здесь такие нравы? Разве только кровью можно всё решить?
– Вы, Иван Васильевич, не печальтесь из-за этого. Мы сюда для чего пришли?
– Уток бить.
– Вот именно, уток бить. Осторожно шли, крадучись, чтобы кровь им пустить. Нам так хотелось. Мы думали об этом. Верно говорю? Стало быть, на убийство шли, барин?
– То другое, – слабо возразил Иван.
– Другое, да только не слишком, – хмыкнул Белоусов. – Смерть, она всегда смерть. Когда клыкастый возле вас облизывался, покуда вы нужду свою справляли, помните? Это тоже смерть, но вы не жалеете того серого, потому как он вас загрызть мог. Ефим тоже мог загрызть нас. Он был зверь. Здесь правит железный закон: если зверь бросается на человека, то его следует убить, иначе погибнет человек. Естественный, так сказать, отбор. Ефим был обычный зверь, разве что в человеческом обличье. С другой стороны посмотреть, так мы тут все звери, коли за жизнь свою готовы чужую отобрать.
– Ой! – вдруг громко воскликнула Алёна, глядя на речку. – Утки улетели. Боятся много.
Белоусов внезапно расхохотался. Он запрокинул голову, обнял ружьё, повалился в снег на спину и затрясся всем телом, будто услышал только что самую смешную историю в своей жизни. Его громовой голос полетел ввысь и вширь.
– Что смеёшься? – Алёна присела возле Белоусова и приложила голую ладошку к его лбу.
– Уморительная ты девка, – проговорил казак, успокоившись; по его щекам текли слёзы.
– Что же с ним делать? – Иван указал ружьём на Ефима.
– Сейчас доложим Александру Афанасьевичу, он решит.
***
На следующий день все поднялись очень рано, чтобы проводить Белоусова и конюха Гришку в неведомый путь. Сопровождавший их Тунгус молча и равнодушно внимал тёплым прощальным речам Александра Галкина и прочих, кто оставался на берегу Олёкмы. Толпа провожающих долго двигалась следом за крохотным отрядом и окончательно рассталась с ним лишь в километре от зимовья, когда идти по глубокому снегу сделалось совершенно невозможно.
Через пять дней за первой группой последовала вторая. В её состав вошли геолог, механик и несколько рабочих, и пошла она точно по тому пути, по которому прошёл Белоусов. Особенностью второй партии было то, что она отправилась не на лошадях, а на оленях. Было снаряжено семь саней, а около тридцати оленей пошли под вьюками. С оленями, конечно, поехали погонщики-Тунгусы. Среди них была и Алёна с мужем.
Число обитателей зимовья после этого заметно уменьшилось, стало тише.
– Саша, а холода-то усилились не на шутку, – сказал как-то Селевёрстов Галкину, кутаясь в меха. – Я начинаю завидовать рабочим. Пусть у них в землянке душно, зато теплее, чем в нашей хилой палаточке.
– Не ворчи, Иван. Ты же сам трудишься на строительстве дома. – Александр уселся рядом и накинул на спину шубу. – Дело продвигается. Потерпи. Сегодня поставим юрту.
Эта была разборная юрта, устроенная по образцу киргизской. Она состояла из деревянных изогнутых жердей, которые ставились по кругу и закреплялись наверху между собой. Получался куполообразный остов палатки, диаметр которой в основании достигал чуть ли не четырёх метров. Поверх юрты накладывался войлок и брезент. Дым от костра свободно выходил в отверстие вверху юрты.
Когда жилище было готово, все щели у земли заделаны, дверь оборудована, Галкин установил внутри письменный стол, сооружённый из крышки большого ящика, приколоченной к маленькому ящику. Над столом приспособили лампу.
– Теперь работать будет удобнее! – уверил Александр.
– Саша, – удивился Селевёрстов, – отчего же мы сразу такой дом не соорудили? Почему в плохонькой палатке мёрзли?
– Всему своё время. Впрочем, ты скоро поймёшь, что здесь не намного теплее. Спать будем на тех же шкурах и укрываться опять шкурами, да в тайге иначе нельзя. Но людей здесь больше разместится, стало быть, воздух от дыхания лучше прогреваться будет.
Спать ложились головами к стене, а ногами к центру юрты, то есть к огню. Когда кто-нибудь начинал шевелиться под грудой медвежьих и заячьих одеял, казалось, что ворочался какой-то мохнатый зверь.
Днём всё начиналось сначала. Стук топоров, шум оленьего стада, окрики людей.
– Мало-помалу отсюда уйдут почти все, – сказал Галкин, стоя над картой. – К весне, когда можно начать шурфы бить, тут останется лишь горстка людей.
– Что такое шурфы? – спросил Иван.
– Это такие четырёхугольные ямы. Роют их до той глубины, какая окажется необходимой, чтобы добраться до слоя песка, содержащего в себе золото. Когда шурф достигает такой глубины, что становится невозможным выбрасывать землю со дна, то настилают полати, то есть кладут горизонтально доски на одной половине ямы. Получается, что половина ямы перегораживается. Затем роют глубже, там тоже настилают полати, но уже на другой половине ямы. Это своего рода этажи подземного дома. С одного этажа поднимают землю на другой, а там и на самый верх. Это и есть шурф.
– Иначе говоря, шахта? – уточнил Иван.
– Можно и так сказать, – кивнул Александр. – Для поиска подходящих мест я и отправляю через перевал геологов и рабочих.
– Почему же сразу не двинуться туда всем?
– Во-первых, надо поставить здесь надёжный дом. Во-вторых, однообразие утомляет людей. Пусть им наскучит сперва здесь, затем они отправятся в путь, после чего начнут обустраивать новое место, а там и за настоящую работу придёт время браться.
Галкин оказался прав. Вскоре многим стало казаться, что они засиделись на месте. Однообразие давало себя знать. Всё чаще слышались разговоры о необходимости ехать с партией к перевалу.
– У них там хоть Алёнка есть, а мы что тут? – послышался однажды чей-то упрёк.
– Что такое? – поднял голову Галкин. – Это кто ворчит? Ты, Вилька, что ли? Позабыл уже, я вижу, как Ефим кончил? Он тоже о девке подумывал. Теперь уж и костей от него не осталось. А я предупреждал! Разве я не говорил, что вы тут с тоски локти кусать будете? Разве не было речи о скуке? Что же до Алёнки и прочих диких, то зарубите себе на носу, что к ним соваться только в том случае, если бабы сами вам что-то предлагать будут. Иначе плохая история выйти может!
– А почему Ефима по-христиански не похоронили?
– Чтобы все знали: за злодейство никто в могилу не будет положен. Кто будет вести себя как зверь, тому и подыхать по-звериному. А что, все небось уже сходили поглядеть на его труп?
– Да там уж на второй день только кости и остались. Волки и лисы всё схрумкали, дьяволы зубастые, а голову вовсе уволокли.
На следующий день случилось нечто, повергшее всех в невероятное уныние. Один из геологов, прозванный всеми Карлуша, забрался зачем-то на скалу, возвышавшуюся на противоположном берегу Олёкмы, и попал в такое место, откуда никак не мог спуститься. Некоторое время он упорно кричал, но его слабый голос заглушался стуком топоров на строительстве. Когда на него, наконец, обратили внимание, он успел изрядно замёрзнуть и лишь вяло помахивал руками.
– Чего это он там торчит? Я уж несколько раз на него смотрел, а он всё на одном месте топчется, – выразил кто-то из рабочих своё удивление.
– У них свои дела, нам с тобой непонятные. Кривизну земли замеряют, – молвил другой равнодушно. Но прошло время, а Карлуша не покидал своего места.
– Братцы, а ведь он, похоже, застрял там. Сообщите Лександру Афанасичу о Карлуше. Может, его снимать оттудова надо?
Галкин появился через несколько минут и взглянул на скалу.
– Где он?
– Только что топтался на том мысочке, где кусты торчат. Знать, вниз сошёл.
Но Карлуша не пришёл в зимовье. Когда время перевалило за обеденное, а геолог не объявился, Галкин распорядился, чтобы несколько человек отправились на санях через Олёкму к скале. Погода стала портиться, из низких серых облаков повалил снег. Прошло не менее часа после отъезда поисковой группы, и Галкина известили о том, что посланные люди двинулись обратно.
– Не могу понять, что там у них, – сказал он, глядя в бинокль. – Снег мешает.
Вскоре зимовье облетела новость, что Карлуша разбился, сорвавшись со скалы. Его лицо было сильно разбито о камни, голова безвольно болталась на сломанной шее.
– Не дождался он нас, решил сам попытаться… И вот свалился, бедолага.
– Хребет вон как сломал. А лицо-то, лицо! Всю кожу снесло.
Не успели рабочие отнести несчастного Карлушу к его палатке, чтобы обработать лицо и приготовить к погребению, как кто-то воскликнул:
– Э-э, гляньте-ка! Верховой едет.
Все проследили за рукой кричавшего. Из-за поворота Олёкмы появился, медленно двигаясь по льду, всадник. Позади него шла, устало передвигая ногами, вьючная лошадь.
– Кто ж это будет? Может, из города кто-то? – предположил Иван, подразумевая под городом Олёкминск.
Галкин поднёс к глазам бинокль. Всадник был облачён в тёплую меховую одежду с большим капюшоном. Лошадь его была накрыта медвежьей шкурой, как попоной.
– Якут, – сообщил Александр. – Сейчас подъедет. Из города к нам рано. Они туда едва-едва добрались, если, конечно, добрались, если ничего не случилось.
– А что могло случиться? – не удержался Иван.
– Мало ли что… Тайга…
Всадник, которого Галкин разглядывал через стёкла бинокля, был, конечно, Эсэ. Он не сразу решился въехать на зимовье. Здесь надо сделать небольшое отступление, чтобы сообщить о том, какое отношение Якут имел к гибели Карлуши.
Когда перед Эсэ открылось на противоположном берегу замёрзшей реки расчищенное от леса пространство, он понял, что добрался до своей цели. Он долго наблюдал сквозь мутный воздух, пытаясь пересчитать людей, но они сновали туда-сюда, похожие издали друг на друга. В любом случае их было много. На берегу стояла куполообразная войлочная юрта, за ней виднелась насыпь, служившая, судя по всему, крышей землянки, ещё дальше виднелась юрта поменьше, а за ней стоял конусообразный чум оленеводов. Немного повыше Эсэ разглядел наполовину построенный бревенчатый дом, вокруг которого суетилось больше всего людей. К небу лениво поднималось несколько дымовых столбов от костров.
Наблюдая за зимовьем, он услышал слева от себя негромкий мужской голос, звавший на помощь. Подняв голову, Эсэ увидел Карлушу. Тот был ужасно перепуган и боялся шевельнуться, стоя на небольшом выступе на скале. Поняв, что к скале скоро приедут люди, чтобы помочь человеку спуститься, Эсэ удалился в чащу. Время шло, но никто не появлялся, и тогда Якут решил, что несчастного скалолаза никто не слышал в зимовье. Это и решило судьбу Карлуши. Якут ловко вскарабкался по камням и окликнул Карлушу, остановившись в нескольких шагах от него.
– Слава Богу, кто-то пришёл, – в голосе незадачливого геолога зазвучала радость. – Кто вы?
– Держись за палку, – велел ему в ответ Эсэ.
Карлуша вцепился обеими руками в кончик протянутой ему ветки, но замёрзшие, хоть и в варежках, пальцы плохо слушались его. Он весь дрожал от волнения.
– Иди смелее, – распорядился Эсэ.
Карлуша осторожно шагнул, прижимаясь всем корпусом к заснеженной скале и не выпуская палки, которую считал своей опорой. В действительности Эсэ и не думал помогать геологу. Палка была нужна ему, чтобы сдёрнуть перепуганного человечка вниз. Это он и сделал, рванув палку на себя. Карлуша был не в силах устоять и кубарем полетел вниз.
Эсэ быстро спустился за ним и, к своему немалому удивлению, обнаружил, что Карлуша был жив, несмотря на сломанные рёбра и окровавленное лицо.
– Как же так? Почему? – бормотал он, едва шевеля окровавленными губами и тщетно пытаясь сфокусировать взгляд на Эсэ.
– Я пришёл с войной, – сказал ему Якут на родном языке и сильным движением свернул геологу шею.
Вернувшись к своим лошадям, он увидел сквозь снег, что с зимовья выдвинулась небольшая группа людей.
– Медленные вы на подъём оказались. Если вы все такие варёные, то я передушу вас голыми руками за одну ночь…
Вскоре они нашли Карлушу, склонились над ним и долго ворочали его с боку на бок, покуда не убедились, что признаков жизни в нём не было. Снег уже навалил изрядно и скрыл следы Эсэ, поэтому никто не заподозрил его присутствия. Никто не обратил внимания на тонкий кожаный шнурок, привязанный к ветке кустарника в двух шагах от мертвеца.
Якут сел на коня только после того, как вся процессия вернулась обратно на территорию строительства. Теперь он мог ехать. Его ждала большая резня.
Навстречу ему вышел молодой человек с мужественным лицом, на груди у него висел бинокль. Эсэ уже раньше успел заметить, как этот человек разглядывал его с расстояния. Позади него стоял ещё один, тоже молодой. Остальные, видимо, занимались покойником и строительством.
– Далеко путь держишь? Говоришь ли по-русски? – спросил Галкин, постукивая пальцами по биноклю.
– Сюда еду, работать хочу, – произнёс Эсэ. – Кто начальник?
Галкин с откровенным интересом оглядел седло на лошади незнакомца, особенное внимание он уделил колчану, украшенному орнаментом из белого подшейного волоса оленя. Из колчана виднелся двуслойный лук, обмотанный сухожилиями. Лук был сделан по старинным правилам. В его концах, где крепилась тетива, сидели две костяные пластинки, обёрнутые кожаным шнурком.
– Хороший у тебя лук, – взмахнул рукой Александр. – Нынче редко встретишь человека с таким оружием.
Эсэ кивнул.
– Я вижу, у тебя имеется также и винтовка, а вон ещё и ружьё. Ты на редкость хорошо оснащён, просто прекрасно, – сказал Галкин, не скрывая своего удивления. – Ты охотник?
– Да.
– Какую же работу ты ищешь здесь? Что я могу предложить тебе? – Галкин задумался. – У нас только что человек погиб… Так ты говоришь, что ищешь работу? Почему здесь? Куда ты едешь?
Эсэ задумчиво посмотрел вперёд и решил не увиливать:
– Я слышал голос. Он сказал мне ехать сюда.
– Голос? – Александр был погружён в свои мысли и никак не мог сосредоточиться на словах Якута. – Какой голос?
– Мать-Зверь разговаривала со мной.
– Мать-Зверь? – Галкин оглядел Эсэ с ног до головы. – Я вижу у тебя сумку оюна. Я не ошибся? Ты шаманишь?
– Мой отец был оюн, – важно ответил Эсэ. – Он обучал меня. Он погиб. Я тоже немного оюн, но я больше воин. Мой отец был кузнецом.
– Кузнецом? – Галкин с уважением кивнул.
– Разве кузнец это что-то особенное? – спросил негромко Селевёрстов из-за его спины.
– Понимаешь, Иван, они считают кузнецов самыми могущественными шаманами. Это особый культ. Чтобы стать кузнецом, нужно пройти специальный обряд посвящения. Обычный шаман ничего не может сделать кузнецу и даже никогда не решится на этот шаг. Кузнец же в силах одолеть любого шамана. Кроме того, кузнечество передаётся по наследству, а обычное шаманство – нет. Так что если ты сын кузнеца, то ты уже шаман, по-ихнему оюн.
Галкин снова повернулся к Эсэ.
– Я думаю, ты можешь остаться. Стеснить ты нас не стеснишь, а быть полезным здесь может каждый человек… Тем более воин. Как твоё имя?
– Медведь.
– Медведь? – переспросил Иван.
– Я сын Сосны, я принадлежу к роду Оленей, – гордо произнёс Эсэ.
– Медведь? Стало быть, по-якутски ты Эсэ? – уточнил Александр.
– Мы разговариваем по-русски, а по-русски я Медведь.
– Как знаешь, Медведь так Медведь… Будешь Мишей, – решил Галкин. – Добро пожаловать на зимовье… Сегодня у нас неприятность, так что мы позже поговорим… Ты размещайся у Тонгов в чуме.
– Куда лошадей поставить?
– Позади стройки у нас амбар, там можно твоих скакунов устроить.
Эсэ молча кивнул.
Весь следующий день прошёл без происшествий, но под вечер неподалёку от недостроенного дома люди заметили волка. Зверь что-то грыз в снегу. Строители, уже завершившие работу, заволновались, увидев хищника так близко. Что он там ел? Два-три нестройных ружейных залпа свалили волка. Когда же стрелявшие подошли к нему, они обнаружили, к своему ужасу, и труп одного из рабочих. Он валялся в снегу с разорванным горлом и обкусанным лицом.
– Ни чёрта я не понимаю! – Галкин был озадачен. – Если на него напал волк, то слишком уж ловко, чисто как-то. Бедняга даже не закричал, не позвал никого. Странно это. К тому же на нём ни единой царапины. Ты посмотри, на его одежде нет следов когтей.
– Разве так не бывает? – удивился Иван; он был в ужасно подавленном состоянии. – Я помню пасть того волка, который возле меня стоял. Когда б он набросился, так оттяпал бы мне сразу полголовы.
– Это ты хватил. Звери здесь, конечно, крепкие и клыкастые, но они не убивают с аккуратностью ножа.
– Что ты хочешь сказать?
– Если бы у меня был хоть малейший повод для подозрений, я бы предположил, что ему полоснули по горлу ножом. Волк его погрыз, это несомненно, но погрыз позже. Он просто подбежал к убитому и разорвал рану дальше. Галкин присел перед огнём и протянул к костру озябшие руки. Иван опустился на корточки напротив друга.
– Саша, ты говоришь страшные вещи. Ты пугаешь меня. Неужели ты намекаешь на то, что среди нас может быть убийца?
– Я не намекаю. Я просто удивляюсь тому, как выглядела одежда покойника.
– Ты кого-нибудь подозреваешь?
– Никого, да и причины у меня нет для этого. Из всех, кого я нанял, убить мог Ефим или Савелий, но не втихую, а в пьяной драке или в припадке ярости. Да ты и сам видел… Но чтобы ножом по горлу… Нет, это, конечно, лишь моя фантазия. Просто второй день подряд мы теряем по человеку. В это трудно поверить. До настоящего времени даже погода не устраивала нам дурных сюрпризов, никто не заблудился, не провалился под лёд, нам всё благоприятствовало. Я уже начал верить в мою счастливую звезду. И вдруг такое.
Утром рабочие долго не могли найти угольщика Никифора. Поспрашивав друг друга, они пришли к Галкину. Все имели крайне обеспокоенный вид.
– С ранних часов не видали его, хозяин.
– А когда его видели в последний раз? С кем он спит рядом?
– Со мной на нарах. Только я вчера малость занемог и раньше обычного придавил ухо. Так что не помню, был ли он.
– Немедленно обыщите всю округу. Проклятье! Что происходит с этим местом?
Никифора обнаружили позади угольных ям. Он лежал лицом в том самом ручейке, куда Иван и Белоусов однажды неудачно сходили пострелять уток. Середина ручейка до сих пор не застыла. Угольщик лежал на животе, окунув почти наполовину голову в воду. Судя по тому, что его волосы и верхняя часть одежды успели покрыться ледяной коркой, находился он в таком положении давно. Поза его была свободна, никакого напряжения в ней не проглядывалось. Никто не решался высказать никаких предположений по поводу кончины Никифора.
– Ну не утопился же он в конце концов! – заорал Галкин, потеряв терпение. – Не мог он прийти сюда, сунуть башку в ручей и уснуть! Не мог! Добряк он был и трусоват, чтобы руки на себя наложить.
Молча стояли люди. Низко нависло над ними небо, посыпая их морозной пылью. Все вглядывались в замёрзшего мертвеца, тщетно пытаясь разгадать тайну его гибели.
– Может, оступился он?
Помолчав, Александр тяжело вздохнул и снова заговорил:
– Мужики, я прошу вас не паниковать. Я очень прошу вас. На пару дней мы прекращаем всякую работу. Объявляю выходные. Держитесь гуртом. По нужде или куда ещё ходите по три человека, не меньше. Если кто-то хоть самую малость чего-то подозрительного заприметит, немедленно ко мне.
– А что может быть-то?
– Не знаю, – развёл руками Александр.
– Может, какой-то разбойник в тайге притаился и следит за нами?
Галкин раздражённо ответил:
– Да не может это быть разбойничьим делом. Что у Никифора взять было, кроме грязной физиономии? Глупо, глупо и ещё раз глупо. Просто цепь нелепых совпадений. Вот увидите, больше ничего не произойдёт…
Так неподалёку от ещё недостроенного дома появилось кладбище.
Первый день прошёл в тоскливых пересудах, на второй рабочие, утомившись безделием, вернулись на строительство и взялись за дело. Никаких печальных происшествий больше не было.
Ещё через день Галкин кликнул Эсэ и велел ему готовить сани и оленей.
– Дорогу к Амге через перевал знаешь?
– Найду.
– Хорошо. Проверим, на что ты способен. Покажешь себя в деле. Сегодня же двинемся, как только сани подготовишь.
Отыскав Селевёрстова на стройке, Александр предложил ему принять участие в поездке:
– Рискнёшь?
– Страшновато, но с тобой рискну, – медленно, как бы прислушиваясь к собственным чувствам, ответил Иван. – Я на тебя полагаюсь. А кого в проводники возьмём?
– Медведя. Не забудь привязать к кушаку ножны с ножом, ружьё спроси на складе для себя.
Через час запряжённые олени стояли перед юртой. Весь отрядец был в сборе, Иван уже лежал в санях, и Александр, критически оглядев снаряжение, не стал тянуть время.
– С Богом! – выдохнул он.
– Мат, мат! – выкрикнул Эсэ, погоняя оленей.
Сани заскрипели. Галкин подтолкнул их сзади и запрыгнул на них, пробежав рядом пару шагов. Сразу после него сел в сани и Эсэ.
– Мат! – опять крикнул Якут, погоняя оленей.
Через минуту зимовье осталось за поворотом. По сторонам тянулась густая тайга. Чёрные стволы голых деревьев и елей сливались в единую массу. Олени без труда тянули сани, иногда бежали быстро, иногда настолько сбавляли скорость, что можно было сопровождать их спокойным шагом, что и делал время от времени Эсэ, видимо предоставляя животным возможность отдохнуть.
Дорога была однообразной, время тянулось незаметно, и вскоре путники обнаружили, что уже почти совсем стемнело.
– Зря поздно поехали, – бросил Эсэ через плечо, – мало дороги покроем. Уже ночлег делать пора.
Якут был прав, и Галкин отлично знал это. Они и сам ругал себя за решение покинуть зимовье столь внезапно. Да слишком накатило на него беспокойство: всё ли в порядке было у других? Не случилось ли какой беды? Не навестила ли их тоже странная смерть?
Когда они остановились, чтобы поставить крохотную палатку, Эсэ указал рукой в сторону.
– Что там? – Галкин пригляделся, но ничего не увидел в сумраке.
– Серый.
– Нам только волков не хватало сейчас, – проворчал Александр и посмотрел на Эсэ. – Ты сказал, что ты охотник. Не промахнёшься отсюда?
Эсэ выпустил брезент, который только что натягивал, и взял в руки свою винтовку. Волк стоял довольно далеко, поэтому охотник целился долго. Галкин с трудом различал очертания хищника, а Иван и вовсе не видел его, но всё-таки мелко дрожал. Но Эсэ не стал стрелять и опустил винтовку.
– Не попадёшь? – улыбнулся Галкин и поднял «винчестер». – Тогда я рискну.
Он долго всматривался в быстро сгущавшуюся мглу и в конце концов нажал на спусковой крючок. Волк дёрнулся и заскулил, упав на передние лапы.
– Ты очень хорошо стреляешь, – с расстановкой произнёс Эсэ.
– Оставим его там, – сказал Александр. – Пусть лежит. Если заявятся его сородичи, им будет чем полакомиться. А теперь давайте ставить палатку. Пора чай пить и укладываться.
Когда ночлег был готов, Эсэ ненадолго исчез во тьме.
– Далеко ли ходил, Медведь? – спросил Иван, когда Эсэ забрался в палатку.
– Прощения просил у волка, – ответил тот и бросил к ногам Александра волчью шкуру. – Шкуру снял. Убийство должно иметь причину. Я сказал ему, что тебе нужна шкура.
***
После долгой дороги между белых холмов, утонувших в безмолвии, в поле их зрения попал редкий лес на высоком берегу ручья. Въехав вверх по склону, они увидели остов конусного жилища – около полутора десятка жердей, поставленных по кругу и связанных друг с другом наверху. С жердей были сняты оленьи шкуры, и теперь голый каркас выглядел печально.
– Тонги, – сказал Галкин.
Всё пространство вокруг было так сильно вытоптано, что путники с трудом отыскали тропинку, ведущую от этого покинутого становища к новому. Углядев следы, Эсэ позвал Галкина.
– Сюда, в эту сторону надо.
Они проехали ещё с километр, и Эсэ вытянул руку вперёд. Его спутники заметили тонкую струйку синеватого дыма над деревцами.
– Чум? – спросил Иван с надеждой; он изрядно утомился в пути. – Это их чум? Оттуда дым?
Галкин молча кивнул.
Через несколько минут они выкатили в небольшую низину и увидели перед собой одинокое жилище, из дымохода которого лениво поднималась струйка.
– Наконец-то! Добрались! – воскликнул Иван и закашлял от проникшего в лёгкие мороза.
Подкатив к чуму, путники остановились. Никто не вышел им навстречу.
– Да тут никого нет. Что за странные дела? – удивился Галкин, заглянув внутрь. – Кэлинг манна! Идите сюда! Куда вы попрятались?
– Саша, может, это чужие Тонги? Не опасно ли нам тут оставаться? – забеспокоился Иван и посмотрел на Эсэ. Тот молча стоял возле входа в чум, держа винтовку на плече, и переводил глаза с дерева на дерево. Ничего подозрительного он не замечал.
– Наши это, наши, – проговорил успокоительно Александр. – Вон сухари с нашего склада.
Иван шагнул в чум. Пол жилища был очищен от снега и устлан ветвями лиственницы и сосны. Повсюду лежали оленьи шкуры, служившие тюфяками и подушками. Возле дымившихся углей тускло поблёскивал чайник, стояли чашки, лежали сухари и кусок масла. Чуть в стороне виднелась коробка, в которой Алёна хранила иголки и нитки.
– Видишь, Алёнка шила что-то, – сказал Галкин. – Надо думать, что Тонги недавно были здесь. Но почему ушли? Эсэ, ты ничего подозрительного не заметил?
Якут молча мотнул головой.
– Ладно, входите сюда, – распорядился Александр, – садитесь чай пить. Я буду за хозяина.
Когда чайник уже вскипел и чай был заварен, Галкин достал из чехла на поясе флягу и отвинтил крышку.
– Предлагаю глотнуть коньяку для обогрева.
– Я не против и даже с преогромным удовольствием! – Иван даже захлопал в ладони. – Откуда же у тебя коньяк, Саша? Я думал, ты запретил спиртное.
– Есть вещи, о которых не стоит распространяться при рабочих. Коньяк у меня и Белоусова только для дороги. Как говорится, на всякий случай. Тебе сейчас глоток не помешает.
– Я согласен.
– Эсэ, ты будешь коньяк? – Галкин протянул ему флягу.
Якут отрицательно покачал головой и презрительно дёрнул татуированным подбородком.
– Я буду чай. Я не пью водку. И не позволяю никому из моих родных потреблять её.
– Это не водка, дружище, это очень вкусный напиток, – причмокнул Иван.
– Всё равно. От этого делается плохая голова. Вам нужно, мне – нет.
Галкин отхлебнул сам и спрятал флягу. Время подходило к полудню, когда послышались голоса и звуки бубенцов. Через несколько минут всё вокруг ожило, зашумело. Стадо оленей, похрапывая, звеня колокольцами, стуча ногами и разгребая копытами снег, рассыпалось вокруг чума. Галкин вышел из чума и окликнул погонщика:
– Здорово, Аким!
– О, начальник, – Тунгус широко улыбнулся и шагнул навстречу, – наша давно жди начальник.
– Вот видишь, мы приехали, а у вас тут никого.
– Зачем никого? Я есть. Алёнка есть. Олени есть.
– Что у вас тут нового?
– Нового нет, всё старое есть. Новое есть, когда весна приходи, – серьёзно ответил Аким.
– Ничего не произошло?
– Собака маленький сдох, – вспомнил Тунгус и пояснил: – Рыбий кость в горло попадай.
– И всё? А что ж вы чум без присмотра оставляете? – вступил Иван в разговор. – А если кто чужой заявится?
– Откуда чужой? – удивился Аким. – Чужой нет никого. Я знай, что вы приближайся.
– Как же ты мог знать? – удивился Иван.
Оказалось, что Алёна, заслышав приближение саней, испугалась и скрылась в лесу. Мужа её не было, он ушёл с партией Белоусова на Амгу, и она после нападения на неё Ефима на зимовье стала очень опасаться русских. Уверенно она чувствовала себя только возле Бориса Белоусова. Незаметно от мужа она даже оказывала казаку знаки внимания. Увидев, что к чуму прикатили двое русских с проводником, она поспешила к Акиму с известием.
– Вот тебе и пустыня, – подивился Иван, – вот тебе и безлюдье. Тут пространства чёрт знает какие, а она запросто доложила о нас Акиму.
– Где ж она теперь?
– Оленя ходи ловить, – засмеялся Тунгус, – молоко брать, гости угощать. Вон она мамык кидай.
Иван разглядел девушку в гуще стада. Она высматривала самку, чтобы набросить ей на рога аркан. Поймав животное, она притянула его к себе и привязала верёвкой к шесту возле чума. Присев на корточки, она надоила с полчашки молока и преподнесла молоко Александру. Затем нацедила ещё и угостила Ивана. Молоко было густое, сладковатое на вкус и жёлтого цвета. Когда черёд дошёл до Эсэ, она остановилась перед ним как вкопанная и некоторое время стояла с вытянутыми руками, держа чашку с молоком перед собой.
– Подожди, – негромко сказал он ей, выждав паузу, и полез в свой рюкзак. – Я из чужой не пью. Налей в эту. У меня для молока и мяса разные плошки.
Тунгуска покорно выполнила его указание и пробормотала что-то невнятное на родном языке, извиняясь.
– Вот ты говоришь, что из чужой чашки не пьёшь, – откашлялся Иван, – а ну если твоя посудина сломается?
– В моих руках не сломается, а в чужие я не дам, – заговорил Эсэ. – Моя посуда набирает мою силу. Когда в ней еда, эта еда дышит моей силой и укрепляет меня. Ты ешь из чужой чашки; слабый и сильный человек – все берут ту чашку. Ничто не накопится в ней. Откуда там возьмётся сила? Посуда сродни оружию. С ней нужно сжиться, чтобы она служила верно. Чужим оружием пользоваться плохо, никогда не знаешь, в чём оно может подвести.
– Ну и ну, – покачал головой Иван и посмотрел на Акима. – И вы все такие же?
– Нет. – Тунгус хитро сощурился и поднялся, чтобы убрать посуду.
– Ты любишь оружие, – подвинулся Галкин к Эсэ. – Хочешь я покажу тебе мой «винчестер»?
– Твоё ружьё?
– Да.
– Хочу. – Глаза Эсэ вспыхнули.
Александр вытащил «винчестер» из кожаного чехла и бережно погладил его ладонью.
– Эта штуковина стреляет много раз подряд. Смотри, я кладу руку сюда, палец лежит на спусковом крючке. Видишь эту скобу вокруг моей ладони? Это рычаг. Мне достаточно оттянуть его ладонью, чтобы взвести курок с ударником, открыть канал ствола, выбросить стреляную гильзу, а обратным движением дослать патрон.
Галкин привёл рычаг в движение и в несколько секунд выбросил из винтовки десять патронов. Эсэ восхищённо поднял руки, не в силах скрыть свой восторг. Иван засмеялся негромко. Якут выглядел сущим младенцем, который увидел действия фокусника.
– Быть может, однажды у тебя тоже будет такое, – предположил Александр.
– Откуда, начальник? Я бедный. Не могу купить такое ружьё. – Он как-то странно посмотрел в глаза Александру. – Разве что у тебя отниму?
– Я метко стреляю, Эсэ, – ответил тот. – Не так легко отобрать у меня что-либо. Да и отбирать нет нужды. Ты вполне можешь заработать. Человеку даны большие возможности. У меня вон сколько средств оказалось.
– Ты русский, ты белый человек, ты думаешь иначе.
– Я наполовину Якут, – неожиданно сказал Александр.
– Ты? – не поверил Эсэ.
– Моя мать была Якутка, – улыбнулся Галкин. – Не похоже? Знать, русская кровь оказалась погуще.
– Ты сын Якутки? Как так? – Лицо Эсэ выражало огромное удивление.
– Я слышал, что мой отец то ли украл её, то ли забрал у кого-то за долги. К тому времени его первая жена, которую он привёз из Архангельска, погибла подо льдом вместе с ребёнком. Вот он и взял другую женщину. Белоусов рассказывает, что она была страсть как красива. Теперь уж у отца не спросить, он умер. А мать скончалась совсем давно, когда я был младенцем, так что я не помню её. Как-нибудь посидим у огня с Борисом, он много чего помнит.
Якут встал. Слова Александра произвели на него странное впечатление. Он нахмурился и покачал головой. Когда он вышел наружу, Алёна поспешно подсела к Галкину.
– Опасный человек, – шепнула она ему на ухо, кивнув в сторону Эсэ.
– Почему?
– Я знаю. – Она постучала себя по груди. – Злой человек, опасный, как медведь.
– Так он и есть Медведь, Алёнка. Это его имя.
– Очень плохо, очень опасно, – быстро проговорила она.
Два дня оставались они в чуме Акима, на третий тронулись в обратный путь. О трёх загадочных смертях на зимовье Александр решил не сообщать Тонгам, чтобы не вызвать в них какого-нибудь суеверия. Перед отъездом он велел Алёне приехать вместе с мужем на зимовье, чтобы сопровождать очередную партию рабочих на Амгу.
На обратном пути Эсэ опять правил санями. Он был ловок и нравился Александру.
– Остался бы ты у меня навсегда! – крикнул он.
Якут молча глянул через плечо. Казалось, что-то готово было сорваться с его языка, но он сдержался.
– Не знаю, чем завершится экспедиция и что произойдёт, когда власти узнают о моём золоте, но в любом случае жизнь предстоит бурная, – снова заговорил Галкин. – Мы бы с тобой всю Сибирь объехали. Ты слышишь меня, Миша? Эй, Медведь?
Эсэ кивнул. Он слышал всё. И он слышал свои мысли. Его беспокоило, что Александр оказался наполовину Якутом. Как теперь быть? Убивать ли его? Или на то не было причины? Во всяком случае Эсэ не мог тронуть своих спутников сейчас. Все хорошо знали, с кем покинули зимовье Галкин и Селевёрстов. Если бы они пропали, всю вину возложили бы на Эсэ. Придётся подождать, пока подаст голос Кыдай-Бахсы, Покровитель кузнецов.
– Саша, – окликнул Иван друга, – послушай, Саша, а что ты будешь делать, когда докопаешься до золота? Ведь у тебя отнимут его. Ты же сам говорил, что Управление приисков не позволяет никому присваивать золото. Сколько ты думаешь продержаться в глуши? Как долго ты сможешь утаивать свою добычу?
– Не знаю, – бесцветным голосом ответил Галкин, – возможно, мне придётся защищаться.
– Как? На каком основании? Разве ты не живёшь в этом государстве? Или ты объявишь себя независимым князьком?
– Да, я живу в этом государстве. Тут ты прав. Но я не желаю подчиняться его законам. Никто не спрашивал меня, хочу я такого общественного устройства или нет. Я не желаю принимать это государство, как, впрочем, никакое другое.
– Ты, быть может, революционер?
– Нет. Мне не хочется враждовать ни с правительством, ни с Управлением приисков. Просто я стремлюсь жить вольно.
– Увы, Саша, твоё стремление противоречит принятому порядку.
– Плевать мне на порядок. Неужели у меня нет права вести вольную жизнь? Разве Бог не сотворил нас свободными?
– Ты говоришь о свободе, а сам хочешь получить золото, – возразил Селевёрстов из глубины мехового капюшона. – Свободному человеку не надобно никакого золота. Если ты добываешь золото, значит, ты живёшь по законам нашего общества. Золото требуется только правителям, царям, министрам, то есть государству. Зачем же оно тебе?
– Я не умею ничего другого. Я вырос на приисках.
– Ты умеешь быть охотником, ты вполне мог бы жить, как живёт Медведь. – Иван указал рукавицей на Эсэ. – Скажи мне, Медведь, тебе нужно золото? Нужно ли тебе вообще что-нибудь из того, ради чего живём мы? Я говорю «мы», то есть белые люди, европейцы, русские…
– У меня всё есть, – откликнулся погонщик. – Золото мне ни к чему. Когда нужно что-то, я могу взять.
– Что ты имеешь в виду под «взять»? Ты разбойничаешь, что ли? – допытывался Иван.
– Когда на человека нападают, он говорит, что на него напали разбойники. А нападавший говорит, что у него была нужда, не было мочи терпеть, и разбойником себя не считает. Сказать можно разное. Когда мы стреляем дичь, мы думаем, что так надо. Но звери так не думают. Они считают нас убийцами и разбойниками.
– А ты себя как называешь?
– Я воин, я охотник. Я должен уметь точно пускать стрелу и пулю, бесшумно ходить, незаметно уносить то, что мне нужно.
– Убивать и воровать, – заключил Селевёрстов. – Для чего же ты живёшь? Есть у тебя цель, мечта?
– Сейчас ищу человека, – неохотно сообщил Эсэ.
– Где ищешь? Здесь? В тайге?
– Так ты за этим нанялся ко мне? – поднял голову Галкин, вдруг вспомнив беспокойное шептание Алёны про исходившую от Эсэ опасность. – Ты ищешь его среди моих людей, не так ли? Кто же тот человек? Зачем он тебе?
– Отомстить хочу. Меня гонит месть.
– Хорошенькое дело. – растерялся Иван и похлопал Эсэ по плечу. – Ну, найдёшь ты его, и что дальше? Приходилось ли тебе уже лишать человека жизни?
Эсэ промолчал, затем посмотрел через плечо на Ивана и негромко произнёс:
– Мне тяжело от крови.
Несколько минут они ехали безмолвно. Затем Иван беспокойно спросил:
– Тяжело от крови? Нужно ли это понимать как «да»? На тебе есть человеческая кровь?
– Послушай, я думаю, что ты смеёшься над нами, – заговорил Галкин. – А если нет, то я уж и не знаю. Должно быть, ты ненормальный. Ни Тунгус, ни Якут никогда не скажет, не признается белому человеку в том, что его руки запятнаны кровью.
– Я и не признался. Я лишь сказал, что мне тяжело от крови, – спокойно ответил Эсэ. – Я привык стрелять в зверей. Я убиваю их, чтобы добыть пропитание. Другие убивают, чтобы получить мех для продажи. Я так не делаю. Я беру только то, что нужно мне самому. Я не убиваю лишнего, ибо эта кровь тяготит.
– Коли ты не убиваешь лишнего, отчего же тебе тяжело? – ухмыльнулся Александр.
– Когда бьёшь зверей, душа не беспокоится. У зверей можно попросить прощения. Так или иначе, но убивать заставляет нужда, – рассуждал Эсэ, не обращая внимания на слова Галкина. – А когда стреляешь в людей, то бросаешь их без пользы, ими кормятся только волки и вороны. Эта кровь давит на сердце. Да, у зверей можно испросить прощения, а у человека нельзя. У всех оленей один дух, общий. У всех волков один дух. У всех медведей один дух. Застрелив, к примеру, лося, я прошу прощения у лосиного духа, и он не обижается на меня, он понимает мою нужду. Так устроен мир. Но у каждого человека свой дух, и этим мы отличаемся от зверей. Лишив человека жизни, я не могу выпросить у него прощения. В человека стрелять тяжело. Человек не прощает.
– И много ли на твоей совести человечины? – продолжал допытываться Александр.
– Кровь одного – уже много, – ответил Эсэ. – Один убит или десять – какая разница?
– Если ты не врёшь, Медведь, и тебе на самом деле тяжело от содеянного, тогда я не понимаю тебя. Зачем же ты хочешь отомстить кому-то?
– Месть – это путь, – откликнулся тихо Эсэ. – Каждый выбирает свой путь сам. Меня гонит вкус крови во рту… Не хочу больше говорить об этом.
– Саша, – Иван толкнул Галкина в бок, – ты слышишь? Не о такой ли свободе ты мечтаешь?
– Он дикарь, – ответил Галкин. – Я не намерен никому пускать кровь.
– Неужели? А Ефим? Я собственными глазами видел, как Белоусов разделался с ним. Это же убийство, и в здешней глуши никто не судит вас за такие кровопролитные поступки. У вас тут самый настоящий… беспредел. Какая же ещё воля нужна тебе? Чем мешают тебе законы государства? Ты давно не живёшь по ним. Я тебя, пожалуй, не понимаю и признаюсь, что мне порой делается страшно в здешнем обществе. – Он замолчал, одолеваемый мрачными мыслями, затем снова заговорил: – Я думаю, что Медведь не боится признаться в своих преступлениях, потому как, во-первых, для него это вовсе не преступления, а во-вторых, он знает, что вы все, кто с оружием в руках ходит, ничем от него не отличаетесь.
– Что же ты, Иван, меня в преступники записываешь?
– А разве Ефима не должны вы были убить здесь? Признайся. Зачем вы с Белоусовым взяли его с собой, когда последнее предупреждение истекло в Олёкминске? Ты же знал, что он обязательно сорвётся. Ты знал, что за это ты застрелишь его. Должно быть, тебе нужно было это для того, чтобы застращать остальных рабочих?
– Ты несёшь полную чушь, Иван. – Галкин неохотно отвернулся.
***
Подъезжая к зимовью, они увидели достроенный дом.
– Наконец-то! – обрадовался Галкин. – Теперь будем жить в настоящем тепле.
Рабочие уже размещали свои вещи в подсобном помещении. Эсэ не выказал никаких эмоций по поводу большого деревянного дома. Распрягши оленей, он сразу пошёл к амбару проведать своих лошадей.
– Сразу видать человека, – понимающе кивнул Галкин. – Конь для него не просто тварь о четырёх ногах. Я наблюдал за ним украдкой. Он два раза в день осматривает коня, выводит его, разминает. Уважаю и люблю таких людей. Вот увидишь, он сейчас отправится выгуливать своих скакунов, даже не отдохнув с дороги. И только потом пойдёт в чум к огоньку.
– А я сразу к печурке, – сказал Иван. – У меня ноги не двигаются от мороза.
– Ну как вы тут? Без происшествий? – Галкин нежно обнял ближайшего из рабочих.
– Всё в норме, Лександр Афанасич. – Бородатая физиономия расплылась в улыбке. – А как там у них? Живы-здоровы?
– Видели только перевалочную стоянку. Белоусов там, Аким и Алёнка с мужем. Правда, ни мужа её, ни Бориса мы не дождались. Они ушли на Амгу проведать рабочих. Думаю, через несколько дней Белоусов сам появится у нас… Я гляжу, вы начали уже обустройство?
– Помаленьку вносим вещички.
– По этому поводу я сегодня даю добро на весёлую пирушку. Разрешаю откупорить водку.
– Ура Лександру Афанасичу! Ура празднику!
– Иван, сделай одолжение. На тебе ключи от сундука. Принеси штук пять бутылок водки и с кухни прихвати бутылку сиропа.
Ночь была шумной. За длинным деревянным столом собрались все жители зимовья. Присутствовали и Тунгусы, с удовольствием угощаясь с общего стола кусками чёрного шоколада. Эсэ больше налегал на оленину и чёрный домашний хлеб, посыпанный солью.
Пару кусков он посолил особенно густо и отложил их, чтобы отнести своим лошадям. Лакомились в ту ночь и огурцами из кадки. Когда повар торжественно объявил, что у него приготовлен сюрприз, и подал солёные огурцы, на него посыпалась беззлобная брань.
– Где ж ты раньше их прятал, скупердяй?
– В кадке с самого нашего приезда лежали. Потом грянули морозы, огурцы все и смёрзлись. За внешний вид огурчиков вы уж не взыщите.
Он выставил тарелку с грудой каких-то мелких зеленоватых кусков.
– Это что такое?
Оказалось, что, замёрзнув в кадках, огурцы теперь ломались при малейшем прикосновении к ним. Повар попытался разморозить их перед печкой, вырубив кусок смёрзшейся массы топором, но при размораживании выходило так, что с одной стороны кусок огурца был горячим, с другой оставался ледяным. Тогда он плюнул на внешний вид блюда и выставил то, что было в наличии, каким бы неприглядным оно ни казалось. Впрочем, все остались очень довольны.
– Предлагаю сдвинуть наши кружки за успешное завершение первого этапа экспедиции! Дом отстроен на славу. Теперь здесь жить да жить.
– Дёрнем. Эх, отвыкли уже от горькой. А вкусна, проклятая, ох вкусна!
– На днях отправим очередную партию на Амгу. Там такие хоромы ещё и не снятся никому. Так что выпьем за их терпение, также и за твёрдость духа тех, кто покатит туда с очередными санями. Пусть олени не падают в пути, пусть спички не отсыревают, пусть лёд не проваливается. Да поможет нам Господь!
– Да, доброй дороги никогда не помешает пожелать, – зычно согласился чей-то бас. – А помните, Лександр Афанасич, как мы с вами в прошлом году попали в метель?
– Как же, – откликнулся весело Галкин, – конечно, помню. Здорово нам досталось.
– Погода тогда враз испортилась, – продолжил бас, – и мы пролежали в кибитке под снегом ровным счётом семь дней.
– А Белоусову однажды, ещё при Афанасии Поликарповиче, привелось выжить под пургой в чуме три месяца и три дня. Сказывают, что он едва-едва успел добраться до Тонгов. Иначе бы пропал. А так, пусть в чуме, пусть безвылазно, по нужде выйти нельзя было, пусть голодно, зато живёхонек остался.
Селевёрстов придвинулся к Галкину и подёргал его за рукав:
– Саша, ты не обижайся на меня.
– За что?
– Я был немного резок, ну, помнишь, в дороге мы разговаривали? Ты прости меня.
– Да я уж думать забыл об этом, – отмахнулся Александр. – Пей давай, отдыхай.
Утро следующего дня началось для всех позже обыкновенного, потому что все крепко спали. Селевёрстов не был исключением. Открыв глаза, он не сразу понял, что за помещение окружало его. Он успел отвыкнуть от деревянных стен. Сквозь заледеневшее окно едва сочился свет. Из подсобного помещения доносился дружный храп. Набросив на плечи тулуп, Иван подошёл к двери и приоткрыл её. Серый утренний воздух был неподвижен. Иван широко зевнул и шагнул наружу, чтобы помочиться, и тут услышал скрип снега под чьими-то ногами. Он обвёл тихое зимовье глазами. В нескольких шагах от чума погонщиков топтался голый по пояс Эсэ. В руке он держал сумку, которую Галкин называл оюнской. Его длинные чёрные волосы были распущены, тело наклонилось вперёд. Якут медленно, будто погрузившись в дремоту, переставлял ноги и кружился вокруг собственной оси. Его плечи тоже шевелились, совершая круговые движения, при этом они вертелись будто на шарнирах и казались независимыми одно от другого. Увидев странный танец, Иван почему-то сильно испугался.
– Саша, Саша, проснись, – поспешил он в дом и растолкал Галкина. – Посмотри-ка, что там наш Медведь вытворяет!
– Что случилось?
– Ты поднимись. Якут наш какой-то странный. Не спятил ли он случаем? – Растолкав Галкина, он поспешил вернуться на крыльцо. Эсэ голосил какую-то заунывную песню, похоже, не имевшую никаких слов, одни рыкающие звуки и придыхания. Иван вздрогнул, когда сзади к нему подошёл Галкин.
– Ишь ты, – пробормотал Александр, – что это его так разобрало?
Слева от дома послышался шорох и скрип снега. Приятели одновременно повернули головы на звук и увидели оленя. Крупное рогатое животное легко перескакивало через глубокие сугробы и бежало, почти не задевая ветвей.
– Какой красавец! – воскликнул негромко Галкин.
– Это не наш? Это дикий?
– Дикий. Положить его, что ли? Больно уж красива шкура. Я такой не видел никогда, – Александр был в восторге. – Сейчас я за «винчестером» сбегаю.
Иван остался на месте, стараясь не шевелиться, чтобы не спугнуть оленя. Тот мягко пробежал через всю территорию зимовья, направляясь в сторону чума. Селевёрстов вытянул руку, предупреждая, чтобы Галкин ни в коем случае не шумел, когда откроет дверь.
– Ты мне так пальцем сунешь прямо в глаз, кривым оставишь, – прошептал Александр. – Где он?
– Вон. Что это с ним?
Олень безбоязненно приблизился к Эсэ и застыл. Только голова, украшенная большими ветвистыми рогами, шевельнулась и наклонилась к лицу танцевавшего человека. Казалось, что олень нашёптывал что-то ему и заглядывал при этом в глаза. Якут продолжал завывать и покачиваться.
– Вот это фокус!
– Что с ними, Саша? Как это они так?
– Это, брат, наш оюн вытворяет такие штуки. Наш Медведь, должно быть, очень не простой парень, – не повышая голоса ответил Галкин. – Ну и ну.
Якут остановился и медленно развёл руки в стороны, подставляя морозу голую грудь. Он стоял спиной к дому и наклонил голову настолько сильно вперёд, что она почти скрылась от взоров Ивана и Александра и теперь вся фигура Эсэ стала похожа на крест. В эту минуту сквозь вершины деревьев на другом берегу Олёкмы пробились солнечные лучи и золотыми полосками пронзили пространство. Картина получилась настолько редкой красоты, что оба наблюдателя невольно ахнули. В действительности дело было даже не в красоте, хотя золотистый утренний воздух казался сказочным. Была во всём, что предстало перед глазами приятелей, неописуемая природная мощь, гипнотическая власть гармонии. Галкин, вполне привыкший к красотам сибирского края, и то едва не выронил винтовку. У Селевёрстова перехватило дыхание.
– За одно это утро, Саша, я буду благодарен тебе до конца жизни, даже если все оставшиеся дни я буду видеть перед собой только кровь и грязь, – прошептал Иван, с трудом ворочая языком. – Я смотрю на это и понимаю, что вижу сейчас указующий перст Бога. Вот оно, то самое, что повергает в изумление и беспричинный восторг. Вот когда хочется плакать и смеяться одновременно. Только так и можно понять, что нас окружает настоящее чудо, на каждом шагу чудо. Но мы глядим на мир будто закрытыми глазами.
Сияние сделалось сильнее. Золотая дымка заполонила долину и заползла между деревьев, разогнав мрачность утреннего леса. Лежавшее над ледяной Олёкмой облако серого тумана вспыхнуло светом. Ослепительный поток, отразившись ото льда, застлал глаза. Через минуту или две солнце выкатилось из-за леса и повисло над ними ярким жёлтым пятном.
– Саша! А где же олень?
Галкин перевёл глаза на Эсэ. Якут стоял на том же месте, по-прежнему разведя руки, но оленя перед ним не было.
– Я не видел, как он убежал.
– Я тоже. Я вообще ничего не видел, кроме этого света, – растерянно сказал Селевёрстов. – Странное у меня состояние.
– А ты обратил внимание на то, что все до сих пор спят? Такого никогда раньше не было. Солнце уж над лесом висит, а мы все сонные.
– Это мы, Саша, перебрали вчера, – предположил Селевёрстов.
– Брось, мы только горло смочили. Нет, Иван, тут другое.
– Что же?
– Медведь камлает. Это он нагнал сон на нас. Ты оглянись, какая тишина вокруг! Как вымерло всё!
– А что это с ним происходит? – прервал Иван товарища.
Якут качался, сотрясаемый изнутри чудовищной силой. Голова запрокинулась вверх, руки рывками сдвинулись к груди, спина согнулась, вылепив среди узоров мышц линию позвоночника. В следующую минуту он повалился в снег. Издалека он, выставивший перед собой растопыренные пальцы, выглядел тёмной корягой в сугробе.
– Надо бы подобрать его. Иначе окоченеет.
Они поспешили к нему, и, когда приблизились, Эсэ вдруг стремительно выпростал руку вверх и вцепился в запястье Александра. От неожиданности Галкин растерялся. Он попытался освободиться от хватки Эсэ, но не смог. Тут туземец заговорил глухим, похожим на рычание голосом:
– Снег провалится… Яма будет… Олени умчатся… Нельзя в дорогу… Надо выдержать…
– О чём ты говоришь?
– Волки нападут, напугают оленей… Снег провалится… Если будешь один, то пропадёшь… Возьми с собой кого-нибудь… Руку протянуть, удержать тебя надо, чтобы снегом не засыпало…
Глаза Эсэ закрылись, слова сделались совсем невнятными, но он продолжал бормотать что-то. Затем вдруг он замолк и посмотрел на склонившихся над ним людей совершенно ясным взором. Пальцы его разжались, отпустив запястье Галкина. Тело расслабилось, распрямилось и легло на снег всей плоскостью.
– Миша, Медведь, что с тобой? – Селевёрстов положил ладонь на грудь Якута, и ему почудилось, что он прикоснулся к куску льда, настолько холодным было тело оюна.
Эсэ не ответил. Он медленно сел и осмотрелся. По его подбородку, покрытому синей татуировкой, медленно потекла слюна.
– Что с тобой? – повторил Иван. – Ты, похоже, бредил.
– Со мной всё хорошо. – Якут поднялся на ноги и спокойно пошёл к чуму.
– Медведь, – окликнул его Галкин, – ты, может, объяснишь, что ты тут устроил? Мне не нравится, когда возле моего дома шаманы показывают свои фокусы. Подожди! Ответь мне, чёрт тебя подери!
– Оставь его, Саша, поговоришь с ним позже.
– Да ну его к дьяволу! И вообще пусть катится отсюда на все четыре стороны. Слышишь, Медведь? Я тебя сюда не звал! Проваливай! Никому ты не нужен тут! Какого чёрта ты мутишь воду? Какого рожна ты терзаешь мне нервы? Ты не нужен мне, так что убирайся прочь!
Галкина словно прорвало, он кричал и кричал. Он топтал ногами снег, размахивал руками, тряс над головой «винчестером», угрожал и проклинал. В конце концов он свалился в сугроб почти в той же позе, как и Эсэ несколько минут назад.
– Ну, Саша, вот и ты пошаманил, – хмыкнул Иван. – Даром, что ли, в тебе якутская кровь течёт? Пойдём-ка в дом, а то я совсем окоченел уже.
Весь день Селевёрстов находился в угнетённом состоянии. Его подмывало поговорить с Якутом и выяснить у него, что же произошло на рассвете. Ближе к вечеру он решил не тянуть больше времени и решительным шагом направился к чуму оленеводов.
– Здравствуй, Медведь. – Иван шагнул внутрь и сразу окунулся в густой запах оленьих шкур. Якут сидел в задумчивости перед костром и даже не повернул голову в сторону вошедшего. Рядом с ним полулежали два Тунгуса, такие же молчаливые. – Если не возражаешь, Медведь, я присяду возле тебя.
Якут кивнул.
– Я пришёл поговорить с тобой. Ты уж не удивляйся моим вопросам. Я же не смыслю ничего в здешних ваших штучках… Сегодня утром я видел, как ты стоял рядом с оленем. Это зрелище потрясло меня до глубины души. Как тебе удалось подманить его к себе?
– То не олень был.
– А кто же?
– Мать-Зверь приходила.
– Мать-Зверь? Пусть будет Мать-Зверь, – поспешил согласиться Иван. – Как хочешь называй. Всё равно это был олень.
– Олень, но не настоящий, – уточнил Якут.
– Я видел оставленные им следы на снегу. Это был настоящий олень, – настаивал Селевёрстов, пристально глядя на Эсэ.
– Раз в году Мать-Зверь принимает форму живого существа. И всё же она не настоящий олень. Тебе не понять. Ты не умеешь думать правильно. Ты не знаешь многих важных сторон жизни. Ты не слышишь слов, которые произносит ветер.
– Ветер? Ты хочешь сказать, что ты различаешь в звуке ветра какие-то слова? Может быть, ты понимаешь речь птиц и рыб? – На лице Селевёрстова появилась ироничная улыбка.
– Я воин и должен понимать все голоса. Я могу не понимать слова, но должен понимать голоса. Несколько раз я видел белых людей, которые говорили не по-русски. Я не знаю, откуда они приезжали, но у них была не русская речь. Я не понимал их слов, но я понимал, о чём они беседовали, чего хотели. Слова не нужны, слова умеют обманывать. Ты пользуешься словами, слушаешь слова, поэтому не способен понять голоса, у которых нет слов.
Якут многозначительно указал пальцем на зашипевший огонь.
– Он просит есть. Говорит, что иначе умрёт.
Затем дикарь перевёл руку по направлению к Тунгусу, устроившемуся слева на ворохе заячьих шкур. Тунгус мычал невнятную мелодийку, не разлепляя своих губ, меж которыми была зажата курительная трубка.
– Он выражает удовольствие своей жизнью. Ему хорошо.
После этого он неторопливо поднялся, подошёл к лежавшей у входа куче дров и взял несколько ветвей средней толщины. Положив их в огонь, он сказал:
– Возьми, не ругайся.
Некоторое время Иван наблюдал за ним, не произнося ни слова. Ему был странен этот молодой туземец. Впрочем, он и не выглядел по-настоящему молодым. При неровном свете костра Ивану Васильевичу Селевёрстову казалось, что воздух вокруг дикаря был насыщенным какой-то неведомой субстанцией многолетия, сгустком времени, наваром знаний.
– Ты шаманил утром. Верно? Ты вызывал Мать-Зверь. А вот скажи мне, почему все спали так долго? Александр говорит, что это твоих рук дело.
– Да.
– Что значит «да»? – удивился Иван. – Это ты сделал что-то, из-за чего все спали долго?
– Да.
– Как же? Ты подсыпал нам что-то в еду?
– Нет. Я спел песню.
– Песню? И все крепко спали из-за твоей песни? – улыбнулся Иван наивности ответа.
– Да. Есть очень сильные песни, очень властные.
– И ты знаешь много таких песен?
– Да. Иногда нужно спеть, чтобы зверя подманить к себе. Иногда я пою, чтобы ветер унялся. Иногда песня нужна, чтобы людей усыпить.
Иван пристально посмотрел в чёрные глаза Якута и увидел, что дикарь вовсе не шутил.
– Ладно, пусть так. Я не могу этого понять… Сегодня ты Александру что-то предсказывал, – придвинулся Селевёрстов к Эсэ.
– Я? – удивился тот.
– Разве ты не помнишь?
– Когда такое бывает, я никогда не помню. – Он решительно покачал головой. – Родня повторяет мне после мои слова, но я не узнаю их. Я не знаю, что предсказываю. Моим языком говорит Кыдай-Бахсы, Покровитель кузнецов. Он переносит мои глаза в будущее и вещает моим голосом.
– Пусть так, – согласился Иван, – пусть так. Я не понимаю, как ты можешь сказать что-то и не помнить об этом, но пусть так и есть. Важно, что ты предупредил Сашу о неприятностях в дороге. Раньше я нипочём не поверил бы в чудо, но сегодня я собственными глазами видел, как ты общался с оленем, то есть с Матерью, как ты говоришь, с Матерью-Зверем. И я верю в твоё предупреждение. Вот если бы ты мог точнее указать место, где упадут его сани.
– Чьи сани?
– Александра, начальника нашего.
– Я не мог предсказать ему ничего, – задумчиво ответил Якут. – Нет, не мог. Я предупреждаю только родственников. Не я решаю, а Мать-Зверь и Кыдай-Бахсы. У меня связь только с людьми моей крови. Я не мог предупредить начальника ни о чём… Должно быть, я говорил о ком-то из моего рода, кому предстоит дорога на оленях. Не знаю…
– Но ты говорил на русском языке, ты обращался именно к нему, ты смотрел на него.
– Не знаю, – равнодушно повторил туземец.
– Прости, что я допытываюсь, но слишком много здесь остаётся для меня непонятным… – Иван сделал неопределённый жест. – Я всю жизнь провёл в большом городе. Там нет шаманов. Там нет оленей. Там никто не носит ружей с собой, никто не убивает. То есть я, конечно, не совсем прав. Там тоже убивают, поэтому существует полиция, чтобы следить за порядком и ловить убийц. Но там всё по-другому. Как бы это яснее выразить? Ты слышал, как Александр говорил, что ему хочется быть вольным. Так вот, он прав: в городе воли нет. Там всё похоже на тюрьму. Там все рабы чего-то. Но самое ужасное заключается в том, что почти никто не понимает этого.
– Разве там есть один хозяин? Разве там все работают на него?
– Там хозяйничают деньги. Ты знаешь, что такое деньги?
– Знаю, но у меня их нет, они мне не нужны.
– У тебя их нет, – согласился Иван, – ты свободен от них. Ты служишь самой жизни. Ты знаешь её суть. Звери дают тебе мясо и шкуры, лес даёт кров. Это, конечно, дикий образ жизни, но в нём, несмотря на его кровавость, я вижу больше разумности, чем в городском существовании. Там, впрочем, крови не меньше, просто она скрыта от глаз, там делается всё, чтобы не дать крови проступить наружу. Горожане называют себя людьми цивилизованными, они привыкли считать кровь чем-то гадким, омерзительным, почти непристойным. Но ты, наверное, не понимаешь, о чём я говорю.
– Значит, ты не жил здесь никогда? – спросил Эсэ. – И твой отец тоже?
– Мой отец скончался много лет назад. Он всю жизнь провёл перед пылающим камином, любил читать рыцарские романы, носить шёлковый халат и держать возле себя борзую суку. Ты, я полагаю, понятия не имеешь, что такое шёлковый халат и рыцарские романы. Это и не обязательно знать.
– Ни ты, ни твой отец не были здесь. Значит, ты не нужен мне, – сказал Эсэ.
– В каком смысле?
– Я ищу человека, застрелившего моего отца. Вернее, ищу его сына.
– Стало быть, про месть ты говорил серьёзно? – Иван нахмурился. – Я почему-то думал, что ты пошучивал. Юмор у вас тут своеобразный. Получается, что ты… Да, мне пора бы уже свыкнуться с мыслью, что жизнь человеческая в лесу стоит не дороже сухого дерева, а то и дешевле. Но ты… Как такое возможно? Я же видел, как ты с оленем разговаривал… Хорошо, хорошо, не с оленем, а с Матерью звериной, но для меня она всё равно обыкновенный олень или олениха. Если тебя подпускают к себе звери, если ты понимаешь их язык, то разве может внутри тебя жить сила, несущая разрушение и убийство? Не верю.
Эсэ пожал плечами.
– Я не прошу, чтобы мне верили.
Когда Селевёрстов покинул чум, Эсэ тяжело вздохнул. Настроение у него было дурное. Он ничего не помнил из того, что произошло утром, хотя шаманил целенаправленно. Это настораживало его и пугало. Он хотел поговорить с Матерью-Зверем. Он сильно нуждался в таком разговоре, нуждался в подсказке. Но к своему глубочайшему сожалению, Эсэ запомнил только одно: Мать-Зверь сказала ему, что он ошибся и пошёл не по той тропе. Эсэ не понял её слов. Сидя сейчас почти в полной тишине, он пытался припомнить что-нибудь ещё. Ведь не только с этими словами обратилась к нему Мать-Зверь! Она должна была сказать что-то ещё, как-то пояснить. Он сбился с пути? Но где? Когда? Куда теперь идти? Почему Мать-Зверь ничего не объяснила? О чём она говорила? Что ему делать теперь? Уехать ли прямо сегодня с зимовья? Или же начать сию же секунду стрелять во всех подряд? Что ему делать? В чём заключалась ошибка Эсэ? Что имела в виду Мать-Зверь?
***
– Саша! – Иван сел за стол. – Медведь ушёл.
– Он постоянно уходит куда-то, – отмахнулся Галкин. – Я дважды видел, как он на противоположную сторону ходил и сидел неподвижно на горе, думал о чём-то или с духами своими общался. Вот и теперь колдовать куда-нибудь отправился.
– Нет. Я думаю, что он ушёл из-за тебя. Ты же прогнал его вчера, велел убираться прочь.
– Мало ли что я сказал. – Александр что-то записывал в тетрадь. – Проклятые чернила совсем застыли… А что, он лошадей своих увёл?
– Нет, на лыжах ушёл. Куда же в такой снег верхом-то?
– Значит, возвратится. Обиделся, должно быть. А что говорят Тонги?
– Хмурятся. Боятся, что оюн со злым сердцем ушёл, – ответил Иван с расстановкой. – Они думают, что он отправился охотиться. Сам себе пищу добывать будет.
– Значит, и впрямь обиделся, раз из нашего котла есть не хочет. Ну ладно… Время покажет.
– Не учудит он теперь чего-нибудь дрянного? – осторожно спросил Иван.
– Нет, что мы дурного сделали ему? Впрочем, кто его знает? Ты слышал, как он на жизнь смотрит. Лишнего оленя не посмеет завалить, а человека всё же прибьёт, чтобы закон мести исполнить. – Галкин задумался и стукнул, обмакивая стальное перо, о дно чернильницы. – Нет, не будет он вредить нам. Не настолько я задел его.
Минуло три дня. Эсэ не появлялся.
Никому в голову не могло прийти, что он устроился на противоположном берегу Олёкмы в нескольких километрах от зимовья, поставив для себя крохотный шалаш и плотно обложив его снегом. Эсэ не чувствовал себя ни обиженным, ни обозлённым. Он ждал. Галкин намеревался в ближайшие дни отправить к перевалу очередную партию рабочих. Её-то и поджидал Эсэ. Его шалаш стоял чуть в стороне от санного пути, скрытый густыми елями. Эсэ имел прекрасную возможность обозревать окрестности и особенно поворот, из-за которого могли показаться сани, покинувшие зимовье. Никто из провожавших не пошёл бы так далеко, и Эсэ был абсолютно уверен в успехе задуманного дела.
На четвёртый день после того, как он устроился, его глаза уловили далёкое движение, и вскоре из-за белого склона холма выкатила пара саней. Утренний воздух беспокойно двигался, разбрасывая мелкие снежинки и предвещая бурю. Эсэ повесил через плечо сумку с патронами для ружья и винтовки и быстро побежал на лыжах наперерез саням, держась в низине и оставаясь невидимым для путников. Выбрав такую позицию, чтобы стрелять можно было наверняка, он сбросил лыжи и залёг в снегу. С каждой минутой сани приближались, доносился звон бубенцов, даже храп оленей стал различим.
Якут поднялся над сугробом и выстрелил из ружья, свалив оленя и остановив тем самым движение первых саней. В следующую секунду он сделал то же самое со вторыми санями. Бросив ружьё, он схватил винтовку и двумя пулями сразил погонщиков.
– Это же Медведь! – услышал он чей-то голос. – Эй, Миша! Ты рехнулся! Брось палить! Мы же свои, сукин ты сын! Слышишь?
Он увидел, как к нему побежал, размахивая руками, один из рабочих. Остальные распластались на санях, боясь поднять головы. Кто-то громко матерился. Эсэ дотянулся до ружья, уверенными движениями загнал в стволы два новых заряда и добавил недостающие патроны в винтовку.
– Медведь! Ты что? Это же мы! – На вторых санях кто-то приподнялся и тут же рухнул на спину под звук грохнувшего ружья.
Бежавший человек остановился. Ружьё выстрелило второй раз, и человек схватился за грудь и опрокинулся навзничь.
– Братцы, – донёсся сильный голос, – да он рехнулся. Он всех нас уложит сейчас, как щенков. А ну, где ружья? Лупи в него.
Якут проворно опустился в снег и нацепил лыжи. В считанные секунды он пробежал по низине и выполз наверх в другом месте. Отсюда до русского отряда было значительно дальше, но никто из попавших в западню не ожидал нападения с этой стороны. Через пару мгновений рабочие дали дружный залп, целясь туда, где недавно стоял перед ними Эсэ.
– Будь ты проклят, тварь косоглазая! Затаился где-то там.
Эсэ взял на мушку человека, поднявшегося выше остальных. Под звук колыхнувшегося эха пуля ударила человека и свалила его поперёк саней. Не дожидаясь, пока его враги сообразят, в чём дело, Эсэ выстрелил снова. И опять цель была поражена.
– Какого дьявола? Он не один здесь, что ли? Кто же с ним? Получайте, сволочи!
Бухнуло ружьё, и Эсэ скатился за сугробы, прячась. Пуля жарко пробуравила снег возле его ноги, и он отполз чуть в сторону.
Спокойными, точными движениями он выбросил гильзы из ружья и вогнал в стволы новые патроны. Перезарядив оружие, он пожалел, что не украл у Галкина его скорострельный «винчестер». Впрочем, Александр непременно догадался бы, кто посягнул на его собственность, и дорога на зимовье была бы закрыта для Эсэ.
Вокруг яростно клубились снежинки. Ветер заметно усилился, будто хотел изгнать из людей, попавших в засаду, последние крохи мужества.
– Я никого не вижу, – послышался голос с саней. – Может, я попал в него?
– Попал или не попал, мне наплевать теперь. Мы с тобой едем назад. Отрезай постромки и поворачивай обратно. Осторожнее, Матвей, осторожнее ты, чёрт криворукий. С другой стороны заползи, иначе он тебя подцепит.
Эсэ осторожно приподнял голову и увидел распластавшуюся на снегу фигуру, торопливо разрезавшую ножом ремни упряжки, чтобы освободить сани от застреленного оленя. Эсэ осторожно поднял ружьё и прицелился. Одновременно с прозвучавшим выстрелом фигура на снегу издала возглас удивления и дёрнулась, прижавшись к полозьям. Однако раненый человек оказался сильным и через несколько секунд он поднялся на ноги, чтобы забраться обратно в сани. Якут пустил в него ещё одну пулю, и здоровяк затих.
Последний оставшийся в живых мужчина попытался, продолжая лежать на спине и не подниматься над санями, тронуть оленей и пустить их бегом. Это ему почти удалось, но полозья вдруг упёрлись в тушу мёртвого оленя. Как ни кричал мужчина, тыча оленей шестом, сани не двигались. Эсэ поднялся над сугробом во весь рост.
– Ах, поганый бес! – Мужик вскинул своё ружьё.
Эсэ стоял, крепко прижав приклад винтовки к плечу. Два выстрела прозвучали одновременно. Эсэ услышал, как пуля ударила в макушку его шапки. Если бы противник не поспешил и опустил ствол чуть ниже, пуля бы попала прямо в лоб Эсэ.
Поправив лыжи, он побежал к убитым. Один из людей лежал возле полозьев, истекая кровью, и судорожно кашлял; пуля пробила ему горло. Раненый не обратил внимания на Эсэ, возможно, он просто не видел его, окутанный предсмертным туманом. Якут сильно ударил раненого прикладом по голове, прекратив его агонию.
Эсэ действовал решительно и быстро. Он поднял из снега всех убитых и уложил их на сани, затем освободил оленей из одной упряжки и прогнал животных прочь, после этого он прицепил первые сани ко вторым и направил их, как поезд, в сторону леса. Там, подальше от накатанного пути, он выпряг оставшихся оленей и в последний раз оглядел мертвецов. Неподвижные, белые, с застывшим изумлением на лице, они уже почти полностью покрылись снегом. Ветер усиливался, снегопад становился тяжелее. Вскоре сани с покойниками превратятся в настоящие сугробы, и никто не увидит их между деревьями. Эсэ покопался в сумке, достал из неё кожаный шнурок и обвязал им ствол тонкого дерева, близ которого стояли сани с жутким грузом. Такие шнурки, нарезанные из медвежьей кожи, он оставлял на месте каждого совершённого им убийства. Он считал это своего рода подношением невидимым духам. Он не пытался умилостивить их, он просто оставлял крошечное свидетельство того, что это было именно его рук дело, своего рода автограф. Невидимым обитателям леса и гор следовало знать, кто воевал в их владениях. Человек должен оставлять что-нибудь после того, как совершал серьёзный поступок. Никто не обязан делать дорогостоящие подношения, но всякий охотник и воин непременно обозначал своё уважение и внимание к духам.
– Это я совершил, – сказал Эсэ, – знайте об этом.
Возвращаясь к своему шалашу, Эсэ остановился возле двух застреленных оленей, распорол одному из них шкуру над позвоночником и вырезал длинный кусок мяса. Пришло время отдыха. Перед очередным нападением надо было набраться сил.
***
Белоусов влетел в зимовье с громким криком:
– Ура большому дому! Здорово, братцы!
– Здравствуй, Борис, – выбежал из двери Галкин.
– Доброго здоровья всем! – Казак поднялся из саней и присел пару раз, разминая ноги. Тунгусы Аким и Осип, муж Алёнки, радостно залопотали на своём языке, приветствуя туземцев, вышедших из чума на звуки прикативших саней.
– Как добрались? – спросил Галкин громко, чтобы перекричать звон бубенцов и храп оленей.
– Пришлось заночевать под снегом, Александр Афанасьевич. Завалили сани на бок и устроили из них шалаш. Гадкая погода выдалась. Тонгам-то всё одно, а я маленько захворал, так что в хоромах ваших сию же минуту устроюсь ноги отогревать.
– А с нашими разве не встретились?
– С кем? Никого не видели.
– Разминулись, что ли? – удивился Галкин. – Две упряжки укатило вчера. Где же вы разошлись? Мы ведь условились ходить по одному маршруту.
– Может, разминулись, не мудрено. Пурга была жуть какая. Они могли к лесу свернуть, чтобы укрыться. Ветер презлющий был, никаких санных следов не осталось, никакого накатанного пути, так что они могли и чуток стороной пройти.
– Оно, конечно, так, но…
Голос Галкина прозвучал озабоченно, лицо нахмурилось.
– Александр Афанасьевич, милый мой, да что такое-то? – Казак постукивал ногой о ногу. – Неужто они дети малые? Не впервой им по снегам ездить. Кто у вас на складе? Дайте мне водки глотнуть.
– Значит, ничего по дороге не приметили?
– Совсем недалеко отсюда двух оленей мёртвых проехали. Думаю, волки загрызли их, но метель, видать, даже их заставила спрятаться, не смогли полакомиться, зубастые черти.
– Два оленя? – нахмурился Александр.
Белоусов шумно протопал по ступеням и скрылся за дверью. Селевёрстов пошёл было за ним, но увидел задумавшегося Александра и приостановился.
– Что тебя беспокоит, Саша?
– Не знаю. Пожалуй, ничего конкретного. Так, какая-то муть в голове плавает, – пожал плечами Галкин. – Ладно, пошли чай ставить, отметим приезд Бориса.
Рабочие наперебой обращались к казаку, расспрашивая о делах на отдалённых станах на Амге.
– Как там теперь? Далеко ли продвинулись?
– До верховий Амги мы пока не добрались, людей маловато, – растолковывал Белоусов с удовольствием, – так что весной и летом придётся, я думаю, новых людей набирать, ежели Александр Афанасьевич надумает во всю мощь развернуться. Что до меня, то вдоль реки я повсюду побывал, где наши стоят. Почти везде мы проложили хорошие санные пути. Дорога, конечно, далека от совершенства, но ездить можно, изрядно накатано. Впрочем, последняя пурга могла всё замести. У вас, по крайней мере, ни черта не осталось от дороги… Кое-где у нас там уже приступили к битью шурфов.
– Ура! Дело продвигается!
– Представьте только, братцы, что там есть места, где никогда прежде не ступала нога человека! – восторгался казак. – Мы с вами первые.
– Тонги всюду побывали, – возразил кто-то.
– Да разве ж они… – Белоусов осёкся, увидев в углу комнаты Тунгуса. – Да разве ж о них речь? Я про нас, про цивилизованных. Диким-то всё нипочём. Мы тоже, конечно, не лыком шиты, но всё же нам непривычнее.
Днём из-за Олёкмы донёсся многоголосый вой волков.
– Вот и зубастые вернулись за своим обедом, – засмеялся Белоусов, прислушиваясь. – Я ж говорил, что им пурга помешала.
– Должно быть, ты прав, – кивнул Галкин.
Никому не могло прийти в голову, что это Эсэ, прекрасно владевший всеми звериными голосами, созвал хищников на пир, чтобы уничтожить трупы застреленных им оленей из упряжки. Волки откликнулись на его зов и принялись рвать клыками замёрзшее мясо. А люди в зимовье то и дело прислушивались к далёким волчьим песням, полным прожорливой радости.
– Воют, черти, – крякнул Белоусов. – Полные животы набьют сегодня.
– Я пойду к Тонгам загляну, – поднялся из-за стола Галкин.
– Поешь сперва, – встал следом за ним Иван. – Что тебе неймётся сегодня?
– Не знаю. Беспокойно как-то на сердце. Олени эти из головы не идут, – пояснил тихим голосом Галкин, остановившись у двери.
– Не понимаю. – Иван пожал плечами. – Какое тебе дело до тех оленей? Ну, загрызли их волки…
– Сразу двух? И оставили нетронутыми? Сомнительно. Конечно, непогода была… Но двух оленей завалить и убежать… Там целая стая должна была работать, а Борис ни одного из них не видел. Кроме того, ежели пурга помешала волкам жрать, так охотиться они и подавно не стали бы.
– К чему ты клонишь?
– Поутру поеду на перевал. Я должен убедиться, что с нашими всё в порядке.
– А что может быть?
– Не знаю.
– Но ты о чём-то думаешь? О чём же, Саша? – настаивал Селевёрстов.
– О Медведе-Якуте.
– При чём тут Медведь?
– Представь, что ты был прав. Допустим, что он осерчал и решил нагадить нам, что тогда?
– Не понимаю! – Селевёрстов недоумевающе поднял брови.
– Что, если он напал на наших? Это ведь могут быть олени из упряжек.
– А остальные где? А сани с людьми где? И ты полагаешь, что он один справился бы с целым отрядом? Неужели ты думаешь, что никто не смог бы приехать сюда и рассказать нам? – Иван осыпал Галкина вопросами и доводами. Он видел, что Александр не мог дать обоснованных возражений, но продолжал думать о своём.
– Пусть так. Я не спорю, но я хочу поехать туда и убедиться. Понимаешь? Это мои люди. Я в ответе за них…
Он решил никого не брать с собой и даже не стал предупреждать о своём отъезде Белоусова.
– Пусть отдыхает, не говори ему сразу, не то сорвётся с места, чёрт неугомонный, а ему отлежаться в тепле надобно. Вон кашель какой! Сквозь стены пробивает.
Утром, когда Галкин плюхнулся в сани, к нему подбежал, плотно укутанный в меха, Селевёрстов и решительно заявил:
– Я еду с тобой.
– Это что за новости такие? – Галкин насупился.
– Боюсь я оставаться здесь без тебя, Саша.
– Глупости. Мне надо быстро ехать, без задержек. Ты не сможешь, устанешь. После той пурги придётся много ногами работать. Борис сказал, что от санного пути, который мы накатать успели, и следа не осталось.
– Я смогу, – настаивал Иван, зачем-то похлопывая по спине ближайшего оленя, лениво жевавшего жвачку.
– Чего ты перепугался? Тут Борис остаётся, ты будешь при нём как у Христа за пазухой.
– Не в этом дело. Я хочу с тобой. Я решил твёрдо, в конце концов, я имею право. У тебя своё беспокойство, у меня – моё.
После нескольких минут препирательств Галкин махнул рукой, приглашая Ивана в сани, сам же поднялся и взял в руки поводья.
– Бес в тебя вселился, так пеняй на себя, коли что не так будет. Чеинг! – Галкин издал якутский возглас, каким туземцы обычно приглашали к какому-нибудь действию. – Мат, мат, пошли, рогатые!
Тронулись, полозья заскрипели. Галкин плюхнулся в сани и взял в руки длинный гибкий шест, чтобы погонять оленей.
– Это в тебя бес вселился, Саша, – возразил Селевёрстов, качнувшись от рывка саней.
Едва стало известно об отъезде Галкина и Селевёрстова, поднялся переполох. Белоусов бросился распинать Тунгусов за то, что они не донесли вовремя о намерениях Галкина. Оленеводы только разводили руками.
– Начальник решай, наша говори «да». Зачем наша говори тебе, что начальник уезжай? Начальник имей главный голова.
Казаку нечего было возразить им, и он громко чертыхнулся, повернувшись к ним спиной. В ту же минуту Тунгусы наперебой залопотали на своём языке.
– Что такое ещё? – обернулся Белоусов и увидел приближавшуюся к зимовью человеческую фигуру на лыжах. – Это что за явление? Откуда?
Тунгусы в один голос ответили:
– Якут Эсэ, Человек-Медведь, большой шаман!
– Почём вам известно? – удивился Белоусов. – Он из ваших, что ли?
Откуда ни возьмись, возле казака вырос Аким и подёргал казака за локоть:
– Начальник приезжай с ним на перевал, когда ты ходи на Амга.
– Ах, это, значит, тот самый Якут, которого Александр Афанасьевич нанял проводником?
Из дома выглянул повар.
– Щи поспели, давайте в трапезную… Э, никак Медведь наш объявился? Ты где пропадал, Миша? Неужто ты и вправду осерчал в тот раз?
– А что тут произошло? – полюбопытствовал казак.
– Ерунда. Лександр Афанасич накричал на него недавно, и Миша обиделся, ушёл с зимовья.
– Как тебя, стало быть, величать-то? – подошёл Белоусов к Эсэ.
– Медведем. – Эсэ сбросил лыжи, неторопливо обвёл взглядом собравшихся и внимательно оглядел Белоусова. Раньше он не видел этого человека.
– Скажи мне, а не заметил ли ты чего-нибудь подозрительного, когда по тайге рыскал в последние дни? – спросил казак.
– Ничего. Что надо было заметить? – Он снял винтовку с плеча. Ружьё он оставил в тайге, чтобы ни у кого не возникли подозрения, мол, зачем это ему с собой нужно было столько оружия.
– Да вот Александр что-то занервничал, сорвался в дорогу ни с того ни с сего. Опасается, как бы чего не случилось с ушедшим отрядом.
– Разве он уехал? – удивился Эсэ.
Возвращаясь в зимовье, он сделал изрядный крюк, чтобы появиться не со стороны Олёкмы, а из тайги, то есть с обратной стороны зимовья. Именно поэтому он не заметил, как Галкин и Селевёрстов выехали к перевалу, а Белоусов прикатил оттуда.
– Я ничего не видел, – ответил Эсэ и пошёл в чум отдыхать.
Белоусов посмотрел вслед Якуту и поднялся по дощатым ступеням в дом.
– Я слышал, ты сказал, что щи готовы, – обратился он к повару. – Что ж ты, братец, обленился совсем? Неужто у тебя нет ничего, кроме щей? Этого добра я ведь могу и в пути всегда натрескаться.
Повар пожал плечами. Все путники, уходившие с зимовья, обязательно брали с собой замороженные щи. Эти щи были сварены при первых настоящих холодах, разлиты в круглые берестяные плошки и выставлены на холод. Когда щи замерзали, их вытряхивали из посуды и складывали стопками, как обычные куски льда. Всякий уезжавший в дальний путь, брал с собой три-четыре кружочка ледяных щей. Это освобождало его от нужды готовить суп в дороге; ему нужно было лишь растопить кружок щей в котле и насытиться ими от души. Это и имел в виду Белоусов, сказав, что щами он мог полакомиться и в пути.
– Я-то думал, что вы тут, в ваших хороминах, хоть жрать стали по-настоящему. Оказывается, Александр Афанасьевич подраспустил вас тут маленько. Расслабились вы, черти. Ну, ничего, ничего.
Казак устроился за столом и, несмотря на ворчание, с удовольствием съел поставленные перед ним щи, опрокинув предварительно пару стопок водки.
– Славно, очень даже славно, – крякнул он и оглянулся.
Некоторое время он провёл в доме, беседуя с мужиками, затем направился в чум Тунгусов. Войдя внутрь, он положил горсть леденцов перед костром возле медного чайника.
– Вот вам конфет, братцы, к чаю, – сказал он Тунгусам и повернулся к Эсэ. – Здравствуй ещё раз, Медведь. Я пришёл побеседовать, если ты не имеешь ничего против. Я слышал, что ты повздорил с начальником.
– Я не ругался ни с кем.
– Я не совсем точно выразился. Но ты понимаешь, о чём я говорю, – сказал Белоусов. – Ты слышал уже, что Александр обеспокоен чем-то. Мне рассказали, что тут у вас погибло несколько человек странным образом. И вот я подумал, что наш молодой начальник каким-то образом увязал все эти события воедино. Тебе так не показалось?
– Я не думал над этим.
– А ты подумай, помозгуй. Это может быть очень важно. Тонги тебя побаиваются, несмотря на твой возраст. – Белоусов тряхнул бородой в сторону Тунгусов. – Аким говорит, что ты умеешь важно шаманить. А наши поговаривают, что ты себя величаешь воином и разыскиваешь кого-то, чтобы отомстить. Я понимаю тебя. Месть – дело серьёзное. Бывает, много крови приходится пустить из-за одного какого-нибудь случая. Всякое бывает.
Эсэ взглянул на казака с интересом и спросил:
– Ты тоже искал кого-то?
– Было однажды такое, – кивнул казак. – Далеко отсюда, в тёплых краях. Я был молод, как ты.
– Нашёл?
– А куда ж деваться от ненависти? Она меня душила и гнала по степи. Гнала до тех пор, пока я не добрался до обидчика.
– Ты убил его?
– Для того и искал его. За мной пустились в погоню, и мне пришлось убить других, к которым у меня не было ничего плохого. И снова погоня. Тут уж власти припустились за мной. Я бежал и бежал. В конце концов прибежал в Сибирь.
– Ты воин? – спросил Эсэ.
– Конечно. Всякий казак – воин, иначе быть не может, – с достоинством ответил Белоусов. – Нынче во всей России только казаки и считают себя воинами. Остальные всё больше крестьянствуют. Мы, конечно, тоже на земле работаем, при этом оружие имеем собственное и коней и постоять за себя можем всегда, ежели нужда прижмёт.
Казак замолчал, взгрустнув.
– Якуты тоже раньше были воинами, – сказал Эсэ, – но давно забыли, как идти этим путём.
– Жизнь меняется.
– Всё меняется, – кивнул Эсэ, – но суть остаётся. Женщина не перестаёт быть женщиной, птица – птицей, вода – водой. Да, жизнь меняется, но корень жизни остаётся прежним. Мой народ забыл об этом.
– Не только твой, Медведь. – Казак оглянулся на Тунгусов. – Русский народ давно не может себя вспомнить. Деньги, бабы, водка, тряпки всякие – вот суть его стала. Мельчают люди… Когда к вам сюда пришли казаки, их насчитывалось мало, но они были сильны. Рубили здесь леса, ставили острожки, накладывали на вас дань, и вы платили. Вот тогда мы, русские люди, были сильны. А теперь-то нас, как ты говоришь, воинов, остались жалкие крохи. Хотя, ежели по нашим станицам прошвырнуться, там много настоящих мужиков найдётся.
– Я бы хотел посмотреть на твои станицы. Я бы хотел увидеть русских воинов.
– Зачем тебе? Впрочем, я понимаю. Сильный человек всегда хочет увидеть других сильных. Жаль, что тебе не довелось повидать Афанасия Поликарповича.
– Кто он?
– Отец нашего Александра. Он, конечно, не воевал никогда, но был настоящим воином. Сильный и отважный был человек, прекрасный охотник, отменный стрелок. И дело своё имел очень большое.
– Что с ним случилось? Как он умер? Болезнь?
– Нет. Это была таинственная смерть, – задумался Белоусов. – Да, именно таинственная, странная. Его убил олень.
– Олень? – насторожился Эсэ. – Какой олень?
– Крупный олень, красивый. Рога здоровенные, как сейчас помню. В каждую сторону длиной были в две мои руки. Представляешь?
– Он охотился?
– Мы стали лагерем, хотели передохнуть, – сощурился Белоусов. – Ну, Афанасий Поликарпович куда-то пошёл. Какой-то звук привлёк его. Долго его не было, а потом бабахнули выстрелы. И вдруг… Чёрт возьми, даже сейчас дыхание перехватывает от волнения… Я увидел оленя. Он нёс на рогах Афанасия Поликарповича.
Видать, он его уже об стволы деревьев сильно обстучал, потому как голова и всё тело были разбиты. Мне показалось, что он специально так поступил, будто целенаправленно нёс его на рогах именно в наш лагерь. Олень бегал по нашей стоянке, сносил палатки, опрокидывал ящики с оборудованием, а тело Афанасия Поликарповича болталось у него на рогах, как на ветвях деревьев во время страшной бури. Мне почудилось в ту минуту, что гнев Божий обрушился за что-то на него. Затем олень сбросил его возле костра, ударил ногами в грудь и помчался прочь. Я всякого повидал, но ни разу до того не представало перед моими глазами столь ужасное зрелище. Когда я к Афанасию Поликарповичу подбежал, он был настолько истерзан, что смог сказать лишь несколько слов.
– А что же олень? – Эсэ подался вперёд, его глаза вспыхнули тревожным огнём.
– Умчался. Я стрелял в него, Александр стрелял в него, почти все наши сделали по выстрелу, но ни одна пуля не попала в оленя. Это невозможно объяснить. Это не поддаётся никакому разумному объяснению…
По мере того как Белоусов рассказывал, Якут становился все мрачнее.
– Это не был олень!
– А то я не видел его собственными глазами! Конечно олень. Самый настоящий олень.
– То была Мать-Зверь.
– Это уж как угодно говори, – кивнул казак. – У тебя свои понятия. Но для меня то был настоящий олень, здоровенный, рогатый и безумный.
Эсэ медленно поднялся.
– Когда это произошло?
– Три года тому минуло. – Казак удивлённо посмотрел на туземца. – А тебе-то что? Слышь, Медведь? О чём задумался?
– Мне надо уезжать. – Чёрные глаза Эсэ прожгли казака насквозь.
– Что с тобой? Я же поговорить пришёл к тебе, я расспросить тебя хотел.
– Мне надо уезжать, – повторил Эсэ и повернулся к Тунгусам. – Я возьму сани, на лошадях быстро не получится. Скоро я вернусь и тогда уеду совсем.
Раскосые лица кивнули ему в ответ. Белоусов продолжал лежать некоторое время у костра, пытаясь понять поведение Эсэ.
– Что с ним? – спросил он Тунгусов, но они лишь пожали плечами.
Вскоре снаружи послышался скрип полозьев, и Белоусов вышел из чума.
– Медведь, куда ты сорвался?! – крикнул он, увидев Якута на санях.
– Теперь я знаю, кого искать.
– Что ты хочешь сказать?
– Мне нужен сын того, кого убил олень! Его кровь я должен пустить на снег! – Он стегнул оленей, и сани сорвались с места.
– Чёрт возьми, о чём он говорит? – Белоусов оглянулся как бы в поисках ответа. – Чем ему Галкин досадил? Впрочем, какое мне дело до причины? Я должен остановить его, иначе будет беда! Аким! Организуй-ка мне упряжку! Аким, ядрёный корень, где ты там?
***
Эсэ ехал быстро. След от саней Галкина был глубок, и олени бежали без особого труда. Александр успел уехать далеко, но с ним в санях был ещё Селевёрстов, и снег у них на пути лежал девственный, дорогу приходилось прокладывать заново. Эсэ имел все преимущества. Он гнал упряжку без остановок.
– Убью Александра, тогда и дам оленям отдых. Там спешить будет некуда, – рассуждал он.
И вдруг он услышал звук бубенцов позади.
– Кто же это? – Якут обернулся, не сбавляя скорости. Он стремительно нёсся вниз по крутому спуску, и тот, чьи колокольцы услышал, был ещё скрыт от него вершиной холма. Эсэ оглянулся несколько раз и в конце концов увидел погоню. В том, что это была погоня, он не сомневался. Оленями правил казак Белоусов, Эсэ узнал его с первого взгляда.
– Медведь! Остановись, чёрт тебя дери!
Эсэ потянул поводья, и олени стали как вкопанные. Продолжать скачку не имело смысла. Сани Белоусова мчались быстрее, так как скользили по уже хорошо накатанному снегу.
Якут спрыгнул с саней и выпрямился.
– Зачем едешь за мной? – спросил он, едва Белоусов подкатил к нему.
– Поговорить хочу, – ответил казак, громко дыша.
– Мы уже разговаривали. Много слов – много времени. Я спешу. – Эсэ отступил на шаг.
– Подожди, не торопись. Ты хочешь добраться до Александра. Ты намерен убить его, ведь так?
– Да.
– Зачем ты хочешь убить его?
– Он сын своего отца. Он продолжение его плоти, его крови, его жизни. Он несёт в себе вину за убийство! – Глаза Эсэ сверкнули; увидев, что Белоусов двинулся к нему, Эсэ достал нож.
– Какое убийство, Медведь? Остынь! Объяснись! – Белоусов медленно шагал вперёд, в его руке тоже сверкнул длинный нож. – Чем насолил тебе Александр?
– Его отец застрелил моего отца. – Эсэ неподвижно ждал приближавшегося казака. – Я должен отомстить.
– Откуда тебе известно? Почему ты думаешь, что это был Галкин?
– Мне рассказал Чича, он видел. После того как пули попали в моего отца, выбежал олень и насадил убийцу на рога. Три года назад…
– Так вот как ты понял, кто сын убийцы… После моего рассказа… Но ты знаешь не всё, Медведь, ты не знаешь, почему твой отец заманил к себе Афанасия Поликарповича…
Они держались на расстоянии двух шагов друг от друга, медленно передвигаясь по кругу.
– Мне не нужно знать больше ничего, – резко ответил Эсэ, – я чувствую с тех пор вкус крови во рту.
Казалось, они двигались по кругу целую вечность, глядя друг другу в глаза и выставив перед собой ножи. Ни один не сделал лишнего движения, оба мягко переступали влево, выжидая внезапного выпада противника. Они были примерно одного роста, но Белоусов превосходил Якута весом и мог запросто сбить Эсэ с ног, столкнувшись с ним плечами. Дикарь понимал это и не хотел подпускать казака к себе.
Белоусов не выдержал первым, сделал выпад и едва не достал Эсэ лезвием. Он был ловок и на редкость проворен для своих лет, но молодой таёжный житель двигался быстрее. Он отклонился и свободной рукой стиснул руку врага, вооружённую ножом. И тут Белоусов почувствовал всю ужасающую силу противника. Мышцы его мучительно свело, все связки и сухожилия готовы были лопнуть от напряжения, в глазах потемнело. Он попытался оторваться от соперника, увидев кончик ножа совсем близко от себя, но только ослабил свою позицию. Якут дышал носом, сжав губы, и пар из его ноздрей бил Белоусову в лицо.
– Держись, косоглазый! – гаркнул казак и ударил врага головой в лоб. Он вложил в этот удар всю силу своего отчаянья, всю надежду, всю ярость последней в жизни схватки. Где-то глубоко внутри он уже знал, что победа достанется не ему, и в этом знании таилось его поражение. Получив удар в лоб, Эсэ качнулся от неожиданности, потерял равновесие и опрокинулся на спину. Белоусов помедлил секунду, видно, тоже несколько сотрясённый ударом головы.
И это промедление позволило Эсэ приготовиться к следующему рывку казака. Как бы долго ни продолжалась схватка, её исход всегда зависит от одного мгновения, всё остальное время схватка представляет собой танец, повторяющий одни и те же движения. Мгновением, решившим этот бой, была секундная заминка Бориса Алексеевича Белоусова. Когда он бросился, наконец, вперёд, взмахнув ножом, Эсэ ловко откатился в сторону и встретил казака ударом лезвия в бок.
Матёрый вояка, прошедший через все превратности судьбы, охнул. Сжавшись в комок, он попытался закрыться от второго удара, но Эсэ был быстр, как молния, и вонзил нож в грудь. Внезапная опасность и быстрая смерть – как часто казак сталкивался с тем и другим, но в этот раз смерть выбрала его.
– Уходи, – проговорил дикарь, придавив руку Белоусова, всё ещё крепко сжимавшую оружие, – уходи спокойно. Ты хорошо дрался. Ты настоящий воин. Я сохраню о тебе добрую память.
Закрывая глаза, Борис Алексеевич успел заметить на вершине снежной горы очертания оленя. Возможно, это было обычное животное, но Белоусов почему-то подумал, что на его смерть пришла взглянуть Мать-Зверь, взявшая под своё покровительство Эсэ.
– Остынь, – прошептал казак онемевшими губами, – остынь… выслушай… Афанасий Поликарпович успел передать… перед смертью… тот человек… твой отец… хотел отомстить… за сестру…
– Мой отец хотел отомстить за свою сестру?
– Галкин забрал его сестру… она родила… ему… сына…
Белоусов замолчал. Эсэ не услышал от него больше ни слова. Неужели речь шла о той сестре Человека-Сосны, которую украл давным-давно какой-то русский?
– О Кыдай-Бахсы, – пробормотал Эсэ, – неужели Бакаяна, сестра моего отца, и есть мать Александра? В нём ведь течёт кровь моего народа… Да, он говорил, что его мать… Что же происходит? Получается, у нас с ним есть общая кровь? Значит, он мой родственник? Вот почему я предсказал ему что-то… Но если мы кровники, то мне нельзя убивать его! Я ничего не понимаю! Отец велел мне убить его… О Мать-Зверь, почему ты молчишь? Почему не подскажешь мне? Если я не должен отомстить ему, то зачем я ищу его? Зачем я пролил столько крови, что мне трудно дышать от её тяжести? Разве я пошёл не по той тропе?
Якут ткнулся лицом в грудь мёртвого казака и в течение нескольких секунд оставался неподвижен. Затем он резко вспрыгнул, выдернул из сердца мертвеца свой нож и поднял его над собой.
– Вот ещё кровь на мне, вот ещё сильнее её вкус у меня во рту!.. Чича, ты сказал, что отец велел отыскать сына убийцы!.. Я отыскал его. Мать-Зверь, что мне делать дальше? Что мне делать после того, что я уже совершил? Я отыскал того, о ком говорил отец. Отыскал… Кыдай-Бахсы, Покровитель кузнецов, Носитель Силы, подскажи мне… О, глупый я, глупый! Теперь я вспомнил совершенно точно, что отец не произносил слова «убей». Он сказал «найди», я же решил, что он говорил об убийстве… Вкус крови во рту, во мне проснулся вкус родственной крови. Я должен был найти брата. Вот о чём говорил Человек-Сосна! Теперь я понял, только теперь я понял всё. В тот момент, когда мой отец хотел отомстить за сестру, он узнал, что она родила сына от своего похитителя, поэтому Человек-Сосна был не вправе расправиться с ним. Мать-Зверь и Кыдай-Бахсы не позволили ему нарушить закон. Было лучше, чтобы сам Человек-Сосна погиб, но не преступил закона. Родственник не убивает родственника. Тот русский не знал о законе, он мог стрелять в любого человека. Мать-Зверь отомстила за гибель оюна. Мне не нужно мстить. Мне нужно было найти брата… Я прошёл долгий и кровавый путь. Что мне делать теперь?
***
Лямки на санях Галкина то и дело рвались. То ли он выбрал старое снаряжение, то ли ещё какая причина была, но саням то и дело приходилось останавливаться. Помимо этого, следы от проехавшего вчера Белоусова закончились в том месте, где он отправился в путь после пурги. Далее снег лежал нетронутый. Приходилось часто спрыгивать с низких саней и бежать рядом. Иван Селевёрстов быстро устал. Когда после очередной остановки они снова тронулись в путь и стали подниматься в гору, Иван взмолился:
– Саша, мне жарко, тяжело, я не могу больше!
– Я тебя предупреждал, чёрт возьми! – разъярился Александр. – Что ты за человек такой? Разве я не сказал тебе, что не до тебя мне будет?
– Сказал. Но ведь ничего особенного не стряслось. Что ты так несёшься? Разве ты гонишься за кем-нибудь?
– А вдруг гонюсь? – Лицо Галкина приблизилось к глазам Селевёрстова. – Откуда тебе знать, что нам предначертано свыше? Может быть, мы сейчас не просто катим по снегу на оленях, а мчимся навстречу схватке?
– С кем? С кем ты намерен схватиться?
– Это я так, – отмахнулся Александр, успокаиваясь. – Это я к слову… Давай остановимся, раз ты устал. Впрочем, давай ещё версты три проедем. Там, кажется, тихое место будет, безветренное. Можно будет немного разоблачиться, и ты повесишь бельё сушиться.
– В такую-то погоду разоблачиться?
– Просохнет в один миг, – заверил Галкин. – Ты насквозь пропотел, взмок. А мокрым тебе никак нельзя. Разденешься, и я укутаю тебя в оленьи шкуры.
Так они ехали, пока не добрались до места, которое показалось Галкину подходящим для остановки.
– Саша, скажи мне, пожалуйста, ты хоть успокоился немного? Развеяла ли дорога твою хмурость, твои опасения? И чего ты, скажи наконец, опасаешься? Признайся мне.
– Это, братец, не объяснить. Полагаю, что всё дело в якутской крови, – вздохнул Галкин, останавливая сани.
– Что ты хочешь сказать?
– Видишь ли, звери не умеют выразить своих предчувствий, но чувствуют они гораздо сильнее и глубже людей. Мы с тобой проходили обучение в Санкт-Петербурге, мы образованные люди. Мы понимаем, что когда человек подводит теоретическую основу под свои чувства и получаемую информацию, то это следует называть знаниями. С нашей точки зрения, звери не имеют такой теоретической основы, поэтому обладают не знаниями, а лишь инстинктами. Пусть так, но всё же они заранее знают, когда будет непогода, когда землетрясение и прочая всякая гадость. Пусть это лишь инстинкт, пусть он научно не обоснован. Мне он ближе, чем книжные постулаты.
– Ты к чему говоришь это? – не понял Иван.
– Якуты и все другие дикари похожи в этом смысле на зверей. Они гораздо глубже чувствуют мир, нежели мы, дети цивилизации. Но во мне есть их кровь, половина моей крови принадлежит этим дикарям. И я умею чувствовать то, что никогда не ощутишь ты. Однако не умею объяснить это. Тут я похож на зверя, и никакие мои знания, приобретённые в Петербурге, не помогают мне. Вот о чём я говорю… Я просто ощутил, что мне надо было уехать. Что-то заставило меня. Я не знаю причины. Такое иногда случается со мной. Когда меня спрашивают о причине того или иного поступка, мне приходится зачастую просто сочинять его обоснованность, фантазировать. Впрочем, иногда у меня получается отыскать истинную причину…
– А в этот раз?
– Не знаю. Похоже, меня что-то вспугнуло… Страх накатил.
Александр встал возле саней, и в ту же секунду совсем близко послышался волчий вой. Олени насторожились, затопали ногами.
– Волки, Саша, – проговорил потухшим голосом Иван.
– Слышу. – Галкин потянулся к зачехлённому «винчестеру». – Тут целая стая.
Хищники выбежали из леса внезапно, держась тёмной массой. Их было не меньше десяти, все тощие, злые. Олени, испуганно хрюкнув, бросились бежать. Галкин успел прыгнуть на дёрнувшиеся сани, бросил Ивану шест и выхватил «винчестер» из чехла.
– Правь, я займусь матёрыми.
Он выстрелил несколько раз подряд. Два серых тела вильнули, коротко заскулив, брыкнули ногами и зарылись в снегу. Остальные волки продолжали бежать, то навостряя, то прижимая уши.
Внезапно снег колыхнулся под санями и как-то сразу просел, посыпался вниз. Олени продолжали бежать с прежней скоростью, таща за собой по снегу порванные постромки; сани, накренившись, быстро опускались в какую-то пропасть. Всё смешалось в кучу. Должно быть, в том месте была глубокая расщелина, закрытая сверху тонкой коркой льда, и животные, помчавшись прямо вдоль неё, нарушили крепость покрова. Сани вкатили на ослабшую снежную корку и сломали её. Одни полозья сразу ушли вниз, другие взметнулись вверх. Ивана, сидевшего сбоку, выбросило из саней, и он оказался на самой кромке обрыва. Сани сильно сбавили ход, проваливаясь, но продолжали двигаться дальше. Селевёрстов с ужасом увидел, что Галкин быстро скользил со снегом вниз. В считанные секунды ему предстояло скрыться под толщей осыпавшегося снега.
– Саша!
Иван дёрнулся вперёд что было мочи, и тело его распласталось на краю.
– Саша!
Иван вытянул перед собой обе руки, в них оказался шест, которым он погонял оленей. Шест ударил Галкина в спину, и тот судорожно вцепился в него, отбросив «винчестер». Олени продолжали рваться вперёд, гонимые страхом перед волками. Вся четвёрка рогатых бегунов кинулась дальше, взбивая снег. Волки, промчавшись стороной от обрыва, побежали за ними. Иван не увидел ничего этого. Его глаза были устремлены на Александра.
– Саша! Саша, держись, я прошу тебя, умоляю, – не то бормотал, не то кричал во всё горло Селевёрстов.
Он придавил конец шеста своим телом и боялся шевельнуться. Но снег уже остановил свой поток, засыпав Галкина по самые плечи. Если бы не попавшийся под руку Александру шест, он бы не сумел удержаться на поверхности и исчез бы на двухметровой глубине.
– А я, братец, похоже, всё ещё жив! – выкрикнул Галкин. – Ты где там, Иван?
– Здесь, – послышался сзади сдавленный голос друга.
– Давай-ка, братец, вытаскивай меня.
– Я боюсь двинуться, Саша, – виновато проговорил Селевёрстов.
– Оглядись, далеко ли волки? Убежали, что ли?
– Да, – сообщил после недолгой паузы Иван, – похоже, за оленями умчались. Не заметили, что мы тут остались.
– Конечно, олени ведь бегут, внимание к себе привлекают. Ну давай выкапывай меня, а то я ни рукой, ни ногой не могу пошевелить. Меня так сдавило, что дышать… Однако ты проворен, оказывается. Как ты успел подсунуть мне шест? – Его мозг работал лихорадочно, не упуская ничего из внимания. – Если бы тебя не оказалось рядом, то мне бы конец настал, это уж точно.
Да, Галкин был на волосок от гибели. Если бы не стукнувший его в спину шест, за который он успел ухватиться, он был бы теперь погребён на глубине не менее двух метров, а то и глубже.
Иван заставил себя подняться и подошёл к торчавшей из снега голове Александра.
– При иных обстоятельствах я бы долго хохотал над твоим видом, – проговорил он.
– Когда-нибудь похохочем. Откапывай же меня!
Когда Александр выбрался, весь облепленный снегом, и растянулся на спине, Иван упал рядом.
– Я страшно устал, Саша.
– Отдыхай, братец. Теперь мы с тобой должны хорошенько отдохнуть. Олени наши пропали, придётся дальше на своих ногах идти.
– Я не смогу, Саша. Я не одолею эту дорогу, – вяло ответил Селевёрстов.
– А куда тебе деваться? Не лежать же тут подобно бревну. Сейчас отдышимся и пойдём помаленьку. Пожалуй, придётся обратно шагать. До зимовья-то ближе будет, чем до перевала. Да и снег позади остался укатан полозьями.
– Саша, дорогой, а ведь Медведь был прав, – сказал вдруг Иван взволнованно.
– Ты про что?
– Помнишь, он сказал, что снег провалится? Он ведь про этот самый случай говорил.
– Чёрт возьми, а ведь верно! – Галкин сел и посмотрел на Ивана.
– Он тогда ещё сказал, что нужно выждать. Это он о твоём порыве пуститься в дорогу… Он всё видел… Он сказал, что одному тебе нельзя…
– Да, именно так, – согласился Галкин, – я помню.
– Выходит, не случайно я прыгнул к тебе в сани, – задумался Селевёрстов.
– Не случайно ты поиздержался и остался без копейки в кармане именно в Олёкминске, братец, – продолжил Галкин размышления Ивана. – Воистину пути твои, Господи, неисповедимы.
– Э, да я, кажется, слышу бубенцы, – насторожился Иван.
– У тебя либо слух обострился на нервной почве, либо тебе мерещится. Я ничего не… Ах, верно, верно, теперь различаю перезвон. – Галкин повернулся всем телом в ту сторону, откуда они приехали.
На холме появилось чёрное пятно. Оно стало быстро увеличиваться в размерах и приобрело форму двух саней. На передних сидел погонщик. Вторые сани были пусты, олени второй упряжки были привязаны к задней перекладине первых саней и покорно следовали за ними. Когда странный поезд приблизился, Галкин узнал погонщика.
– Медведь! – воскликнул он. – Как ты оказался здесь? Откуда ты едешь?
– С зимовья, – мрачно ответил Якут, потянув поводья.
– Постой, а кто это у тебя в санях? – Александр проворно поднялся, забыв об усталости. – Да ведь это Белоусов! Боря, друг мой, что с тобой?
– Он мёртв, – ответил Эсэ, едва повернув голову к покойнику.
– Мёртв? Что случилось?
– Мы дрались, и я убил его.
– Вы дрались? – Галкин нагнулся над бездыханным казаком.
– На ножах. Был честный бой. – Якут продолжал сидеть неподвижно. Галкин отступил на шаг и, охваченный ужасом непонимания, вперился диким взором в Эсэ. Тот продолжал говорить. Голос его звучал ровно, почти спокойно, но в нём всё же угадывалось напряжение. – В других я стрелял из засады. Мне была нужна кровь. Я так думал. Теперь я знаю, что я ошибался. Я сказал тебе однажды, что меня гонит месть. Но оказалось, что я заблуждался. Я неверно истолковал слова Матери-Зверя. Я плохой оюн.
– Кто ты, чёрт возьми? – Александр сделался белее снега и оглянулся, ища глазами свой «винчестер», забыв, что оружие исчезло под снегом вместе с санями и всей кладью. – О каких других убийствах ты толкуешь? Неужели все погибшие в моей экспедиции – твоих рук дело? Как? Почему ты убил столько людей?
– Я охотился за тобой. Но я не знал, что мне нужен именно ты, поэтому я убивал всех подряд, когда мне предоставлялся удобный случай. Но теперь я узнал, что ты – мой брат, – медленно ответил Эсэ, – поэтому я не могу тебя убить.
– Какой, чёрт возьми, брат? Как ты можешь быть моим братом, дикая скотина?
– Злые слова, плохие слова… Твой друг Белоусов, умирая, сказал мне: «Остынь». Теперь я повторяю тебе то же самое. Остынь! – Якут пристально посмотрел на Галкина. – Твоя мать была сестрой моего отца. Твой отец застрелил моего отца. Я хотел отомстить. Это долгая история. Три года назад произошло это. Я должен был найти тебя и убить. Таков закон мести. Но казак Борис сказал мне, что твоя мать и есть сестра моего отца. Мы – родня, кровная родня.
Александр переглянулся с растерянно стоявшим возле него Селевёрстовым. Тот пожал плечами. Будь в руках Галкина его верный «винчестер», Эсэ не говорил бы так долго. Но оба русских были вооружены только ножами, в то время как на коленях у Эсэ покоилась винтовка. Якут перехватил взгляд Александра, устремлённый на оружие, и грустно улыбнулся.
– Ты думаешь, я не понимаю твоих мыслей? Возьми, я не боюсь смерти. – Он взял винтовку обеими руками и бросил её Галкину. Тот жадно схватил её, передёрнул затвор и оскалился.
– Ну, Медведина, прощайся с жизнью.
– Саша, остановись, – Иван вцепился в руку товарища, – он же сам дал её тебе! Он не собирается драться! Успокойся, остынь! Белоусова всё равно не вернуть.
Галкин с огромной неохотой опустил оружие, затем резко шагнул к Эсэ и яростно ткнул стволом в щёку дикаря, разорвав ему щёку.
– Скольких ты невинных людей положил… Откуда ты взялся, зверюга? – прошипел Галкин.
– Я не всегда хотел убивать русских. Это желание пришло ко мне после гибели моего отца. Но было время, когда я уживался с людьми твоего племени. Я даже помогал им, когда была такая необходимость. Иногда они нанимали меня проводником. Но я никогда не превращался в вашего раба. Я никогда не нанимался носильщиком, не превращался во вьючную лошадь. Я просто помогал. Я знал, что бороться с вами нет смысла. Я не глупый. Сила на вашей стороне. Мой народ слишком малочисленный, чтобы вести войну против вас. – Эсэ смотрел прямо в глаза Александру. – Я не всегда воевал против белых людей. Я даже помогал им иногда. Как-то раз, когда я был ещё мальчиком, я даже спас одного русского от медведя. У того русского не выстрелило ружьё, видно, патрон попался отсыревший. Я прыгнул между зверем и русским и стал разговаривать с медведем. Медведь – мой брат, но не человеческий, а звериный. Медведи всегда понимали меня, хотя не всегда соглашались с моими словами. В тот раз медведь тоже не согласился уйти. Но он долго раздумывал, слушая меня. Он даже повернулся ко мне спиной, будто решил не нападать, однако его злоба взяла верх в нём. Медведь снова поднялся на задние лапы и пошёл на нас. Но к тому времени русский уже успел перезарядить ружьё и выстрелил дважды медведю в пасть.
– И это был ты? – медленно проговорил Александр. – Это ты заговорил медведя?
– Я, – кивнул Эсэ.
Галкин опустил винтовку и повернулся к Селевёрстову:
– Бог мой, что за жизнь, что за судьба! Иван, хочешь услышать нечто такое, что свалит тебя с ног?
– О чём ты? – не понял Иван.
– Он, будучи мальчишкой, заговорил медведя и спас охотника.
– Я слышал, я всё слышал. Это, бесспорно, удивительная история, но я уже ничему не удивляюсь.
– Дело в том, что тем охотником был мой отец! – выпалил Александр.
– Что? – поразился Иван.
– Как так? – Эсэ был потрясён не меньше Селевёрстова. – Я спас от гибели твоего отца? Я помог сохранить жизнь будущему убийце моего отца! Неужели такое могло произойти? Я не верю!
– Ты только что сам поведал нам твою историю, – медленно сказал Александр. – Я много раз слышал от моего отца этот рассказ. Так что если ты не присвоил себе чужого подвига, Медведь, то ты понимаешь, как распорядилась судьба.
Эсэ встал и сделал несколько шагов по снегу.
– Я плохой оюн, – прошептал он. – Я с самого начала не понял ничего и пошёл не той тропой.
Он медленно обернулся. По его щеке лениво стекала кровь. Галкин устало опустился на сани возле мёртвого Белоусова. Иван тяжело дышал, будто только что остановился после продолжительного бега, и испуганно переводил взгляд с Александра на Эсэ и обратно.
– Я надеюсь, вы не станете теперь драться? – спросил он через некоторое время.
– Драться? – удивился Якут. – Я не имею права драться с ним.
Он сделал несколько неуверенных шагов туда-сюда, будто погрузившись внезапно в раздумье, затем опустился на корточки, загрёб ладонью снег и положил его в рот. Медленно пережёвывая его, Эсэ посмотрел на Галкина. Лицо его было непроницаемым. О чём он думал?
– Саша, надо что-то делать, – пробормотал Селевёрстов.
– Делать? – Галкин бросил на него растерянный взгляд и нервно перебросил винтовку из руки в руку.
– Тебе виднее, как быть, – продолжал Иван. – Я не смыслю ровным счётом ничего в ваших обычаях…
Эсэ поднялся и неторопливо подошёл ко вторым саням.
– Я уезжаю, – сказал он спокойно.
– Уезжаешь? – переспросил Александр. – Куда же? Ты полагаешь, что я могу отпустить тебя после всего, что я узнал?
– Я еду к тебе в зимовье. Хочу забрать моих лошадей.
– Мужики разорвут тебя на куски, как только узнают, что ты убил Белоусова, что на твоей совести Карлуша и другие…
– Я еду, – повторил Якут, отвязывая вторую упряжку от первых саней.
Селевёрстов видел, что Галкина терзали сомнения, остановить или отпустить Эсэ. Но Иван ничем не мог помочь товарищу.
– Я еду, – ещё раз сказал Якут и стегнул оленей, его лицо осталось спокойным.
– Давай быстро в сани, – скомандовал Галкин и махнул рукой, призывая Селевёрстова. Иван осторожно опустился возле мёртвого Белоусова, слегка сдвинув рукой голову казака.
Их олени с готовностью побежали следом за санями Эсэ. Справа и слева потянулся лес.
– Что ты будешь делать, когда мы приедем? – Иван похлопал Александра по плечу.
– Не знаю.
Галкин чувствовал себя загнанным в ловушку. Якут не тронул его, хотя имел все преимущества, когда подъехал. Александр хорошо понимал это. И всё же Эсэ был хладнокровным убийцей. Оставить этот факт без внимания Галкин не мог. Он ехал молча, то и дело поглаживая винтовку, которую оставил Эсэ.
– Неужели ты выстрелишь в него? – шёпотом спросил Иван, но спутник не дал ответа.
Олени Эсэ разбежались на спуске слишком быстро, и один из них оступился, шагнув чуть в сторону от накатанной колеи. Животное споткнулось, и сани налетели на него, подмяв под себя. Эсэ подскочил к нему и освободил его от лямок. Несчастный олень подпрыгивал от боли на задней правой ноге, а левая повисла у него и слегка свернулась в сторону. Животное издавало пронзительный крик-плач.
– Сломал! – воскликнул Галкин.
Эсэ посмотрел на Александра и указал глазами на винтовку. Галкин понял его и подошёл к оленю, держа оружие наперевес. Олень печально смотрел на него своими широко раскрытыми глазами. Иван отвернулся. Грянул выстрел, и холмы, поросшие чёрным лесом, откликнулись долгим перекатным эхом.
Галкин протянул винтовку Селевёрстову и двинулся к Эсэ, чтобы помочь ему поставить перевёрнутые сани.
– Тут вон тоже постромки порвались, – негромко сказал он.
Вдруг по тайге пронёсся протяжный рёв.
– Что такое? – Иван похолодел от ужаса.
Все замерли на один миг, затем Александр выпалил:
– Медведь.
Эсэ поднялся во весь рост и кивнул:
– Он.
Рёв повторился. Нервное напряжение возросло.
– Оставь эти сани, – негромко посоветовал Галкин и махнул рукой, – поедем на вторых.
– Нас много, четыре человека. – Эсэ указал на неподвижное тело Белоусова. – Здесь начинается подъём, олени не вывезут нас. Придётся пешком до вершины холма.
Рёв медведя послышался снова, но теперь он был гораздо ближе.
– Медведь-шатун, – ответил Галкин на вопросительный взгляд Ивана, – самый опасный зверь. Что-то заставило его выйти из берлоги, что-то растревожило его. Может, кто-то ранил его…
Медведь появился из-за деревьев неожиданно. Тяжело переваливаясь со стороны на сторону, он быстро прошёл несколько шагов и остановился. Его лобастая голова опустилась к снегу, затем поднялась вверх, разинув пасть с хорошо различимыми клыками. Он казался неуклюжим, однако неловкость его движений была обманчива. Достаточно было увидеть, как быстро он переставлял свои лохматые лапы, чтобы понять, какой скрытой прытью обладало это существо.
Эсэ посмотрел на стоявших возле него людей и, ничего не объясняя, осторожно шагнул навстречу медведю.
– Куда ты? – проговорил на выдохе Иван.
– Я иду разговаривать с ним, – спокойно ответил Эсэ.
– Что-то не верю я в такие разговоры, – процедил сквозь сжатые зубы Александр.
– Но ведь заговорил он однажды медведя и спас твоего отца, – неуверенно возразил Селевёрстов. – А почему ты не стреляешь?
– Далековато. Отсюда я в него, конечно, попаду, но не убью. А такого зверя лучше попусту не злить, он и так в дурном настроении. Эх, надо уезжать. Он не побежит за нами, остановится возле застреленного оленя.
– Мы не можем уехать одни… Эй, Медведь! Поворачивай обратно! Поехали быстрее!
Эсэ чуть обернулся на зов Ивана, но не остановился. Медленно переставляя ноги, обутые в пушистые этэрбэсы, он шёл вперёд.
– Медведь против медведя, – прошептал Галкин.
Время замедлило свой бег. Воздух остановился, невесомые снежинки, казалось, неподвижно зависли между землёй и небом. Эсэ неторопливо поднял обе руки. Зверь шумно тряхнул головой и, опустившись на задние лапы, поднял передние перед собой. Тускло вспыхнули чёрные когти. Опять из пасти вырвался страшный рёв. Эсэ шагнул дальше. В ту же минуту медведь тяжело опустился на передние лапы и сделал скачкообразное движение вперёд. Его шкура, облепленная снегом, затряслась. Он продвинулся ещё тем же полускачком, затем побежал, быстрее и быстрее. Вокруг стояла зловещая тишина. Засыпанный снегом лес замер. Только этот огромный медведь грозно мчался на Эсэ.
Вдруг в воздухе пронёсся громкий вздох. Якут услышал треск. Услышали его и Галкин с Селевёрстовым. Огромное дерево, склонившееся под бременем лет и тяжестью снега, не удержалось и рухнуло вниз, будто сваленное чьей-то невидимой рукой. Эсэ успел отскочить в сторону, и медведь, почти набросившийся на него, принял всю мощь удара на себя. Толстенный ствол надёжно придавил его, ударив поперёк позвоночника. Эсэ растянулся на снегу в десятке сантиметров от покрытого шершавой корой ствола. Две сломанные ветки воткнулись в его ногу, третья сорвала с головы капюшон и рассекла ухо надвое. Вокруг него дрожали, осыпая снег, зелёные иголки на ветвях. Обернувшись, Эсэ увидел громадные когти возле себя и попытался отдёрнуть ногу, пришпиленную обломками сучьев, но не смог.
Галкин и Селевёрстов ринулись к упавшему дереву.
– Как ты, Медведь?! – закричал Иван и сквозь ворох хвои увидел оплывающий под горячей кровью снег. – Откуда кровь?
Эсэ побледнел и едва заметно улыбнулся.
– Я плохой оюн. Я разучился разговаривать даже с медведями.
– Откуда кровь?
Эсэ указал на проткнутую ногу и приподнялся на локтях. Под ним появилась вторая лужа крови. Александр увидел длинный лоскут меховой одежды и клок мяса.
– Ты ранен? – спросил Галкин, продираясь сквозь ветви.
– Он успел ударить меня и порвал мне бок, – спокойно ответил Якут. – Это расплата за ошибки.
– Покажи мне рану, – потребовал Александр.
– Нет нужды. У него хорошие когти. Я останусь здесь… – Эсэ говорил тихим голосом. – Надрежьте медведю горло. Он просит выпустить его дух на волю, чтобы он мог заново родиться в теле… Надрежьте вы, ведь я не дотянусь до него. Не бойтесь, он вас теперь не тронет…
– Покажи рану, – повторил Александр, – я прошу тебя… брат!
– Хорошо, что ты сказал так, брат, – улыбнулся Эсэ. – Я покину этот мир легко. Ты назвал меня братом. Ты признал меня… Я признаю тебя тоже.
Галкин потянулся, чтобы перевернуть раненого, но тот остановил его решительным жестом.
– В тебе течёт кровь моего народа. Ты должен понимать. Мне не нужна помощь. Я умираю в лесу, возле медведя и возле брата. Мне хорошо. Я уже не чувствую боли…
– Что я могу сделать, Медведь?
– Скоро стемнеет. Езжайте.
– Но…
– Если когда-нибудь ты будешь в деревне Тунгусов на Чёрном Пне, то спроси, не родился ли там у одной женщины сын от меня. – Голос Эсэ стал затухать. – Если найдёшь его, то возьми его себе. В нём наша кровь. Кровь воинов… Теперь всё… Меня оставьте здесь… Я совершил много ошибок… Уходите… Мне пора…
Он закрыл глаза и больше не шевелился. Ни Галкин, ни Селевёрстов не видели, как дух Эсэ взмыл над деревьями. А он взглянул на них сверху и махнул рукой на прощанье. Перед ним возникли прозрачные фигуры, очень стройные и красивые. Они поманили Эсэ к себе и обняли его, как умеют обнимать только самые близкие и любящие существа. Вокруг них мягко двигались такие же прозрачные очертания всевозможных зверей. Эсэ обвёл их радостным взглядом и засмеялся.
Это случилось в Месяц-Когда-Сердце-Стынет-От-Стужи…
Февраль – март 1999
Лето большой грозы (1914)
Поручик Верещагин, худощавый, молчаливый, мрачный молодой человек с нервным лицом, брёл впереди своей роты, тяжело дыша и смахивая то и дело пот со лба из-под фуражки. Учения с изнурительными маршами по лесистой местности никогда не доставляли ему удовольствия, как и сама военная служба. Июль 1914 года выдался в низовьях Иртыша жаркий. Солнце палило нещадно. Пыль скрипела во рту, садилась на залитые потом усталые лица и темнила их, превращая складки кожи в чёрные полосы. Солдаты шагали молча, ставя ноги невпопад, давно забыв о строевом шаге. Младшие офицеры шли перед своими ротами не в ряду, а чуть правее. Кители потемнели от пыли и пота на спинах и на плечах. Старшие командиры сидели в сёдлах на измождённых лошадях, опустив поводья и ссутулившись.
Все мечтали скорее добраться до привала.
– Далеко ли до Демьяновки? – послышался чей-то голос, обращённый к крестьянину на телеге.
– Чуток осталось потерпеть, – сочувственно отозвался заросший густой бородой мужик. Василий Верещагин вздохнул. Ноги его, обутые в тяжёлые тесные сапоги, ныли от долгого пути.
«И кто только придумал эту нелепую обувь?» – снова и снова спрашивал он себя.
– Кажись, домишки замаячили внизу, – донёсся до ушей поручика голос, – стало быть, дошагали.
– Не отставать, четвёртый взвод! Подтянись!
Сверху казалось, что кто-то махнул волшебной палочкой – и вот стряхнулись с неё деревянные коробочки домов и разбросались по кривой линии в зелени садов. По мере того как полк приближался, становились видны разноцветные резные ставни.
– Так что, вашбродь, можно тепереча отдыхать, – заговорил, распуская ремень, денщик Верещагина, когда по цепи пронеслась долгожданная команда «Разойдись».
– Давай-ка, Никифор, насчёт ночлега, – сказал Верещагин, – в котором доме мне притулиться?
Денщик Василия Верещагина, Никифор Чурбанов – шустрый, говорливый, косоглазый солдат, исчез и вскоре вернулся со словами:
– Так что, вашбродь, место готово. Хозяйка уже самовар ставит.
– До речки далеко ли?
– До Демьяновки-то? Рукой подать, вашбродь! Только туда сейчас конные пошли своих лошадей поить. Ежели вы по поводу помывки, так я вас из ведёрка полью зараз, не извольте беспокоиться! – оскалился Никифор, довольно выпятив грудь.
– Василий, ну как ты? – окликнул Верещагина остановившийся шагах в десяти прапорщик Крестовский. – Не спёкся? Как с ночлегом?
– Слава Богу, Никифор уже организовал…
– Я вон в том домишке остановился, – сказал Крестовский, небрежно расстегнув китель. – Заглядывай ко мне, если силы остались, пропустим по стакану самогонки.
– Хан башку оторвёт за самогон, – отозвался неуверенно Верещагин.
Ханом младшие офицеры называли между собой полковника Касымханова, человека сварливого и капризного.
– Как знаешь, – пожал плечами Крестовский. – Лично я не откажу себе в удовольствии… Да за этот бессмысленный марш Хан сам бы нам налить должен! Эх, ещё бы в баньку, чтобы смыть с себя эту вонь, да девку для полноты дела…
Когда поручик Верещагин вошёл в дом, Никифор уже раздувал на крыльце самовар по-солдатски – надев снятый с ноги сапог на самоварную трубу.
– Хозяин дома? – спросил Верещагин.
– Не-е, в лесу где-то бродит, – отозвался денщик, – зато большуха[8] здесь.
В дверях комнаты показалась женщина лет сорока пяти и кивком пригласила поручика внутрь.
– Здравствуй, хозяйка, – сказал Верещагин, – как здоровье?
– Спаси Бог. – Она внимательно оглядела офицера. – Вот тут заночуете, ваше благородие.
Комната была маленькая, но вполне уютная. Следом за поручиком в комнату протиснулся денщик и шепнул на ухо Верещагину:
– Дочка у них есть.
Верещагин выразительно поглядел на Никифора.
– Хорошенькая, вашбродь. Я одним глазком подглядел, – по-прежнему шёпотом сообщил солдат.
Ближе к ночи Верещагин вышел во двор покурить, на нём была лишь рубаха на голое тело. Справив малую нужду, он устроился на перекошенных ступеньках крыльца и с наслаждением прислушался к разлитой вокруг тишине. Где-то на другом конце деревни слышались голоса и смех – кутили офицеры.
«Как хорошо! – подумал Василий. – Как всё-таки по-райски устроен мир! Сердце замирает от наслаждения, когда вот такое спокойствие чувствуешь! Слава тебе, Господи, что выдаются время от времени такие минуты».
Он чиркнул спичкой и жадно втянул всей грудью дым. Внезапно слева он заметил белую тень среди тяжёлых сгустков тёмной садовой листвы. Он поднялся во весь рост, расставив ноги и уперев руку в бок.
– Есть кто? – спросил он негромко.
– Какой вы смешной, ваше благородие, в таком виде, – донёсся до него шёпот.
– Что за вид такой?
Он оглядел себя и улыбнулся. Должно быть, он и впрямь представлял собой забавную картину: строгое лицо, подсвеченное красным огнём папиросы, холёные усы и длинные голые ноги.
– Господин офицер без штанов, – снова шепнула тень и хихикнула.
– Ты кто? – Верещагин согнал с лица улыбку.
Очертания тени сделались яснее и приобрели женские формы. Василий отступил на шаг, почувствовав неловкость. Из ночной тьмы к нему подступила девушка в длинной ночной рубашке.
– Да кто ты? Кто? – опять спросил он.
– Хозяйская дочь, – ответила девушка.
– А чего ты по ночам шастаешь?
– А вы чего?
– Я-то курить вышел. Не спится, – как бы оправдываясь за своё поведение, пояснил Василий. – А ты зачем тут?
Она неопределённо пожала плечами. У неё было мягкое круглое лицо, чёрные глаза влажно блестели, распущенные волосы падали на плечи.
– А я видела, как вы обмывались, – вдруг произнесла она и улыбнулась.
– Я? – Василий смутился. Он вспомнил, как стоял нагишом позади дома, полуприсев под ведром, которое держал над ним Никифор, и тщательно мылил взопревшие гениталии.
– Я? – переспросил он. – Ну и что? Что ж тут такого?
– Ничего. Просто завтра расскажу соседкам, что собственными глазами видела господина офицера без штанов. – Девушка едва сдерживала клокотавший в ней восторг. – То-то смеху будет!
Девушка сделала шаг вперёд и остановилась настолько близко от Верещагина, что он почувствовал не только её тихое дыхание на себе, но и тепло её грудей под ночной рубашкой.
– Да зачем же рассказывать пустое? – шепнул Верещагин в ответ. – Ты вот придвинься ко мне. Дай-ка я обниму тебя, тогда и будет о чём с подругами посудачить.
В нём вспыхнула искра, вязкий огонь медленно разлился по телу, спускаясь вниз по животу, собрался горячим комочком в паху и принялся ворочаться там, наполняя мужскую плоть желанием.
«Хорошенькая, – подумал он, – даже очень хорошенькая».
– Какой вы быстрый, ваше благородие… – Она дышала ему прямо в лицо, улыбаясь и глядя исподлобья.
Коснувшись щекой его щеки, она затаилась на несколько мгновений. Её руки тронули его голую шею, скользнули по плечам вниз к подолу его рубахи. И тут девушка хихикнула, отступила на шаг и быстро юркнула в дом, бросив через плечо едва слышно:
– Какой вы всё-таки шустрый!
Василий остался один. Опустив глаза, он увидел изрядно оттопырившийся подол рубахи и потрогал себя.
«Возвратится или нет? – подумал он. – Заигрывала…»
В руке всё ещё тлела папироса, Верещагин поднёс её ко рту и затянулся, теперь уже без удовольствия. Испытывая неловкость, он снова сел на ступени и тупо уставился на высунувшийся из-под рубахи налитой член. Блестящий круглый конец размеренно подрагивал.
«Может, всё-таки вернётся? – размышлял Верещагин. – Вон ведь встал, чертяка! Куда ж я с таким ярилкой? Придётся переждать тут. А девка-то хороша, глаза просто прожигают… Нет, не придёт она, не придёт. А кабы и пришла, так не дала бы: небось только дразнить умеет. Дурак же я, честное слово… А вот и не дурак. Всякий бы заглотил эту наживку. Плечи-то у неё какие чудесные, а шея… И луна своё дело сделала, одурманила. Нет, не дурак, а вон она – сволочь. Все бабы сволочи».
Вскоре он успокоился и осторожно, стараясь не скрипеть половицами, пробрался в свою комнату. Сон не шёл, в темноте перед Василием то и дело вырисовывался светящийся облик ночной девушки. Но теперь она была куда более обнажённой и откровенно предлагала себя.
«Пропади ты, дьявол! – шептал Верещагин, отгоняя соблазнительное видение. – Вот привязалась!»
Промаявшись так изрядное время, он то незаметно впадал в дремоту, то открывал глаза, продолжая вести словесную борьбу с капризной молодой женщиной, которая превращалась то в вязкие ночные тени, то в птичий шум, то в тяжёлые морские волны. Лишь под утро его охватил настоящий крепкий сон.
– Вашбродь, вставайте! Вставайте! – будил его Никифор, тряся за плечо. – Все уж скоро готовы будут! Вон и ротный только что мимо нас протопал.
– Ой, какая ж дурная ночь.
– Никак нет, вашбродь, ночь отличная была, тихая.
– Пошёл ты к бесу, Никифор! Откуда тебе знать, как я спал… Самовар готов?
– Никак нет! Я уж целый, почитай, час бужу. Вы всё гнали меня и гнали, сказали, что чаю не будете.
– Дурак! – Василий сделал над собой усилие и сел, свесив ноги с кровати. – Тащи воду. Умываться буду.
Стоя возле крыльца в штанах и сапогах, Верещагин с наслаждением подставил себя под струю почти ледяной колодезной воды.
– Как почивалось, ваше благородие? – услышал он девичий голос за спиной и резко обернулся.
В дверях стояла хозяйская дочь, в длинной рубашке, с распущенными тёмно-каштановыми волосами. У неё были крупные ровные зубы, придававшие широкой улыбке особую наглость. Задиристые глаза сверкали в утреннем солнце. Верещагин кивнул, буркнул в ответ нечто невнятное и, потупив взор, быстро прошёл боком в дом, спеша одеться.
Когда он выбежал на улицу, батальоны уже стояли правильными четырёхугольниками, один около другого. Верещагин подбежал к своему месту, стараясь не встречаться с укоризненным взглядом командира и продолжая видеть перед собой, как неотвязные призраки, свежее девичье личико. В конце улицы о чём-то громко шумели деревенские мужики.
– Скандалят, – с завистью проговорил какой-то солдат из-за спины Верещагина. – Долго уже ругаются, не спешат никуда.
Как бы отвечая на эти слова, Василий тяжело вздохнул. Всё казалось ему чудесным в этой деревеньке, даже безудержная матерная брань.
«Так бы жить тут и жить, забыв о карьере, вообще забыв обо всём на свете. Ходить бы себе на Иртыш, наслаждаться красотами крутых берегов и купаться вместе с ядрёными сибирскими девками», – подумал он.
Из-за правого фланга выехал на громадном пегом жеребце полковой командир.
– Здорово, первый батальон! Солдаты напружинились и дружно отозвались:
– Здра-жла-ва-со-дие!
Так он проехал перед каждым батальоном, здороваясь и оглядывая своих солдат и офицеров. Поручик Верещагин привычно вытянулся струной, отдавая честь, вздёрнул небритый подбородок.
«И о чём они там ругаются? – думал он между тем, вслушиваясь в брань мужиков. – Вроде бы и женский голос там. Вот бесноватые, хоть бы нас постеснялись».
Группа крестьян медленно продвигалась по улице вдоль выстроившихся батальонов, размахивая руками. Один из них тряс над головой палкой.
– А корова-то? Корова наша не по твоей, что ли, милости молоко потеряла?! – кричал тот, что с палкой.
– Почто пришла? Уходь отседа, Аришка! – выпучивал глаза другой.
– Отстаньте, нет мне до вас дела.
Мужиков было человек десять, все изрядно злые. С ними шагали и пять-шесть баб. В этой шумной толпе Верещагин разглядел девушку, черноволосую, стройную, босоногую. Она шагала, отталкивая от себя кулаки мужиков и пряча лицо.
– А я тебе говорю: пошла прочь, сука! – надрывался мужик с палкой.
– Довольно с нас твоих дел, стерва! – бросилась на девушку одна из баб и размашисто стукнула её по спине. – Не смей сюда соваться!
Кто-то из мужиков с силой ударил кулаком девушке в лицо. Она всколыхнула чёрными волосами и упала в пыль.
«Вот тебе и тихая жизнь, – подумал Василий. – Над головой такое ясное, нежно-голубое небо с лёгкими белыми облаками, а под этим небом озверелое мужичьё лупит девку. И никакого у них чувства прекрасного».
– Под знамёна! Ша-а-гай! – пронеслась команда.
Батальоны повернулись, издав шумный металлический шелест задевших за пряжки затворов.
– Эй, мужики! – крикнул кто-то из офицеров. – Может, оставите девку в покое?
– Не в свои щи ложку не суйте, ваше благородие!
Батальоны дружно затопали, из-под ног поднялась густая пыль.
– Запе-е-вай!
Грянула походная песня.
В следующую минуту из-за ближайшего дома вынырнул человек с вилами.
– Убью! – вопил он, пуская на окладистую бороду слюни изо рта. – Отступись, братцы! Заколю суку!
Деревенские отхлынули от лежавшей на земле девушки. Кто-то из баб испуганно взвыл. Верещагин вдруг ясно ощутил, как через несколько секунд в гибкое девичье тело вонзятся длинные зубья вил, он почти услышал звук железа, прокалывающего мясо…
И он метнулся к скорчившейся в пыли фигурке. Он не видел ничего, кроме страшных вил, их искривлённых зубьев с налипшими кусками земли и стеблями травы. Время остановилось… Пространство заполнилось тишиной, выдавливая из неё глухие удары ног о дорогу и хруст мелких каменьев под жёсткой подошвой… Перед глазами поднимались и опускались вилы – четыре тонких штыка, четыре грязные спицы, четыре стальных жала… Лицо мужика с вилами наперевес раздулось, расплескалось, затянуло рябой кожей всю улицу… Девушка тяжело подняла голову и поглядела вперёд. Щека под левым глазом распухла от удара, из правой брови сочилась кровь, ко лбу прилипло несколько соломинок… Её взор, её тёмные глаза… Прядь чёрных волос медленно стекла по лбу на удивлённое лицо…
Затем в одно мгновение всё сместилось, пришло в движение, поднялся невообразимый шум, крики, заклубилась пыль. Кто-то из крестьян прыгнул было навстречу мужику с вилами, но отскочил обратно, испугавшись. Тот продолжал бежать, стремительно приближаясь. Верещагин споткнулся и схватил лежавшую девушку за плечи. С силой рванув её на себя, он поднял её одной рукой, другую выставив предупреждающе в сторону бешеного мужика.
– Уйди! Убью!
Вилы развернулись и черенком ударили Верещагина по голове. Василий качнулся и вцепился в бородача.
– Убью стерву! – продолжал реветь тот, стряхивая с себя фигуру в военном мундире.
Батальоны маршировали, взбивая пыль. За громкой песней, общим топотом, бряцаньем оружия и скрипом колёс мало кто слышал теперь шум деревенской свары. Лишь ближайшие к месту драки солдаты посматривали на происходившее, но никто не решался покинуть строй, чтобы остановить избиение.
– Уйди, ваше благородие! – Бородач сбросил с себя поручика.
Он решительно замахнулся вилами, готовый вонзить их в опять упавшую девушку. Верещагин успел подкатиться к ней и оттолкнуть её обеими ногами, выведя тем самым из-под страшного удара. Вилы с хрустом вонзились Василию в ногу. Он вздрогнул, но не вскрикнул, хотя испытал сильную боль. Он даже сумел подняться, после того как бородач выдернул вилы. Он выпрямился, удивлённо развёл руками, будто не произошло ничего особенного и проговорил, пытаясь справиться с дыханием:
– Ты, подлец, рехнулся!
– Убью, язва! – заорал мужик и снова вскинул над головой вилы.
Раздался выстрел. Крестьяне от неожиданности замолчали, обернулись и увидели, как в их сторону побежали несколько офицеров. Прапорщик Крестовский вытянул перед собой руку с зажатым «наганом».
– Разойдись, сволочь! – вопил он фальцетом.
– Вашбродь! – появился неизвестно откуда Никифор. – Что ж такое делается!
Мужики и бабы бросились врассыпную. Некоторым досталось по спине – ротный командир подлетел на чёрном коне и принялся стегать наугад плёткой.
– Что! Что! Шкуру спущу! – слышался его разъярённый голос. – Повешу! Расстреляю! Холопы! Гниды! Что! Что! Всех сюда! Всех зарою! Всех на корм свиньям пущу! Что! Что!
В считанные секунды мужик с вилами оказался под грудой солдат, самозабвенно начавших колотить его. Верещагин сделал шаг в сторону спасённой девушки и упал – нога подогнулась под ним.
Пытаясь подняться, он снова свалился, и конь, на котором проскакал мимо ротный командир, задел его копытом по голове.
– Прошу простить, господин поручик. Как вы?
– Полный набор удовольствий. – Василий обхватил голову обеими руками.
– Вашбродь, позвольте ногу. Что там? Батюшки! Полный сапог кровищи!
Верещагин лежал неподвижно. Его мутило.
– Плесните его благородию водицей, – донёсся чей-то голос, – сомлеет сейчас. Эка его оприходовали.
– Верещагин, как ты? Василёк, живой ли? – нагнулся над ним Крестовский. – Господа, давайте за лекарем! Где Крупенин, где эта бледная крыса? Дайте кто-нибудь пакет, надо срочно перебинтовать!
– Ты что, сучий выродок! – слышался из-за спины Крестовского злобный рык. – Ты на офицера руку поднять посмел? Да я тебя за это на каторге сгною! Вот тебе, получай, свинячий сын!
Сквозь чёрный шум в голове Василий Верещагин сумел собрать воедино все звуки и понял, что бородач с вилами был сильно избит и что бить его будут ещё долго, вымещая на нём тоску, накопившуюся за долгий поход. Возможно, этого мужика даже убьют.
Явившийся полковой лекарь обработал рану на ноге и объявил, что поручику Верещагину лучше остаться в деревне. Покачивая лысеющей головой, он склонился над Василием и смотрел на него мутными глазами, левый нервно подёргивался.
– Вот так, голубчик. С ногой вас, конечно, угораздило… – Он причмокнул оттопыренными губами. – Да и с головой вы того…
Верещагин слушал молча. Он был слаб и испытывал ко всему если не отвращение, то равнодушие. Его бледное лицо не выражало никаких чувств.
– Вы слышите меня, голубчик? – дёрнул глазом лекарь. – У вас, судя по всему, сильное сотрясение. Два удара пришлось по голове… Так-с… Оставляю вам порошки. Принимайте трижды в день. А это мазь, пусть ваш денщик обрабатывает вашу ногу каждый час. Нужно следить, чтобы нагноения не началось. Скажу вам по-честному, худая у вас рана. Два зуба от вил попали в икру, один по самую кость прошёл…
Было решено забрать Верещагина на обратном пути, то есть дня через три-четыре. Полк двинулся дальше. Офицеры оглядывались на дом, где остался их раненый товарищ, больше завидуя ему, чем сочувствуя. Поход всем изрядно надоел, похоже, каждый готов был продырявить себе не только ногу, но и грудь, лишь бы не тащиться по пыльным лесным дорогам до Иртыша, не заниматься бессмысленной переправой туда и обратно.
До вечера Василий проспал.
– Вашбродь, у вас жар.
Василий увидел Никифора возле кровати. Лицо солдата выражало тревогу.
– Оставили нас тут, бросили, скажем прямо. А я не доктор. Как я справлюсь? Вон пот с вас смахиваю, а жар не отстаёт.
– Мы где? – Верещагин едва шевельнул пересохшими губами.
– Где ночевали, там и сейчас. Аль не узнаёте комнатку вашу? Дочка хозяйская заглядывала к вам. Справлялась, как вы… А мужика того изрядно отделали… Что спрашиваете? Куда подевали? Увезли с собой, на телегу бросили, ноги в железо заковали… Ась, вашбродь? Что спрашиваете? Девушка где? Какая? Из-за которой всё стряслось? Не знаю… Хозяйская дочь говорит, что эту девку тут не жалуют в последнее время. Говорят, она ведьмует. Скот из-за неё падает этим летом, у коров молоко пропадает. Её уж раз поколотили недавно… Что говорите? Позвать сюда, ежели увижу? Ладно, кликну… Только вот большуха наша навряд ли довольна останется… Но мне что… Мы с вами люди военные…
Вскоре после этого появился хозяин дома. Он шумно вошёл в комнату и остановился перед Василием. Плюнув на руку, он пригладил кудри над ушами и почтительно поклонился.
– Желаю здравствовать… Значит, досталось вам, господин офицер? Оно, конечно, дурно случилось, но когда Тимофей бузит, ему на пути лучше не попадаться. А бузит он всегда, потому как всегда выпимши…
– Тимофей?
– Который вас кольнул. Горяч он не в меру, а умом слабоват. Он Аришку давно грозился порешить.
– Аришку?
– Девку ту.
– Почему?
– Она для нас чужая, из Хантов она, а у нас здесь давно повелось, что чужих не жалуют, – сверкнул он глазами. – Тут у нас, на деревне-то, почти что все с русской кровью. А что до остальных, то есть которые с хантыйской кровью, так они давно с нашими перемешались, а кто не перемешался, то всё равно обрусел давно. Одним словом, все мы тут одной веры. Но Аришка и дед её не хотят по-нашему жить. В лесу дом держат, зимой на собачьей упряжке ездят, с охоты без добычи никогда не возвращаются. На самом деле она полукровка. Её мать понесла от кого-то из нашей деревни… Дело тут однажды случилось по пьяни… Чего уж греха таить: снасильничали над ней, вот, значит, как… Был у нас тут один гуляка… Так что Аришка полукровка, но всем говорит, что из Хантов. Никак не желает нашей считаться. И наведывается, слыхивал я, в дальнюю хантыйскую деревню… А мать у неё шаманка была, распугивала тут всех своим бубном. Она на того мужика, который её обрюхатил, вскоре порчу наслала. Он иссох, в живой скелет превратился, околел, истощав до костей. Ничем ему помочь не смогли. Вот какие дела, значит… Да, шаманка она была, настоящая шаманка.
– Шаманка?
– Скончалась от оспы, два года тому. Стало быть, не помог ей бубен её колдовской… Говорят, Аришка тоже умеет. – Хозяин хмыкнул. Он был высок, худощав, широк в плечах. Глаза у него были умные, губы ироничные. Тёмная борода курчавилась на щеках. Он шагнул ближе к Верещагину и несколько минут стоял молча, словно раздумывая. Затем наклонился слегка и продолжил, понизив голос и будто оправдываясь: – Я-то не думаю, что это из-за Аришки у коров молоко сейчас пропало. Просто жара сильная стоит давно. И не все на неё с ненавистью смотрят. Есть бабы, которые даже в лес к ней ходят за помощью: кто за травами лечебными, кто погадать… А Тимофей даже сватался к ней раз, да только отказ получил, вот, думаю, и взъелся не на шутку. На неё многие наши заглядываются. Хозяйка она умелая, иначе бы её старик нипочём не справился ни с коровой, ни с рыбалкой. С такой женой горе за полгоря пойдёт, а радость вдвойне.
– Так хороша? – слабо удивился Верещагин.
– А ты что ж, ваше благородие, спасать бросился, а кого – даже не разглядел? Смешно, право слово, смешно.
Хозяин хмыкнул и покачал головой. Верещагин видел, что он хотел добавить что-то, но не решился, сдержал себя.
– Отдыхайте, господин офицер, сон силу приносит.
Ближе к ночи Никифор разбудил Верещагина.
– Вашбродь, тут к вам просится одна, – шёпотом проговорил он, – та самая…
Василий кивнул. В слабом свете свечи он увидел бесшумно проскользнувшую в комнату девичью фигуру. Чёрные волосы были заплетены от висков в две косы, на концах каждой косы висела небольшая медная пластина.
– Ты уйди, – повернулась девушка к денщику. – Мне одной надобно бы…
Василий махнул кистью руки, прогоняя Никифора.
– Ты Арина? – спросил Верещагин негромко.
Она приложила палец к губам и кивнула.
– Ты не пострадала? – Василий оторвал голову от подушки. – Я вижу, у тебя лицо распухло.
Она улыбнулась. Щека под глазом и впрямь была припухшей, но не сильно. Над бровью темнела болячка.
– Нет, всё хорошо. Спасибо, что вступились, – сказала Арина шёпотом.
– Как же не вступиться! Убил бы он тебя…
– Что с ногой? – спросила она и села на кровать. – Дайте я посмотрю. Сильно накрутили тут, не развяжешь эту марлю. О, знатно распухла… Тут насквозь… Тут две… Тут глубокая… Тут…
Девушка почти касалась лицом ноги Верещагина, он чувствовал её дыхание на себе и почему-то затаился, боясь спугнуть состояние внезапно накатившего блаженства. По бревенчатым стенам, почти утонувшим во тьме, колыхалась размытая тень склонившейся фигуры.
– Надо лечить. – Она бросила на него быстрый взгляд.
– Ты разве понимаешь что-то в этом?
Вместо ответа он увидел белую улыбку. Девушка повернулась и поставила на тумбочку возле кровати узелок, на который Верещагин до этого не обратил внимания. В узелке оказалась берестяная коробка с каким-то вонючим жиром и берестяная же кружка с крышкой. Арина открыла кружку и плеснула из неё чем-то себе на руку, после чего потёрла ладонь о ладонь и осторожно полила содержимым кружки на больную ногу Верещагина. Он вздрогнул от холодного прикосновения вязкой жидкости.
– Будет немножко больно. Надо потерпеть.
Он кивнул и на всякий случай прикусил губу. Но боль оказалась не столь сильной, как он ожидал. Руки девушки надавливали с большой осторожностью на вздувшееся мясо, пальцы медленно двигались по кругу, словно разгоняя застоявшуюся кровь, и поднимались от ступни к колену. За несколько таких проходов Арина каким-то чудесным образом сбросила с отёкшего места тяжесть, и Верещагин вздохнул.
– Легче?
– Да, гораздо.
– Хорошо.
Она всё время немного улыбалась, иногда поглядывала на своего пациента, но ни на мгновение не позволяла пальцам остановиться. Вскоре Верещагину стало казаться, что нога загудела, что-то забродило у неё внутри, а девушка смазывала её снова и снова. Затем она вдруг остановилась.
– Пошевелите пальцами. Сжимаются? Колено согните. Вот так, очень хорошо. Теперь положите ногу. Вы просто молодец.
Она опустилась на колени перед кроватью и поставила около себя коробку с пахучей смесью. Подвинув свечу ближе к себе, Арина выхватила из воротника своего платья иглу и обмакнула её в мазь. Пошептав что-то себе под нос, девушка осторожно уколола ногу Верещагина. Он вздрогнул от неожиданности. Арина не обратила не это ни малейшего внимания. Её движения были точны и быстры. Василий сжал кулаки.
«Немного больно», – вспомнил он её предупреждение.
Когда девушка поднялась с пола, лицо Василия было покрыто крупными каплями пота.
– Больше я ничем не могу помочь, – сказала она, улыбаясь. – Пусть теперь ваш солдат принесёт вам воды напиться.
– Спасибо, – слабо ответил он и пошутил: – Теперь-то я мигом поднимусь.
– Завтра попробуете. Наступать сможете.
– Прям-таки завтра?
Арина опять улыбнулась. Он не поверил ей, она видела это. Видела также, что ему не хотелось, чтобы она уходила.
– Я должна уйти. Хозяйка не любит меня… Теперь надо спать.
Верещагин протянул руку.
– Арина… Позволь…
Он ухватил её за мизинец и потянул к себе. Девушка подошла, и Василий с наслаждением прикоснулся губами к её тёплой и на удивление нежной, совсем не крестьянской руке.
– Зачем вы?
Она отстранилась и сразу исчезла в темноте, словно не живой человек, а невесомая тень только что стояла возле кровати.
«Невероятно. Какое у неё редкое лицо. Восточные черты, конечно, чувствуются, но лишь едва. Какой изящный разрез глаз. Она похожа на сказку. Кожа точно разогретый воск – нежная, податливая, тёплая. Я едва коснулся её губами, но сразу почувствовал негу». Так размышлял Василий Верещагин, медленно погружаясь в спокойный сон. За раскрытым окном ночные насекомые звонко рассыпались оркестром, они свирещали, свистели, шелестели, цыкали. Ветер лениво копошился в кронах деревьев, убаюкивая людей, отгоняя дневную усталость.
Утром Василий кликнул денщика.
– Давай перевязывай, Никифор.
– Вашбродь, да у вас тут… Матерь Божья!
– Что там?
– Да она вам тут вчерась татуировку нанесла.
– Татуировку? – переспросил Верещагин. – Так вот что она иголкой колола меня.
– Иголкой? Батюшки родные, и вы терпели?! – воскликнул денщик. – Мало вам разве вилами натыкали?
Верещагин приподнялся на локтях.
– Да ведь не болит ничего, – удивился он.
– Как же не болит! А то я не видал, какие у вас там дырки были… Хотя… Быть-то они были, но сейчас дырок-то нет, вашбродь.
– Нет?
– Никак нет. Следы едва видные. И опухлость спала вовсе.
Верещагин свесил ноги с кровати.
– А ну, Никифор, помоги.
– Этого никак нельзя.
– Помоги, а не то огрею табуретом.
Никифор с неохотой подставил плечо, и Василий встал на обе ноги. Та, которая вчера пострадала, сразу заныла, но всё же на ней можно было держаться.
«Ай да девка, – подумал Василий. – Никак и впрямь колдовать обучена. Впрочем, о чём это я? Что за бред! Какое может быть колдовство, тьфу ты! Небось не в средние века живём».
– Вы чего там шепчете, вашбродь?
– Разве я шепчу? Да это я так, сам с собой… Ты вот что, Никифор, ты не говори никому, что ко мне Арина приходила. Не поймут они этого…
Василий нагнулся, чтобы разглядеть ногу и увидел небольшие узоры, вытатуированные в три ряда вокруг икры.
– Да-с, – пробормотал он.
Весь день он ждал, что таинственная девушка объявится, и даже выходил на дорогу, накинув на плечи китель. Но Арина не пришла.
Иногда из сада выбегала хозяйская дочь. Ворот её серой рабочей рубашки был широко распахнул, шея и ключицы лоснились на солнце. Задорно похохатывая, она поправляла платок на голове, сверкала глазами в сторону Верещагина и вновь убегала в тень деревьев.
Вечером к Василию в комнату вошёл хозяин.
– Не желаете ли угоститься, ваше благородие?
– Да уж жена ваша попотчевала меня. Благодарю.
– Я самогону предложить хотел. Посидели бы мужским кругом. И солдата вашего позовём.
Верещагин подумал мгновение и согласился. Они пили до ночи, говоря о пустом, ничего не значащем, а потому слова сыпались легко и быстро. Василий расслабился, вспотел.
Уснул он прямо за столом, и Никифору пришлось нести его до кровати на руках, как младенца. Среди ночи Верещагин почувствовал щекотку во всём теле и открыл глаза. По рукам и ногам ползали странные букашки размером в половину пальца. Они были почти прозрачные и твёрдые, с треугольным хвостиком и длинными усиками. Он попытался стряхнуть их, но букашки не реагировали на его движения. Некоторые из них без особого усилия вгрызались в его тело и исчезали там, при этом они не причиняли боли и не оставляли после себя никаких следов – кожа оставалась нетронутой. Можно было подумать, что букашек и не было, но Верещагин чувствовал, как они копошились у него в мышцах, пробираясь сквозь волокна, и в конце концов вылезали с обратной стороны руки или ноги. Он снова и снова сбрасывал их, иногда задевая тех, которые уже наполовину утонули в его теле, но они лишь дёргали хвостиками и утопали под кожей снова. Затем вдруг всё прекратилось, отвратительные букашки исчезли, то ли разбежались, то ли притаились внутри Верещагина.
Он застонал и проснулся. Из окна ему в лицо падал солнечный свет. Голова тяжело пульсировала, глаза отказывались открываться, словно откуда-то изнутри на них сильно надавливали чугунные лепёшки.
– Никифор!
– Туточки я, вашбродь!
– Что тут было? Откуда тут эти мерзкие тараканы?
– Никак нет, вашбродь, никаких тараканов! – ответил Никифор после тщательного осмотра постели. – Пригрезилось вам, вашбродь.
– Скажи, мы сильно вчера накачались? Голова раскалывается…
– Так точно, крепко посидели. Со вкусом. Вы прямо за столом и уснули. А что до головы, так я сейчас к хозяйке за рассолом сбегаю.
Денщик быстро выбежал из комнаты и вскоре возвратился с крынкой.
– Спасибо, – сказал Василий, жадно отхлёбывая рассол. – А чёрт! И кто это сказал, что рассол помогает… Пойдём умываться. Польёшь на меня.
Несмотря на тупую боль в висках, Верещагин заставил себя пройтись по улице.
«Паршиво, конечно, но что делать. А если бы сейчас боевые действия? Пришлось бы бежать и стрелять, хоть свинец в голове, хоть опилки». Шагая вдоль домов, он поглядывал на деревенские
огороды, где копошились женщины. Несколько телег, поднимая пыль, прокатили мимо Верещагина, правившие ими мужики поприветствовали Василия почтительным поклоном. Какой-то долговязый парень с упавшими на глаза прядями сальных волос вышел на дорогу и погрозил Верещагину кулаком.
– Уж я вам всем, – рыкнул он пьяным голосом, – развелось всякой сволочи. Вот щас топор навострю…
– Вашбродь! – послышался позади Верещагина голос Никифора.
– Что тебе?
– Там эта…
– Кто?
– Которая вам ногу исколола, – негромко сказал денщик. – Похоже, до вас пришла. Ничего не говорит. Просто на месте столбом стоит.
– Где она?
– Так ведь напротив нашего дома ожидает.
Верещагин поспешил обратно, слегка прихрамывая, но всё же уверенно наступая на больную ногу. Денщик семенил рядом, нашёптывая что-то себе под нос. Арина увидела Верещагина издали и медленно, прямо держа спину, двинулась к нему.
– Ну, лицо у вас хорошее теперь, – сказала она. На ней была надета длинная рубаха туникообразного покроя по щиколотку, сшитая из крапивного холста и украшенная алой бисерной полоской по вороту. Волосы по-прежнему были стянуты у висков в косы, но на этот раз без медных бляшек на концах. На лице не осталось ни следа от нанесённых мужиками побоев.
– Хорошее лицо? Разве? Какое же оно хорошее, Ариша, когда мы вчера с хозяином чуть ли не ведро водки опорожнили?
– Ерунда. Сейчас и голова пройдёт. В прошлый-то раз у вас смерть на лице была написана.
Девушка протянула руку и сгребла пальцами волосы на голове Верещагина.
– Где болит? Здесь?
Пальцами другой руки она надавила ему на виски, на переносицу, затем обошла его сзади и ткнула в нескольких местах ему в спину.
– Теперь как?
Верещагин вслушался в себя и с удивлением посмотрел на девушку.
– Ты, похоже, и вправду колдунья.
– Не болит больше?
– Нет, – покачал он головой.
Никифор внимательно следил за ними исподлобья и то и дело хлопал себя по вспотевшей шее, придавливая слепней.
– Вашбродь, – крякнул он, – там, вижу, люди топчутся. Сюда поглядывают. Не будет ли беды?
Верещагин повернул голову и посмотрел в дальний конец улицы. Три бабы и четверо мужиков неподвижно стояли посреди дороги, пялясь на Верещагина и Арину.
– А ты, Никифор, принеси-ка мне мою портупею с кобурой. Небось «наган» нам не помешает, ежели какая каша заварится. – Василий ухмыльнулся и переступил с ноги на ногу. – А что ты про лицо сказала, Ариша? Какая такая смерть у меня была на нём?
– Обыкновенная смерть. Как у всякого, когда ему предстоит умереть.
– Это от удара вилами в ногу-то? – прищурился Василий.
– Почему? Вы же шли куда-то. Там вот и поджидала она вас. Теперь отступила. Поменялась, стало быть, ваша дорога.
– Забавно. Неужели ты гадать умеешь, предсказывать судьбу? И вот так, прямо по лицу что-то определить можешь? Каким же образом? Что ж такое у человека на лице появляется? А ну-ка растолкуй мне.
– Не смогу. Вы не поймёте. Вы не умеете видеть.
– Ишь ты! А глаза-то мне на что? Или ты умнее меня?
– Умнее или не умнее – тут не мне судить, – спокойно ответила девушка. – Но вашу ногу я залечила сразу. А солдатский доктор оставил вам рану гнить.
– Что верно, то верно, – кивнул Верещагин. – Нога почти совсем в порядке. А скажи мне, что за рисунок ты нанесла мне иголкой? Что за татуировка такая?
– Целебная она.
– Вот как? – Верещагин ждал, что Арина продолжит объяснение, но она замолчала, видимо посчитав, что больше прибавить нечего.
– М-мда-с… И всё-таки про лицо ты мне хоть чуточку объясни. Намекни, что ли…
– Когда вы на избу какую-нибудь смотрите, вы можете со стороны сказать, долго будет она держаться или скоро развалится? Сможете угадать на взгляд, целый дом или сгорел в пожаре?
– Смогу. Что ж тут гадать…
– Вот и я то же по лицу вижу.
Верещагин опустил глаза.
– А не могла бы ты показать мне твой дом? – вдруг сказал он.
– Дом? Какой дом?
– В котором живёшь. Мне тут всё равно куковать без дела, покуда наши не возвратятся… Пригласи в гости.
– Зачем же вам это надо?
– А вот любопытно. Да не отказывайся. Мне и впрямь интересно. Никогда я такой женщины не встречал. Ты вот многое понимаешь, Ариша, а этого, похоже, понять не можешь. Или боишься меня?
– Ничего я не боюсь, а вас тем более.
– Почему же?
– У вашего благородия духу не хватит на меня руку поднять.
– Неужели? Откуда знаешь? Тоже по лицу видно?
Девушка улыбнулась и кивнула.
– Тогда веди к себе, – сказал Верещагин.
Подошёл Никифор с офицерскими ремнями и с оружием. На плече у него висела винтовка.
– А ты зачем своё оружие принёс? – спросил Верещагин.
– Вы ж «наган» берёте, вашбродь, вот и я моё ружьишко прихватил.
– Нет, – засмеялся поручик, – ты оставайся тут. Я просто прогуляюсь. Мне «наган» для острастки требуется. Неужто ты веришь, что они набросятся на нас?
– Я с вами, вашбродь, – насупился денщик.
– Нет, нет, Никифор. Считай, что у меня свидание с барышней.
– С барышней, ха! Ишь барышню выискали!
– Это уж не твоего ума дело! Словом, оставайся здесь.
– Слушаю, вашбродь! – с неохотой ответил Никифор и поплёлся к дому.
До избы, где обитала Арина, добирались поначалу пешком, затем на лёгкой обласке[9] из осины переправились через ручей на противоположный берег, а там снова пешком по лесу.
– Далеко от людей ты спряталась, – заговорил Верещагин после долгого молчания.
– Так легче.
– Если сторонишься людей, зачем же в деревню являешься?
– Многие у меня настои из трав покупают. Да мало ли чего ещё, – отмахнулась девушка.
– И что, все Ханты живут в стороне от русских деревень?
– Почему же… Там, в деревне, Хантов почитай половина будет, – отозвалась Арина. – Только не помнят они нашей веры, не соблюдают древних законов… Или боятся соблюдать…
– А ты не боишься?
– Чему быть, того не миновать… Там, подальше, – Арина махнула рукой, – есть посёлок Хантов. У них много нашего увидеть можно. Дважды в год жертву земле приносят, как заведено предками. Реке благодарность воздают. И вообще…
– Жертву? Это как?
– Оленя бьют, – отозвалась девушка, оглядываясь через плечо. – Сперва по голове ударяют, затем ножом в сердце. Я к ним стараюсь всегда сходить на праздники. Правда, родни там у меня нет, но разве это важно? Я с ними в одном Духе живу.
– Что за Дух такой?
– Как у православных – Святой Дух.
– А ты в Бога веришь, Ариша?
– Разве можно не верить в Бога? – удивилась она.
Верещагин пожал плечами и сказал:
– Я знаю таких, кто не верит. Или только говорит, что верит… Ты уж меня извини, если задену тебя словами, но сам-то я, пожалуй, не очень верю, разве только на словах.
Девушка резко остановилась и повернулась к нему, пристально глядя ему в глаза.
– Как же так? Почему вы сомневаетесь? В чём сомневаетесь?
Он опять пожал плечами. Затем расстегнул китель и показал нательный крест.
– Вот смотри! Конечно, я крещёный, Ариша, как почти все мы. Но это всё не то… Разве крестик может дать человеку веру?
– Не может… – Она покачала головой. – Много всякого есть… Можете, конечно, не верить, но ведь нога ваша зажила. Сразу зажила, разве не так?
– При чём здесь нога? – не понял он. – Это ты вылечила её, ты способы разные знаешь.
– Нет, не я, вовсе не я… – Она согнула руку в локте и ладонью едва заметно повела в воздухе, словно указывая на что-то невидимое. – Это всё делает Он.
– Кто?
– Озирающий Мир Человек, иначе – Бог, так по-русски привычнее.
– Но ведь лечила ты. Ты приходила ко мне, я видел тебя. Ты же не станешь отрицать?
– Приходила я, но…
Она задумалась, подбирая слова.
– Не знаю, как объяснить… Когда вы не верите, вы смотрите на мир иными глазами… Я могу делать что-то лишь тогда, когда это нужно Ему. Я не сама… Это Он делает что-то моими руками, это Он вкладывает в мои уста нужные слова, это Он подсказывает, какую мне нужно сорвать траву, как её растолочь, с какими листьями смешать и отварить или какой узор нанести вокруг раны. Я ничего не делаю сама! – Арина торопливо замотала головой, словно спеша избавиться от незаслуженной похвалы.
– Послушай, – Верещагин шагнул к ней и неожиданно для себя положил руки девушке на плечи, – ты очень странное существо… Ты… Я не хочу спорить… Тебя переполняет убеждённость, и я завидую тебе. Да, завидую… Но вера… Во мне нет веры, и я не могу принять того, что ты говоришь…
– Богу нет дела, есть у человека вера в Него или нет, – сказала Арина, отчётливо произнося каждое слово. – Бога от этого не становится больше или меньше. Он просто есть. – Она обвела рукой вокруг. – Он просто есть. Везде. Всегда. И всё живёт по его Закону. Ничто не происходит без Его участия.
– А когда тебя колотили деревенские мужики и бабы, разве это Бог бил тебя?
– Да, – понурилась девушка, – бил руками этих людей…
– Почему?
– Не знаю… Видать, так на Небесах прописана моя дорожка. Терпеть надо, покуда мочи хватит. Но трудно это. Меня многие не любят, боятся… Здесь народ злой. Прошлым месяцем поймали вора, коней он увести пытался, так его до смерти заколотили, рёбра переломали, а в пятки гвоздей повколачивали… Злые тут люди, злые… А про меня они думают хуже, чем про вора… Так что ежели решат, что вы со мной, то и на вас руку подымут, не остановятся. Ничто их не остановит… Дело не во мне, дело в них.
– По-твоему, это тоже угодно Ему? Я имею в виду такую нетерпимость? – осторожно спросил Василий.
– Получается, что это зачем-то надо. Ничто без Его воли не случается, я в этом убеждена. Всё ж друг с другом увязано. Но я – лишь слабая девушка, разве мне ведомы причины? Я просто несу мою ношу.
– Не понимаю! Не понимаю! – вдруг воскликнул Верещагин и во внезапно охватившем его чувстве саданул рукой по листве кустарника.
– Зачем вы?! – вскрикнула Арина.
– Я не понимаю, о чём ты говоришь…
Она отступила от него и грустно сказала:
– Пойдёмте.
Они пошли молча.
– Что это? – спросил через некоторое время Василий.
– Где?
– Там.
Справа от тропинки виднелось за деревьями нечто похожее на шалаш. Шалаш был густо обложен маленькими срубленными деревцами, на ветвях которых виднелись подвязанные кусочки разноцветной ткани. Многие лоскутки давно выцвели.
– Что ж это там? – Верещагин быстро направился к непонятному сооружению.
– Стойте! – властно крикнула Арина.
– Но почему? Что там такого? – Он вопросительно вскинул брови.
– Туда нельзя… Вам туда нельзя…
– Мне? Но почему мне? А другим можно?
– Туда нельзя мужчинам, – после некоторого колебания ответила девушка.
– Нельзя мужчинам? Что ж за неравноправие? Уж не баня ли там для женщин?
Он даже хохотнул, но сразу осёкся, увидев холодный взгляд Арины.
– Прости, но я не понимаю. Ты тут живёшь… Ты словно окружена какими-то тайнами! – Поручик опустил глаза и принялся одёргивать китель, сделавшись сразу похожим на виноватого школьника.
– Мужчинам нельзя подходить к тому месту, – заговорила Арина. – Там находится женский угол… Земля женских приношений…
Верещагин вытянул шею и увидел у ближайшего от шалаша дерева кострище, сложенную кучу заготовленных дров и чайник на сучке.
– Раньше к нашему дому вела другая тропа и сюда никто из посторонних не заглядывал, – продолжала говорить Арина, – но река изменила течение, поэтому люди стали ходить здесь. Теперь придётся искать другой старый кедр и устраивать возле него место для подношения женщин, чтобы спрятаться от чужих глаз.
– Зачем тебе искать старый кедр?
– Он помогает разговаривать с духами. Шалаш складывается вокруг кедра.
– К тебе приходят женщины из деревни?
– Да, – кивнула Арина.
– И они же называют тебя ведьмой?
– Да.
– Чудеса, право слово, – вздохнул Василий. – Они ходят сюда колдовать, но сами называют себя христианами… Не понимаю, ничего не понимаю из всего этого…
– Мужики не раз грозились убить меня, сюда приходили, жён своих гоняли палками отсюда. Но близко к шалашу не приближаются, боятся, – печально улыбнулась Арина. – Здесь все знают, что сила не в нательном кресте.
– А в чём же?
– В утренней росе, соке древесном, речной воде, крови животной… Повсюду она… Силу из отдельного камня не выточишь, надобно принимать всё целиком. А они…
– Что они?
– Ничего… Пойдёмте дальше.
Вскоре за кустами они увидели бревенчатую избу, почти по самые окна утопленную в земле. Послышался многоголосый лай собак.
– Это твой дом?
– Да.
– У вас тут скотина есть? Коровы? – поинтересовался Верещагин, увидев изгородь позади избы.
– Корова и лошадь. Они сейчас на островке, на выпасе. Это чуть дальше.
Свора клыкастых собак бросилась к Верещагину, но Арина остановила их властным окриком. Псины завиляли хвостами, заскулили и прижали уши.
Из-за скрипнувшей дощатой двери появился худой старик и застыл на пороге. На его голове росли жидкие седые волосы, на широком морщинистом лице виднелось несколько небольших шрамов, над узкими глазами почти не было бровей. Широкие губы его беззвучно шевельнулись.
– Не бойся, дедушка, – громким голосом сказала Арина. – Это не урядник. Господин офицер просто пришёл к нам в гости. Сейчас станем чай пить…
Старый Хант с подозрением смотрел на поручика, в его глазах таился страх. За его спиной Василий разглядел приставленные к стене деревянные рогатины и связки рыбацких сетей. На земле лежала вверх дном долблёная лодка, вероятно приготовленная для ремонта. Чуть поодаль возвышалось небольшое бревенчатое сооружение на четырёх сваях.
– Входите, – пригласила Арина.
Верещагин кивнул старику, сделав максимально доброжелательную гримасу, и шагнул внутрь, ступая осторожно, так как пол в полуземлянке находился гораздо ниже уровня земли снаружи. Сеней не было. В доме царил полумрак, сквозь затянутые промасленной бумагой окна проникал мутный серый свет. В дальнем углу виднелась печка. Слева от печки – земляная насыпь, на ней сидела укрытая волчьей шкурой тряпичная кукла, голова которой представляла собой скрученную в небольшой шар белую ткань с чёрными нарисованными глазами и ртом. Над куклой свисала со стены высохшая травяная косичка с вплетёнными в неё шерстяными нитками. На земляном полу Верещагин увидел разложенные тряпки с рассыпанными на них для просушки лесными ягодами. По стенам и на перекладинах под потолком висели бесчисленные связки трав. На большом столе тускло поблёскивал самовар, громоздилась кучка свежих грибов.
– Садитесь, – указала Арина на стулья.
Василий послушно опустился на стул и положил руки на стол. Ладони ощутили шершавость недавно оструганных досок.
– Зачем привела-то его? – услышал Верещагин тихий голос старика.
– Лечила я его.
– И пусть. Вылечила ж! Чего он у нас-то забыл?
– В гости пришёл, – ответила Арина, успокаивая деда.
Верещагин поднялся из-за стола и откашлялся.
– Пожалуй, я пойду, не буду мешать вам.
– Нет, вы и чаю не дождались, – воспротивилась девушка, решительно шагнув к нему. – Не слушайте его. – Она кивнула на старика. – Он жуть до чего боится чужих, особенно людей в погонах. Однажды побывал в кутузке. Вернулся оттуда сильно помятый, без многих зубов, ухо едва ему не оторвали… Вы не подумайте чего плохого, ничего худого дедушка не сделал. Просто нас тут не любят, вы сами видели…
– Да ведь я… Я ничего… – Верещагин неловко потоптался. – Конечно, чаю хорошо бы…
– Идти всё равно уже нельзя. – Девушка выглянула за дверь. – Гроза сейчас начнётся.
– Гроза? Но вроде бы ничто не предвещает…
– Я точно знаю, я вижу, – заверила она Василия. – В дождь вы не доберётесь даже до ручья. Так что оставайтесь. Я пока ставни затворю… И ещё надо…
Она не закончила фразу и выбежала наружу, прихватив кусок мучной лепёшки с полки. Верещагин увидел в приоткрытую дверь, как девушка остановилась снаружи у порога, подняла лепёшку кверху, словно показывая её кому-то, затем положила её на землю. Он хотел было спросить Арину, кому она оставила еду, но не решился, причислив её действия к какому-то важному для дома ритуалу.
Гроза и впрямь разразилась нешуточная. Деревья качались и трещали, листья срывались с ветвей гроздьями и били в закрытые ставни, вода шумела по крыше и потоками низвергалась.
Чай пили в молчании, чувствовалась неловкость. Напротив него сидел старик и поглядывал изредка на офицерские погоны, стараясь делать это по возможности незаметно. Чтобы разрушить безмолвие, Верещагин спросил, кивнув в сторону:
– Что это за кукла там, прикрытая шкурой?
– Дух-покровитель.
Он вновь замолчал.
– Вам неуютно тут, – сказала Арина, – я вижу.
– Я чувствую себя здесь чужим. Я мешаю вам.
– Нет, нет… Пейте чай. Попробуйте этот сироп, он очень вкусный. Там не только ягоды, но и мёд… Прошу вас, не стесняйтесь…
Старик поднялся из-за стола, оставив свой чай нетронутым, и перешёл на кровать, где у него лежал ворох ремешков и верёвок. Устроившись там, он принялся за какую-то свою работу, сразу позабыв о госте.
– Скажи, – подвинулся Верещагин ближе к Арине, – а дедушка твой знает, что произошло в деревне с тобой и со мной?
– Нет, зачем нагонять на него беспокойство?
– Но он не мог не заметить следы побоев на твоём лице.
– Я не ночевала дома, переждала в лесу, а к утру всё почти исчезло. Зато я смогла спокойно посмотреть на вас со стороны и на Тимоху…
– Это который с вилами был?
– Да.
– А что значит «со стороны»?
– Ну… думала о вас, разглядывала…
– Из леса разглядывала?
– Конечно, это ведь легко. У Тимохи смерть увидела, думаю, умрёт в пути. А ваша смерть отступила…
– Странная ты. Я тебя слушаю – точно в сказку какую попал. Мне б ещё понимать всё то, что ты понимаешь… о чём толкуешь… А ещё лучше – глазами твоими всё увидеть.
– Зачем вам? У вас своих дел полным-полно. Служба…
Арина задумчиво устремила глаза в потолок.
– Тимоху-то к смерти никто не подготовит, – вдруг проговорила едва слышно она. – Уйдёт человек ни с чем…
– Скажи, Ариша, а те Ханты, к которым ты ходишь, они разве не православные?
– Православные. Иконы в домах держат, нательные кресты носят, отмечают и Рождество, и Крещение, и Пасху, и Троицу. В Троицу на берёзку ленты цветные вешают, кресты на дверях изб и лабазов рисуют. Но пуще других любят Вороний День.
– А почему же они жертвы оленями приносят? Это ведь нехорошо – убивать-то? – Верещагин придвинулся к Арине.
– Да, убивают. Но ведь прощения испрашивают за это, – задумчиво сказала девушка, – ещё прежде чем убить, просят прощения у оленей… Извиняться перед всеми надо: перед птицей, перед рыбой, перед волком. Как можно пойти на рыбалку и не попросить прощения у рыбы за то, что ловить её будешь?
– Неужто всякий раз ты разговариваешь с рыбой, приходя на реку? – искренне удивился Верещагин.
– Нельзя иначе, – удивилась в свою очередь Арина. – Ведь я брать прихожу.
– Любопытная позиция, – хмыкнул Василий. – А вот я ни в магазине, ни половому в трактире благодарственных слов не говорю… Забавно жизнь устроена… А вот, скажем, травы у тебя много всякой сушится. Ты и с ней так же уважительно обходишься?
– Когда собираю, то непременно скажу спасибо и траве, и земле, где эта трава растёт, – проговорила девушка, и в её словах Верещагин не услышал никакой рисовки. – Разговаривать надобно со всеми.
«Что за удивительное существо! Неужели ещё где-то есть такие женщины? Неужели есть и мужчины, столь же внимательные к природе и рассудительные? Неужели раньше здесь целые народы так мыслили? Куда же они подевались теперь? Или я и мне подобные просто не видим ничего за нашей бессмысленной суетой? Может, мы в погоне за славой, положением, деньгами умираем, а не живём вовсе? Разве можно сравнить меня и эту девушку? Разве можно сравнить Арину и ту хозяйскую дочь, на которую у меня сразу встал член, как у дворового кобеля? Нет, они принадлежат к разным мирам. Все мы принадлежим к разным мирам и не умеем понять друг друга. И ужаснее всего то, что мы даже не думаем о том, что нам следует понять друг друга», – размышлял Верещагин, глядя на пламя свечи.
Ночь он провёл на кровати, заваленной шкурами. Уснул он весьма быстро и почему-то с мыслью о том, что ему здорово повезло, даже если это везение очень быстротечное. Огонь сальной свечи выхватывал из тьмы кусочек стола, руки и нижнюю часть лица Арины. Девушка сидела неподвижно, как изваяние, но, когда Василий уже почти провалился в сон, она повернула голову в его сторону и долго смотрела на него. Огненная точка плясала в зрачке её левого глаза…
Утром Верещагин вызвался проводить Арину к корове.
– Почему же ты не возле дома пасёшь скотину? – полюбопытствовал он.
– Деревенские несколько раз хотели отобрать у меня коня. А до островка не дойдут, не знают пути.
– Чем больше слышу, тем больше удивляюсь… Не по-людски тут у вас как-то…
– А вы, ваше благородие, должно быть, много хороших мест повидали, коли так говорите.
– Нет, Ариша, пожалуй, не повидал. Откуда мне? Я человек военный, вижу только, как солдаты маршируют да штыком колют. Я тоже не по-людски живу… Временами, поверишь ли, с тоски выть хочется.
– Воете? – засмеялась девушка.
– Нет.
– А вы попробуйте. Это очень здорово печаль прогоняет.
– Ты шутишь? – Верещагин прибавил шаг и заглянул Арине в лицо.
– Ничуть. Выть волком очень даже полезно.
– Да мне и выть-то негде, – попытался оправдаться поручик. – Ежели я на плац выйду и начну завывать там, меня сразу же спеленают и к докторам в лазарет отправят. Нет, Ариша, некоторых вещей я никак делать не могу.
– Вот видите, ваше благородие, – остановилась девушка и покачала сочувственно головой. – Не по-людски живёте, затравленно как-то…
Он с удивлением увидел, что в её глазах не было ни намёка на шутку.
– Скажи, – поспешил он перевести разговор в другое русло, – а та кукла, которая у тебя возле печки сидит, укутанная в шкуру, она для чего нужна?
– Это дух-охранитель. Не сам дух, конечно, – Арина замялась, – это вроде иконы. В ней сила хранится. Дедушка мой раньше сомневался, выбирал, что лучше. Помню, когда я совсем ещё маленькая была, он однажды на Миколин день пришёл и говорит: «Стало сильно брать меня, который Бог сильнее: наш или русский. Решил я Миколу спытать». Зажёг он перед иконой Угодника свечу, а рядышком поставил куклу нашего духа-охранителя и надел на куклу шапку. Долго сидел и смотрел на них. И все мы наблюдали, ждали. Когда уж совсем спать собрались ложиться, шапка с куклы вдруг свалилась и сию ж секунду свеча перед Угодником затухла. Вот и получается, что равны они.
– Но ведь Николай Угодник, – возразил было Верещагин, – это не Бог. Это лишь святой.
– В каждом святом частица Бога хранится. И в каждой нашей священной кукле такая же частичка есть. И в нас с вами, ваше благородие, тоже такая крупица вложена.
– Чем же мы тогда отличаемся от святых, Ариша?
– Ничем, – легко ответила она. – А впрочем, отличаемся, ясное дело, отличаемся. Святые люди пользуются вложенной в них крупицей, а простые люди не пользуются ею. Может, не умеют найти её в себе. Потому и молятся простые люди святым, как самому Богу…
Островок, где паслись корова и лошадь, лежал на реке Демьяновке и был отделён от берега узким протоком, не позволявшим скотине самостоятельно вернуться на берег. Корова оказалась большая и рыжая, а лошадь сверкала средь зелёной листвы, как расплавленная смола.
Возвращаясь к дому, девушка несла ведро с молоком сама, не разрешив Верещагину помочь ей. Вдруг она остановилась.
– Что такое? – спросил Василий.
– Не знаю. Беда.
Её лицо сразу обострилось и стало похоже на мордочку какого-то незнакомого зверька.
В следующую секунду со стороны дома послышалось два выстрела, затем ещё два, ещё и ещё. Кто-то палил из охотничьего ружья, успевая ловко перезаряжать его.
Арина выпустила ведро. Молоко жирно расплескалось по траве, тяжёлые белые капли повисли на зелёных стеблях. Верещагин не успел ничего сообразить, а девушка уже мчалась по тропинке. Василию ничего не оставалось, как припустить за ней.
Подбегая к избе, они увидели в дверях рослого мужика. Верещагин почему-то сразу узнал его. Это был тот, кто вчера погрозил кулаком беспричинно и рыкнул: «Уж я вам всем, сволочи! Вот топор навострю!»
Топора он с собой не прихватил, зато держал в руке ружьё. Через плечо был перекинут хорошо набитый патронташ. В ногах у него лежал старый Хант, серая рубаха старика была пропитана кровью на груди. Глаза его смотрели на мир удивлённо и страдающе, губы дрожали от боли. Повсюду бились на земле подстреленные собаки.
Верещагин сбил Арину с ног и придавил её своим телом. Сердце его учащённо колотилось.
– Лежать!
– Где вы, сволочи? Куда попрятались, поганцы? – Голос мужика был угрюм, негромок. – Всех порешу, никого не отпущу из вашего поганого племени.
Он сделал несколько шагов от избы, держа старика за ворот и таща его за собой.
– Это сумасшедший, – прошептал Верещагин и нащупал рукоятку «нагана».
– Он пришёл убить нас, – послышался придавленный голос девушки.
Василий осторожно отстранился от неё и посмотрел вперёд. Глаза мужика горели бешенством, грязный подбородок подёргивался. Лохматые волосы падали иногда на лицо, и тогда мужик отбрасывал их стволом ружья. Некоторое время он стоял на месте, затем разжал пальцы, сжимавшие ворот рубахи старика, и несколько раз встряхнул ими. Старик медленно перевалился на живот и уткнулся лбом в землю.
– Дедушка! – закричала Арина и внезапно вспрыгнула на ноги.
Верещагин не успел удержать её. Она бросилась вперёд через кусты.
– Стой! – Голос Василия сорвался.
Он чертыхнулся и тоже поднялся во весь рост. В следующую секунду грянули выстрелы. Верещагин услышал, как вылетевшие из ружья пули вжикнули сквозь листву. Мужик переломил ружьё, как-то по-звериному, зубами выковырнул гильзы и ловко загнал на их место новые два патрона. Переступив через умиравшего старика, сумасшедший шагнул навстречу бежавшей Арине. Его голова замоталась из стороны в сторону.
– Убью нехристей! Убью, язва вам в душу!
Василий видел, как мелькали босые пятки девушки, как скакали её чёрные косы, трепетали рукава платья. И видел жуткие жерла двустволки.
Он вытянул руку с револьвером и крикнул громко:
– А ну, сукин сын, бросай ружьё!
Но мужик даже не посмотрел в его сторону. Его глаза буравили приближавшуюся фигуру Арины. Он оскалился по-звериному, показав безобразные жёлтые зубы, сцедил длинную слюну, попытался втянуть её обратно губами, но не смог и несколько раз сплюнул звучно. Ружьё в его руках неторопливо поднялось к плечу.
Первый выстрел грянул чуть раньше, чем того хотел сумасшедший. Пуля мягко шмякнулась в землю, не долетев до девушки десятка метров. И тогда, осознав, что медлить дольше нельзя, на спусковой крючок нажал Верещагин.
От хлопнувшего резкого звука в голове поручика загудело эхо. Нет, он не испугался раздавшегося выстрела, он привык к стрельбе, но его словно ударило что-то. Это было нечто вроде озарения – он перешагнул рубеж привычных мер. Это не была стрельба по мишеням. Он решился убить. Теперь всё было неважно. Теперь всё стало можно. Секунду назад нельзя было лишать никого жизни, а теперь стало можно и даже нужно. Пришло время другого закона. И с мгновенным глубоким прочувствованием этого закона Верещагина охватило желание действовать без промедления.
Мужик вздрогнул. Пуля задела его левую руку. Он огляделся, ища причину пронзившей его боли, и услышал следующий выстрел. Вторая пуля ударила его в плечо, и он бешено закричал. Его голос был страшен, пронзителен, оглушителен. То был не человеческий крик, а рёв демона. Казалось, что человек готов был вырваться из своей оболочки и превратиться в ураган, сметающий всё на своём пути.
Он споткнулся о труп собаки и опрокинулся навзничь. Он пытался подняться, хватался за плечо, стряхивал кровь с руки, пялился на неё, ничего не понимая, и продолжал кричать. Сквозь прерывистый рёв и мокрый кашель слышались иногда отдельные бранные слова.
Арина подбежала к деду и упала на него, пытаясь скорее заглянуть старику в глаза. Верещагин поспешил вперёд, но, сделав несколько шагов, заметил, что сумасшедший мужик заставил себя повернуться к отброшенной двустволке. Окровавленные руки потянулись к потёртому прикладу, пальцы мелко дрожали, загребая мокрую пыль.
Верещагин остановился и поднял «наган». Хорошенько прицелившись, он медленно выпустил из себя воздух и на выдохе потянул спусковой крючок. При звуке выстрела мужик дёрнул головой, вывернул её неестественно далеко, выпустил ремень ружья и обеими ладонями вцепился в свой лоб. Его тело приподнялось в бёдрах, пытаясь подняться, ноги заегозили, скользя в луже, и подтянулись коленями к животу.
Подбежав поближе, Верещагин понял, что пуля попала мужику сбоку в самое основание переносицы, почти в глаза, вырвав изрядный кусок лица. Сумасшедший корчился в луже крови, которая всё прибывала и прибывала. Из разинутого рта его шумно вылетало прерывистое дыхание. Безумец оказался силён, но жить ему оставалось совсем недолго.
– Ариша, как ты? – Верещагин спрятал «наган» в кобуру и взял девушку за плечи.
– Он умер, – подняла девушка глаза, – дедушка умер.
– Да, я вижу… Увы…
– Плохой год, – проговорила она, – очень плохой, жестокий, коварный…
– Жестокий, – повторил Верещагин.
Несколько минут он стоял без движений, глядя сверху на Арину, затем снял фуражку и провёл ладонью по волосам. Голова оказалась взмокшая.
– Вот, стало быть, какие дела, Ариша… – Верещагин говорил невнятно, будто сконфуженно. – Надо мне, пожалуй, в деревню идти, чтобы за урядником послали.
– Нет! – Голос девушки прозвучал решительно и даже грозно. – Нельзя в деревню с этим отправляться. Как только они там прознают, что Еремей тут застрелен, немедля все скопом кинутся сюда, как коршуны. Нельзя об этом говорить!
– Но он же деда твоего убил. И тебя тоже мог… Я только потому и стрелял в него. Твоей вины тут нет.
– Им всё одно. Прибегут и растерзают меня на куски или живьём сожгут… – Арина не поднимала головы и продолжала сидеть, поглаживая мёртвого старика по окровавленной груди.
– Но я не думаю, что мы должны скрывать, – неуверенно произнёс Василий.
– Если хотите, то вы ступайте, ваше благородие, – отозвалась тихонько она, – только никому не говорите, что видели здесь Еремея. Сами гостили тут, но ничего не видели. Ничего здесь не произошло. Нельзя про это…
– Нет, я не могу оставить тебя сейчас. – Он опустился рядом с ней на корточки и оглянулся на всё ещё подрагивавшее тело мужика, впившегося руками в окровавленную голову. – Куда же мы его денем? Не лежать же ему тут.
Арина оторвалась от дедушки и встала. Посмотрев на Еремея, она тихо выговорила:
– Помогите мне. Унести его надо.
Еремей оказался тяжёлым. Они волокли его минут двадцать вглубь леса. В конце концов Арина сказала, тяжело дыша:
– Давайте его сюда, на этот муравейник. – Она указала рукой на огромную муравьиную кучу.
– Ты хочешь его оставить здесь? Найдут ведь! – Верещагин старался не глядеть на изуродованное и залитое кровью лицо мужика, на которое сразу устремились чёрные муравьиные струйки, облепливая в первую очередь раскрытый рот и зияющую дырку на месте носа.
– Нет. – Она уверенно покачала головой. – Пока надумают ко мне прийти да вынюхивать здесь, от Еремея только кости останутся. У нас муравьи злющие, прожорливые.
Вернувшись к дому, Арина первым делом подобрала двустволку и патронташ и отправилась прятать их подальше от избы.
– Это мне всегда сгодится, – сказала она.
Затем остановилась над бездыханным телом деда.
– Может быть, ты возвратишься? – спросила она, чуть наклонившись над трупом. – Может, ты хочешь что-то доделать? Ты скажи мне, тогда я оставлю тебя лежать здесь, не стану хоронить тебя. Я спою тебе песню, а ты поразмысли.
– Ариша, – осторожно, словно боясь спугнуть, позвал её Верещагин, – ты с кем, с дедушкой, что ли, беседуешь? Он умер! Всё кончено!
– Да, я знаю, но он может передумать. Я хочу знать наверняка.
Девушка подняла на него свои тёмные глаза, и Василий вздохнул с облегчением – в них не было ни тени помешательства. Судя по всему, Арина просто следовала установленным в семье традициям разговаривать с покойниками. Но всё равно Верещагину было немного не по себе.
– Я спою для него песню, – пояснила девушка, – и тогда, если лил не передумает, то тело останется мёртвым. – Она проговаривала слова медленно, как бы внушая что-то Верещагину.
– Разве умерший способен вернуться к жизни?
– Да. Мой прадед выбрался из могилы через день после того, как его похоронили. Всякое бывает. Поэтому я должна поговорить.
Опустившись на землю возле мертвеца, она поджала под себя ноги, закрыла глаза.
– Что такое лил? Почему лил может передумать? – спросил, чувствуя волнение, Василий.
– Лил? Не знаю, как объяснить, – сказала она, продолжая сидеть с закрытыми глазами, – не знаю. Это трудно. Это то, в чём существует жизнь. Это то, с чем жизнь переходит из тела в тело.
– Ты говоришь о душе? – уточнил Верещагин скороговоркой, боясь, что девушка прекратит отвечать на вопросы.
– Нет, не о душе… Не могу разговаривать. Мне надо петь…
Песня показалась Верещагину похожей на тоскливое завывание. Он не разобрал ни единого слова, не уловил мелодии, но постепенно ему сделалось жутко. Казалось, что голос Арины увлекал его в неведомые пласты бытия, о существовании которых Василий даже не догадывался. В глазах его потемнело, уши словно наполнились ватой, в голове всё поплыло. Единственное, что он видел ясно, была сидящая фигура девушки и мёртвое лицо старика. Морщины возле глаз покойника медленно расправлялись, кожа делалась гладкой и чистой. Сожмуренные от боли веки расслабились. Верещагину даже показалось, что глаза немного приоткрылись, но, вглядевшись, он понял, что ошибся. Старик оставался мёртв.
Долго ли тянулась песня Арины, Василий не знал, однако когда девушка повернулась к нему, её лицо выглядело умиротворённым. Взор её был ясным.
– Дедушка не вернётся, – прошептала она и едва заметно улыбнулась.
Верещагин вздрогнул, возвращаясь в нормальное состояние и перевёл взгляд на старика. На лице покойника лежали привычные старческие морщины.
– Знаешь, – Верещагин откашлялся, приводя в порядок пропавший куда-то голос, – мне тут всякое мерещиться начинает…
Она не отреагировала на его слова и поднялась на ноги.
– Я должна одеть его, – сказала она.
– Да, да, конечно, я понимаю. Ты скажи, что я должен делать.
В первую очередь Арина накрыла лицо покойника большим куском тряпки, аккуратно разгладив ткань на лбу покойника. Там, где находились глаза старика, девушка положила поверх тряпки две маленькие шишки. После этого она знаками попросила, чтобы Верещагин помог ей обернуть труп шкурами, не снимая с него окровавленной одежды, крепко перетянув их верёвками. Затем она связала руки и ноги старика ремнями, закрепив их какими-то хитрыми двойными узлами.
– Теперь надо отнести его туда. – Она указала рукой. – Но это далеко. Давайте сделаем носилки. Нести надо так, чтобы шишки с глаз не упали.
Верещагин послушно кивнул. Носилки соорудили быстро и осторожно уложили на них старика. Над головами зашумел лес, качнувшись под порывом ветра.
– Теперь возьмите топор, он потребуется. И можем идти…
Но прежде чем уйти со двора, девушка вернулась к избе и положила у порога охотничий нож остриём наружу. Прошептав какие-то слова, она шагнула к носилкам…
Шли весьма долго.
Когда остановились, Василий увидел на поляне несколько низеньких домиков, вернее сказать, едва возвышавшихся над землёй дощатых крыш. Высота каждого сооружения доходила человеку до колена.
– Что это? – не удержался Верещагин.
– Хижины умерших, – отозвалась Арина, – могилы.
– Вот оно что…
– Сейчас мы сделаем для дедушки временный дом, – сказала девушка, – а позже я построю ему хорошую крышу. – Взглянув на поручика, она уточнила: – Сейчас нет под рукой подходящих досок. Надо нарубить молодых деревьев. Примерно с руку толщиной.
Верещагин достал из-за ремня топор и принялся за дело. Через час покрытие для могилы было сделано.
– Вот и всё, – сказала Арина. – Присядьте со мной рядом.
Верещагин опустился на землю.
– Не бойтесь, я петь не буду.
– Да разве я…
– Я видела ваши глаза. Вам было не по себе.
Он смутился. Арина достала из кармана лепёшку и разделила её на три части. Один кусок она положила на крышу могилы, второй сунула в руку Верещагину.
– Дедушка, мы уходим. Ты тоже уходишь. Отбрось всё плохое в сторону, оставь при себе только хорошее. До свидания.
Она откусила от своего куска лепёшки и повернулась к Верещагину. По выражению её лица Василий понял, что ему тоже надо съесть немного.
– Это прощальная трапеза, – пояснила Арина, – поминки. Теперь нам пора уйти.
К моменту возвращения в избу Верещагин ощутил усталость. Ему хотелось упасть и хотелось водки. Всё случившееся теперь, когда оно осталось позади, навалилось на него огромной тяжестью. Он прошёл в дом и сел на кровать.
– Поставить самовар? – спросила девушка.
– Самовар? Что ж… Пусть будет самовар…
Он откинулся на спину и тыльной стороной ладони прикрыл глаза.
«Вот я отныне участник преступления, застрелил человека и вдобавок скрыл труп. Да-с, дела… И как же теперь мне быть? Странно, но совесть моя спокойна. Только усталость… Спать охота».
Он вздрогнул и открыл глаза. Судя по всему, давно наступила ночь. Изба была погружена в вязкую тьму. Тишина давила на уши. Перед самым своим лицом Верещагин увидел блестящие глаза Арины. От пристального взгляда девушки ему стало не по себе.
– Ты что? Я уснул разве?
– Да, ваше благородие, заснули, утомились. Я не стала тревожить, звать к самовару.
– А ты что же? Не спишь?
– Не могу. Тоска гложет. Вот подсела к вам, а вы и проснулись.
– А чего подсела-то? – спросил Василий и тут же выругал себя за бестактность. – Ты не плачешь ли? Глаза у тебя блестят, будто мокрые.
– Нет, не плачу, думаю. – От Арины пахнуло травой и землёй.
– О чём?
– Теперь я осталась одна… Вот вы уйдёте… Знаете что? Вы не боитесь меня?
– Тебя? Нет! С чего бы мне…
– Тогда обнимите меня.
Свыкнувшись с темнотой, он уже различал очертания предметов. Распущенные волосы Арины падали ей на плечи. Плечи были голые. Верещагин повёл глазами вниз и увидел нагое женское тело. Округлости грудей почти касались его живота, перетянутого скрипучим офицерским ремнём.
– Я понимаю, я для вас дикая и не ровня вам, но я не напрашиваюсь. Я только про сейчас. Тепло из меня уходит куда-то, не справляюсь я сама. Помогите мне…
– Ариша…
Верещагин испытал странное состояние, какое-то сладкое опьянение накатило на него. Он приподнялся на локтях и коснулся губами её горячего рта. Это было похоже не на поцелуй, а на глоток из чаши, полной сказочного напитка. Ему почудилось, что чьи-то невидимые руки накинули на него тёплую паутину, которая нежно охватила его и напустила на него негу. Загадочная глубина чёрных зрачков Арины затягивала его. Оттуда взывал к нему недоступный пониманию язык её таинственной души.
– Ариша…
Он жадно, а то и воинственно прижался щекой к её лицу и стиснул её нагое тело своими длинными руками. В спину впился переброшенный через плечо ремень.
– Сбросить, всё сбросить! И поскорее! – выдохнул Верещагин и принялся рвать на себе пряжки и застёжки.
Арина слегка откинулась, запрокинув красивую голову назад. Её небольшие груди вызывающе выступили вперёд. Верещагин шумно избавлялся от одежды, путаясь в штанинах и рукавах, и то и дело поглядывал на девушку, застывшую в ожидании.
Когда он вновь обнял её, он был уверен, что они оба вспыхнут, настолько жарким показалась ему кожа Арины – пылающие угли, а не кожа. Верещагин даже отпрянул от неё в первое мгновение и застонал.
– Иди, – привлекла она его к себе, – иди же!
Он навалился на неё всем телом и прикусил губами сосок её левой груди.
– Сердце отдам! – вырвалось из её рта.
Воздух вокруг них забурлил потным жаром, пространство избы спрессовалось, потолок опустился, стены накренились. Изогнувшееся под Верещагиным девичье тело размякло, сделалось податливым, растеклось, заколыхалось, как волны. Никогда прежде не испытывал Василий ничего подобного. Он почти утопал в обхватившей его со всех сторон плоти, он скользил туда и сюда, он взмывал в тёмную высь и опрокидывался в такую же тёмную и головокружительную бездну.
Затем Арина вдруг громко вскрикнула и прошептала:
– Я твоя! Теперь я твоя!
И всё внезапно сделалось обычным – ночь, обстановка, голое женское тело под поручиком Верещагиным. Разве что горячечное влечение к этому телу, распахнувшемуся и вздрагивавшему под мужским напором, было необъяснимым, странным.
– Ариша…
– Милый…
Когда ураган страстей умчался, они долго лежали рядом, спутавшись ногами. Верещагин с удивлением отметил, что он впервые не чувствовал неприязни к женщине после свершившегося акта. Наоборот, его радовала близость этой непостижимой девушки.
Плавая в приятных мыслях, он незаметно уснул.
Утром он проснулся один. Мундир, брошенный ночью на земляной пол, лежал на стуле. Верещагин поспешно оделся и выглянул на улицу.
– Арина!
Земля была залита дождевыми лужами. Отовсюду веяло свежестью.
«Ах, если бы весь вчерашний кошмар был лишь отвратительным сном. Этот, как его бишь, Еремей, что ли… Каким бы чудесным и счастливым мог оказаться нынешний день! И прошедшая ночь могла бы послужить добрым знаком для всего-всего… И вообще…»
– Ариша! – опять позвал он.
Девушка вышла из-за избы, таща за собой какие-то доски. Она была в том же платье, распущенные волосы шевелились на ветру. Бросив доски под окном, она посмотрела на Василия и смущённо улыбнулась.
– Разве был дождь? – удивился Василий.
– Был.
– А я так крепко спал, что ничего не слышал.
– Сильный дождь. Надо было смыть кровь, – спокойно сказала Арина.
– Конечно… То есть что значит «надо было»? Это ты, что ли, вёдрами наплескала?
– Нет, прошёл дождь.
– Вот и я про то же. Удачно получилось. А ты «надо было»!
– Нужно было много воды, поэтому я попросила об этом, – сказала девушка, не поворачивая головы к Верещагину и продолжая заплетать косы. – Я иногда прошу, но редко.
Василий почувствовал слабость в ногах.
– Зачем вы вчера одежду свою на землю бросили? – Арина подошла к нему вплотную.
– Я забыл обо всём. Я видел только твои глаза. Ты меня околдовала в один миг.
– Нельзя одежду на землю швырять. – Девушка серьёзно глядела на Верещагина. – От этого бывают болезни. Можно и смерть привлечь через это.
– Больше не буду, – заверил он её в ответ и попытался обнять.
Она отстранилась.
– Теперь вам пора уходить.
– Почему? Как же так?
– Пора. Сверх меры нигде нельзя задерживаться. Я провожу вас до ручья и переправлю на лодке. Дальше сами справитесь по дороге.
– Послушай, Ариша, – чуть поодаль Верещагин заметил на ветвях деревьев развешенные рубахи, – что это ты делаешь? Бельё сушишь?
– Нет, это дедушкины рубахи, – ответила она и, увидев выражение лица Верещагина, уточнила: – Дерево связано с землёй корнями. Через него та часть человеческого тепла, которая хранится в одежде, быстрее вернётся в Мать-Землю. Человеческая сила не должна растеряться, она должна сохраниться, чтобы однажды человек снова пришёл сюда… У нас принято вывешивать всю одежду умершего на дерево. Так она и висит, покуда не истлеет…
– Что ты, – осторожно спросил Верещагин, – имеешь в виду, употребляя слово «вернуться»? Как же человек может вернуться? Разве смерть не подводит под нашей жизнью окончательную черту?
Арина бросила на него такой взгляд, что Верещагин почувствовал себя полнейшим глупцом. Губы девушки дрогнули, чтобы сказать что-то, но слова так и не сошли с них. Она помолчала с минуту, затем глаза её приняли совершенно другое, почти равнодушное выражение.
– Вы свои ремни с пистолетом не забудьте надеть, ваше благородие.
– Ариша, послушай… – Верещагин растерялся. – Ведь мы вчера… Почему ты так? Мы же теперь не… Обожди… Я до сих пор не назвал тебе моего имени. Меня звать Василием…
– Это не ваше имя. И не для меня оно…
– Я тебя не понимаю.
Девушка отмахнулась от него, как от комара, и лёгким шагом, не оборачиваясь пошла по тропинке. Верещагин быстро сбегал за портупеей в избу и поспешил за Ариной. Он никак не мог объяснить её поведение.
«Ненормальная какая-то! – размышлял он, шагая следом за ней и разглядывая её босые ноги. – Чёрт знает как ведёт себя! Она просто издевается надо мной. Сочиняет всякую небыль, чтобы запутать меня. Вот и про дождь выдумала – вызвала она, видите ли, дождик! Нет, это просто бред какой-то. А я тоже хорош! Герой-любовник! Бегу за ней, как жалкий сопляк».
Дорога до ручья пролетела незаметно, спрессовавшись в считанные мгновения. Верещагин всё ещё думал о чём-то, а они уже остановились возле лодки…
Когда Верещагин ступил на другой берег, Арина шагнула к нему и мягко поцеловала в губы.
– Вот тебе на! – воскликнул Василий и развёл руками. – Опять ласковая. Как же мне быть с тобой? Как вести себя?
– До свидания, – ответила она и спрыгнула в качнувшуюся на воде долблёнку, – мне некогда прощаться, ваше благородие. Надобно собираться в дорогу. Рано или поздно деревенские нагрянут меня убивать.
– Куда же ты денешься?
– Пойду туда, в селение Хантов. Они мне не родня, но знают меня хорошо.
Она ловко развернула лодочку и погребла обратно. Верещагин позвал её ещё несколько раз, но она не обернулась.
Более страшной, мучительной, терзающей тоски, чем та, которая пронзила Верещагина в следующую минуту, он не испытывал никогда. Ему вдруг почудилось, что жизнь его кончилась. Лучшее из того, что могло быть у него, осталось позади. Он заметался по берегу, сломал несколько ветвей, остановился, выругался и застыл, уткнувшись головой в старую берёзу.
Время шло, а он стоял неподвижно.
– Что ж это со мной творится? Расквасился хуже малого дитя. Дурак дураком!
Он похлопал рукой по берёзе, медленно придвинулся к шершавой коре губами и поцеловал дерево.
– Вот так, – шепнул он, затем рывком отодвинулся и быстро-быстро пошёл к посёлку, отмахивая руками, как на параде.
Войдя в деревню, Верещагин увидел колонну солдат. Его полк возвращался с учений.
– Вашбродь, – бросился ему навстречу Никифор, – а я уж и думать не знаю что. Ушли и пропали. Хотел было деревню на ноги поднимать.
– Твоё счастье, что только думал, бестолочь, – огрызнулся Верещагин.
– А что ж делать-то было… Я только потом смекнул, что вы там с этой…
Верещагин сунул под нос денщику кулак.
– Да я что, я ничего, – затараторил Никифор.
Голос денщика вызвал в поручике волну бешеного раздражения. Он готов был уже развернуться и влепить солдату затрещину, как впереди появился прапорщик Крестовский.
– Верещагин! – Крестовский быстро зашагал навстречу, поскрипывая ремнями и стряхивая с себя пыль. – А я тебя в твоём доме жду. Хозяйка сказала, что ты на второй день после нашего отъезда запропал.
– Здравствуй, Николай, – поприветствовал его хмуро Верещагин.
– Ты, братец, под счастливой звездой родился, как я погляжу, – похлопал его по плечу Крестовский.
– В каком смысле?
– В прямом. Нога твоя, как мне доложила хозяйская дочка, зажила в одночасье. Бабёнка-то, кстати, аппетитная, сиськастая. Ты, надеюсь, успел использовать её за эти дни? Ну, ладно… Ранение твоё, Василёк, жизнь тебе спасло.
– Как так?
– Во время грозы, когда мы лагерем стали на берегу Иртыша, оползень случился. Твою с Игнатьевым палатку полностью завалило. Вот так-с.
– И что ж?
– Да ничего-с. Пока откопали, Игнатьев скончался. И ты там должен был ночевать, если б не нога твоя, – с каким-то азартом выпалил Крестовский. – Солдат пять придавило там же.
– Дела…
– Вот я и говорю, что в рубашке ты родился. А Никифор твой поведал мне, что ты с той девчонкой, из-за которой вся эта катавасия произошла – ну с вилами то есть, – гулять в лес отправился. Ежели тебе и тут повезло, то удачлив ты по всем статьям, братец.
– Значит, Игнатьева насмерть придавило? Дела… – Верещагин потёр небритое лицо.
– Не просто дела, Василёк, а воля судьбы. Благодари ангела-хранителя, ежели знаешь его по имени… А сейчас тебе лучше всего побыстрее щетину соскоблить, а то наш ротный не в добром расположении теперь, – предупредил Крестовский. – Нога-то совсем зажила?
– Как новенькая.
– А мужик-то твой, между прочим, окочурился, – не без удовольствия сообщил прапорщик, беря папиросу губами.
– Какой мужик?
– Тот, что вилами тебя пощупал. Не выдержал побоев, бесов сын…
Верещагин бросил взгляд на дорогу. До остановки в этой деревне Василия подкарауливала на берегу Иртыша беда, заготовив гибель под оползнем. Ранение ноги спасло его от смерти. Значит, смерть можно миновать. Смерть – одна из карт в колоде; в зависимости от расклада эта карта могла достаться любому из игроков. Кому-то она открывалась сразу. Кого-то поджидала в прикупе – вытащишь или нет?
– Послушай, Николай, – начал было говорить Верещагин, – тут такая история вышла…
– Ну-кась?
– Нет, ничего, после…
Он провёл пальцами по усам, как бы проверяя, на месте ли они. Вдоль улицы, щурясь на солнце, прыгали возле солдат грязные ребятишки, выкрикивая что-то несуразное. Навстречу Верещагину вышла из калитки девица – та самая хозяйская дочка, с которой Василий столкнулся в саду в первую ночь.
– И куда ж вы, господин офицер, запропали на столько-то времени? – упёрлась она в Верещагина огромными синими глазищами.
Василий задержался возле неё на несколько мгновений, но ничего не ответил.
«Да-с, – подумал он, – ведь я на тебя, дуру, облизываться стал поначалу-то… Вот странно! А сейчас ты мне даже неприятна. И ничего, кажись, не случилось, но вот неприятно мне даже представить, что я мог сиськами твоими пухлыми играть. Ничего не скажешь – странно».
Он обернулся к Никифору и жестом показал, что ему нужно зеркало, мыло и бритва.
– Поспешай, Василёк, – крякнул над ухом Крестовский. – Пора двигаться. Я пошёл, а ты не возись долго, не то ротный башку снимет…
– Я быстро, – ответил Верещагин громко.
А мысленно сказал: «Чёрт бы побрал ваш поход! Никуда-то я не хочу. Пуще прежнего не хочу идти».
После дневного марша полк, наконец, остановился на ночлег, не разбивая палаток. Верещагин никак не мог уснуть. Ему вдруг стали мешать солдатские голоса. Доносившиеся до слуха обрывки фраз казались гнусными и пошлыми. Пропитанный густым запахом пота воздух вызывал тошноту.
«Что со мной происходит? Я с трудом выдержал этот переход, едва дождался остановки. Меня всё раздражает. Мне хочется наброситься на первого попавшего под руку и расквасить ему морду, будь то офицер или рядовой солдат. Я не желаю никуда идти, меня воротит от мысли, что завтра я окажусь опять в вонючих казармах и буду тупо смотреть в потолок, давя клопов и считая мух. А эти пропахшие винищем девки, которым надо платить за то, чтобы поковыряться у них между ног! Тьфу! Будь всё это проклято!.. Но откуда вдруг взялось это отвращение? Почему мне противно то, что всего несколько дней назад вызывало если не восторг, то уж по крайней мере удовольствие? Ужели что-то может измениться в человеке так скоро?»
На рассвете между угасших костров проскакала чёрная лошадь. Верхом сидела девушка с распущенными по ветру волосами. Солдаты весело улюлюкали ей. Некоторые пытались преградить ей дорогу, но отскакивали, боясь попасть под копыта. Она ловко правила своим скакуном, подъезжала к офицерам, быстро оглядывала их и рысью мчалась дальше.
– Красавица, не меня ли разыскиваешь?
– Экая дикарка!
– Остановись, милая! Не на того жеребца села! Ты на меня погляди!
– Кружит – чисто ястреб!
Верещагин брился, хмуро глядясь в маленькое зеркальце, которое Никифор держал на уровне глаз. Услышав крики солдат, Василий обернулся. В наезднице он сразу узнал Арину. Сердце его радостно забилось. Забыв о намыленном подбородке, он побежал к ней навстречу.
– Ариша, ты что? Ты зачем сюда? – остановился он перед её конём, не зная, как себя вести.
– За тобой пришла. – В голосе девушки Верещагин услышал незнакомые ему интонации, какая-то угроза звучала в её тоне. Он даже не заметил, что Арина обратилась к нему на «ты», забыв прежнее «ваше благородие».
– Что ты говоришь? – Он продолжал улыбаться, но весёлость покинула его.
– Боюсь я чего-то. Душу выворачивает. – Она склонилась с седла и коснулась пальцами его усов. – Беду чую. За тобой я прискакала.
– Беду? – Верещагин невольно огляделся. Со всех сторон их обступили солдаты; многие пили чай из жестяных кружек, некоторые застёгивали штаны, иные делали неприличные жесты и корчили гримасы. Верещагин побледнел и сжал кулаки. – А ну, канальи, разойдись! Давно зубы вам не пересчитывали? Стройсь, сучьи дети! Через две минуты выправку проверю, скоты! Если что не по уставу – шкуру спущу! – Верещагин повернулся к Арине. Он буквально кипел от бешенства. Он зажмурился и потряс головой, но раздражение не покидало его. Однако стоило ему прислониться лбом к оголившемуся колену девушки, как вся злость его исчезла. – Что ты сделала со мной? Что ты сотворила, милая моя Ариша? Я сам не свой. Весь не похож на себя. Окружающий мир стал противен без тебя…
И тут Верещагин понял, что сказал самое главное для него в эту минуту. Ему была нужна Арина! Мир без неё потерял смысл!
– Я за тобой приехала, – повторила она.
Он болезненно оскалился и вяло махнул рукой.
– Да что ты… Куда я денусь? Я же солдат, подневольный человек, почти раб.
Послышалась команда на построение, и все, гремя винтовками, кинулись по своим местам. Верещагин схватил Арину за руку и поцеловал её.
– Прости меня, не могу разговаривать. Вот какая у меня жизнь. Прощай! Езжай к себе!
– Я буду рядом! – крикнула она, когда он, вытирая с лица мыльную пену, побежал в строй.
Солдаты пронзительно засвистели на Арину, заулюлюкали, кое-кто потряс над головой винтовкой.
– Господин поручик! – Подскакавший на лошади ротный командир рявкнул на Верещагина, как рассвирепевший пёс. – Что вы тут за чёртов балаган устраиваете, вашу в душу мать! – И тут же замахнулся кулаком на солдат. – А ну прекратить зубоскальство, голодранцы обосранные! Ша-агом а-а-арш!
Весь день Арина ехала позади полка, иногда подгоняя своего чёрного коня и двигаясь вровень с батальоном Верещагина, иногда отставая. Несмотря на приказы офицеров, солдаты не переставали пялиться на очаровательную наездницу. Она сидела в седле свободно, правила скакуном без усилия. Её юбка поднялась выше колен, оголив крепкие ноги. Чёрные волосы растрепались по ветру. Изредка к девушке подъезжал кто-нибудь из ротных командиров, что-то грозно выговаривал ей, некоторые даже замахивались на неё. Однако все быстро отъезжали, не только не добившись того, чтобы она прекратила преследовать полк, но будто пристыженные и даже подавленные чем-то, хотя Арина лишь молча смотрела им в глаза. Так продолжалось до тех пор, пока батальоны не дошли поздно вечером до своих казарм.
– Ну теперь-то я уж отведу душу, господа офицеры! – выкрикнул прапорщик Крестовский. – Кто первый присоединяется к моему обществу, того угощаю шампанским! Василёк, а не кликнешь ли ты свою дикарку в нашу компанию?
Верещагин промолчал и стал проталкиваться сквозь толчею.
– Дайте кто-нибудь закурить, в конце-то концов! Господа, дайте же папиросу!
– Господа, прежде всего надобно помянуть поручика Игнатьева, – возразил кто-то.
– Верно, верно. Упокой Господь его душу.
Над фуражками расплылся табачный дым, ярко высветившись под фонарём.
– Господа офицеры, полковник Касымханов ждёт ротных и батальонных командиров у себя!
– Какого дьявола! Что там ещё стряслось? Неужто расслабиться не дадут после похода?
– Господа, из штаба армии пришла депеша. Германия объявила нам войну! Приказано никому не покидать расположение полка!
Наступила недолгая тишина, офицеры притихли, затем поднялся общий шум, за которым ничего невозможно было расслышать. Верещагин взволнованно обернулся. Между бараками, метрах в трёхстах от стоявших офицеров, он увидел залитую лунным светом конную фигуру Арины. Поручик быстрым шагом направился к ней.
– Верещагин, постой! Куда ты? – услышал он позади себя голос Крестовского.
– Николай, сделай милость, оставь меня.
– Да куда же ты? Э, да, я вижу, твоя кавалерист-девица тут как тут. В самое сердце полка изволила пожаловать. Ты, братец, хорошо, должно быть, её отъездил, раз она за тобой увязалась в такую даль.
– Послушай, Николай, – Верещагин резко остановился и повернулся к прапорщику, – не забывайся!
– Да что я такого сказал? Что с тобой? Или она малиновая барышня какая-нибудь? Василёк, я ведь просто спросил… Куда ты, чёрт тебя подери?
Верещагин быстрым шагом пошёл дальше, решив не продолжать разговор.
– Нет, ты погоди, погоди! Нам нельзя уходить. Ты же слышал, – не отставал от него Крестовский. – Что, собственно, ты нашёл в ней особенного? Ответь! Или мы не давние с тобой друзья? Ежели она так хороша, то одолжи мне её на ночь. Дай мне понять, что у неё за капкан такой между ног, которым она тебя намертво взяла…
Верещагин почувствовал, как кровь ударила ему в голову. Он без предупреждения развернулся и коротким тычком ударил прапорщика в нос. В темноте он не разглядел выражения лица Крестовского, но услышал громкий треск хряща и сдавленный вздох.
– Я, господин прапорщик, никому не позволю о ней в таком тоне… – сказал очень громко Верещагин. – Она меня на ноги поставила. И вообще… Этого никому не понять!
– Василёк, ты рехнулся, – донёсся из темноты тихий голос прапорщика. – Ты мне нос сломал… Из-за какой-то немытой сучки…
Обезумев от ненависти, Верещагин бросился на Крестовского и обеими руками вцепился прапорщику в лицо. Он снова ударил Крестовского – на этот раз лбом – в нос, но сделал это не очень удачно и стукнулся бровью. Вместе с мгновенной тупой болью из глаза его посыпались сверкающие пятна. Однако это не охладило Василия, он зажмурился и продолжал рвать лицо прапорщика, ничего не видя перед собой. Он чувствовал, как большие пальцы попали прапорщику в оскалившийся рот. Он запомнил, как палец правой руки с особым упорством давил на скользкую щёку Крестовского и в конце концов проткнул её. Сразу брызнула горячая кровь. Крестовский дико закричал, упираясь локтями в грудь навалившегося на него Василия и дрыгая ногами.
Верещагин открыл глаза и увидел под собой лицо прапорщика, искорёженное, мокрое, почти чёрное. Несмотря на темноту, он различил замутившийся взгляд Николая и выступившие у него слёзы.
Не отпуская голову врага, Верещагин колотил ею о землю и слышал громкий стук затылка о валявшиеся на дороге битые кирпичи… Прапорщик затих. Поднявшись на ноги, Верещагин обнаружил возле себя босую девичью ногу. Он медленно повернулся. Рядом стоял конь, Арина нагнулась и с нескрываемым испугом заглядывала в лицо Верещагину.
– Зачем это? – услышал он её шёпот.
Он пожал плечами и постучал кулаком себя в грудь.
– Тошнит… Похоже, я убил его.
– Сюда бегут люди.
Верещагин, прижав подбородок к груди, простонал. Нервно покачав головой, он по-волчьи зыркнул через плечо. Вдоль бараков, устало переставляя ноги, бежало несколько офицеров. Хорошо различались поблёскивавшие в лунном свете козырьки фуражек.
Верещагин ощупал себя, как бы убеждаясь в том, что это действительно был он, а не кто-то иной и что именно он только что убил товарища. Затем он резко выпрямился и рубанул ребром ладони по воздуху.
– Ах так! Ладно ж…
Сделав шаг к Арине, он положил руку на её колено и запрыгнул на коня позади неё. Прижался к спине девушки и выдавил из себя, дыша в её густые волосы:
– Скачи, милая! Скачи отсюда прочь!
Подбежавшие офицеры остановились над неподвижным телом Крестовского. Кто-то грубо выругался, поглядев на поднятую умчавшимся конём пыль.
P.S.
Сумрачным апрельским вечером 1917 года на одну из улиц Тобольска вышел из дверей трактира офицер в расстёгнутой шинели. Фуражка на его голове сидела чуть набекрень. Почесав потный лоб, он сунул в рот папиросу и чиркнул спичкой. Красный огонёк осветил кривой шрам на щеке. Жадно затянувшись, офицер бросил спичку под ноги.
В притулившихся друг к другу домах начинали светиться жёлтые окна. Вдоль улицы брёл, спотыкаясь и ругаясь, пьяный человек; за ним тяжело ступала старая толстая женщина, спрятавшая голову в чёрный платок. Какой-то взъерошенный мальчуган пытался оседлать большую рыжую собаку, дёргая её за длинные лохматые уши. Неторопливо шла куда-то молодая, густо нарумяненная женщина в привздёрнутом бархатном платье, из-под подола которого виднелись полусапожки на пуговицах.
Лениво окинув взглядом залитую коричневыми лужами улицу, офицер наморщился. На противоположной стороне он заметил высокого мужика в овчинной безрукавке, который укладывал что-то в телегу возле постоялого двора, запруженного возами. Под колёсами и между ног лошадей сновали курицы и петухи, некоторые из птиц взлетели на перекошенный воз и клевали овёс из рваного мешка. Офицер сделал очередную затяжку и задумчиво провёл большим пальцем руки, державшей папиросу, по щеке со шрамом. Нетвёрдыми шагами он двинулся к возившемуся у телеги мужику. Приближаясь, он сдвигал брови и покачивал головой, будто разговаривал сам с собой и убеждал себя в чём-то очень маловероятном.
– Верещагин! – гаркнул он пьяно, остановившись за спиной мужика и шлёпнув его ладонью по плечу.
Мужик медленно повернулся к офицеру. У него было худое лицо, покрытое бородой, длинные спутанные волосы.
– Верещагин, ты ли это, чёртов сын? – воскликнул офицер и криво улыбнулся. – Не узнаёшь разве, Василёк? Крестовский я! Да ладно тебе пялиться, будто я с того света взялся.
– Обознались, ваше благородие. – Мужик шмыгнул носом.
– Брось, Василёк. Мне ли не помнить старого товарища? Спору нет, изменился ты сильно, одёжка твоя с толку сбивает, но ужель ты думаешь, что я не отличу твоего лица… Ты что? Почему в таком виде, зачем в крестьянских портках?
– Обознались вы, ваше благородие, – повторил мужик и повернулся к своей телеге.
– Нет уж, друг любезный, так просто не отвертишься от меня. Давно я хотел повстречаться с тобой, но дороги наши не пересекались… Подумать только! Почти три года минуло, война всех наших пораскидала… Э, да ты, я вижу, думаешь, что я зло на тебя держу из-за того случая? Нет, друг мой, никакого зла. Даже наоборот. Ты можешь не поверить мне, но я благодарен тебе за то, что ты мне тогда голову раскроил. Ты ж мне тем самым жизнь спас.
Мужик вновь повернулся к Крестовскому лицом.
– Обознались вы, ваше благородие. Не тот я, за кого вы меня принимаете. Я человек лесной, в город редко наезжаю… Но Верещагина одного я знавал, что верно, то верно – был один такой поручик пехотного полка. Только давно, я уж и помнить забыл.
– Верещагин, ты можешь дурочку перед другими разыгрывать… Впрочем, ладно, как знаешь. Пусть не ты, пусть другой… Я нынче выпил лишнего, случается со мной теперь не часто… Может, ты это вовсе не ты. Может, тебя и вовсе нет тут… Но хочу, чтобы ты знал: то, что я сказал, – верно. Та наша с тобой глупая ссора и драка и впрямь спасла меня от гибели. Я ведь попал в лазарет надолго, а наш полк тем временем загрузили в вагоны и направили на фронт. И представь себе, Верещагин, угодил тот эшелон под артиллерийский обстрел и весь пошёл под откос. Почти никого в живых не осталось! А ведь я не попал туда лишь из-за того, что ты мне башку попортил. Так что вот… Гадай после этого, на что даются нам всякие дурные события. Может, за ними скрывается наше спасение?
Крестовский замолчал и быстро докурил папиросу.
– После-то я, конечно, посидел в окопах, но Бог миловал… Да-с, война, скажу тебе, не похожа на те геройские мечты, которыми мы с тобой кормились за бокалом вина в офицерском собрании… Теперь вот новая беда – революция, царь отрёкся… А ты-то кем тут?
– Я не здешний, ваше благородие, не городской, – глухим голосом ответил мужик и рукой отбросил тяжёлую копну волос с глаз. Крестовский увидел несколько глубоких шрамов поперёк лба. – Пушнину приехал сдать и мукой разжиться. А звать меня…
Он не договорил, так как в это время к телеге подошла молодая черноволосая женщина. В руке она держала бумажный кулёк.
– А я леденечиков купила побаловаться, – радостно сообщила она.
– Вот и жена моя, ваше благородие. Ариной кличут, – сказал мужик, выразительно глянув на Крестовского.
Женщина посмотрела на Крестовского, и улыбка мгновенно исчезла с её красивого, круглого, немного раскосого лица. Что-то хищное и сильное появилось в её тёмных зрачках.
– Некогда нам разговорами заниматься, господин офицер, – строго свела она брови. – Ехать нам пора.
Крестовский отступил на шаг и, смутившись, закивал.
– Да, конечно, – пробормотал он, – конечно…
Потупив взор, он вдруг быстро повернулся и зашагал прочь, словно кто-то сильно подталкивал его сзади палкой.
25–29 июля 2001
Снег (1922)
Метель началась в тот самый момент, когда Тимохин вывел из задымлённого чума старика по имени Тэваси, подталкивая его револьвером в спину. Снег всколыхнулся в каком-то бешеном порыве и жгучими иглами впился Тимохину в лицо, сразу облепив тёмно-синий суконный шлем, украшенный зелёной нашивной звездой. Обычно поверх зелёного пятиконечника крепилась красная металлическая звезда, но Тимохин давно потерял её.
– Вот чёрт! – гаркнул он и раскашлялся, поперхнувшись глотком ледяного воздуха.
Старый Тэваси беззвучно шевельнул тонкими губами, словно пережёвывая что-то, и взгляд его узких глаз, утонувших в глубоких морщинах, скользнул по припорошенной снегом, светло-серой шинели Тимохина и по зелёным ромбовидным петлицам с надписью «ГПУ».
– Надеешься, что мы застрянем тут из-за метели, старик? – проворчал гэпэушник. – Ошибаешься. Всё одно поедем.
В голосе Тимохина не чувствовалось ненависти ни к Тэваси, ни к остальным Самоедам, только бесконечная усталость. Тэваси не ответил. Его длинные седые волосы плясали на ветру. Он не проронил ни слова с той минуты, как в его чуме появился Тимохин, известный среди Самоедов как Больное Сердце.
– Боль в твоём сердце не даёт тебе покоя, – проговорил громко Тэваси, глядя в прищуренные глаза гэпэушника.
– Молчи, молчи, старый хрыч. – Тимохин поёжился, натянул пониже шлем и застегнул на подбородке его опущенные отвороты. – Доберёмся до района, уж там-то с тобой знающие люди поговорят. – Его слова прозвучали без угрозы, почти равнодушно. Так говорят люди, измученные бессонницей и получившие, наконец, возможность опустить голову на подушку. Тимохин уже почти чувствовал эту подушку. К вечеру он надеялся добраться до Успенской фактории, где можно будет отоспаться, а через день двинуться в районный центр и сдать шамана начальству.
Тэваси остановился и посмотрел на поджидавших его возле саней двух красноармейцев; у каждого за спиной висела винтовка. Их фигуры в длинных шинелях и остроконечных шлемах выглядели таинственно в клубившейся снежной каше. Чуть поодаль различались в свинцовой вечерней серости очертания ещё нескольких человек – Самоеды безмолвно наблюдали за арестом шамана. Казалось, жители крохотного самоедского стойбища были загипнотизированы происходящим. Они стояли столь же безучастно, как и расплывчатые контуры конусовидных жилищ за их спинами. За последние два года люди рода Щуки не раз уже видели, как Больное Сердце увозил кого-нибудь из их соплеменников. И никто из увезённых не вернулся. Теперь Тимохин приехал за шаманом.
– А вам чего надобно?! – негромко крикнул Тимохин Самоедам, словно огрызаясь на немой укор. – Все вы тут заодно, сволочи! Думаете, я не дознаюсь, где вы прячете от нас своих оленей? Дайте срок, уж я всех вас выведу на чистую воду! – Тимохин взмахнул рукой, сжимавшей револьвер. Другой рукой он придерживал тяжёлую, на сыромятном ремне, кавалерийскую шашку. Шашка в здешних условиях не была нужна и даже мешала, но отказаться от неё означало для него отказаться от взвихренного кавалерийского прошлого, то есть почти от всей той жизни, которую он считал настоящей. – Чего остановился, дед? Особого приглашения ждёшь? Сейчас пальну тебе в затылок, и будет тебе приглашение сразу на тот свет!
Подойдя к упряжке, Тэваси сначала погладил оленей, шепнул им что-то, затем опустился на скрипнувшую нарту и набросил на голову меховой капюшон.
Тимохин сунул револьвер в кобуру и посмотрел на красноармейцев.
– Куда Матвей подевался? Матвей!
– Тут я, товарищ начальник.
Перед Тимохиным появился из снежной мглы человек в меховой одежде. Матвей был из Самоедов, он давно уже оказывал помощь сотрудникам ГПУ в качестве проводника. Даже в родное стойбище приводил неоднократно людей с зелёными звёздами на остроконечных шлемах. Никто из Самоедов не понимал Матвея: почему он старался изо всех сил угодить чужакам, почему был суетливо-услужливым?
– Может, ты зол на нас? – как-то раз спросил Матвея кто-то из стариков. – Зачем злых русских к нам водишь? Чем тебя обидел твой народ?
Матвей лишь криво ухмылялся на такие слова, не открывая тайников своей души, потирал руки. Но однажды, заглянув в дом своей двоюродной сестры, всё же проговорился:
– Мне русский начальник обещал оленей дать. Я всегда безоленным был, долго работал на Яптуная, но ничего не получал от него. Теперь Яптуная в тюрьму посадили, тяжёлый замок на дверь навесили, а мне сто оленей за это обещано.
– А за что Яптуная арестовали? – спросила сестра.
– Бедняков работать на себя заставлял. Меня заставлял, всю мою семью заставлял. Теперь у меня тоже олени будут…
Сейчас, стоя перед Тимохиным и по-собачьи глядя на него из глубины огромного капюшона, Матвей думал о том, как бы отговорить начальника от поездки в такую метель.
– Садись, – сказал Больное Сердце.
– Плохая погода, товарищ начальник, шибко плохая. Пути совсем нет.
– Сам вижу, что плохая, – отмахнулся гэпэушник. – Только времени у меня нет прохлаждаться тут.
– Заплутаем, – с опаской произнёс Матвей.
– Я тебе заплутаю! – Тимохин сунул револьвер под нос Матвею. – Хочешь помешать проведению ареста? Я тебя самого в подпол посажу!
Увидев дрогнувшие губы проводника, Больное Сердце ухмыльнулся и спрятал оружие в кобуру на плечевом ремне.
«Тоска, беспробудная тоска», – подумал он, обводя взором мутные очертания самоедских чумов. Он пошарил рукой в кармане шаровар и достал кисет, чтобы свернуть папиросу, но передумал.
– Кончай разговоры разговаривать! – приказал он красноармейцам, хотя они стояли молча. – Двигаем отседова!
Тимохин плюхнулся в нарту, Матвей с недовольством посмотрел в сумрачную даль и, взяв в руки длинный каюрский шест, опустился рядом с Тимохиным. В их сани, запряжённые парой оленей, не помещался больше никто. Вторая нарта была грузовой, в ней предполагалось вести шамана с конвоирами и несколько тюков, набитых пушниной; в упряжке стояло четыре белых оленя, у двоих из которых рога были спилены.
– Чего стоите пнями? – Тимохин снова повернулся к конвоирам. – Ефимов, ты оглох, что ли? Мать твою…
***
Сани замерли.
– Никак ты дорогу потерял? – рявкнул Тимохин сквозь ветер и потеребил, приподнявшись на санях, Матвея за плечо.
– Ничего не пойму, – отозвался Матвей едва слышно и остановил оленей.
В стремительном движении серого воздуха, наполненного белыми хлопьями, угадывались контуры соседних саней.
– Не отставать ни на шаг! – срываясь на кашель и размахивая рукой, крикнул Тимохин красноармейцам. Те что-то ответили, но метель проглотила их слова.
Матвей слез с саней и сказал, всматриваясь куда-то в глубину снежного неба:
– Чую дым, где-то рядом чум, но точно не пойму. Он поднялся и, словно заворожённый, шагнул в снежную муть.
– Куда?! – крикнул Тимохин. Матвей не отозвался и сразу исчез в пурге.
– Дурак! – злобно сплюнул один из красноармейцев, подойдя к нарте, на которой сидели Тимохин и Тэваси. – Куда нам теперь?
– Эй, старик, – буркнул Тимохин, нагнувшись к шаману, – подсказывай, куда ехать.
Тэваси выглянул из глубины капюшона и беззвучно шевельнул губами.
– Что ты говоришь, старый пень?! – крикнул гэпэушник и задохнулся в очередном приступе кашля.
Олени вдруг тронулись и потянули нарты влево. Через пару минут впереди вылепился сильно заваленный снегом конус самоедского жилища.
– Стой! Поднимайся! – скомандовал Тимохин. – Отдыхать будем.
Чум внутри был довольно просторен. В центре был разложен костёр, от которого по жилищу носился едкий дым. Привыкнув к мерцающему свету, Тимохин разглядел несколько фигур. Рыжебородый хозяин явно был не Самоед. Позади рыжебородого виднелась молодая женщина, должно быть жена. Слева от костра сидела, сильно сгорбившись, старушка, резавшая заячью тушку на куски. В глубине чума сидел мальчишка лет восьми.
– Кто такие? – простуженно прохрипел Тимохин.
Рыжебородый молча указал вошедшим место справа от входа. На снегу были настланы доски и покрыты оленьими шкурами.
– Сбились с пути? – спросил хозяин.
– Сбились, – кивнул Больное Сердце, стряхивая с шинели снег. – А ты кем будешь?
– Аникин Степан, – спокойным голосом ответил хозяин, посмотрел на Тэваси и поднёс ко рту костяную курительную трубку.
– Промышляешь? – Тимохин огляделся и опустился перед огнём, положив шашку на колени. – Степан Аникин? Из соседнего уезда, что ли? Не помню я тебя что-то. Чёртова погода! Матвей, сволочь, теперь точно замёрзнет.
– Матвей? Следопыт, что ли? Матвей Лысый? – уточнил Степан.
– Он самый, – отозвался один из красноармейцев.
– Знаешь его? – спросил Тимохин хозяина.
– Его тут все знают, он у вас, я слышал, вроде охотничьего пса.
Тимохин заметил, как взгляд Степана зацепился за ромбики с буквами «ГПУ».
Старая женщина неторопливо поднялась и вышла из чума. Вскоре она вернулась и бросила несколько больших комьев снега в котёл, который повесила над костром.
– Вы из стойбища Щуки, как я погляжу, – заговорил Степан после непродолжительной паузы.
– Да, – Тимохин мотнул головой в сторону Тэваси, – за шаманом ездили. Велено его в район свезти. Скоро всю ихнюю породу выведем.
Повисло молчание.
Вода в котле вскипела, и старуха бросила туда куски зайчатины. Когда всё сварилось, старуха выловила куски мяса и разложила их по деревянным плошкам, тёмным от въевшегося в них жира.
– Откуда сам-то? – спросил за едой Тимохин.
– Смоленский.
– А сюда что ж? Сослан был при старом режиме?
Степан кинул.
– В пятнадцатом году, с тех пор я тут. – Тёмно-карие глаза смотрели из-под рыжих лохматых бровей очень пристально.
– Из политических или по уголовной линии?
– Из политических, – без особого энтузиазма ответил Степан.
Тимохин заметно оживился.
– Но ведь мы царизм уж пять лет как сковырнули. Какого же лешего ты здесь прозябаешь, товарищ Аникин? Почему в революционный строй не вернулся? Сейчас нам партийцы старой закалки, как никогда, нужны.
– Прижился я в этих местах, ладно мне здесь, – отозвался Степан.
– В этой чёртовой глуши? – не поверил Больное Сердце и переглянулся со своими спутниками.
Степан снова набил трубку и закурил.
– Я нашёл, что хотел, – сказал он. – Охотой живу, никуда не бегу, не рвусь.
– Послушай, товарищ Аникин, – проговорил Тимохин, внимательно вглядываясь в бородатое лицо Степана, – лицо мне твоё будто знакомо… Ты в девятьсот пятом в Москве случаем не был?
Рыжебородый посмотрел на гэпэушника сквозь расплывшееся облачко табачного дыма.
– На Пресне был, – сказал он с расстановкой, – под красным флагом на баррикадах стоял, от казаков метку шашкой получил, аккурат здесь чиркнули. – Степан указал пальцем на затылок. – Уйти не смог, угодил за решётку.
– То-то я смотрю! – обрадовался Тимохин. – Мы ж с тобой на Триумфальной во время митинга в одной дружине ходили. Не припомнишь? Ты меня, когда солдаты стрелять начали, раненого выволок оттуда. Ну? Неужто не вспоминаешь? В подвале ты меня перебинтовывал, руку мне вот тут, ниже локтя подбило… Тимофей я… Тимохин… С нами ещё товарищ Штык был, помнишь?
– А-а-а… Так вот, выходит, где снова свиделись, – улыбнулся Степан. – Как рука-то, пулю вспоминает?
– Иногда ноет. Да меня с тех пор пять раз свинцом ковыряли на Гражданской. Дело привычное, – сказал Тимохин не без гордости.
– Человек ко всему привыкает.
– Вот тут я с тобой не соглашусь, друг. Я здесь второй год мытарюсь уполномоченным ГПУ, а привыкнуть не могу. Да и не хочу привыкать. Я к лобовой атаке приучен, к кавалерийскому топоту, а не к этой оленной волынке… Тьфу! Не понимаю, что ты делаешь тут, товарищ Аникин.
– Живу. – Степан почесал бороду.
– Подальше от людей, что ли, ушёл?
Степан промолчал.
– Может, ты с революцией в чём разошёлся? – спросил Тимохин.
– Разошёлся? Пожалуй, особливо ни в чём. Просто революционного воздуха я наглотался досыта, – Степан пыхнул сизым дымом, – мне этого удовольствия больше не надобно. Это всё в прошлом.
– Нет, товарищ, зря ты так говоришь. Молодость наша революционная осталась в наших сердцах навечно. – Тимохин с любовью погладил лежавшую на коленях шашку, в глазах его вспыхнул огонёк воспоминаний. – От тех дней и тех мыслей просто так не отвернёшься.
– Я перекипел, – проговорил Степан с неохотой, – ушла из меня вся эта пена.
– Что за пена? Уж не революцию ли ты пеной называешь?
– Вот именно. Огня много, кровищи – ещё больше. А про обыкновенную жизнь за всем этим побоищем никто думать не думал, некогда людям стало хлеб сеять, баб любить, скотину разводить. Зачем же тогда мы революцию затеяли? Зачем этот пожарище на всю страну? Неужто только ради смертоубийства, ради расстрелов и виселиц? Разве революция задумывалась, чтобы простолюдины ненависть свою излить смогли? Разве не ради справедливой жизни?
Было видно, что Степан с болью относился к этой теме; он бы и рад был промолчать, но настоявшаяся в душе печаль поднялась до краёв и требовала, чтобы её выплеснули.
– Что ты мелешь такое, товарищ? – воскликнул один из красноармейцев.
– Никак ты суть революции под сомнение ставишь? – сощурился Тимохин. – Спокойного мещанского прозябания захотелось? Тепла и уюта?
Степан удивлённо посмотрел на гэпэушника и хмыкнул.
– Оно и видно, что я выбрал для себя дорожку полегче. – Он покачал головой. – Самое что ни на есть мещанское жильё – чум. Уютно и беззаботно, так, что ли?
– Кхм, – Тимохин откашлялся, – не понимаю я тебя, товарищ Аникин. Странно мне всё это слышать. Странный ты элемент. Отколовшийся от революции, сбившийся с пути, несознательный…
– Почему же сбившийся? – Степан с наслаждением пососал курительную трубку. – Наоборот, я воротился на нормальную лыжню. Я по человеческой жизни истосковался, покуда в революционном подполье жил, как крыса.
– Это что за слова такие!
– А ты брови не хмурь. Мне ли не знать, что такое подполье. Бомбы готовили, ограбления банков организовывали, подгрызали какие можно устои, чтобы государство рухнуло побыстрее. А кто у нас на пути возникал, тех давили нещадно. Кровавый вихрь революции! Это всё по молодости хорошо звучало, пока мозги были зелёные, недозревшие.
– Это как же ты смеешь…
– Революция делалась ради человека, но про человека-то никто из нас, оказывается, не думал. Да ты на себя сейчас посмотри. Я про тебя много разных слов от Самоедов слышал. Арестовываешь, расстреливаешь. Скоро ты на здешних просторах никого не оставишь. Но растолкуй ты мне: для кого ты стараешься? Кому будет нужен этот край, когда ты всю Самоядь изведёшь? Сам-то жить ты здесь нипочём не хочешь, ты ненавидишь Север, а всё туда же – перемены насаждаешь, вершишь революционный суд! Оставь эту землю тем, кому она нравится такой, какая есть. Уезжай отсюда… Впрочем, куда тебе! Ты теперь только исполнять приказы умеешь, палачу собственные мысли ни к чему.
– Это кто ж палач-то? Не меня ли ты таким словом позоришь?
– Так ты и есть самый настоящий палач, очень даже исполнительный палач, усердный.
– Замолкни, контра! – Тимохин подался вперёд всем корпусом.
– Тебе нравится чувствовать себя командиром, – голос Степана Аникина сделался металлическим, – нравится осознавать, что ты вправе швырять в кровавый котёл новые и новые жизни. Все вы такие… революционеры: только и желаете власть свою показать, упиваетесь вы властью, пуще водки она вас хмелит! Революция лишь для того и нужна, чтобы новых людей к трону привести. И ежели ты, Больное Сердце, не понял этого, то ты не понял ни черта за весь свой долгий боевой путь!
– Я тебя, шкуру, арестую сей момент за контрреволюционную агитацию, – побелел Тимохин.
И тут Степан каким-то неуловимым движением вскинул невесть откуда взявшуюся двустволку и направил её на гэпэушника. Тимохин застыл, растерянно оскалившись. Ещё через секунду за спиной Степана поднялась во весь рост молодая женщина, винтовка в её руках решительно смотрела на красноармейцев.
– Контрреволюцией ты меня не попрекай, командир. Я не один год борьбе за социалистическую идею отдал, дважды в одиночке сидел и товарищам по борьбе палки в колёса никогда не совал, провокатором не был, хоть и разуверился в справедливости той борьбы… Тут я из-за другого остался. Суета меня заела, чёрная тупость человеческая, бесконечный бег за выживанием… Революция, она, конечно, свела меня с умными людьми, помогла яснее на мир взглянуть, но всё равно она – та же бешеная гонка… А царской охранке я даже благодарен: она избавила меня от лязга заводского, от вгрызшейся в руки ржавчины, от вони машинного масла. Лишь благодаря тому, что меня сослали на Север, я узнал, что есть совсем другая жизнь. Смешно сказать: не попади я сюда, так бы и думал, что мир наш только из пропахших копотью пролетариев состоит да безземельного крестьянства… – Увидев, как пальцы Тимохина побелели от напряжения, стиснув шашку, Степан строго свёл брови. – Полегче, командир, не трепыхайся. Застрелю, если попытаешься взять меня. Я со ста шагов бегущему зайцу в глаз попадаю, так что не пытай судьбу… Ты скажи мне лучше: чем тебе Тэваси не угодил?
– Он против советской власти агитирует, – едва слышно откликнулся Тимохин, не поднимая глаз.
– А почему он должен быть за твою власть?
– Потому как эта власть – народная.
– А Тэваси, выходит, не народ? А Самоеды, которые тут испокон жили, тоже не народ? У них тут свои порядки, которые их вполне устраивают. Зачем им твоя власть? Нет, Тэваси к политике не имеет касательства, тут ты тоже врёшь, командир. Тэваси лишь хочет, чтобы Самоеды не потеряли своего лица, чтобы народ прежним путём продолжал идти, чтобы не разучились люди слышать голос Матери-Земли. А ты его – в агитаторы… Не для добра ты сюда приехал. Уезжай-ка ты, – Степан повёл ружьём, – поднимайся с твоими заплечных дел мастерами и медленно выходи наружу. Давай, давай. Осторожненько выходите, дабы я ненароком не вздрогнул и не вжарил из обоих стволов.
– Там пурга.
– Верно говоришь. Но там у вас будет шанс остаться в живых. А в моём доме у вас такого шанса более нет. Ружьишки-то ваши не троньте, пусть лежат на месте. Ты, командир, саблю свою брось, ремни распусти. И «наган» из кобуры вытащи, незачем тебе сейчас лишний груз при себе иметь, оленям легче будет лямку тянуть.
Тимохин заскрипел зубами в бессильной ярости, но шашку всё-таки бросил к ногам, затем расстегнул скрипнувшую кобуру и злобно швырнул револьвер к костру.
– Хорошо, – сказал Стёпа и кивнул. – Выходите по одному, полог не опускайте. Хочу видеть, как вы один за другим к своим саням уйдёте. Если кто в сторону шагнёт, я немедля на спусковые крючки нажму.
Гэпэушники молча шагнули в бесноватый снегопад. Степан вышел за ними, позади него двигалась беззвучной тенью молодая женщина с винтовкой в руках.
– Зря ты так, Аникин! – крикнул Тимохин, остановившись возле саней. – Теперь тебе не миновать революционного суда. Я собственноручно расстреляю тебя, гнида, и твоего шамана кончу, к одной стенке поставлю вас обоих. Сам сделаю это, никому не отдам вас! Из-за таких вот сволочей мы никак не построим новый мир. Но ты не радуйся, шаманский прихвостень, тебе не остановить нас. Мы научим всех жить по-новому!
– Видел я вашу науку, – проговорил печально Степан. – Видел, как вы чумы разоряете, оленей угоняете. Хуже разбойников…
Тимохин сжал кулаки и сел в сани. Красноармейцы опустились на другие.
– Езжайте быстрее! – крикнул Степан вслед трём остроконечным шлемам.
– Двое замёрзнут, – спокойным голосом сказал Тэваси, когда Степан вернулся к костру. – А Больное Сердце приедет опять. Приедет за кровью.
– Почему ты не остановил их, когда они пришли арестовывать тебя? – спросил Степан, глядя шаману в глаза. – Тебе дана огромная сила, но ты не пользуешься ею.
Шаман поднял брови, как бы сам удивляясь себе, и пожевал губами.
– Я сделал снег, – ответил он, переходя с русского на родной язык. – Разве этого мало?
– Ты мог просто убить их, – сказал Степан.
– Ты тоже, – ответил Тэваси, помолчал и продолжил: – Я сделал снег. Они бы замёрзли, если бы твой чум не возник у них на пути.
Степан ухмыльнулся.
– Пожалуй, ты прав, отец, – согласился он.
– Нельзя уйти от воли Смотрящего-За-Нами-Человека, – спокойно произнёс старик. – Больное Сердце вернётся, с ним придут солдаты. Они будут стрелять. Такова воля Смотрящего-За-НамиЧеловека. Нам надо пройти через это и многое познать. – Старик повернулся к жене Степана и сказал: – Я давно не видел тебя, дочка. Уже соскучился по тебе, нябуко.[10]
– Я тоже, отец, – откликнулась женщина, укладывая винтовку возле своих ног.
– Вы, как я посмотрю, шибко к войне готовы, – поцокал языком Тэваси. – Даже ты, нябуко, за ружьё взялась.
– Надоело смотреть, как они, – Степан кивнул в сторону входа, – хозяйничают. Твои люди, отец, слишком много терпения
***
Когда Тимохин подъехал к Успенской фактории, пурга стихла. Фактория выглядела непривлекательно. Три убогих бревенчатых строения, предназначенных для жилья, лепились друг к другу покосившимися стенами. Чуть в стороне стояли пекарня, баня и два больших склада. Контора представляла собой два прируба позади одного из жилых домов. Над конторой понуро висел красный флаг.
Тимохин не правил, олени сами тянули нарту. Спрятавшись с головой под меховой накидкой, Больное Сердце сидел неподвижно, провалившись в тяжёлое полузабытье. Никто не вышел встречать начальника, и Тимофей Тимохин, едва переставляя застывшие ноги, с огромным трудом поднялся по занесённым снегом ступеням.
– Эй! – позвал Больное Сердце, ввалившись в дверь.
Никто не отозвался. В доме царил мрак. Единственная сальная лампа тлела в дальнем углу, почти не освещая помещение. Возле горячей печи спал на лавке человечек, укрытый тулупом.
– Поликарп, – хрипло пролаял Больное Сердце и прижался всем телом к печке, – подай спирту.
– Товарищ Тимохин? – Спавший оторвал голову от лавки, заспанно моргая и шевеля отвислым носом; у него было длинное худое лицо. – Вы уже вернулись?
– Спирту!
– Сей момент. – Поликарп опустил ноги на пол, и Тимохин увидел, что солдат спал в валенках. – А где ж Волков и Еремеев? Чего в дом не спешат? – Поликарп одёрнул гимнастёрку и поскрёб ногтями небритую щёку.
– Отстали они. Думаю, замёрзли насмерть. Не знаю, как я-то не околел в этой шинели.
– А Матвей?
– Этот ещё раньше потерялся, – непослушными красными пальцами Тимохин рванул застёгнутый на подбородке шлем, и обтянутые тёмно-зелёным сукном пуговицы отлетели на дощатый пол.
– Хорош проводник! – Поликарп успел привернуть фитиль, чтобы лампа светила поярче, и поднёс начальнику гранёный стакан, наполненный спиртом на одну треть.
– Пурга была страшная, в двух шагах ничего не различить. – Тимохин жадно опрокинул стакан и вслушался, как спирт обжигающе окатил горло и желудок. – Ещё!
– Разувайте ноги. Растирать щас будем. Ещё чуток, и вы, похоже, окочурились бы.
– Морозы внезапные…
– Оленей бы распрячь надо. Сейчас ребят разбужу.
– После, Поликарп, к чёрту оленей! Сперва ноги мне разотри, отваливаются, ни хрена не чувствуют. Сильнее растирай, не бойся!
Минут через тридцать Тимохин уже дышал свободно, вытянувшись во весь рост на лавке.
– Чаю сделать? – спросил Поликарп, нагнувшись над начальником.
– Валяй… Ты про Степана Аникина слыхал что-нибудь?
– Слыхал, видел даже пару раз, когда он сюда приезжал пушнину сдавать, – ответил Поликарп, загромыхав самоваром.
– А я почему ничего про него не знал?
– Как же не знали, товарищ Тимохин? Вы его сами выделили красным карандашом в бумагах, как наиболее революционного из тутошней бедноты. Хотели встретиться для ответственного разговору.
– Я? Чего-то не припомню.
– Он в документах как Бисерная Борода указан.
– Бисерная Борода? – удивился начальник.
– Самоеды его только под этим именем и знают. Кочующий охотник, русский, из ссыльных…
– Значит, Бисерная Борода? Тьфу! Никакая она не бисерная, а рыжая, а что он из ссыльных, то это я теперь и сам знаю, – огрызнулся Больное Сердце. – Ой, ноги горят…
– С морозом шутить негоже. Считайте, что вам повезло.
– Бисерная Борода? Почему так?
– Не знаю. У Самоедов за любым именем – тайна. А вы зачем про него спрашиваете? По какому такому поводу вспомнили про него?
– Повстречал по дороге сюда. Век не забуду…
– Видели? Чего ж тогда меня пытаете?
– А то, что Степан Аникин в моей башке никак не был Бисерной Бородой… Да теперь что! Теперь эта сволочь для меня первый враг! Мой личный враг и враг революции!
– Чего вдруг?
– Этот сукин сын меня под прицелом держал, – прорычал Тимохин.
– Ну? – не поверил Поликарп. – Да более мирного, чем Борода, тут не сыскать!
– Шамана у меня отобрал!
– Арестованного?
Вместо ответа Больное Сердце поднялся с лавки, доковылял до стола, налил себе из бутылки спирта и выпил ещё четверть стакана.
– Так, товарищ Тимохин, вы просто свалитесь, с дозы-то такой.
– Чушь! Не свалюсь. Я теперь не имею права свалиться. Я теперь жить должен, чтобы смыть позор, кровью смыть… Какая нынче тишина, – тяжело вздохнул Больное Сердце.
Раньше с середины ноября и чуть ли не до конца января вокруг Успенской фактории почти круглые сутки стояло множество нарт с запряжёнными в них оленями. Пекарня в это время работала беспрерывно, а контора обычно бывала до отказа забита Самоедами. Воздух был так сильно надышан, что лампа горела неполным светом.
Но этой зимой мало кто из Самоедов появился на Успенской фактории. Дело было в том, что посещение фактории для семьи тундровиков было своего рода ритуалом. Приехавшие с пушниной Самоеды непременно угощались в конторе мороженой рыбой и чаем с кренделем, маслом и сахаром. Но этот установившийся обычай почему-то не понравился представителям революционной власти, и с прошлого года всякие угощения были отменены. Самоеды, оскорблённые тем, что их не встретили по законам гостеприимства, решили больше не приезжать в Успенскую.
Полное затишье на фактории и послужило толчком к тому, что Тимохин активизировал свою деятельность, принялся разъезжать по стойбищам оленеводов, дабы «организовывать обездоленное и малооленное население», а заодно выявлять «сомнительные элементы», в категорию которых в первую очередь попадали шаманы.
Но сейчас Тимохин, когда спирт раскачал его голову, а тело будто расплавилось после растирания, не желал думать о службе.
– Сейчас бы бабу, – пробормотал он.
– Так вы загляните к Глафире, – душевно отозвался Поликарп, раздувая самовар. – Она давеча заходила сюда, глазами всё зыркала. Кажись, мужика ей заохотилось.
– А ты что ж? – устало шевельнул губами Тимохин.
– Да у меня тут Сидоров с Красновым сидели, – вздохнул Поликарп. – Газету мне читали, не мог я отмахнуться от них.
– Никак почта была?
– Евдокимов привёз целую пачку. Поди целый месяц у нас газет не было…
– Ты, Поликарп, оставь в покое самовар. Я после выпью. Пожалуй, сейчас и впрямь схожу к Глашке, – заключил Тимохин и опустил ноги на пол. – Может, отогреет…
Оба конторских помещения имели двери в жилой дом, в котором до прихода революционной власти жила купеческая семья. Теперь там устроились представители большевистской власти.
Глафира Бочкина обитала на Успенской фактории уже лет пять, никто не знал, каким образом она попала сюда, да никто и не проявлял никогда интереса к её жизни. Женщина она была рослая, плечистая, широколицая. Когда хотела мужика, она сверкала глазами так, что от её взгляда у всякого, на кого она смотрела, будто внутри что-то переворачивалось и тут же вспыхивало неудержимое желание. Глафира считалась местной достопримечательностью.
– Я такую бабу никогда раньше не встречал, – сказал как-то Поликарп. – С разными возился, сиськастые были и с отменными жопами тоже, но с такими глазищами ни одной не было. Глашка как зыркнет, так у меня ялда кочергой встаёт. Просто кобелём себя чувствую неуёмным.
– С энтой кралей, – покрякивал в ответ Сидоров, – уняться никак нельзя. Я, быват, даже пужаюсь её рожи. Улыбнётся, ковырнёт глазами – как шашкой рубанёт. Одно слово – сука.
Половицы скрипнули под босыми ногами Тимохина.
На пороге комнаты, где обитала Глафира, лежал, свернувшись комочком, пожилой усатый красноармеец. Обеими руками он сжимал винтовку, прижав её к себе, как ведьма – метлу.
– Евдокимов! – Тимохин толкнул красноармейца ногой.
Тот пробурчал в ответ нечто невнятное.
– Встань, сволочь, – Тимохин снова пнул ногой. – Посторонись, начальство идёт.
Красноармеец поднял голову и невидящим взором пошарил перед собой.
– Кто здесь?
– Я здесь! Опять дрыхнешь?
– Тимофей Артемьевич? Прошу прощения, задремал на посту.
– На каком посту, болван.
Евдокимов огляделся, зашевелил усами.
– А я думал, что на карауле стою.
– На карауле бы я тебя пристрелил, дурак, за нарушение революционной дисциплины… Поди прочь от двери.
– Так точно! – Евдокимов поспешно отступил вправо.
Тимохин шагнул в комнату Глафиры. От сознания, что через минуту в его руках окажутся пышные груди с торчащими сосками, Тимохин сразу возбудился.
– Кто там? Кого чёрт несёт среди ночи? – послышался сонный женский голос.
– Глаша, это я – Тимофей.
– Тебе вам?
– Промёрз я.
– Так полезайте на печку, мне сейчас недосуг, – заворчала она.
Он не обратил внимания на её слова и подошёл к её кровати. В темноте разглядел её глаза и зубы. Он на ходу стянул с себя подштанники.
– Ступайте, Тимофей Артемьевич, я спать хочу, – хрипло сказала она. – Завтра приходите.
– Я уже пришёл, – из него вырвался хриплый смешок.
Из-под мятой рубашки Тимохина высунулся налитой конец его члена. Тимохин потянул рубаху через голову, сел на кровать и отдёрнул одеяло. Увидев возбуждённое тело мужчины, Глафира улыбнулась.
– Сымай с себя всё, видеть тебя хочу. – Он склонился над её лицом.
– Спиртом от вас разит – страх!
– Согревался я. Скидывай свою рубаху.
– Давайте так. – Она протянула руку и нащупала мужскую твердь.
– Сымай рубаху, – повторил он, – хочу тебя видеть.
– Да что с вами, Тимофей Артемьевич? – Ей быстро передалось его возбуждение.
Он торопливо отшвырнул её ночнушку и жадно припал к раскрытому рту женщины, навалившись на неё всем телом. Глафира податливо развела ноги и предоставила ему своё тепло…
Когда первая волна желания была удовлетворена, Тимохин приложил отяжелевшую голову к груди женщины и затих, наслаждаясь уютной, зыбкой, трепещущей плотью.
«Может, на самом деле только в этом и есть человеческое счастье? Может, ничего человеку не надо, кроме этого? А мы всё рвёмся куда-то, в окопах гниём, на стройках загибаемся. И всё ради какой-то идеи, которую даже и не потрогаешь и голову к ней вот так не приклонишь. Сколько лет боремся, а просвету не видать, как не видать никакой нежности и доброты…»
Тимохин услышал собственные мысли и вздрогнул, испугавшись таких рассуждений. Вздрогнув, он оторвал колючую щёку от пышной женской груди, краем глаза увидел пузатый сосок с дырочкой на конце. Поднявшись на локтях, он нарочито грубо, чтобы отогнать подкравшуюся к сердцу мягкость, раздвинул круглые колени Глафиры.
– А ну-ка, чего разлеглась, будто интеллигентка какая! А ну давай, – он ткнул двумя пальцами в её влажную плоть, – давай, сучка ты этакая, работай.
– Злой вы, – проговорила Глафира в ответ, впуская в себя его возбудившееся тело. – Боитесь человеческое тепло проявить, мягким боитесь показаться.
– Молчи! Нету во мне ничего такого!
– Ежели человека в себе душить ежечасно, то оно понятно… – И женщина издала глубокий стон под напором Тимохина.
– Молчи, дело делай.
– Дело-то нехитрое, Тимофей Артемьевич, – отозвалась Глафира томно из-под жилистого мужского тела. – Только нежности бы хотелось от вас, а не простого кобелячества.
– Всякую такую нежность, как проявление чуждой нам морали, мы штыками вытравливать будем.
– Дурак ты, Тимофей, хоть и в ГПУ служишь, – вдруг отчётливо произнесла Глафира.
Он размашисто шмякнул кулаком ей в лицо. Застыл на мгновение, затем вновь задвигал бёдрами, жестоко вдавливая женщину в перину.
– Если мы мягкость всякую не вычеркнем из нашей жизни, – процедил он, как бы извиняясь за удар, – то мы нипочём не победим. А нам без победы никак нельзя. Зачем же мы тогда затеяли революцию?
Он оттолкнулся от Глафиры, перевернулся на бок и уставился вытаращенными глазами в стену. Он слышал, как женщина села на кровати, всхлипнула, сплюнула кровь с разбитой губы.
– Дурак ты, Тимофей Артемьевич, – повторила она, – дураком и подохнешь.
– Замолкни, сволочь, не то пристрелю! – послышалось в ответ.
– В кого ж ты тогда хером своим торкать-то будешь? Тут больше баб нет, кроме меня одной.
– Привезу девку из стойбища.
– Как бы не так. Она у тебя в рабынях будет, Тимка, что ли? Тебя твоя советская власть за такое дело самого пришлёпнет, – злобно проговорила Глафира.
– Молчи, сволочь, – опять огрызнулся он. – Иди сюда, давай ещё…
– Куда вам! – Женщина вновь перешла на «вы». – Вы после спирта совсем никудышный, никак закончить не сподобитесь.
Тимохин зажмурился.
– Не твоё дело, ты, дура, знай, подставляй да подмахивай. А кончаю я или нет – не твоего ума…
– Куда уж нам. Наше дело бабское…
***
– Скоро пятую годовщину советской власти отмечать будем, а здесь – дикая пустота. Туземцы знать ничего не желают. Живут так, будто никакой революции не было, – говорил Сидоров, тщательно пережёвывая кусок хлеба.
– Тёмный народ. Какой с них спрос? – отозвался Поликарп, пальцами смахивая с губ налипшие крошки махорки.
– Ничего. Мы на них узду наденем и приведём в социалистическое общество. Скоро тут колхозы будут, партийные ячейки. Всё чин чинарём сделаем. Советская власть не может допустить, чтобы кто-то жил не по советским законам, – вступил в разговор Тимохин. Он задумался, вперившись затуманенным взглядом куда-то под потолок. – Скучно здесь, – вдруг заявил он, помолчав несколько минут. – Воевать не получается. Людей мало. Если кто и есть из контрреволюционеров, то и не отыщешь их на таких пространствах… Да и не тот здесь люд, чтобы в контрреволюцию играть. Мы их за яйца к этому делу притягиваем, шаманство за контрреволюционную деятельность выдаём… А ведь иначе невозможно… Нет, не люблю я этой работы, товарищи, не хочу её. Если бы партия не приказала, ноги б моей тут… Но ведь партия велела!.. Что я без партии?.. Тошно мне… Эх! Вот, помню, в Гражданскую было – честно, весело, пьяно! Водил эскадрон по тылам белых, рубился до беспамятства… Шашка – первый друг… Эх, шашка, как же я так оплошал-то? Я этого Степана Аникина теперь просто обязан достать… Из-за шашки моей боевой.
– Достанем, – равнодушно ответил Поликарп.
– Где ты достанешь-то его? – Сидоров отхлебнул чаю. – Про Бисерную Бороду сказывают, что он и следов-то не оставляет на снегу.
– Брехня. Человек везде следы оставляет, – отмахнулся Поликарп.
– Ненавижу, – прошептал Тимохин, и внезапно на глазах его выступили слёзы. Он поспешно поднялся и вышел из комнаты.
– Чего это с ним? – удивился Поликарп.
– Сдавать стал Тимофей Артемьевич, – вздохнул Сидоров. – Тоскует по боевым товарищам. Тут ему – хуже тюрьмы.
– А нам что? Разве лучше? – спросил Поликарп и бросил в кружку кусок сахара.
– Мы с тобой – рядовые бойцы революционной армии, – подбирая слова, заговорил Сидоров. – А товарищ Тимохин руководить поставлен. Ему выявлять контрреволюционные элементы надобно, а как их выявлять, если их нету? Ему эта работа не по сердцу, я это чую. А раз не по сердцу, стало быть, озлобляется он не на шутку, себя переламывает, на собственное горло наступает. Потому и злой сделался, нетерпимый.
– Самоеды кличут его Больным Сердцем.
– Верно кличут.
Дверь скрипнула, вошёл Евдокимов и шевельнул усами.
– Сани прикатили, – сообщил он.
– Кто там?
– Самоеды, двое. Худющие…
– С чем пожаловали-то? – Поликарп зажёг самокрутку, жадно затянулся и со свистом выпустил сизое облако густого дыма.
– А бес их разберёт, – пожал плечами Евдокимов и опустился на стул.
– Выпей чаю, – предложил Поликарп.
– Жрать охота, – ответил Евдокимов и пошарил по карманам, будто надеялся обнаружить там кусок колбасы.
– Хлеба хочешь? – спросил Поликарп.
– Давай.
– Так кто приехал-то?
В следующее мгновение дверь скрипнула и в комнату вошли два человека, одетые в меховую одежду. Следом за ними появился Тимохин. Он постучал одного из Самоедов по плечу и спросил:
– С чем прибыли, люди?
Тот из Самоедов, что был постарше, начал что-то бурно объяснять.
– Погоди, погоди, не лопочи так! – осадил его Тимохин. – Я же не понимаю ни хрена. Сидоров, переводи давай.
Сидоров нахмурился, недовольно сплюнул на пол, подошёл к туземцам и что-то спросил. Самоеды затараторили наперебой.
– Вот этого зовут Пангаси, из бедняков. – перевёл Сидоров. – Он хочет найти работу. Дела у него настолько плохо идут, что он даже уступил свою жену какому-то Пайдаве.
– Как это «уступил»? – не понял Тимохин.
– За оленей. Пангаси говорит, что у него никогда оленей не было, а сейчас и жену кормить нечем. Вот и уступил её богатому Самоеду.
– Продал, значит?
– Нет, говорит, что на время. Она Пайдаве будет по хозяйству помогать, у него жена больна, во время перекочёвок даже чум сама поставить не может.
– Выходит, этот Пангаси в рабы отдал её? За это оленей получил? На что ж это похоже, товарищи? – Тимохин оглянулся, ожидая поддержки. – Такого небось и при царе не бывало. А советская власть на что?
– У них тут всякое бывало, товарищ Тимохин. Они к таким сделкам относятся нормально, ничего дурного в таких поступках не находят.
– Не находят? А вот ежели я его арестую за торговлю людьми? – набычился Тимохин. – А ну… переведи ему… Что ж ты, шкура поганая, делаешь? Жену в рабство отдал? Ты знаешь, что я с тобой учиню за такие проделки? Чего таращишься? Не понимаешь? Сидоров, переведи ж ты ему, мать твою!
– Он говорит, что они с Пайдавой давние товарищи. Он помог ему женщиной, а тот помог ему оленями.
– Хороши товарищи! Ты, Сидоров, переведи ему, чтобы жену свою завтра же забрал у дружка своего. Скажи, что я работу ему дам и оленей он через эту работу получит вдоволь. Растолкуй, что мы на днях отправляемся в стойбище Тэваси, там оленей голов восемьсот наберётся. – Тимохин приблизился к Пангаси и дыхнул ему в лицо густым табачным запахом. – Ты, товарищ батрак, хочешь ведь иметь своих оленей? Так вот я дам тебе пятьдесят, нет, пожалуй, сто голов отдам тебе из стада Тэваси. И жену тебе продавать не надо будет никому. Понимаешь меня? А своему дружку передай, чтобы не смел никогда больше людей покупать! Кончилось это время. Мы за такие дела к стенке ставить будем!
Пангаси что-то спросил.
– Что он? – уточнил Тимохин.
– Спрашивает, что ты потребуешь у него за сто оленей.
– Ах вот оно… Верно спрашивает. Объясни, что мне проводник нужен. Матвей наш потерялся где-то. Будет проводником – получит оленей. А не будет, так я его арестую…
– Он говорит, что согласен, – сказал Сидоров.
– Смешно, право дело, – сказал Тимохин. – Сами, суки, мечтают оленей побольше получить. Не понимают они, что сами заделаться хотят в кулаков. – Он сделал несколько шагов по комнате и остановился перед печкой. Вспомнилось декабрьское восстание 1905 года. Это было боевое крещение Тимохина. Какими далёкими теперь были те события…
***
В декабрьские дни 1905 года в разных местах Москвы то и дело происходили стычки революционеров с войсками. Иногда случались нападения на городовых и одиночных военных. Всюду на тротуарах лежали неподвижные тела.
Почти мгновенно Москва изменила свой образ. Она превратилась в город безумцев.
Жандармский полковник Вениамин Ефремов торопился на экстренное совещание в доме генерал-губернатора. Выехав в санях на Дмитровку, полковник увидел в тумане группу людей в папахах. Они заметили его почти сразу, замахали руками, побежали навстречу – серые, мрачные, решительные.
– Офицер! – донеслись до Ефремова их взбудораженные голоса. – Офицер!
– Вооружённые! – воскликнул сидевший на козлах солдат и, не дожидаясь указаний полковника, повернул сани прочь от неизвестных людей.
Вдогонку раздалось несколько выстрелов. Одна из пуль угодила в стену дома справа от саней и с громким шипением осыпала громадный кусище штукатурки.
– Езжай, братец, езжай скорее! – проговорил Ефремов, оглядываясь.
Над головой просвистели пули.
Доехав до Столешникова переулка, сани повернули в Козьмодемьянский и остановились. Перед ними выстроилась цепь полиции.
– Слава Богу! – Кучер перекрестился.
До генерал-губернаторского дома оставалось рукой подать.
Ефремов поторопил кучера:
– Не медли, давай вперёд!
Дом был полон людей.
– Здравия желаю, господин полковник.
– Смутные времена, о Господи, трудные.
– До чего Россия дошла!
– Стрелять бунтовщиков, иначе смуту не унять!
Золотом блестели эполеты и погоны младших офицеров.
– Арестовано много демонстрантов, среди них курсистки и студенты, некоторые с револьверами. У женщин находят револьверы за чулками! Представьте себе это! – шепнул стоявший в дверях офицер на ухо Ефремову.
– Число баррикад, несмотря на то что некоторые из них разбирались чинами полиции, войсками и пожарными, всё возрастает, – докладывал кто-то, склонившись над столом и втянув голову в плечи. – Многие баррикады построены из трамвайных вагонов. Есть и такие, которые сооружаются инженерами, эти баррикады основательны и по-настоящему помогают революционерам. Из орудий, поставленных на Страстной площади, сегодня разбивали баррикады у Триумфальных ворот. Обстреливались также дома, откуда так называемые дружинники вели огонь по войскам. К трём часам баррикады у Триумфальных ворот были сбиты, войскам удалось очистить Тверскую улицу. Но по Садовой баррикад ещё полно! Только что я получил сообщение о разграблении революционерами оружейного магазина Торбека на Театральной площади… Одним словом, господа, мы живём эти дни в состоянии войны. Незачем делать вид, что это лишь беспорядки. Это самая настоящая война! Не мятеж, а война! О её причинах мы сейчас не будем говорить. Нам надо одержать победу, а там уж станем разбираться, кто виноват, кто допустил, кто недоглядел.
– Ваше высокопревосходительство, – послышался чей-то голос с другого конца стола, Ефремов не видел говорившего. – Под Москвой, у станции Перово, войска задержали два вагона, гружённых оружием. Всего триста винтовок системы Маузера. Судя по всему, вагоны препровождались из-за границы не без участия германского правительства. Так что уже сейчас вполне очевидно, кто помогает революционерам и для чего…
– Об этом позже и не здесь, – ответил склонившийся над столом человек и приподнял голову, ощупывая исподлобья горящими глазами собравшихся офицеров. – В прежние века страшились чумы, нынче приходится страшиться революционеров… Да-с, приходится смотреть правде в глаза. Революционная сила в России приняла катастрофические масштабы…
К вечеру в Москве были выключены все телефоны, за исключением телефонов должностных лиц, согласно утверждённому генерал-адъютантом Дубасовым списку. К полуночи стрельба постепенно утихла, с Сухаревой башни город стал освещаться огромным прожектором.
Рано утром вновь затрещали выстрелы, грохнули орудия. Драгуны и казаки, без отдыха находившиеся в седле день и ночь, на морозе, были озлоблены и беспощадно расправлялись с любым, у кого было найдено оружие. То и дело раздавалась стрельба по толпе, где бы она ни собиралась. Толпа за несколько дней страшных беспорядков превратилась в символ революционной массы. По городу носились слухи, будто в ближайшее время на помощь революционным дружинам подоспеют тридцать тысяч вооружённых рабочих из Орехова-Зуева и вот тогда-де состоится решительная схватка. Чувствовалось, что за слухами стояли умелые пропагандисты. На улицах, то внезапно пустевших, то заполнявшихся народом, носилось: «Московский гарнизон переходит на сторону повстанцев», затем: «Московский гарнизон остаётся верен правительству и переносит тяжёлые условия с редким самоотвержением»… Что было правдой, никто не знал наверняка. Правдой была кровь. Правдой было желание закончить развязанную на улицах города войну как можно скорее. И каждая из сторон стремилась поставить свою точку в этой войне.
Ближе к полудню Вениамин Ефремов, подъезжая к казармам жандармского дивизиона, помещавшегося в казармах на Петровке, увидел толпу обывателей человек в двадцать и велел кучеру остановить сани.
– Что у вас тут? Никак митингуете? – спросил он ровным голосом.
– Никак нет, – поспешил ответить худощавый гражданин в расстёгнутом пальто, меховая подкладка которого была сильно порвана у самого подола, – мы обсуждаем. События такие невероятные и такие, можно сказать, головокружительные, исторические, что трудно всё осознать в одиночку, господин полковник.
Полковник подошёл вплотную к говорившему и заглянул в его глаза, затем перевёл взгляд на остальных.
– Исторические? – проурчал он и шевельнул густыми усами. – Да, исторические. И я нисколько не сомневаюсь, что всё, что нынче происходит в стенах Москвы, глубоко возмущает и оскорбляет чувства чести и справедливости лучших людей России. Я уверен, что эти лучшие люди пойдут вместе и заодно со мной в деле, возложенном на меня доверием Государя императора. Я уверен, – полковник Ефремов перешёл на крик, – уверен, что победа над крамолой должна быть достигнута не только штыками и залпами, но и твёрдостью духа лучших общественных сил России! Я призываю вас объединиться и сплотиться в борьбе против обрушившейся на наши головы революции!
В морозном воздухе хлопнул выстрел. Полковник успел увидеть раздувшееся в холоде пороховое облачко. Пуля сшибла с Ефремова фуражку.
– Разойдись! – крикнул полковник и вытащил из кобуры «наган». – А ну, гнида подпольная, выходи!.. Но гнида, судя по всему, юркнула за спинами собравшихся за угол. Вскоре от столпившихся никого не осталось. Ефремов опустился в сани и покатил к казармам, разглядывая дырку в фуражке. Каких-нибудь пять миллиметров ниже – и пуля царапнула бы его по лбу.
А через час после этого события Ефремов выехал с жандармами в сторону Каретного ряда, чтобы разобрать баррикады напротив театра «Эрмитаж».
Внезапно вокруг жандармов плотным кольцом выстроились дружинники с винтовками и пистолетами системы Маузер. Но держались они на расстоянии ста шагов, не ближе. Чуть дальше по улице высилась баррикада – нелепая бугристая свалка, блестевшая металлическими вензелями кроватей, черневшая гнилыми ящиками и крутыми боками бочек, белевшая битыми стёклами перевёрнутых сервантов, а ближе всех лежала брюхом наружу телега с оторванными колёсами. Вперёд вышел усталый человек в длинном чёрном шерстяном пальто. На его голове набекрень сидела мятая шляпа, под которой виднелась окровавленная марлевая повязка. В руке он держал чёрный «маузер», пистолет подрагивал в его грязной руке.
– Господа жандармы! – крикнул человек, морщась при каждом слове. – Именем исполнительного комитета Совета рабочих депутатов объявляю вас арестованными! – Его сильно небритое лицо широко раскрывало рот, стараясь проговаривать каждую букву, было заметно, что губы его потеряли чувствительность на морозе. – Сложите оружие! Победа за нами! Мы гарантируем вам жизнь, если вы не окажете сопротивления!
Ефремов шагнул вперёд и, не произнося ни единого слова, вскинул руку с «наганом». Выстрел застал революционного оратора врасплох, как и его товарищей по оружию. Человек в шляпе отшатнулся, поднял руку с «маузером» и упал на спину. Шляпа скатилась с его головы и затихла, словно притаившись, чтобы принять в своё лоно невесомо парившие снежинки. Один из пальцев на руке, сжимавшей «маузер», подёргивался. Революционные дружинники отхлынули тёмной волной и попрятались за углами домов. Жандармы открыли плотный огонь.
Револьверные выстрелы оглушили пространство. Над головами людей повисло облако порохового дыма.
Тимофей Тимохин, стоявший в окружении, отпрянул не сразу. Увидев упавшего товарища, он даже не сообразил, что командир их дружины погиб.
– Товарищ Никифор! – позвал он.
Как-то не вязалось случившееся с намерениями дружинников. Предполагалось, что жандармы, увидев себя в кольце, отдадутся в руки победителей, к каковым Тимохин отнёс себя немедленно, едва жандармский отряд был взят в плотное кольцо. Но произошло другое…
Революционеры, отстреливаясь, отступили. Основной огонь вёлся с баррикады, но она находилась далеко, некоторые пули подкосили своих же сторонников.
Тимохин бежал в сторону баррикады, слыша громкие удары свинца по брусчатке и свист пуль в воздухе. Перевязанная рука мешала двигаться легко. Когда пуля сбила с его головы шапку, он пригнулся и сразу споткнулся. Через секунду на него обрушилось что-то трухлявое сверху. Отряхнувшись, Тимохин оглянулся. Жандармы не наступали, но и не отодвигались назад, они держались на месте, стало быть, операция по захвату их отряда провалилась….
Тимохин сплюнул и прополз несколько метров, приникая к земле. Одежда казалась неподъёмно-тяжёлой. Обмороженные пальцы едва сгибались. Тимохин поймал себя на мысли, что при других обстоятельствах он бы не нашёл в себе сил двинуться с места – слишком сильны были усталость и страх, а рана в руке не переставала терзать уже третий день…
Тимохин остановился, вслушиваясь в свист свинца. Пули ударялись где-то совсем близко, крошили дерево, камень, стекло. Они взвизгивали при ударе, и было невозможно представить, чтобы этот удар мог прийтись по человеческому телу.
Тимохин заставил себя вернуться мысленно ещё на несколько дней назад, когда Степан Аникин выволок его из-под такого же вот обстрела, выволок окровавленного, выволок бесчувственного.
– Как ты, товарищ? – спросил Аникин, когда Тимохин разлепил веки.
– Еби их мать, – ответил Тимохин.
– Ругаешься, стало быть, соображаешь, выходит, живой! – Аникин хоть и улыбнулся ободряюще, но всё же внимательно оглядел простреленную руку Тимохина, достал откуда-то ножик, распорол рукав и позвал кого-то из женщин, чтобы сделать перевязку.
– Спасибо, товарищ… – Тимохин с трудом шевелил губами от боли.
– Что?
– Ты… спасибо…
Это была их единственная встреча, но молодое лицо Аникина, его горящие глаза, счастливая ухмылка на лице – это хорошо запомнилось. Если бы не эта встреча, то не было бы у Тимохина ни Красной Пресни, ни октябрьского штурма Зимнего дворца в Питере, ни долгой Гражданской войны.
В ту минуту над их головами ударила пулемётная очередь. Отряд революционных дружинников затаился в глухом подвале, но шлёпанье пуль слышалось отчётливо. Создалось ощущение, что стрелявшие войска знали, куда надо бить…
Тимохин очнулся от воспоминаний. Сырой тёмный подвал с жалким проблеском света наверху остался в прошлом. Теперь вокруг лежала улица, узкая, но вместе с тем бесконечная. Мокрый снег тянулся из-под самого подбородка до лежавшей на боку телеги с оторванными колёсами.
«Кому это в голову пришло колёса у неё оторвать?..» – спросил себя Тимохин, и в этот момент кто-то нагнулся над ним, с трудом переползавшим, и поволок вверх на груду хлама, называвшегося баррикадой…
В тот же день основная масса революционеров отступила к Пресне.
Как только войска вступили в район Пресни, тотчас из домов – окон, чердаков и крыш – раздались выстрелы. Семёновцы и ладожцы, не перестроившись ещё в боевой порядок, были застигнуты врасплох и сразу понесли потери. Прячась в арках, они продолжали стрелять. Слышалась громкая отборная мать и дикие революционные призывы. Мосты Пресненский и Горбатый были забаррикадированы, и их пришлось брать штурмом. Особенно сильному обстрелу подверглись семёновцы из дома Купчинской, который тоже удалось взять штурмом лишь с пятой попытки…
К вечеру широкое огненное зарево от пылающих домов на Пресне освещало весь город.
В ночь на 18 декабря часть рабочих Прохоровской мануфактуры заявилась к начальнику отряда флигель-адъютанту полковнику Мину с ходатайством не стрелять по жилым помещениям этой мануфактуры, чтобы дать возможность женщинам и детям оставить помещения. Все военные действия были прекращены на всё 18-е число. Впоследствии оказалось, что просьба о женщинах и детях была только предлогом для прекращения стрельбы, так как этим воспользовались боевые дружины и бежали на новый сборный пункт, устроенный ими на сахарном заводе в полутора верстах от Прохоровской фабрики. Войскам пришлось брать и этот завод, что и было приведено в исполнение 19 декабря, когда свыше 430 рабочих сдали огнестрельное и холодное оружие. Тимофею Тимохину удалось скрыться…
Как же давно это было! Тысячу лет назад… Нет, столько не живут, но почему-то Тимохину, стоявшему сейчас возле горячей печки, казалось, что московские события происходили тысячу лет назад. Гражданская война тоже лежала не ближе. Зато Степан Аникин по прозвищу Бисерная Борода находился где-то рядом, и он был личный враг Тимохина.
***
Караван красноармейцев остановился, Пангаси вытянул руку.
– Что? – спросил Тимохин
– Говорит, что дым чувствует, – перевёл Сидоров.
– Дым? Стойбище? Далеко ли? – уточнил Тимохин, кутаясь в шарф.
– Он в километрах не разбирается, товарищ командир. Говорит, что примерно десять полётов стрелы, – ответил Сидоров.
– Это сколько же по времени?
– Я полагаю, что, по нашим меркам, будет час, а то и полтора ходу.
– И он слышит запах костра? – не поверил Тимохин.
Сидоров переспросил Пангаси.
– Да, он точно чует запах.
– Этот дикарь покруче Матвея будет. Тот никогда запах так тонко не различал, – проговорил задумчиво Тимохин. – Полтора часа ходу! Ты бы учуял что-то, скажи мне, товарищ Сидоров?
Сани скрипели полозьями по снегу. Со стороны леса надвигался мутный туман. Тимохин поднял руку, велев каравану остановиться, и прислушался. Он выпрямился, сошёл с саней и огляделся.
«Чёрт меня подери, если я могу что-либо различить в этой тишине, кроме фырканья оленей и скрипа снега под моими ногами. А этот сукин сын запросто слышит запах костра. И какая же мне после этого цена как командиру?»
Вокруг лежал искрящийся снег.
«Вот если бы я был уверен в том, что он говорит правду! Если бы я только мог быть уверен в чём-либо! Но я уже не уверен! Я уже просто… Я сам не знаю, что я думаю…»
Тимохин тяжело опустился в сани и махнул рукой, показывая, что караван может продолжать движение.
***
Когда появились чумы, Тимохин даже не достал своё оружие. Он встал на обе ноги и пристально стал разглядывать стойбище.
«А там ли Бисерная Борода? Если его там нет, то на кой хрен мне это сражение? Кого я буду арестовывать? Старого Тэваси? Нет, он мне теперь не нужен. Мне надобно взять Бисерную Бороду! Только его! Без этого ничего моя революционная честь не будет стоит! Я могу смыть позор только кровью Бисерной Бороды!»
Красноармейцы, взяв на изготовку винтовки, выжидающе смотрели на командира. Тимохин молчал.
Перестрелка началась внезапно. Сначала появилось двое саней с Самоедами, которые подъехали очень близко к красноармейцам. Дикари понаблюдали за солдатами и быстро поехали обратно. Тимохин продолжал размышлять. И тут грянул первый выстрел. Никто позже не мог сказать, с чьей стороны полетела первая пуля. Но выстрел прозвучал, расплывшись призрачным эхом над снежной равниной.
Тимохин вздрогнул и увидел перед собой лицо Тэваси. Лицо висело перед ним в воздухе так, как если бы сам Тэваси стоял перед командиром красноармейцев в действительности. В следующую секунду Тэваси растворился в сверкающем солнечном пространстве. Пришёл, посмотрел в глаза врагу и исчез.
Тимохин вздрогнул.
Сани с красноармейцами покатили вперёд. Пангаси активно шевелился и что-то кричал, сидя на головных нартах. Он казался куклой, пытавшейся рассмешить людей, размахивая руками.
«Какая же ты сука!» – подумал про него Тимохин и достал из кобуры «маузер».
Тут началась пальба. Красноармейцы стреляли без остановки, целясь не столько в людей, сколько в чумы, где скрывались их жертвы.
Олени, стоявшие чуть в стороне от стойбища, разом всколыхнулись и помчались прочь.
Пуля, ударившая Тимохина в руку, не удивила его. Он поморщился и затем улыбнулся – была радость оттого, что он прочувствовал себя участником битвы. Кровь и рана! Именно этого недоставало Тимохину, чтобы ощутить себя воином за последние годы. Кровь и рана! Теперь у него было действительное основание злиться и ненавидеть тех, на кого он пошёл войной.
***
Тимохин смотрел на разорённое стойбище и медленно перекладывал самокрутку из одного угла рта в другой. Трупы – хорошо знакомые по Гражданской войне неподвижные тела с продырявленными пулями головами. Они сегодня не радовали. Впрочем, они не радовали и прежде, когда он ходил между телами белогвардейцев в степи. Трупы не радовали никогда. Но теперь они были особенно неприятны.
Как это всё было противно ему – беспредельная тайга, олени, вечное бездорожье, холод, голод, дикари. Разве с такими врагами привык драться Больное Сердце?
Тимохин закрыл глаза и увидел себя верхом на коне. В Гражданскую он командовал эскадроном. В годы революции он возглавлял отряд дружинников. Теперь же он руководил солдатами, которые воевали против беспомощных дикарей, которые хоть и умели обращаться с оружием, но всё же были просто примитивными дикарями.
Тимохин вздохнул и встряхнул рукой, сбрасывая из рукава кровь.
– Бисерная Борода здесь?
– Никак нет, товарищ командир.
– А Тэваси? Старый шаман?
– Кажись, тоже нет.
«Ну и что теперь?» Тимохин спрашивал не себя. Он спрашивал жизнь, которая впервые за долгие годы удивила его по-настоящему.
Вокруг стояли обгоревшие остовы чумов. Вокруг лежали тела убитых дикарей. Вокруг лежала смерть. Смерть во имя партии. Во имя идеи. Чужая смерть.
И в первый раз за всю свою жизнь Тимохин – боевой красный командир, чекист, профессиональный революционер – открыто заплакал, почувствовав себя обманутым. Он не нашёл Бисерную Бороду. Он не смыл с себя позора. Но тогда зачем нужны вот эти трупы? Зачем нужна эта смерть? Смерть, которую он прикрывал идеей. Тимохин неожиданно осознал, что отныне им всегда будет двигать только жажда мести, жажда поквитаться с Бисерной Бородой. И не будет больше никакой революционной идеи…
Тимохин мотнул головой и громко скрипнул зубами. А была ли эта идея раньше? Была ли эта идея, когда он расстреливал белогвардейских офицеров в степи? Или там тоже была лишь ненависть? Ненависть и лютая злоба несостоявшегося человека, которые так легко выдать за классовую идею…
Тимохин ещё раз медленно обвёл взглядом стойбище Самоедов. Чёрные остовы чумов продолжали дымиться, кое-где на обгорелых шестах висели обгорелые клочья шкур. Поодаль виднелась тёмная масса оленьего стада.
– Всё это очень легко выдать за идею, – прошептал он.
Мимо него прошёл вперевалку красноармеец, держа в руке кусок жареной оленины и что-то ворча себе под нос; повисшая на его спине винтовка небрежно постукивала его прикладом по бедру.
«Всё это очень легко…»
Стремительный натиск понимания ударил Тимохина изнутри. Озарение было похоже на взрыв, готовый разорвать его на куски. Он напрягся всем телом, сжал кулаки и упрямо закачал головой.
«Не хочу, не хочу ничего этого…»
Тимохин решительно достал «маузер», громко брякнув замком деревянной кобуры, и сунул ствол себе в рот. Губы мгновенно примёрзли к металлу.
Он услышал выстрел как бы со стороны, он даже не успел почувствовать боли, но увидел, как небо качнулось, накренилось и, будто плоский кусок фанеры, ткнулось ребром в снег…
Апрель – май 2003
Размышления на тему…
Вместо послесловия (от автора)
Двенадцатилетним мальчишкой я прочитал книгу Вельскопф-Генрих «Харка – сын вождя», а после того мне в руки попали мемуары Мато Нажина «Мой народ Сиу». С тех пор я заболел «индейской романтикой». В отличие от многих, я никогда не любил Фенимора Купера и оставался почти равнодушен к Майн Риду. Впрочем, и другие книги Вельскопф-Генрих не пробудили во мне интереса. Были только «Харка» и «Мой народ Сиу». Они распахнули предо мной ворота в мир неудержимой любви к просторам равнин, горным хребтам, дыму костров, тянущемуся ввысь из конусовидных жилищ. Они заставили меня приступить к поискам каких-то знаний, которым я не мог дать ясного определения, но важность которых ощущал всем моим существом.
В то время я жил в Индии, где работали мои родители, и имел возможность покупать книги на английском языке, о которых в Советском Союзе и мечтать не приходилось. Если на обложке был человек в перьях, то эта книга непременно попадала в мою библиотеку. Большей частью это были дешёвенькие вестерны, не заслуживающие ни малейшего внимания, но на их страницах я нашёл то, чего был лишён Фенимор Купер: я нашёл неприкрытую жёсткость. И эта жёсткость показалась мне правдой.
Из всех купленных тогда вестернов у меня сохранился лишь роман Томаса Бергера «Маленький Большой Человек», всё остальное отправилось в мусорный ящик. А этот потрёпанный томик в мягкой обложке до сих пор стоит у меня на полке. «Маленький Большой Человек» – гениальное произведение; мало что из литературы этого жанра может потягаться с историческим полотном Бергера в живописности, юморе, неожиданности поворотов. «Маленький Большой Человек» послужил мне очередной ступенькой в мир американских индейцев, поднявшись на которую я понял, что обратной дороги для меня нет. Я был загипнотизирован туземным миром, я хотел его ещё и ещё, я жаждал погрузиться в него с головой.
Попав однажды в библиотеку иностранной литературы, я обнаружил там несметное количество книг по интересующей меня теме и едва не задохнулся под обрушившейся на меня лавиной информации. Я обкладывался пачками книг и метался от одной к другой. Мне хотелось проглотить сразу всё, что лежало передо мной, глаза перескакивали со страницы на страницу, шарили по оглавлениям, впивались в многочисленные термины и названия. Я раскрывал сразу несколько книг и терзался своей беспомощностью: не в силах одолеть одновременно несколько текстов, я подолгу просто поглаживал страницы и смотрел на них, пытаясь преодолеть волнение и нетерпение. Так случалось каждый раз, когда я заказывал новую порцию книг. Сначала восторженно любовался ими, борясь с неодолимой жадностью, затем успокаивался и начинал читать.
Мало-помалу накопленные знания стали требовать выхода. Надо было с кем-то поделиться ими. Однако я понимал, что индейская тематика мало кого привлекает. Несколько раз я выступал с докладами в институте, затем на работе, но всё это было как-то бестолково, неуклюже, бесполезно. А информация напирала, давила нестерпимо.
И я решил написать книгу. Почти сразу пришло название – «В поисках своего дома». Это были мои поиски, хотя действие разворачивалось на Диком Западе, – поиски самого себя на безбрежном просторе жизни. К тому времени во мне не осталось и следа мальчишеской романтики; я прекрасно понимал, что в какие тона ни окрашена война колонизаторов против аборигенов, где бы такая война ни шла – в Америке, в Африке, в Азии, – когда две культуры сходятся с оружием в руках, они не остановят своего натиска до тех пор, пока одна их них не опустится на колени, истекая кровью. Я симпатизировал индейцам, но я не мог закрывать глаза на их безграничную жестокость. Отрезанные у покойников пальцы и головы – это детские шалости по сравнению с тем, что индейцы делали с живыми пленниками…
Я чувствовал, что меня начало разрывать изнутри. Мне хотелось рассказать правдивую историю покорения Дальнего Запада, но не хотелось и пугать читателя зверствами туземцев. Вдобавок к этому меня распирало желание сообщить обо всех наиболее важных исторических событиях в период 1860–1890 годов. Хотя я сомневался, удастся ли мне увязать все эти события в одну цепочку… Трудностей было много, но я справился. Книга получилась.
Однако поступавшая информация была нескончаема. Факты цеплялись друг за друга, увлекали в новые дали, открывали неожиданные ракурсы, порождая желание узнавать больше и больше. Я написал ещё две книги – «Тропа» и «Хребет Мира», а успокоение так и не пришло. Наваливались новые замыслы, нащупывались новые темы.
Есть такая древняя формула: чем больше мы узнаём, тем больше неузнанного открывается нам. Чем больше становится объём наших знаний, тем больше становится поверхность сосуда, где хранятся наши знания (как надувающийся шар), а потому увеличивается и поверхность его соприкосновения с неведомым. Так уж устроен человек… Познание ставит перед нами новые вопросы. Череда этих вопросов не знает конца. Познание уводит нас вглубь и уносит вдаль.
Возникавшие вопросы привели меня через традиционную культуру индейцев к Традиции вообще. Передо мной постепенно прорисовались контуры традиционной культуры Руси, затем понемногу я обнаружил просторы Традиции Севера и Сибири. Мир оказался необъятным и многогранным…
Многогранность – не то слово. Мир открылся мне во всей его бесконечности и вместе с тем во всей его невероятной одинаковости и узнаваемости. Форм много, но суть Традиции одна. Красок жизни много, но формула жизни одна. Жизнь – это Бог, а не идолы и не иконы. Любовь одинакова у всех, жестокость тоже.
Соприкоснувшись с историей и культурой Севера, я невольно ужаснулся: Америка сумела каким-то необъяснимым способом создать из своей недолгой истории миф, придав ему облик красочного вестерна. Американский Дикий Запад, с его «национальными героями» вроде Буффало Билла и генерала Кастера, превратился в нечто культовое, хотя история покорения Запада, история так называемых индейских войн занимает каких-нибудь тридцать лет, не больше. А где же культ героев Севера? Культ героев Сибири? Советский кинематограф сумел сотворить однажды миф о социалистической революции, возникли почти мифологические Чапаев и Щорс, появились «Красные дьяволята» и «Неуловимые мстители». Дети играли в этих неукротимых героев Гражданской войны, но никто не играл в Ермака, никто не играл в Атласова, никто не играл в чукотских и нанайских охотников. Чеховские мальчики были увлечены Ястребиным Когтем и намеревались удрать в Америку, у них и в мыслях не было отправиться в эвенкийские стойбища, потому что ни Эвенки, ни Чукчи, ни Ханты никогда не воспевались в русской литературе.
Я пишу их с большой буквы, потому что всё это – имена собственные. Однако все эти племена и народы давно фактически лишены своих имён. Названия улиц и гор в русском языке пишутся с заглавной буквы, но не народы. Народ превращён в безликую серую массу. А кому придёт в голову воспевать безликую массу?
Мы обязаны вернуть всем этим людям их громкие имена. Имена родовых групп, имена племён, имена наций. С именами вернётся живая история, пробудится интерес к Традиции.
Я написал повесть «Лето большой грозы», затем родился «Из рода Оленей». О ком бы я ни рассказывал – будь то Якуты или Ханты, – всюду главными действующими лицами становились люди, наделённые шаманским даром. Это не случайно. Именно они имеют силу привлечь внимание к своему народу. Не ударами в бубен, а своими деяниями.
Моей целью было показать рядовому читателю неординарность традиционной жизни, её гипнотичность. Но для того чтобы сделать это, необходимо выявить самые неожиданные для нынешнего читателя стороны жизни «малых» народов. Искусство – это тоже магия: что-то приглушить, что-то выпятить, а потом поменять их местами и расставить новые акценты. Но чтобы расставлять акценты, надо сначала что-то сотворить, собрав множество разрозненных деталей в Целое. Вряд ли кто-то посторонний будет очарован пляской Нанайцев в каком-нибудь из центральных концертных залов Москвы. Вряд ли – потому что не услышит зритель ничего, кроме гиканья и топанья под барабанный бой. А увидит лишь тот, кто уже хоть немного знаком с рельефом и фактурой Традиции, кто попал под влияние её магнетизма.
Не знаю, удастся ли мне сделать то, что я хочу, но я буду продолжать мою работу в этой области и надеюсь, что мои «Край света», «Из рода Оленей» и прочие повести раскроют глаза многим из тех, кто был равнодушен к далёким оленеводам, охотникам и рыболовам…
Мне приятно осознавать, что есть немало людей, прилагающих усилия для популяризации Традиции, и что с некоторыми из них я знаком лично. Так, судьба свела меня однажды с профессором А.В. Ващенко. Александр Владимирович – личность увлечённая, значительная, с мировым именем. Сколько раз с его помощью приезжали из Америки индейцы, чтобы посмотреть наш Север; приезжали Оджибвеи, Навахи, Апачи – аборигены со всех концов США и Канады. Они знакомились с культурой Севера и рассказывали о себе…
Помню, как после одной из таких поездок шаман Навахов, возглавлявший делегацию, сказал, что его люди, посоветовавшись, решили принять Александра Владимировича в племя. Прямо на сцене клуба МГУ, где делегация показывала свои танцы, была проведена церемония усыновления. Шаман долго пел молитвенные стихи, отбивая ладонью ритм о соломенную тарелку. Его помощники создавали на полу священный рисунок из цветного песка (эти очень тонко выполненные рисунки, наполненные магической силой, уничтожаются сразу после церемонии; каждый из присутствующих имеет право взять себе щепоть на память). Затем к волосам Ващенко привязали лёгкое пёрышко, осыпали голову табаком, приложили к груди кукурузный початок. В общем, ничего особенного, никаких специальных костюмов, даже довольно буднично. Но я помню серьёзные, погружённые в себя лица индейцев… Для них это был шаг исключительной важности: они принимали в свою семью нового человека, делали его фактически кровником. И я помню взволнованные глаза Александра Владимировича: он получал в друзья сразу целое племя!
Вокруг толпилось несколько десятков студентов. Все жадно следили за происходящим. Почти никто из них не имел отношения к этнографии, но ни один не покинул зал, не утомился индейскими песнями и плясками, не заскучал во время долгой церемонии усыновления. А потом посыпались вопросы.
Разве это не весомое событие в деле популяризации Традиции?
Александр Ващенко перевёл огромное число книг о североамериканских индейцах (этнографических и приключенческих), начиная с Джеймса Шульца и заканчивая Уиллом Генри. Но он не позволял себе ограничиваться узконаправленными вестернами, его интересовало более обширное культурное пространство.
Распространяя индейскую Традицию в России, он с таким же неугасимым энтузиазмом пропагандирует в Америке культуру нашего Севера и Сибири. Он постоянно стремится слить Традицию обоих полушарий Земли в единое целое. Под его редакцией в свет вышел двухтомник «В ритме с природой», где одна из книг была полностью посвящена поэзии «малых» народов России, а вторая – поэзии североамериканских индейцев. Летом 2002 года в свет вышел сборник «An Anthology of Native Siberian Literature» в переводе и под редакцией Ващенко. Теперь в США и Канаде желающие смогут познакомиться (пусть и вкратце) с творчеством писателей, вышедших из среды Традиции.
Анна Конькова, Григорий Ходжер, Еремей Айпин, Юрий Велла, Галина Кептуге, Анна Нергаки, Платон Ламутский – эти имена говорят сами за себя, но говорят лишь тем, кто тянется к Традиции и знаком с произведениями этих авторов. Множество великолепных книг находится, к сожалению, вне поля зрения читателей. «И лун медлительных поток», «Амур широкий», «Ханты» и многие другие романы обладают всеми качествами, чтобы стать сегодня настоящими бестселлерами, но они, увы, почему-то не издаются. Полагаю, что всё дело в теме – традиционная жизнь коренных народов отпугивает большинство издателей.
В таких огромных странах, как Россия и США, проблемы «малых» народов во многом схожи. Большие города, где жизнь удобнее (с этим спорить бесполезно), одинаково легко заманивают в свои сети и сельских жителей, далёких от Традиции, и людей, родившихся в стойбищах кочевников. Лёгкость, с которой в городе можно заработать если не большие, то вполне достаточные деньги, заставляет многих покидать насиженные места. «Цивилизация» наступает, беспощадно давя любые очаги протеста. «Цивилизация» не интересуется человеческой душой, её занимают только людские страсти, с помощью которых она зарабатывает деньги, растёт вширь, вытаптывая леса и осушая озёра. «Цивилизацию» интересует только она сама, и для своей победы она пускает в ход все средства (и прежде всего оглупление человечества). При тотальном ослеплении городских жителей огнями агрессивной рекламы как могут люди разглядеть что-либо другое, затерявшееся за сверкающими афишами, как могут разглядеть живую природу?
Во вступительной статье к «Антологии литературы коренных народов Сибири» Ващенко рассказывает, как во время конференции 1995 года на трибуну поднялась девушка, приехавшая с Дальнего Севера, и воскликнула: «Пожалуйста, прислушайтесь к моим словам, как к крику дикого журавля!» Далее Ващенко задаётся вопросом: «А знаком ли я с повадками журавля? Слышал ли его крик хотя бы раз? Я не мог припомнить. А кто-нибудь из присутствующих в зале? Доводилось ли им хотя бы видеть журавля?.. Если нет, то способны ли мы понять действительные нужды людей, чья повседневная жизнь целиком состоит из неразрывных взаимоотношений с их братьями – оленем и журавлём, являющихся их родовыми тотемами?»
Временами неодолимая печаль охватывает меня. Кому нужна Традиция? Кто поднимается на её защиту? Представители «цивилизованного» мира часто выдвигают свой главный аргумент: «Технический прогресс делает жизнь легче». И они правы. С этим не поспоришь. Однако речь не о том, чтобы, проповедуя Традицию, призывать людей жить в пещерах. Нет. Я убеждён, что Традиция способна уживаться с Технократией, если последняя не ведёт себя, как вели себя конкистадоры, сметая всё на своём пути. Но, к моему сожалению, в большинстве случаев Технократия поступает именно так. Она пользуется своей силой.
И всё-таки Традиция способна жить бок о бок с техническим прогрессом. Ходят же люди в церковь, иногда часами стоят там во время службы, а потом отправляются исполнять боевое задание, обвесившись автоматами и радиопередатчиками. Одно другому не помеха. И лесные пожары тушатся с помощью вертолётов и самолётов. Сегодня это естественно. Мир многогранен, он непрерывно развивается, он не обязан быть односторонним и закостенелым. Но чтобы эта многогранность не исчезла, Традиция должна получить право громкого голоса. В противном случае Технократия проглотит всё.
Примечания
1
Нижней одеждой чукотской женщины всегда был комбинезон. Комбинезон имел большой вырез до груди и до середины спины, на груди имелись завязки; он шился обычно из меха горного барана и в длину достигал колен. Молодые женщины при работе в яранге или летом вне яранги сбрасывали с себя верхнюю часть комбинезона и трудились с голым торсом. В холодное время поверх нижнего комбинезона надевался верхний, пошитый мехом наружу; он назывался кэркэр, среди русских поселенцев больше известен как хоньба.
(обратно)2
Чукчи добывают огонь посредством огнива, которое состоит из деревянного бруска (обычно обтёсанного в форме грубого идола), деревянного сверла, маленького лука (часто называется вращательным луком). Сверло упирается в огниво, на середину сверла петлёй накидывается тетива лука, верхняя часть сверла поддерживается рукой в вертикальном положении. С помощью лука и тетивы сверло начинает быстро вращаться и вызывает огонь в огниве.
(обратно)3
«Я собрал подробные сведения только о двух или трёх таких случаях. Одна из этих женщин была пожилая вдова, имевшая трёх детей-подростков. Сначала она получала обычное „вдохновение“, но позднее духи захотели превратить её в мужчину. Тогда она обрезала себе волосы, усвоила мужское произношение и даже в короткое время научилась владеть копьём и стрелять из ружья. Наконец она захотела жениться и взяла себе в жёны молодую девушку. Превращённая женщина взяла икру (gastrochemius) с ноги оленя, прикрепила её к широкому кожаному поясу и воспользовалась этим приспособлением как мужским органом. Такими приспособлениями чукотские женщины пользуются при известном половом извращении. Через некоторое время превращённый „муж“ и его молодая жена, желая иметь детей, вступили в связь группового брака с молодым соседом, и действительно в три года у них в семье родилось два сына. По чукотскому представлению о правах брака, эти дети считались сыновьями превращённой женщины. Таким образом эта превращённая женщина в молодости смогла родить своих детей, а затем имела детей как муж от своей жены. Другая женщина, изменившая свой пол, была ещё совсем молодой девушкой. Она также носила мужскую одежду, умела обращаться с копьём и даже участвовала в борьбе и прочих мужских состязаниях. Она старалась уговорить одну молодую женщину, владелицу стада, взять её себе в мужья. Но когда, при более близком знакомстве, она привязала к поясу икру оленя, невеста отвергла её. Это произошло за несколько лет до моего приезда в этот район. За это время превращённая женщина нашла себе другую жену, с которой она жила в верховьях Чауна» (Богораз-Тан В.Г. Чукчи. Т. 2).
(обратно)4
Ясак – натуральная подать, которой облагались нерусские народы, занимавшиеся охотничьим промыслом. Ясак чаще всего вносился в казну пушниной, иногда скотом. С 1822 г. ясак в Сибири стал заменяться денежным сбором.
(обратно)5
Кузнечное ремесло играло заметную роль в жизни Якутов с древних времён. Был сильно развит культ кузнецов. Кузнецы считались не просто мастерами по плавке и ковке металлов, но настоящими шаманами, даже если они не обучались шаманскому искусству. Якуты настолько верили в могущество кузнецов, что считали их сильнее обычных шаманов. Кузнецы могли причинить вред шаманам, а шаманы – нет. Пройдя обряд посвящения, человек становился полноценным кузнецом. Это занятие становилось наследственным.
(обратно)6
В книге М.П. Алексеева «Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей» приводится упоминание Исбранта Идеса об этом обычае: «Кроме Якутов на берегу Лены находим ещё идолопоклонников, которые зовутся Юкагирами. Всё, что мне известно особенно об этих народах, это то, что они срезают мясо с костей своих мертвецов, высушивают их скелеты и, укутав их несколькими рядами стеклянных бус, вывешивают их вблизи своих жилищ и воздают им божеские почести». Именно так поступили с телом знаменитого вождя Тороноя Боотура (в бумагах – князь Торе), который был убит в 1671 году. Расчленив его тело по суставами и разделив мясо в качестве талисманов, сородичи «сбросили все кости на коже». Кости Боотура превратились в предметы поклонения.
(обратно)7
Округа делились на улусы, улусы – на наслеги, наслеги – на роды. Наслеги иногда назывались волостями.
(обратно)8
Большуха – в русских деревнях среди женщин старшая по положению в доме. Она распоряжалась женщинами, распределяла между ними работу, держала ключи от амбаров, наблюдала за ведением хозяйства. Этнограф Потанин рассказал об одном случае в какой-то северной деревне. Было время уборки ржи, и в деревне остались только старухи и дети. Путешественник заглянул в один богатый и большой дом и спросил чего-нибудь покушать. Вышедшая к нему старуха объявила, что «может быть, в их доме и нашлось бы что-нибудь, но она не большуха и потому не смеет ничего дать».
(обратно)9
Обласка – лёгкая долблёная лодка. В Прииртышье распространение получили большие лодки из кедровых досок и лёгкие долблёнки из осины. Если зимние средства передвижения (конные сани) были заимствованы хантыйским населением у русских, то летний водный транспорт был воспринят русскими поселенцами у коренного населения.
(обратно)10
Нябуко – слово, которым ненцы называли девочку-первенца; для мальчика-первенца соответствующего названия нет. Братья и сёстры на вопрос: кто это? – говорят о такой сестре «нябуко ми», тогда как вообще о старших братьях и сёстрах, независимо от пола, говорят «нека ми».
(обратно)


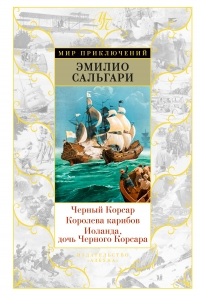

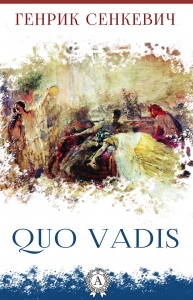

Комментарии к книге «Время крови», Андрей Ветер
Всего 0 комментариев