Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий Год тридцать седьмой
Предлагаемые читателю тексты произведений являются, так сказать, «каноническими» или, если угодно, "эталонными".
Борис Стругацкий***
В свете фонарей падали с темного неба крупные снежинки, и было тепло и тихо. Здесь всегда было тихо и спокойно, даже ранними вечерами, только у подъезда клуба ВМА толпились молодые люди в длинных шинелях, да по площади бегали мальчишки, мокрые от снега.
Они условились встретиться в восемь, а было еще без четверти, и Григорий некоторое время постоял у афишной тумбы, читая, что в каком театре идет. Он терпеть не мог театра, но давно решил, что на этот раз надо обязательно сходить куда-нибудь с Валькой, хотя знал, что потом будет плеваться и поносить театральных критиков вообще и Мишку Шмидта в частности. Он подумал, что надо бы навестить Мишку и рассказать ему про его однофамильца из Баварии, Вольфганга Шмидта. Как тот все жаловался, что в Гвадалахаре нет пива, а потом под Торихой ему удалось подбить штабную машину, и в машине оказался целый ящик с пивом. Ящик был оцинкован, на нем, уткнувшись головой, лежал толстый майор с перебитым позвоночником. В ящик натекло крови, но Шмидт, отпихнув труп, стал доставать бутылку за бутылкой и передавать бойцам. Он таскал бутылки по три-четыре каждой рукой, из машины торчал его зад в брезентовых штанах, на каждой ягодице было по дыре, и из дыр торчали клочья серого от грязи белья. Бойцы подхватывали бутылки и тут же пили, отбивая горлышки, и мне тоже досталась бутылка. Стекло было в крови, пиво оказалось теплым, но оно было вкуснее, чем вода из Эбро — желтая, холодная, провонявшая мертвечиной.
Григорий взглянул на часы. Было ровно восемь. Сашка сказал, что будет дома ровно в восемь, а если не в восемь, то ровно в десять. Он и раньше назначал так свидания, даже девчатам, и те не обижались. Потому что догадывались, наверное, какая у него работа. Сашка не любил рассказывать, где он работает и чем занимается, но все его знакомые рано или поздно узнавали об этом. Он просил, чтобы про него говорили, будто он милиционер, но Григорий обычно рассказывал знакомым, что Сашка — завмаг, «знаете, булочная на углу Финляндского и Астраханской». «А-а…» — говорили знакомые разочарованно. Сашка был больше похож на боксера, чем на завмага.
Сашкина квартира была на третьем этаже, и окна были освещены. Григорий шагнул на мостовую, чтобы перейти улицу, но тут подкатила эмка, гуднула и остановилась, загородив дорогу. Из эмки вылез плечистый парень, открыл капот и полез в мотор. Снег все падал, теплый, мягкий, совершенно ленинградский снег, кружился вокруг матовых шаров фонарей, опускался на лицо и на ресницы. Григорий протянул руку, и на ладонь опустились мохнатые снежинки. Ручной снег, подумал Григорий. Он обошел эмку, перешел улицу и вошел в вестибюль. В вестибюле топилась большая, зеленого кафеля печь, было светло и тепло, и было приятно подниматься по лестнице и знать, что тебя ждут, и завтра будут ждать — уже в другом месте и другие люди, и послезавтра и еще долго-долго, месяца два. Два месяца приятных обязанностей, исключительно приятных обязанностей и хорошей работы, и работать есть над чем, и приятно думать, что эта работа сейчас нужна, потому что на Эбро не так уж много журналистов, и большинство из них пишут ерунду, ставят все вверх ногами — чаще не по злобе, а по глупости. Просто не видят главного — классовая глупость, они считают, что человек — всего лишь человек, и переубедить их невозможно, да, наверное, и не нужно…
Сашка стоял на стремянке и копался в дверном звонке.
— Здравствуй, завмаг, — сказал Григорий.
Сашка взглянул сверху вниз, спрыгнул и сказал:
— Здравствуй, испанец.
— Салюд, камарада, — сказал Григорий, и они обнялись и стали хлопать друг друга по спине.
— Жив, жив, писака, — приговаривал Сашка. — Жив, старый хрен…
Они отпустили друг друга, и Сашка сказал:
— Заходи, раздевайся и кури. Я сейчас…
У него стало какое-то другое лицо — какое-то немного обрюзглое, немного старое, немного нездоровое, но глаза были теплые, кожа по-прежнему смуглая, и у него была прежняя боксерская челюсть.
— Заходи, заходи, нечего меня разглядывать. — Он втащил Григория в прихожую, а сам снова забрался на стремянку. — Там Олег сидит, — сообщил он со стремянки.
— Да ну! — Григорий торопливо стащил пальто, смотал с шеи шарф и бросил шапку на столик у дверей. Он пошел прямо в гостиную. Там сидел тощий и бледный Олег и курил трубку. На столе стояла всякая закуска и две бутылки с коньяком.
— Ого-го! — заорал Олег и вскочил, распахивая руки. — Писатель!
Они обнялись.
— Рассказывай, — сказал Олег.
— Да ну тебя к черту, — сказал Григорий. — Я тебя сто лет не видел. Ничего не хочу рассказывать.
— Чесать, где чешется, и слушать друга, вернувшегося из дальнего путешествия, — сказал Олег. Он очень любил Пруткова.
Они сели рядом на диван, и Григорий закурил, рассматривая Олега, комнату и вообще все. Он очень любил эту комнату. Здесь всегда было хорошо и уютно, хотя и не всегда чисто. И здесь ничего не менялось.
— Ты будешь рассказывать? — осведомился Олег.
— Потом. Дай отдышаться.
— Тогда будем коньяк пить. Сашка! Иди коньяк пить! Ты худой стал, как мощи. Не женился?
— Нет.
— Эх ты, старый хрен. В Испании — и не женился! Смотри, опоздаешь…
— Жениться, Олег, никогда не поздно и всегда рано, — сказал Григорий вдумчиво.
— Не жрешь по утрам, я думаю.
— Не жру.
— То-то и оно.
— Что «то-то и оно»?
— Да вот это самое.
— А конкретнее?
— Заработаешь язву.
— Аналогичный случай был в Пензе, — сказал Григорий.
— Ладно, дело твое, — сказал Олег. — Но учти, что язва желудка состоит в том, что желудок, не получая питания, начинает переваривать сам себя.
— Есть еще такая болезнь — волчанка, — сказал Григорий. — Ты на себя посмотри, мыслитель. Сеченов. Пастер. Тебя ведь анфас не видно.
— Я истощен наукой, — сказал Олег.
— А, — сказал Григорий. — Противоестественная любовь.
— Понаблюдай-ка, братец, десять ночей подряд — похудеешь.
— Я наблюдаю круглые сутки, — сказал Григорий важно. — Я наблюдаю жизнь.
— Ну и как жизнь?
— Да так. День живем, неделю хочем.
— Тьфу на тебя, — сказал Олег и заорал: — Сашка! Пора коньяк пить!
Ни черта здесь не меняется, думал Григорий, осматриваясь. Все то же. Э, а это кто? Здесь раньше висел Ягода… Ну ясно, он его снял. Нехорошая история. А кто же это?
— Сашка! — крикнул он. — Кто это у тебя на стене?
Было слышно, как Сашка ломится со стремянкой в переднюю.
— Эх ты, деревня, — сказал Олег. — Это Ежов.
— А, — сказал Григорий. — Ясно.
Вошел Сашка. Они сели за стол и подняли по первой.
— За Испанию, — сказал Олег.
— За Испанию, — повторил Григорий с удовольствием.
Они чокнулись и выпили. За Испанию я могу выпить сколько угодно, сказал Григорий. А как там дела? — спросил Олег. У него сразу широко раскрылись глаза. Не очень важно, сказал Григорий. Правда? Да, неважно. Трудно очень. А как же «но пасаран»? — сказал Олег расстроенно. Очень трудно. Все правильно, но очень трудно. Сволочь Франция, сказал Олег. Задержали оружие. Сволочи.
Сашка молча разлил коньяк.
— Теперь выпьем за встречу, — предложил Олег. — И чтоб не последнюю.
— Самый хороший тост — первый, — сказал Григорий. — Но все равно, выпьем…
Они выпили, и Олег стал есть шпроты прямо из банки. Сашка налил себе еще одну и выпил. Потом снова налил всем.
— Я рад, что ты жив, Гриша, — сказал он. — И давайте поговорим про что-нибудь веселое.
Олег оживился.
— Слыхали? — сказал он. — У нас в Пулкове раскрыли банду. Целая организация. Вот сволочи! И все маститые, пузатые… Такая дрянь!
— Поговорили про веселое, — сказал Сашка и выпил. Он был всегда такой — с ним было трудно разговаривать. Но обычно он расходился после пятой-шестой рюмки.
— Арестован Черепанов, — продолжал Олег, — Пересветов, Иванов — директор. Еще человек пять рангом поменьше. И подумать только — ведь известные ученые, в почете… Все им было дано, все — работайте только! Что им, хуже чем при царе, что ли, было? И главное — притаились, тихие. Никто ничего не знал, не подозревал даже.
— Я думаю. Иванов — это же мировое имя, — сказал Григорий.
Олег перестал жевать и задумчиво поглядел на него.
— Нет, — сказал он. — Иванов — это, я думаю, ошибка. Он, по-моему, хороший человек. Я думаю, его выпустят, когда разберутся. Ведь без ошибок нельзя, я понимаю… — Он поглядел на Сашку. Сашка выпил.
— Лес рубят — щепки летят, — сказал Олег. — Ничего не поделаешь. Лучше пусть пострадают несколько невиновных, чем останется какой-нибудь притаившийся гад. Это верно Сталин сказал насчет моста.
— Да, — сказал Григорий. — Здесь зевать не приходится. В Мадриде пятая колонна, стреляют из-за угла, саботируют, шпионят. Говорят, их расстреливают.
— Душить без пощады, — сказал Олег яростно. Он был уже готов. — У нас здесь тоже пятая колонна. И еще страшнее. Потому что тихие и высокосидящие.
Сашка выпил еще рюмку и сказал:
— А как Валечка?
— Ничего, спасибо, — сказал Григорий.
— Рада?
— По-моему, рада. А ты с ней давно не виделся?
— Давно, — сказал Сашка. — Полгода, наверное. Она приходила к нам в клуб танцевать. Был с нею какой-то хмырь, но я к нему пригляделся и не стал его уничтожать. Недотепа. Никаких шансов.
— С-слушай, — сказал Олег. — Р-рскажи что-нибудь, Гришка. Черт, что вы все такие засекреченные?
— А как насчет источников свечения звезд? — осведомился Сашка.
— Что? — сказал Олег.
— Как там со звездами? Почему они, подлые, светят, но не греют?
— Цикл Бете, — сказал Олег и икнул.
— Все ясно, — сказал Григорий. — Вопросов нет. Есть два новых анекдота.
— Трави, — потребовал Сашка.
Григорий стал рассказывать, но у него получилось плохо. Он услыхал эти анекдоты полгода назад в батальоне Линкольна. Их рассказывал один славный парень, даже не парень, а мужик с седой головой, коммунист из Буффало. По-английски эти анекдоты звучали очень хорошо, но по-русски было трудно подобрать подходящие слова. Сашка кривовато усмехался, а Олег икал и говорил вежливо: «Н-ничего… Н-ничего себе…»
Тогда Григорий взял и рассказал, где он услышал эти анекдоты и кто их рассказывал. Это было под Бриуэгой. В каменной лощине горела танкетка, и красный огонь освещал трупы, темными мешками валявшиеся поодаль. Они сидели за огромным валуном, жадно курили, и Григорий все думал: на кой черт меня принесло сюда, на кой черт. В руках у него был карабин с горячим стволом, и было тихо, только трещало и шипело в танкетке, а фашисты только что откатились и теперь готовились к новой атаке. Тут парень из Буффало докурил окурок, выругался по-русски, очень забавно, и рассказал подряд оба анекдота, а когда вокруг отсмеялись — смеялись почти все — вдруг запел очень энергично, но немузыкально:
Иф э-боди кисс э-боди, Вуд э-боди край? Иф э-боди лав э-боди, Вуд э-боди дай?После следующей атаки мы снова собрались за этим валуном и пили из фляжек, содранных с убитых мятежников, но парня из Буффало уже не было.
— Эх, — сказал Олег тоскливо. — Сижу тут, как старое дерьмо… Ну кому все это нужно — Дзета Пупис, Бета Лиры… Дерьмо. Я туда хочу!
— Там убивают, — сказал Григорий. Он сказал это просто так, механически. Он не хотел стращать или хвастаться. Ему вдруг стало нехорошо — там убивают, а он здесь сидит уютно и спокойно и пьет коньяк, когда там так нужны люди. Просто люди — руки с винтовкой и ясная душа. Там все были честные, даже анархисты…
— Я большевик, — упрямо сказал Олег. — И сижу тут как дерьмо. Безо всякого толка и пользы. Наше место там!
Сашка сидел, откинувшись, и медленно тянул коньяк. Теперь он пил из стакана.
— Все на свете проморгал, — продолжал Олег. — Перед Черепановым ходил на полусогнутых, а он враг. Где наши глаза были?
— Ну, этим заняты те, кому следует, — сказал Григорий.
— В-верно! Я тоже так думаю! Сталин знает, что делает. Раз не объявляют поголовный набор добровольцев в Испанию, значит, этого делать нельзя…
— Да. Нельзя, пожалуй.
— Там люди сидят поумнее нас с тобой, — сказал Олег. Он тяжело поднялся и пробрался к окну. — Мать честная, ясно! Мне ехать надо, ребята… Н-наблюдать надо!
— Ладно, — сказал Сашка. — Ложись и спи. Ехать ему надо. Тазик принести?
— Иди ты в штаны… Мне ехать… Н-наблюдать…
Олег пошел кругом по комнате, придерживаясь за мебель.
— Где мое пальто?! — заорал он.
Сашка встал, взял его за плечи и усадил, а затем уложил на диван.
— Дрыхни, астрономия, — сказал он.
— Й-эхать!..
Олег заснул и сразу захрапел. Сашка вышел и вернулся с тазиком.
— Среди ночи непременно поблюет, — сказал он.
— Н-на пол, — сказал Григорий Олеговым голосом.
Сашка сел и вылил остаток коньяка себе в стакан.
— Теперь рассказывай, — сказал он.
— Сначала скажи, что с тобой. Ты устал?
— Конечно, — сказал Сашка.
— Неприятности?
— Нет, — сказал Сашка. Он выпил и весь скривился, как от дряни.
— Ну хорошо, — сказал Григорий. — У тебя карта есть?
Сашка снова поднялся и принес свернутую в рулон большую немецкую карту Испании. Они сдвинули посуду и расстелили карту, прижав по углам пустыми стаканами.
— Вот где они, — сказал Григорий.
Сашка засопел.
— Что же это, — сказал он. — Это же значит…
— Да, — сказал Григорий.
— Что же это, — повторил Сашка. — Что же это…
— Я еще надеюсь вернуться, — сказал Григорий. — Я хочу быть там до конца. К чертовой матери, Сашка, ты это пойми… Я там как за родную землю дрался, как за Ленинград… После гражданской — это первый настоящий бой за советскую власть…
Они долго молчали. Потом громко зазвенел звонок, и Григорий вдруг увидел, как лицо Сашки стало серым. Наступила тишина, только тихонько храпел Олег на диване. Снова зазвенел звонок.
— Спокойно, — сказал Сашка. — Это за мной. Ты, главное, спокойно… — Он схватил Григория за руки и крепко стиснул. — Ты, главное, спокойно…
Звонок.
Сашка сидел неподвижно, и только быстро шарил глазами по стенам.
— Спокойно… Я через два дня вернусь… Максимум, через три…
Он вскочил и бросился в прихожую. В двери начали стучать. Что-то с грохотом повалилось в прихожей, и Григорий услыхал высокий незнакомый голос:
— Живой не дамся!..
Щелкнул замок. Стало тихо. В прихожей заговорили вполголоса, хлопнула дверь, и вернулся Сашка. Он был совершенно белый, с белыми вытаращенными глазами. Он держал обеими руками телеграмму, в правой руке у него трясся наган.
— Почтальон, — сказал он, усмехаясь. — От мамы. Беспокоится, что не пишу.
Он посмотрел на наган и сунул его в карман пижамы.
— Здорово я его напугал, — сказал он.
Григорий молчал.
***
Спать хотелось невыносимо. Только спать, и больше ничего. Не было больше ни тоски, ни ярости. Глаза сами собой съезжались к переносице, веки опускались, точки и крапинки на серой стене таяли и расплывались. И сейчас же возникала смеющаяся Валькина мордочка… Медленные снежинки в свете фонарей… Большая карта Испании — немецкая карта — и заскорузлый палец баварца Шмидта чертил грязным ногтем кривые линии поперек голубой ленты Эбро… Что там было, на Эбро? Что-то очень плохое или хорошее — надо только подумать и вспомнить. Но думать не хочется. Хочется спать.
Григорий качнулся и ударился лбом в стену. Следователь спокойно сказал:
— Стоять смирно, ты…
Григорий стоял спиной к следователю. Он смотрел в стену, выкрашенную серой краской, и слушал, как следователь шуршит бумагами, зевает, скрипит креслом. В кабинете было тепло, пахло табачным дымом. Хорошо бы убить следователя, подумал Григорий. И лечь спать прямо здесь, на полу. Закрыть глаза, растянуться и заснуть. Хоть на час. Хоть на четверть часа. Дверь приоткрылась, кто-то сказал:
— Угости папироской. Все, понимаешь, выкурил.
Следователь сказал:
— Бери.
Кто-то почти бесшумно прошел за спиной и остановился у стола.
— «Беломор»? А «Казбека» нет?
— Я только «Беломор» признаю, — сказал следователь. — От «Казбека» у меня кашель.
Чиркнула спичка. Кто-то сказал:
— Спасибо. Домой, понимаешь, собрался, хватился — папиросы кончились. Может, дашь парочку про запас? Магазины еще закрыты.
— Бери, — сказал следователь.
— Спасибо. Молчит?
— Молчит. Упорный попался, сука.
— Ну, я пошел. Пока.
— Пока.
Кто-то почти бесшумно прошел за спиной, дверь открылась и закрылась. Следователь громко, с прискуливанием, зевнул и опять зашуршал бумагами. Как ему не надоест, подумал вдруг Григорий. Неужели он не понимает, что все это — страшная ошибка? Лес рубят — щепки летят. Я — щепка. Нет, конечно, он не знает, что я — только щепка. Он уверен, что я фашист, изменник родины… Как это все они спрашивают: «Расскажите о ваших связях в Испании». Мои связи в Испании… Если бы ты побывал в Испании, ты бы сдох от страха, подумал Григорий. Или нет? Может быть, ты тоже сидел за валуном и торопливо тянул замусоленный окурок, и смотрел, как догорает фашистская танкетка, и трясущимися руками ощупывал горячий ствол карабина… И теперь, озлобленный, творишь суд и расправу? Но мне-то каково? Каждый день, каждый день, и этому не видно конца, и кажется, что вот-вот сойдешь с ума…
Странно, что меня не бьют, подумал Григорий. Других бьют. Иногда слышно даже, как кричат избиваемые. Вероятно, бьют очень больно. И рано или поздно начнут бить меня. И я тоже буду кричать… Сашка кричал тогда: «Живым не дамся». Сашка знал, конечно. Может быть, он тоже бил? И он, наверное, так и не дался. Григория взяли в подъезде Сашкиного дома и увезли на эмке. На той самой эмке. «Это недоразумение!» — «Молчите». — «Поймите, я журналист, я вернулся из Испании…» — «Там выясним, какой ты журналист». И потом: «Расскажите о ваших связях в Испании».
Точки и крапинки на серой стене снова растаяли. Григорий совершенно отчетливо увидел свой карабин. Он очень обрадовался. Он узнал даже царапины на ложе — это когда он переползал через битый кирпич вперемешку со стеклом, и пули хлестко щелкали перед самым носом, поднимая облачка красной пыли… Отличный карабин, когда смертельно хочется спать. Надо только разуться, сунуть дуло в рот и нажать большим пальцем ноги на спусковой крючок.
— Смирно стоять, я сказал… — спокойно сказал следователь.
Григорий разлепил глаза. Следователь отодвинул кресло и с хрустом потянулся.
— Ну что, долго в молчанку играть будем? — спросил он добродушно.
Григорий облизнул пересохшие губы.
— Ведь нам уже все известно. Твой приятель астроном все нам рассказал. Чего же ты зря запираешься? Умел нашкодить, умей и отвечать.
Григорий втянул голову в плечи. Да, Олег все рассказал. Добрый глупый Олежка. Он подписал отвратительную бумагу. Подпись была страшная, корявая, но она была Олежкина. И ниже подписи — коричневый мазок, какой бывает на простыне от раздавленного клопа. Наверное, из носа.
— Ладно, — сказал следователь. — Пойди, часок отдохни.
Григорий молчал. Сейчас придет белобрысый лейтенант, отведет в камеру, а через двадцать минут придет чернявый лейтенант и снова приведет его в этот кабинет, или в другой кабинет. И его снова поставят носом в стену.
Пришел лейтенант и сказал:
— Пошли.
Григорий заложил руки за спину и направился к двери. Следователь, пожилой, с усталым желтым лицом раскуривал папироску. Григорий и лейтенант вышли из кабинета. Григорий с трудом переставлял затекшие ноги. Впрочем, он знал, что это сейчас пройдет. Это всегда проходит, когда кончается коридор. Лейтенант шел в двух шагах позади и, не отрываясь, смотрел Григорию в затылок. На лестничной площадке Григорий замедлил шаг и оглянулся, и сразу встретился взглядом с глазами, голубыми и злобно-испуганными.
— Давай-давай, живей, — сказал лейтенант.
Лейтенант был в новенькой гимнастерке с новенькими кубиками в петличках. Конечно же, лейтенант знал наверняка, что ведет фашиста, предателя, троцкистского последыша.
Они стали спускаться по лестнице. Лестница была широкая, трехмаршевая, точно по шестнадцать ступенек на марш, с балюстрадой под красное дерево и с гулким просторным колодцем.
Григорий спускался, придерживаясь за перила. Снизу, из шестиэтажной глубины донеслись чьи-то неразборчивые голоса. Потом пронзительный голос крикнул:
— Отойти от стены!
— Давай-давай, — пробормотал за спиной лейтенант.
Будет же когда-нибудь такое время, что не будут гореть танкетки, не будет следователей и глупых лейтенантов… И можно будет спать, сколько хочешь, и не ждать, когда тебя ударят по лицу. Но мне этого уже не увидеть, подумал Григорий. От жалости к себе у него навернулись слезы на глаза, хотя он еще не был уверен, что сделает это. Хорошо было Сашке, у него был наган… А мой карабин остался там.
Григорий нагнулся и вдруг перевалился через перила.
— Стой! Куда, сволочь? — отчаянно закричал лейтенант. Было просто страшно. Потом он подумал: «Теперь здесь наверняка поставят решетки…» И все кончилось.
***
(C) Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий, текст, 1961




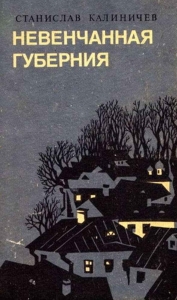
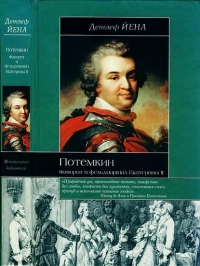
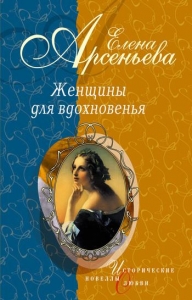
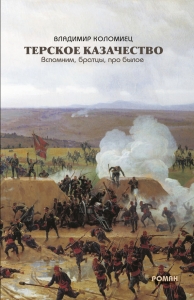
Комментарии к книге «Год тридцать седьмой», Братья Стругацкие
Всего 0 комментариев