Роберт Грейвз Собрание сочинений в 5-ти томах Том 1
Роберт Грейвз
Многообразное творчество Роберта Грейвза (1895–1985), поэта, публициста, критика, автора романов, рассказов, популярных сочинений по античной и восточной мифологии, почти неизвестно в нашей стране.
И у себя на родине Грейвз, несмотря на многочисленные публикации, рецензии (еще больше в этом смысле ему повезло в США) и шумный успех многих его книг, далеко не сразу был признан выдающимся мастером слова. В общих курсах английской литературы о нем обычно пишут мало. Место писателя в искусстве его времени до сих пор не вполне определилось.
Из-за вызывающей независимости своей общественной и эстетической позиции он лишь в преклонные годы дождался признания, наград, избрания в почетные члены одного из колледжей Оксфорда и должности профессора английской поэзии.
Писатель всегда выказывал равнодушие к господствующей литературной моде, к школам и направлениям, небрежно отзывался о «безудержном экспериментаторстве так называемых модернистов» и о жесткой определенности творчества реалистов. Он равно осуждал и формалистические ухищрения, сосредоточенность авторов на искусстве, не имеющем цели вне себя самого, — и преданность конкретным общественно-политическим задачам, то есть подчинение свободы художника преходящим требованиям времени. По его убеждению, поэт не несет ответственности ни перед кем, кроме самого себя. Его единственная вдохновительница — любовь, чувство, перед которым отступают все другие. Она и есть Муза поэта, богиня, беззаконно властвующая над миром людей.
Такая позиция Грейвза на первый взгляд кажется сугубо личной, субъективной, ни с чем не соотнесенной; однако в контексте литературного развития Англии к концу XX века представляется, что в этой принципиально внетипической позиции заключена типическая тенденция крайнего индивидуализма, категорического неприятия каких бы то ни было общих, извне установленных правил, идей, норм — всего, что сколько-нибудь связывает личность на пути к свободному самовыражению.
Как известно, на целый век растянулся процесс постепенной утраты Англией своего положения властительницы полумира; мучительно уходил устоявшийся образ жизни: набор представлений, выработанных тогда, когда английское могущество казалось безграничным, стал бессмысленным. Вместе с тем не больше смысла было и в той нравственной анархии, в атмосфере вседозволенности и безответственности, которые получили такое широкое распространение после первой и в особенности после второй мировой войны. Известнейшие английские писатели — Айрис Мердок, Уильям Голдинг, Джон Фаулз — каждый по-своему описали разрушительное воздействие этой атмосферы на формирование и развитие поколений.
В этих обстоятельствах типичным для большей части интеллигенции становится внетипическое. Оно проявляется в стремлении отделить себя не только от официальной идеологии, но и от сил распада, от дешевого скептицизма, в стремлении сохранить веру в человечество, спасая веру в индивидуальные моральные и религиозные ценности. Такое стремление лежит в основе идейных и художественных исканий Грейвза.
Будущий писатель вырос в семье со старыми устоями: отец его, ирландец по происхождению, был популярным в свое время поэтом; мать принадлежала к аристократической немецкой семье.
Он получил традиционное воспитание в Чартерхаузе — закрытой школе для мальчиков, выходцев из высших классов. Едва окончив школу, Грейвз в 1914 году пошел добровольцем в армию и познал сполна тоску и ужас окопной войны: за четыре года английская армия, несмотря на поддержку союзников, почти не сдвинулась с места и понесла тяжелейшие потери. Грейвз проявил мужество и закончил армейскую службу в звании капитана. Обо всем этом он превосходно рассказал в своей автобиографии «Простимся со всем этим» (1929), в которой передана бессмысленность войны, нужной только «рыцарям наживы».
Трудно сложилась и послевоенная жизнь Грейвза. Он упорно не желал служить в каком бы то ни было официальном учреждении; один только раз он попробовал преподавать английскую литературу в Египте.
Единственной отрадой было писательство. В стремлении свободно выразить свою творческую индивидуальность Грейвз оставил Англию: с 1929 года он стал подолгу жить на острове Майорка (Испания), а с 1946 года почти не покидал его. Он ревниво отстаивал свою обособленность, не примыкал к литературным кружкам и объединениям. Несмотря на то, что учился он поздно и недолго (в Оксфордском университете в середине двадцатых годов), он сумел стать очень образованным человеком, изучить историю, мифологию, искусство, древние и новые языки.
Больше всего увлекают его проблемы поэзии, вопрос о ее месте в современном мире, о том, что следует предпринять во имя спасения ее (и тех, кто себя ей посвящает) в обществе, где все угрожает их честности и свободе. В цикле лекций, прочитанных в шестидесятые годы в Оксфордском университете и объединенных под названием «Искусство и принципы поэзии», Грейвз говорит о зловещей власти механического начала в современном бытии. Государство, то есть «политический механизм, опирающийся на силу денег и достижения техники, требует полного подчинения индивидуума… Новый технократический идеал заключается в том, чтобы освободить народы не только от необходимости самостоятельно мыслить, но и от соблазна вырабатывать привычки, несовместимые с равномерным течением рационально устроенной жизни». [Graves R. Poetic Craft and Principle. London, 1967. P. 101, 103.] По мнению Грейвза, его современники интересуются множеством вещей, от космических кораблей до абстрактного искусства, но они, как никогда ранее, «далеки от человечности, от магии любви и простой радости жизни». [Ibid. P. 129–130.]
Вину за это Грейвз возлагает на правящие бюрократии. Организованное воздействие на них он считает невозможным. Не более способен бороться с ними и поэт. Он должен заботиться только о том, чтобы отстоять свой мир от всеобщей регламентации мысли и поведения. Он должен быть самим собой, ибо «подчиняться мертвой рутине для него подобно смерти». [Ibid. P. 109, 112, 157.]
Для того чтобы защитить себя от антипоэтической современности, следует бросить вызов общественной унификации и искать спасение в поэзии. Истоки ее в условиях стандартизированного и механизированного бытия лежат в мифотворчестве. И Грейвз создает свой миф о «женщине-музе», свободно, вне принятых рамок и условностей, дарящей любовь и вдохновение. Веруя в этот миф, поэт отучится искать воплощение своих идеалов в тусклой реальности, «будет самим собой, а не человеком-машиной», будет жить вне неприемлемой действительности и молчаливо отвергать ее требования.
Создание мифа и одновременно изучение его рано начинают занимать Грейвза и проходят через всю его жизнь. Он излагает свою теорию мифа в книге «Белая богиня» (1948) и пересказывает античные мифы, складывая их в своеобразный роман («Золотое руно», 1944). Его глубоко занимает и христианская мифология. Он по-своему реконструирует Евангелие и пишет роман из жизни Христа («Царь Иисус», 1946), в котором серьезное изучение источников прихотливо соединяется с малообоснованными домыслами и просто вымыслом.
Сам писатель из всего своего творчества наибольшее значение придавал стихам. Он писал их с юных лет, но настоящим поэтом стал только после того, как побывал солдатом. Вместе с Уилфредом Оуэном, Ричардом Олдингтоном, Эдмундом Бланденом и лично ему близким Зигфридом Сассуном он был одним из создателей так называемой «окопной поэзии», возмутившейся против преступности организованного уничтожения человека человеком.
Как пояснил сам автор, проза его предназначена для тех, кто бессилен понимать стихи, а поэзия — только для поэтов. Никому больше она не нужна. Эти слова не следует понимать буквально: Грейвз написал много стихотворений, вполне доступных подготовленному читателю. Однако психологическая напряженность и болезненная противоречивость описываемых им чувств, утонченный интеллектуализм, обилие скрытых и явных цитат, чаще всего иронических, бесспорно, представляют некоторые трудности.
Продолжая писать стихи практически до конца жизни, Грейвз был беспощаден к своим творениям и лучшим другом называл мусорную корзину. Он ратовал за освобождение поэзии от прагматического здравого смысла и формальной логики, за выбор слов с долгой эмоциональной историей. Больше всего притягивают Грейвза душевные страдания, неминуемые следствия врожденной противоречивости человека. [См.: Fraser G. S. The Modern Writer and His World. London, 1953. P. 227.] Свои стихи, написанные вразрез с господствующими взглядами и вкусами с единственной целью выразить внутренний мир поэта со всей мыслимой прямотой и искренностью, Грейвз сравнивает с «обрывками образов» (Broken Images). Он противопоставляет себя и модернистам — именно так он обозначает Элиота, Джойса, Паунда, — по его мнению, заумным и искусственным, и традиционалистам, идущим проторенными дорогами и чуждым вдохновения.
Модернистское искусство раздражает Грейвза своей вычурностью, а классические образцы прошлого кажутся ему старомодными, профессионально несовершенными. От эпигонского юношеского романтизма он шел к строго контролируемому искусству, враждебному романтической спонтанности. После второй мировой войны в его поэзии отчетливо обозначилась связь с отечественной поэтической традицией, против которой он восставал в ранние годы. В стихах его зрелых лет проявляется стремление к классической ясности, разумности, простоте, которое, однако, противоречиво соединяется с тяготением к философской насыщенности, осложненности, самоаналитической откровенности поэтов-метафизиков XVII века.
Своеобразное сочетание эмоциональности, внутренней суровости, заведомой фантастичности образов и классического изящества придает поэзии Грейвза глубину и значительность, которые позволяют ему выразить свою тревожную противоречивую эпоху на поэтическом языке, отличающемся от языка модернистов. [Kirkham M. The Poetry of Robert Graves. New York, 1969. P. 272.]
Поэзия Грейвза стала «поэзией для немногих». Широкую популярность завоевала, напротив, его проза. На первом месте оказались исторические романы. Среди них «Сержант Лэм из девятого» и «Действуйте, сержант!» — из эпохи американской Войны за независимость, «Князь Велизарий» — из истории Византии, «Жена г-на Мильтона» — из английской жизни середины XVII века, «Божественный Клавдий», продолжение, особенно полюбившегося публике романа «Я, Клавдий» (1934), который в первый же год он удостоился шести изданий, перевода на семнадцать языков и двух премий. Действие книги происходит в Римской империи конца I в. до н. э. и первой половины I в. н. э. Обращение к историческому роману сближает Грейвза с рядом выдающихся писателей его времени. Вспомним хотя бы романы Томаса Манна «Иосиф и его братья» и Лиона Фейхтвангера «Безобразная герцогиня», «Еврей Зюсс», «Иудейская война», «Лже-Нерон», пьесу Бернарда Шоу «Святая Иоанна». Еще шире интерес к исторической проблематике стал в 50-60-е годы, после потрясений второй мировой войны. Вслед за Бертольтом Брехтом, Жаном Жироду, Жаном Ануйем, Роберт Болт, Джон Осборн, Джон Арден создали пьесы, имевшие сенсационный успех.
Исторические романы и драмы, как правило, ставили одну из двух целей: изучить и воспроизвести прошлое либо для того, чтобы оно могло прояснить и пролить свет на настоящее, либо чтобы оно раскрыло его несовершенство. Поэтизированное описание минувших времен подчеркивало прозаическую обыденность нынешнего века, а критика прежних нравов служила осуждению нравов более поздних.
Замысел Грейвза был, по-видимому, сложнее.
В тяжелый период мирового экономического кризиса и победы фашизма в Германии прошлое было нужно Грейвзу для подкрепления его пессимистической оценки не только настоящего, но и всей истории человечества и его предназначения. Он стремился показать, что уже на рубеже христианской эры, почти две тысячи лет назад, при неизмеримой разнице между двумя эпохами, основные законы развития были те же; что тогда, как и теперь, люди действовали под влиянием грубых интересов и страстей, а немногие способные проникнуться мыслью о благе ближних сходили в безвременную могилу под натиском победоносного эгоизма.
Прошлое становилось подтверждением печальных размышлений о настоящем и материалом для пессимистической оценки будущего. Грейвз как бы обнаруживает архетипические, вечно действующие факторы истории и своих многочисленных персонажей рисует как архетипы политических деятелей всех времен.
Романы Грейвза дают живое представление не только о предмете изображения, но и об авторе. Художественная деятельность Грейвза продолжалась почти три четверти века. Его первые стихи, написанные до первой мировой войны в традиционно романтической манере, как бы подводят итог культуры минувшего столетия; его последние произведения отражают эволюцию сознания интеллектуальной Англии в нынешнем веке.
Человек высокой требовательности к себе, верный своему нравственному и писательскому долгу, Роберт Грейвз в течение долгих десятилетий литературной работы не боялся быть самим собой. Понять его — значит понять существенные особенности духовной жизни наших современников.
Н. Дьяконова
Я, КЛАВДИЙ
…Повествование, которое подверглись самым различным искажениям не только теми, кто жил в те времена, но также и в последующие годы — это только верно, что все выдающиеся труды предаются сомнению и забвению — причем одни выдают за факты самые сомнительные слухи, другие — объявляют ложью то, что действительно имело место; последующими поколениями в обоих случаях допускались преувеличения.
Тацит[1]ОТ АВТОРА
Слово «золотой» употребляется здесь в значении общепринятой денежной единицы и соответствует латинскому aureus, монете, равной ста сестерциям или двадцати пяти серебряным динариям («серебряная монета»); это приблизительно то же, что английский фунт стерлингов или пять американских долларов. Римская миля на тридцать шагов короче английской.[2] Даты на полях для удобства даны в современном летосчислении; по греческому летосчислению, используемому Клавдием, отсчет годов начинается от первой Олимпиады, которая происходила в 776 году до н. э. Из тех же соображений приводятся общепринятые сейчас географические названия; отсюда — Франция вместо Трансальпийской Галлии, так как Франция занимает приблизительно ту же территорию, а назвать такие города, как Ним, Булонь и Лион на современный лад, — их классические названия не будут узнаны широким читателем, — помещая их в Трансальпийскую Галлию, или, как ее именовали греки, Галатию, будет непоследовательно с моей стороны. (Греческие географические термины могут только запутать; так, Германия называлась у них «Страна кельтов».) Подобным образом в книге использовались наиболее привычные формы имен собственных — «Ливий» для Titus Livius, «Кинобелин» для Сunobelinus, «Марк Антоний» для Marcus Antonius.
Временами было трудно найти соответствующий аналог военных, юридических и других терминов. Приведу один-единственный пример со словом «ассагай» (метательное копье с железным наконечником). Рядовой авиации Т. И. Шоу (которого я пользуюсь случаем поблагодарить за тщательную вычитку корректуры этой книги) сомневается в правильности употребления слова «ассагай» для передачи германского framea или рfreim. Он предлагает взять слово «дротик». Но я не принял его предложения, в отличие от всех прочих, за которые весьма признателен, так как «дротик» был нужен мне для перевода слова pilum — обычное метательное оружие регулярной римской пехоты, — а «ассагай» звучит более устрашающе и более подходит для оружия дикарей. Слово это у нас в ходу вот уже триста лет, а в девятнадцатом веке благодаря войне с зулусами стало еще употребительнее. Frameа, копья с длинными древками и железными наконечниками, использовались, согласно Тациту, и как метательное, и как колющее оружие. Точно таким же образом применяли ассагай зулусские воины, с которыми у германцев времен Клавдия было много общего в материальной культуре. Совместить утверждения Тацита об удобстве framea в ближнем бою и тем, будто бы ими было несподручно сражаться в лесу среди деревьев, можно, лишь сделав вывод, что германцы скорее всего поступали так же, как и зулусы, а именно: отламывали конец длинного древка framea, когда начиналась рукопашная. Но до этого редко доходило, так как германцы предпочитали при столкновении с лучше вооруженной римской пехотой тактику молниеносных ударов и столь же молниеносного бегства.
В своем труде «Жизнь двенадцати цезарей» Светоний говорит, что «Истории» Клавдия написаны не так тяжеловесно, как бестолково. Однако, если некоторые абзацы этой книги написаны не только бестолково, но и тяжеловесно — неуклюжие фразы, неудачно построенные отступления, — это вполне соответствует стилю Клавдия, с которым мы знакомимся по дошедшим до наших дней отрывкам его речи на латыни относительно привилегий, дарованных им эдуям.[3] В ней полно языковых погрешностей, но, возможно, перед нами просто копия официальной стенографической записи слов Клавдия, обращенных к сенату, — речь старого человека, добросовестно пытающегося выступить без подготовленного заранее текста, имея под руками лишь листок с набросанными наспех заметками. Книга «Я, Клавдий» написана разговорным слогом, да и сам греческий куда более разговорный язык, чем латынь. Найденное недавно письмо Клавдия александрийцам (на греческом), которое, однако, частично может принадлежать перу императорского секретаря, куда легче читать, чем речь к эдуям.
За исправление неточностей при передаче классических реалий я должен поблагодарить мисс Айлис Робертс, а за критические замечания по поводу стилистического соответствия английского текста поставленной задаче — мисс Лору Райдинг.
Р. Г.
1934
Глава I
Я, Тиберий Клавдий Друз Нерон Германик, и прочая, и прочая (не стану докучать вам перечислением всех моих титулов), которого некогда, и не так уж давно, друзья, родные и знакомые называли «идиот Клавдий», или «этот Клавдий», или «Клавдий-заика», или «Клав-Клав-Клавдий», или в лучшем случае «бедный дядя Клавдий», намерен написать историю своей не совсем обычной жизни, начиная с раннего детства, год за годом, пока не достигну того рокового момента, изменившего мою судьбу, когда восемь лет назад, в пятьдесят один год, я попал в — если можно так сказать — золотые сети, из которых до сих пор не могу выпутаться.
Это будет отнюдь не первая моя книга: по правде говоря, литература, а в особенности история — еще в юности я изучал этот предмет под руководством лучших историков Рима, — были, до того как наступила вышеупомянутая перемена, моей единственной профессией, единственным моим интересом в течение тридцати пяти лет. Поэтому читатели не должны удивляться тому, что я пишу как профессионал; книгу эту сочинил действительно я, Клавдий, а не мой секретарь и не официальный летописец, один из тех, кому общественные деятели имеют привычку вверять свои воспоминания в надежде, что изящная форма восполнит убожество содержания, а лесть смягчит пороки. Клянусь всеми богами, у меня был лишь один секретарь — я сам, и сам я был своим летописцем: я пишу своей собственной рукой, и чего, спрашивается. я добьюсь у себя самого, если стану льстить сам себе? Могу добавить, что это даже не первая история моей жизни. написанная мной. Я уже написал восемь томов на эту тему в дар городскому архиву. Прескучная книга, которую я не ставлю ни в грош, но что было делать — положение обязывает. Честно говоря, я был в то время — два года назад — крайне занят другими делами. Первые четыре тома я продиктовал своему секретарю-греку и велел ему ничего не трогать (разве что сделать фразу гармоничней или убрать противоречия и повторы). Но должен признаться, что вторая половина этой работы и несколько глав из первой были состряпаны этим самым секретарем, Полибием (которого еще мальчиком-рабом я так назвал в честь знаменитого историка[4]), на основе данного ему мной материала. Он настолько точно скопировал мой слог, что никто бы не догадался, что там мое, что — его.
Повторяю, это прескучная книга. Я не мог позволить себе критиковать императора Августа, моего двоюродного деда по материнской линии, или его третью, и последнюю, жену Ливию Августу, мою бабку, потому что оба они были официально обожествлены, а я был связан с их культами в качестве жреца, и хотя мне ничего не стоило подвергнуть очень резкой критике недостойных преемников Августа на императорском троне, я воздержался от этого из соображений приличия. Было бы несправедливо оправдывать Ливию, да и самого Августа, который доверял и подчинялся этой удивительной и — не буду скрывать — чудовищной женщине, и рассказывать правду о двух других императорах, не находящихся под защитой нашего страха и благоговения перед богами.
Я сознательно сделал эту книгу скучной, запечатлев в ней лишь такие бесспорные факты, как, например, то, что такой-то женился на такой-то, дочери такого-то, который может похвалиться таким-то количеством почестей и наград, но не упоминал при этом политическую подоплеку этого союза или закулисные сделки между семействами. Или писал, что такой-то внезапно умер, поев африканских фиг, не обмолвясь и словом о яде или о том, кому эта смерть пошла на пользу, если только факты не были подтверждены решением уголовного суда. Я не лгал в этой книге, но и не говорил правды в том смысле, в каком намерен говорить здесь. Когда я на днях пошел на Палатинский холм в Аполлонову библиотеку[5] и взял эту книгу, чтобы освежить в памяти кое-какие подробности и даты в главах, посвященных государственным событиям, мне встретились абзацы, относительно которых я мог бы поклясться, что их писал или диктовал я сам, — мой стиль не спутаешь ни с чьим другим, — но я абсолютно этого не помню. Если их автор — Полибий, то эти абзацы — пример на редкость ловкого подражания (не спорю, он мог изучать другие мои произведения), но если они все же написаны мной самим, значит, память у меня даже хуже, чем говорят мои враги. Перечитав последние строки, я вижу, что не столько снимаю с себя, сколько возбуждаю подозрение, во-первых, в том, единственный ли я автор этого труда, во-вторых, в том, можно ли мне верить как историку, и, в-третьих, в том, хорошо ли я помню факты. Но я не стану ничего менять; я пишу то, что чувствую, пишу своей собственной рукой, и чем дальше пойдет мой рассказ, тем менее у читателя будет оснований сомневаться, что я что-то утаил — слишком многое здесь будет не в мою пользу.
История эта останется в тайне. Но кому-нибудь же, могут меня спросить, я ее раскрою? Отвечаю: моя книга адресована потомкам. Я не имею в виду правнуков или праправнуков, я имею в виду очень далеких потомков. И все же я надеюсь, что вам, мои возможные читатели, которых отделяет от меня сто с лишним поколений, будет представляться, будто я обращаюсь непосредственно к вам, словно ваш современник, так точно, как давно почившие Геродот и Фукидид часто, кажется, обращаются ко мне. Но почему я указываю на таких отдаленных потомков? Сейчас объясню.
Чуть меньше, чем восемнадцать лет назад, я отправился в Кумы в Кампании,[6] чтобы посетить сивиллу в пещере горы Гавр. В Кумах всегда есть сивилла, потому что, когда одна умирает, ей наследует другая, ее прислужница, но не все они равно знамениты. Некоторым из них за все долгие годы их службы Аполлон так ни разу и не даровал права произнести прорицание. Другие пророчествуют, но, судя по той бессмыслице, которую они произносят, вдохновляет их не Аполлон, а Вакх, отчего в прорицания вообще перестали верить. До того как сивиллой сделалась Деифоба, к которой часто обращался за советом Август, и Амалфея, которая все еще жива и весьма известна, в течение трехсот лет одна сивилла была хуже другой. Пещера их находится позади небольшого греческого храма, посвященного Аполлону и Артемиде, — Кумы были эолийской греческой колонией.[7] Над портиком храма виден старинный золоченый фриз, приписываемый Дедалу, что явная нелепость, так как храму не больше пятисот лет, если не меньше, а Дедал жил по крайней мере тысячу сто лет назад. На фризе изображена история Тезея и Минотавра, которого Тезей убил в Лабиринте на Крите.[8] Прежде чем я получил разрешение посетить сивиллу, я должен был принести на алтарь храма жертву Аполлону и Артемиде: первому — вола, второй — овцу. Стоял декабрь, погода была холодная. Пещера, вырубленная в толще скалы, вселяла ужас, подъем туда был крутой, извилистый и темный; к тому же там было множество летучих мышей. Я пошел переодетым, но сивилла узнала меня. Выдало меня заикание. В детстве я заикался очень сильно и хотя, следуя советам знатоков ораторского искусства, постепенно научился контролировать свою речь на официальных церемониях, в частной, не подготовленной заранее беседе я все еще, бывает, хотя и реже, чем раньше, спотыкаюсь от волнения о собственный язык: это и случилось со мной в Кумах.
Вскарабкавшись с трудом на четвереньках по крутой лестнице, я вошел во внутреннюю пещеру и увидел сивиллу, больше похожую на обезьяну, чем на женщину; она сидела на кресле в клетке, свисающей с потолка, на ней был красный плащ, немигающие глаза горели красным огнем в свете одного-единственного красного луча, падающего откуда-то сверху. Беззубый рот ухмылялся. Вокруг пахло смертью. Но я все же умудрился выжать из себя заранее приготовленное приветствие. Она ничего не ответила. Только спустя какое-то время я догадался, что это была лишь мумия Деифобы, предыдущей сивиллы, умершей не так давно в возрасте ста десяти лет; в глазницы ей были вставлены стеклянные шары, посеребренные сзади, чтобы они сверкали. Все сивиллы всегда жили вместе со своей предшественницей. Я простоял несколько минут перед Деифобой, дрожа и заискивающе улыбаясь, чтобы умилостивить ее, — эти минуты показались мне вечностью. Наконец передо мной явилась настоящая сивилла, еще совсем молодая женщина по имени Амалфея. Красный луч погас, Деифоба исчезла (кто-то, наверно прислужница, прикрыл окошечко из красного стекла), а сверху ударил новый луч света — белый — и осветил Амалфею, сидевшую в глубине темной пещеры на троне из слоновой кости. Ее безумное лицо с высоким лбом было прекрасно; она сидела так же неподвижно, как Деифоба. Глаза были закрыты. У меня подогнулись колени, и я с трудом проговорил:
— О, сив-сив-сив… — не в силах перестать заикаться.
Она открыла глаза, нахмурилась и передразнила меня:
— О, Клав-Клав-Клав…
Мне стало стыдно, я вспомнил, зачем я сюда пришел, и, сделав над собой усилие, сказал:
— О, сивилла, я пришел спросить тебя о судьбе Рима и своей собственной судьбе.
Постепенно ее лицо изменилось, ее охватил пророческий экстаз, тело ее задергалось, дыхание участилось, по всем уголкам пещеры пронесся вихрь, захлопали двери, у моего лица воздух со свистом рассекли чьи-то крылья, свет погас, и Амалфея голосом бога произнесла по-гречески следующее стихотворение:
Кто был Проклятьем поражен, Кого томит монеты звон, Недугом сломлен будет он: Во рту личинки синих мух, Глаза червивы, отнят слух, Забытый, он испустит дух.Затем, потрясая руками над головой, продолжала:
Десять лет промчат стремглав, Дар получит Клав-Клав-Клав. Он не рад ему, и прав: Вкруг себя собравши знать, Будет мямлить и мычать — Что с придурочного взять… Но пройдут за годом год Лет, так, тыща девятьсот — Всякий речь его поймет.[9]И тут бог расхохотался ее устами — прекрасный, но устрашающий звук: «Ха! Ха! Ха!» Я почтительно поклонился, поспешно повернул к выходу и заковылял прочь; на сломанной лестнице я растянулся, поранив лоб и колени, кувырком слетел вниз и еле живой выбрался наружу. Всю дорогу меня преследовал громоподобный смех.
Будучи профессиональным историком и жрецом, получив возможность изучать упорядоченные Августом Сивиллины книги и имея теперь опыт в расшифровке прорицаний, я могу интерпретировать эти стихи с известной долей уверенности. Под «Проклятьем» сивилла явно имела в виду проклятие небес, которое уже многие годы преследовало нас, римлян, за разрушение Карфагена. Именем наших главных богов, в том числе Аполлона, мы поклялись Карфагену в дружбе и защите, а затем, позавидовав тому, как он быстро оправился от бедствий, причиненных второй Пунической войной, обманом вовлекли его в третью Пуническую войну и полностью разрушили, истребив поголовно всех его обитателей и засеяв поля солью.[10] «Звон монеты» — главное орудие этого Проклятья — безумная алчность, охватившая Рим, после того как он уничтожил своего главного соперника в торговле и сделался господином всех богатств Средиземного моря. Богатство повлекло за собой праздность, жадность, жестокость, бесчестность, трусость, изнеженность и все прочие, ранее не свойственные римлянам, пороки. Что это за «дар», которому я был не рад, — я получил его точно в указанный срок, — вы узнаете в свое время из этого повествования. Над словами о том, что спустя много лет всякий поймет мою речь, я ломал голову не один год, но теперь, думаю, наконец уразумел их смысл. Эти слова — повеление написать настоящую книгу. Когда я ее закончу, я пропитаю ее предохраняющим составом, запечатаю в свинцовый ларец и закопаю глубоко в землю, чтобы потомки могли выкопать ее и прочитать. Если я правильно понял сивиллу, это произойдет примерно через тысячу лет.
И вот тогда, когда все другие нынешние авторы, произведения которых доживут до тех дней, будут казаться заиками, а слог их хромым — ведь они пишут лишь для своих современников, притом с оглядкой, — моя книга расскажет обо всем ясно и без утайки. Возможно, поразмыслив, я не стану брать на себя труд запечатывать ее в ларец. Я просто оставлю ее где-нибудь — пусть лежит. Мой опыт историка говорит, что документы чаще сохраняются благодаря случаю, чем сознательным действиям. Аполлон напророчил все это, пусть он и позаботится о рукописи. Как вы видите, я решил писать по-гречески, так как, по моему убеждению, греческий всегда будет всеобщим языком литературы, а если Рим сгинет, как предсказала сивилла, то вместе с ним сгинет и латинский язык. К тому же греческий — язык самого Аполлона.
Я буду аккуратен с датами (которые, как вы видите, я выношу на поля) и с именами собственными. Мне даже вспоминать не хочется, сколько, работая над историей Карфагена и Этрурии,[11] я провел мучительных часов, пытаясь отгадать, в котором году произошло то или иное событие, действительно ли такого-то человека звали так-то или он был сыном, внуком, возможно, даже правнуком этого человека, а то и вовсе не состоял с ним в родстве. Постараюсь избавить будущих историков от подобных мук. Так, например, в моей книге есть несколько персонажей по имени Друз: мой отец, я сам, мой сын, мой двоюродный брат, мой племянник; всякий раз, что я буду упоминать это имя, я буду отмечать, — кого именно я имею в виду. Еще один пример: говоря о своем наставнике Марке Порции Катоне, я не оставлю никаких сомнений в том, что он не был ни Марком Порцием Катоном Цензором, развязавшим третью Пуническую войну,[12] ни его сыном с тем же именем, известным знатоком законов и автором юридических трудов, ни его внуком-консулом, которого звали точно так же, ни правнуком с тем же именем, врагом Юлия Цезаря, ни праправнуком, убитым в битве при Филиппах,[13] а был его абсолютно ничем не прославившимся прапраправнуком все с тем же именем, который никогда не занимал никаких высоких общественных постов да и не заслуживал их. Август сделал его моим наставником, а затем воспитателем молодых римлян из знатных семей и сыновей иноземных царей, ибо, хотя его имя давало ему право занимать самые высокие должности, его жестокость, глупость и педантизм не позволяли ему стать ничем, кроме простого учителя.
10 г. до н. э.
Чтобы определить время, когда происходили эти события, я думаю, самое лучшее будет сказать, что я родился в 774 году от основания Рима Ромулом и спустя семьсот шестьдесят семь лет после первой Олимпиады и что император Август, чье имя вряд ли будет забыто даже через тысячу девятьсот лет, к тому моменту уже двадцать лет правил Римом.
Прежде чем закончить эту вступительную главу, я должен добавить еще кое-что насчет сивиллы и ее прорицаний. Я уже говорил, что, когда одна сивилла умирает, ей наследует другая и что одни из них более известны, чем другие. Большой славой пользовалась Демофила, с которой советовался Эней, прежде чем спуститься в подземный мир.[14] Известна также Герофила, которая явилась к царю Тарквинию и предложила купить у нее свиток с прорицаниями.[15] Когда он отказался, так как цена показалась ему чересчур высокой, она, как говорит легенда, сожгла часть свитка и предложила ему купить то, что осталось, за прежнюю цену. Он опять отказался. Тогда Герофила сожгла еще кусок и снова предложила Тарквинию оставшееся по той же цене, и на этот раз царь из любопытства ей заплатил. Пророчества Герофилы были двух видов; во-первых, предупреждения о несчастье и прорицания благоприятных событий в будущем, во-вторых, указания о том, какие именно жертвы нужно принести богам, чтобы умилостивить их при тех или иных предзнаменованиях. С течением времени к этим предсказаниям добавились примечательные и достоверные пророчества частным лицам. И когда в дальнейшем, согласно тем или иным знамениям, Риму угрожали бедствия, сенат приказывал жрецам, в ведении которых были свитки с прорицаниями, справляться в них, и там всегда находился ответ. Дважды свитки были частично уничтожены во время пожаров, и утерянные пророчества восстанавливались жрецами по памяти. Во многих случаях память им, по-видимому, изменяла, поэтому Август решил отобрать заслуживающие доверия тексты предсказаний, исключив из списков явные интерполяции и восстановленные тексты. Он также изъял у населения и уничтожил все, какие только смог заполучить, сомнительные частные собрания пророчеств, общим числом более двух тысяч. Просмотренные свитки прорицаний Август запер в ларец, поставленный под пьедесталом статуи Аполлона в храме, который он построил на Палатинском холме возле своего дворца. Спустя некоторое время после смерти Августа в мои руки попала уникальная книга из его личной исторической библиотеки. Она называлась «Сивиллины диковины: исключенные из канона пророчества, сочтенные жрецами Аполлона поддельными». Стихи были переписаны прекрасным почерком Августа, с теми типичными для него ошибками, которые он сперва делал по невежеству, а затем не исправлял из гордости. Большая часть этих стихов, судя по всему, не произносилась ни одной из сивилл, в экстазе или без него, и была сочинена безответственными людьми, которые желали прославить себя и свой род или навлечь проклятье на род соперников и для того приписывали божественное происхождение собственным фантастическим вымыслам. Я заметил, что род Клавдиев больше всех усердствовал по части таких подделок. Однако я нашел там два или три стихотворения, судя по их языку, сравнительно старых и, по-видимому, действительно вдохновленных богом, которые Август, чье слово было законом для жрецов Аполлона, не включил в канон из-за их вполне ясного и устрашающего смысла. У меня нет более этой книжицы. Но я помню слово в слово — да его и невозможно забыть — самое поразительное из этих, несомненно подлинных, предсказаний, записанных как по-гречески, так и, подобно большей части ранних пророчеств в каноне, в приблизительном переводе на латынь. Вот как оно звучит:
Минует век с Пунических войн — К лохматому в рабство Рим попадет. Лохматый сей, впрочем, будет лыс. Одним он муж, а другим — жена. Ему гарцевать на коне без копыт, А жизни лишит его сын не сын, И встретит он смерть не в бою. И к власти придет лохматый второй, Лохматому первому сын не сын. Лохматый сей впрямь будет лохмат. Он сделает мраморным глиняный Рим, Но цепью невидимой свяжет его. Погубит его жена не жена, И рад будет гибели сын не сын. Лохматый третий к власти придет, Второму лохматому сын не сын. И грязью покрыт, и кровью облит, Лохматый сей, впрочем, будет лыс. Победы и беды увидит с ним Рим. А гибели рад будет сын не сын, С подушкой вместо меча. Четвертый лохматый к власти придет, Лохматому третьему сын не сын. Лохматый сей, впрочем, будет лыс. Кощунства и яды увидит с ним Рим, Погибнет же он от удара коня, Что в детстве его носил. Лохматый пятый к власти придет, Он к власти придет, не желая ее. Его недоумком считают вокруг. Лохматый сей впрямь будет лохмат. Он воду даст Риму и хлеб зимой, Погубит его жена не жена, И рад будет гибели сын не сын. Шестой лохматый к власти придет, Лохматому пятому сын не сын. Он даст Риму пляски, пожар и позор, Родительской кровью себя запятнав. Лохматый седьмой не придет никогда. Кровь хлынет из гроба ручьем.Августу, должно быть, было ясно, что первый из «лохматых», то есть Цезарь (ведь слово «цезарь» означает «волосатый»), — его двоюродный дядя Юлий, усыновивший его. Юлий был лыс и прославился своим блудом — равно с женщинами и с мужчинами; его боевой конь, как гласит молва, был чудовищем с человеческими ступнями вместо копыт. Юлий вышел живым из многих боев и погиб наконец в сенате от руки Брута. А Брут, хотя и считался сыном другого человека, был внебрачным сыном Юлия.[16] «И ты, дитя?» — сказал Юлий, когда тот бросился на него с кинжалом. О Пунических войнах я уже писал. Во втором из цезарей Август наверняка узнал себя. И действительно, глядя под конец жизни на великолепные храмы и общественные здания, воздвигнутые на месте прежних по его указу, и думая о том, как он всю жизнь старался укрепить и прославить Рим. Август похвалялся, что получил Рим глиняным, а оставляет его в мраморе. Но тех вещих строк, что касались его смерти, он, по-видимому, или не понял, или не поверил им, однако совесть не позволила ему уничтожить стихотворение. Кто были третий, четвертый и пятый «лохматые», станет ясно из моей истории, и я действительно буду недоумком, если, считая, что до сих пор прорицание во всех подробностях отвечает истине, не узнаю шестого «лохматого» и не порадуюсь за Рим, что шестому не наследует седьмой.
Глава II
Я не помню отца, умершего, когда я был ребенком, но в юности я пользовался всяким случаем получить сведения о его жизни и личности у кого только мог — сенатора, солдата или раба, которые знали его, — и желательно поподробней. Я начал писать его биографию как свою первую ученическую работу по истории, и, хотя бабка Ливия скоро положила ей конец, я продолжал собирать материал в надежде, что когда-нибудь смогу завершить свой труд. Я действительно закончил его — всего несколько дней назад, но даже сейчас будет бессмысленно пытаться представить эту биографию на суд широкой публики. Она настолько проникнута республиканским духом, что стоит Агриппинилле — моей теперешней жене — услышать о ее выходе в свет, как все экземпляры книги тотчас будут конфискованы, а мои незадачливые писцы пострадают из-за меня и моей опрометчивости. Хорошо, если им не переломают руки и не отрубят большой и указательный пальцы в знак ее особого благоволения. Как эта женщина ненавидит и презирает меня!
Отец всю жизнь был мне примером и повлиял на меня сильнее, чем кто-либо другой, не считая моего старшего брата Германика. А Германик был, по общему мнению, копией отца чертами лица, фигурой (за исключением тонких ног), смелостью, умом и благородством, поэтому они сливаются у меня в сознании воедино. Если бы я мог начать это повествование рассказом о своих ранних годах, предварив его всего несколькими словами о родителях, я бы так, несомненно, и сделал, ибо генеалогия и семейные предания — скучная материя. Но я не могу не написать, и довольно подробно, о своей бабке Ливии (единственной, кто был в живых из родителей моих родителей при моем рождении), потому что, к сожалению, она является главным персонажем в первой половине этой истории, и если я не дам ясного представления о ее молодых годах, ее позднейшие поступки будут непонятны. Я уже упоминал, что она была замужем за императором Августом вторым браком после того, как развелась с моим дедом. Когда умер отец, она сделалась фактической главой нашего рода, заняв место моей матери Антонии, дяди Тиберия (официального главы семьи) и самого Августа, чьему могущественному покровительству отец вверил нас, детей, в своем завещании.
Ливия, так же как и дед, была из рода Клавдиев, одного из самых старинных в Риме. Существует народная баллада, которую еще и до сих пор поют старики, где в припеве говорится, что на древе Клавдиев растут два вида фруктов: сладкие яблоки и кислица, и кислицы больше. К кислице неизвестный автор баллады причисляет Аппия Клавдия Гордого, который чуть не вызвал в Риме мятеж тем, что попытался сделать рабыней свободнорожденную девушку по имени Виргиния и овладеть ею, и Клавдия Друза, который в дни республики предпринял попытку стать царем всей Италии, и Клодия Красивого, который, когда священные цыплята не хотели клевать зерно, бросил их в море, вскричав: «Тогда пусть попьют!» — и из-за этого проиграл важное морское сражение.[17] А в число сладких яблок автор баллады включает Аппия Слепого, который отговорил римлян вступать в опасный союз с царем Пирром,[18] и Клавдия Пня, изгнавшего карфагенян из Сицилии, и Клавдия Нерона (что на сабинском диалекте означает «сильный»), который разгромил Гасдрубала, когда тот пришел из Испании, чтобы объединить свое войско с войском брата, великого Ганнибала.[19] Эти трое были не только храбры и мудры, они были добродетельны. Автор баллады говорит также, что среди женщин рода Клавдиев тоже есть сладкие яблоки и кислица, и кислицы больше.
41 г. до н. э.
Мой дед был одним из лучших Клавдиев. Полагая, что Юлий Цезарь — единственный, у кого в ту тяжелую пору хватит силы обеспечить Риму мир и безопасность, дед присоединился к партии цезарианцев и храбро бился на стороне Юлия во время войны с Египтом.[20] Но заподозрив, что Юлий стремится к личной власти, дед не пожелал содействовать его честолюбивым замыслам, хотя и не мог рискнуть пойти на открытый разрыв. Поэтому он попросил назначить его понтификом[21] и был в этом качестве отправлен во Францию, чтобы основывать там колонии из солдат-ветеранов. Вернувшись после убийства Юлия, дед навлек на себя немилость молодого Августа, приемного сына Юлия, известного тогда под именем Октавиана, и его союзника, великого Марка Антония, тем, что осмелился предложить воздать почести тираноубийцам. Ему пришлось бежать из Рима. В смутах, которые последовали за тем, он примыкал то к одной партии, то к другой — в зависимости от того, какая, по его мнению, боролась за правое дело. Одно время он был на стороне молодого Помпея,[22] затем воевал вместе с братом Марка Антония, сражался против Августа в битве при Перузии в Этрурии.[23] Но, убедившись наконец, что Август, верный памяти приемного отца и обязанный отомстить за его убийство — долг, который он выполнил без всякой пощады, — однако не таит в душе желания стать тираном и хочет вернуть народу старинные вольности, дед перешел на его сторону и поселился в Риме с моей бабкой Ливией и дядей Тиберием, которому было тогда два года. Он больше не участвовал в гражданских войнах, довольствуясь исполнением обязанностей понтифика.
Бабка Ливия была одной из худших Клавдиев. Она вполне могла бы быть своей, перевоплотившейся в нее, тезкой и родственницей, той Клавдией, сестрой Клодия Красивого, которой было предъявлено обвинение в государственной измене, потому что однажды, когда ее карету задержала уличная толпа, она воскликнула: «Ах, если бы мой брат был жив! Он пустил бы в ход хлыст, быстро бы всех разогнал». Когда один из защитников народа («трибун» по-латыни) подошел и сердито велел ей замолчать, напомнив, что ее брат из-за своего богохульства потерял римский флот, — «Тем больше оснований желать, чтобы он был жив, — отпарировала она. — Он потерял бы еще один, а не то и, дай бог, два флота и немного уменьшил бы эту мерзкую толпу». И затем добавила: «Я вижу, ты — трибун, и твоя личность, по закону, неприкосновенна, но не забывай, что мы, Клавдии, не раз секли вас, народных защитников, и будь проклята твоя неприкосновенность!» Так же точно моя бабка Ливия отзывалась о римском народе в наши времена: «Чернь и рабы! Республика всегда была вздором. Что нужно Риму, так это царь». Так, во всяком случае, она говорила деду, доказывая ему, что Марк Антоний, Август (вернее сказать, Октавиан) и Лепид (богатый, но вялый патриций), управлявшие тогда римским государством, со временем поссорятся и, если он правильно поведет игру, использует свое положение понтифика и свою репутацию человека неподкупной честности, которой он славился у всех фракций, он может стать царем. Дед сурово велел ей замолчать — еще один совет в том же духе, и он с ней разведется (по старому обычаю муж мог отослать жену обратно к родителям без публичных объяснений, вернув принесенное ею приданое, но оставив себе детей). На это бабка ничего не возразила, сделав вид, будто подчиняется ему, но с этого момента их любовь умерла. Втайне от деда она тут же принялась обольщать Августа.
38 г. до н. э.
Это не составляло труда, так как Август был молод и легко поддавался женским чарам, а Ливия тщательно изучила его вкусы; кроме того, по всеобщему признанию, она была в то время одной из трех самых красивых женщин Рима. Она выбрала Августа, сочтя, что он будет лучшим орудием для достижения ее честолюбивых целей, чем Антоний, — Лепид вообще не шел в счет, — и не остановится ни перед чем, как показали проскрипции[24] за два года до того, когда по личному приказу Августа две тысячи всадников и триста сенаторов, принадлежавших к враждебной фракции, были поголовно перебиты куда большим числом его сторонников. Увидев, что Август в ее руках, Ливия убедила его убрать Скрибонию — женщину старше него, на которой он женился из политических соображений, — сказав, будто ей известно, что Скрибония изменяет ему с близким другом моего деда. Август с готовностью поверил ей, не настаивая на подробных доказательствах. Он развелся со Скрибонией, хотя она ни в чем не была повинна, в тот самый день, когда та родила ему дочь Юлию, которую он отобрал у роженицы, прежде чем она успела взглянуть на дитя, и отдал жене одного из своих вольноотпущенников, чтобы та вскормила ее. Бабка, которой тогда было всего семнадцать, на девять лет меньше, чем Августу, пошла к деду и сказала ему:
— Теперь разводись со мной. Я на пятом месяце беременности, и отец ребенка не ты. Я поклялась, что не рожу больше ребенка трусу, и намерена сдержать эту клятву.
Дед, что бы он ни почувствовал при этом признании, сказал только:
— Позови ко мне участника прелюбодеяния, и мы обсудим с ним все это без свидетелей.
На самом деле отцом ребенка был он сам, но дед этого не знал, и когда бабка заявила, что ребенок зачат другим, он принял ее слова на веру. Дед с удивлением узнал, что обманул его не кто иной, как его мнимый, как оказалось, друг — Август, но пришел к заключению, что Ливия соблазнила его и он не устоял против ее красоты, а возможно, Август все еще имел на него зуб за некогда выдвинутое в сенате неудачное предложение наградить убийц Юлия Цезаря. Как бы то ни было, он ни в чем не упрекнул Августа и лишь сказал: «Если ты любишь эту женщину и женишься на ней как благородный человек, возьми ее, но пусть будут соблюдены приличия». Август обещал, что немедленно женится на Ливии и никогда не бросит ее, если она будет ему верна, поклявшись в том самыми страшными клятвами. И дед дал ей развод. Мне говорили, что он смотрел на ее связь с Августом как на наказание, ниспосланное ему богами за то, что однажды в Сицилии он по наущению бабки вооружил и поднял рабов против римских граждан, к тому же Ливия была из его собственного рода Клавдиев, и по этим двум причинам ему не хотелось публично ее позорить. Так что участвовал он в брачной церемонии через несколько недель после того и вручал Ливию ее будущему мужу, как сделал бы это отец, и пел со всеми свадебный гимн вовсе не из страха перед Августом. Когда я думаю о том, что дед нежно любил бабку и рисковал из-за своего великодушия быть обвиненным в трусости и сводничестве, я преисполняюсь восхищением перед его поступком.
Но Ливия не испытывала к нему благодарности, напротив, она пришла в ярость — ей показалось оскорбительным, что дед отнесся ко всему этому так спокойно и безропотно уступил ее, словно она ничего собой не представляла. И когда, спустя три месяца, Ливия родила ребенка, моего отца, она сильно разгневалась на сестру Августа Октавию, жену Марка Антония, — вторые мои дед и бабка, — за ее эпиграмму, где говорилось, что родителям везет, когда у них родятся дети через три месяца после зачатия — до сих пор так быстро вынашивали плод только кошки и суки. Не знаю, действительно ли Октавия сочинила стишок, но если и так, Ливия заставила ее дорого за это заплатить. Я все же думаю, что автором эпиграммы была не она, ведь Октавия и сама вышла за Марка Антония в то время, когда была беременна от своего умершего мужа, а, как говорит пословица, свояк свояка видит издалека. Однако Марк и Октавия вступили в брак из политических соображений, и их союз был узаконен специальным указом сената, — здесь не было страсти с одной стороны и личного честолюбия с другой. Если спросят, как получилось, что коллегия понтификов согласилась признать законность брака Августа и Ливии, ответ прост: мой дед и Август оба были понтификами, а великим понтификом был Лепид, который все делал по указке Августа.
Как только отца отняли от груди, Август отослал его в дом деда, где его воспитывали вместе с дядей Тиберием, который был старше отца на четыре года. Когда дети подросли и стали что-то понимать, дед взял их воспитание в свои руки, а не отдаст их наставнику, как было принято в те времена. Он упорно внедрял в них ненависть к тирании и преданность старинным идеалам справедливости, свободы и добродетели. Бабка Ливия никак не могла примириться с тем, что сыновей забрали из-под ее опеки, хотя они ежедневно навещали ее во дворце Августа, находившемся по соседству с их родным домом на Палатинском холме, а когда она узнала, в каком духе дед их воспитывает, ее это сильно обеспокоило.
33 г. до н. э.
Дед внезапно умер во время обеда с друзьями, и возникло подозрение, что его отравили, но дело это замяли, так как в числе гостей были Ливия и Август. В завещании дед просил Августа взять его сыновей под свое покровительство. Тиберий, которому в то время было всего девять лет, произнес на похоронах отца надгробную речь.
31 г. до н. э.
Август горячо любил свою сестру Октавию и был весьма огорчен, когда — вскоре после свадьбы — узнал, что Антоний, отправившись на Восток завоевывать Парфию, остановился по пути в Египте и возобновил свою связь с египетской царицей Клеопатрой. Еще больше он огорчился по поводу оскорбительного письма, полученного Октавией от Антония, когда она в следующем году покинула Рим, чтобы помочь ему в его военной кампании деньгами и солдатами. В письме, которое догнало ее на полпути, ей холодно приказывалось вернуться в Рим и заниматься домашними делами; однако деньги и солдат Антоний принял. Ливия в глубине души была всем этим очень довольна, так как уже в течение долгого времени прилагала усилия, чтобы посеять между Августом и Антонием вражду, а Октавия столь же усердно старалась все недоразумения сгладить. Когда Октавия вернулась в Рим, Ливия попросила Августа предложить ей оставить дом мужа и поселиться у них во дворце. Октавия отказалась отчасти потому, что не доверяла Ливии, отчасти потому, что не хотела быть причиной надвигающейся войны. Кончилось тем, что подстрекаемый Клеопатрой Антоний послал Октавии сообщение о разводе и объявил войну Августу. Это была последняя гражданская война, смертельный поединок между единственными двумя людьми, оставшимися на ногах — если я могу позволить себе эту метафору — после всеобщей баталии на всемирной арене. Правда, Лепид все еще был жив, но находился в заточении; у него не осталось ничего, кроме имени, и он был вынужден припасть к стопам Августа с мольбой о пощаде. Молодой Помпей, второе важное лицо империи, чей флот долгое время господствовал на Средиземном море, был к этому времени также побежден Августом, а затем взят в плен и убит Антонием. Поединок между Августом и Антонием оказался коротким. Антоний был наголову разбит в морской битве при Акции у берегов Греции. Он спасся бегством в Александрию, где покончил с собой, как и Клеопатра. Август присвоил все завоеванные Антонием земли на Востоке и сделался — к чему и стремилась Ливия — единственным правителем Римской державы. Октавия осталась верна интересам детей Антония — не только сына его первой жены, но даже трех детей Клеопатры, девочки и двух мальчиков, — и воспитывала их вместе со своими двумя дочерьми, одна из которых, Антония Младшая, стала моей матерью. Душевное благородство Октавии вызвало в Риме всеобщее восхищение.
Август управлял миром, а Ливия управляла Августом. Я должен здесь объяснить, чем была вызвана эта поразительная власть. Все всегда удивлялись, почему это у них нет детей, ведь бабка моя не была бесплодной, да и Август был, по слухам, отцом четырех детей, помимо Юлии, которая, без всякого сомнения, была его родной дочерью. Кроме того, все знали, что Август страшно влюблен в Ливию. Истинной причине их бездетности трудно поверить. А заключается она в том, что они так и не стали по-настоящему мужем и женой. Будучи вполне полноценным мужчиной с другими женщинами, Август оказывался бессильным, как ребенок, при сношениях, вернее, при попытке к ним, с моей бабкой. Единственным разумным объяснением этому может служить то, что Август был по природе благочестивым человеком, хотя опасности, подстерегавшие его после убийства его двоюродного деда Юлия Цезаря, вынудили Августа прибегать к жестокости и даже нарушать требования веры. Он знал, что его брак греховен, и мысль об этом, по-видимому, воздействовала на него, обуздывая его плоть.
Бабка, которой Август был нужен в первую очередь как орудие осуществления ее честолюбивых замыслов, а уж затем как любовник, была скорее рада его импотенции, чем сожалела о ней. Она увидела, что может использовать это как средство для подчинения его воли своей. Ливия бесконечно упрекала Августа за то, что он соблазнил ее и увел от любимого якобы мужа, уверяя ее в своей пылкой страсти и угрожая втайне деду, что, если он не отступится от жены, он поплатится за это как враг народа (последнее было полнейшей ложью). Да, говорила Ливия, неплохо он ее обвел вокруг пальца! Страстный воздыхатель, оказывается, вообще не мужчина: любой нищий угольщик или раб больше мужчина, чем он! Даже Юлия не его дочь, и он это знает. Единственное, на что он способен, говорила она, это ласкать да гладить, целовать да закатывать глаза, как поющий евнух. Напрасно Август доказывал, что с другими женщинами он настоящий Геркулес. Ливия или отказывалась ему верить, или обвиняла его в том, что он расточает на других женщин то, чего лишает ее. Но, чтобы о них не сплетничали, она как-то раз сделала вид, будто беременна, а затем инсценировала выкидыш. Стыд и неутоленная страсть привязывали к ней Августа крепче, чем узы, которые возникли бы, если бы их взаимное влечение друг к другу удовлетворялось каждую ночь и Ливия народила бы ему дюжину прекрасных детей. Она очень заботилась о его здоровье и удобстве и оставалась ему верна, так как не была от природы чувственна и вожделела одного — власти, и Август был так ей за это благодарен, что позволил руководить собой во всех государственных и личных делах. Старые дворцовые слуги говорили мне по секрету, что после женитьбы на бабке Август даже не смотрел ни на одну другую женщину. Однако по Риму ходили всевозможные слухи о его связях с женами и дочерьми различных знатных людей, и после его смерти, объясняя, как ей удалось полностью завладеть его чувствами, Ливия не раз утверждала, будто причиной тому была не только верность, но и то, что она никогда не препятствовала его временным увлечениям. Я полагаю, она сама распускала все эти слухи, чтобы ей было чем его упрекнуть.
Если у кого-нибудь возникнет вопрос, есть ли у меня достаточные основания для этой любопытной истории, могу ответить. Первую ее половину, касающуюся развода, я слышал из уст самой Ливии в год ее смерти. Остальное, относительно импотенции Августа, я узнал от женщины по имени Брисеида, камеристки моей матери, которая прислуживала еще бабке, и, так как ей тогда было всего семь лет, при ней не стеснялись вести разговоры, которые, как они полагали, она не могла понять. Я считаю, что мой рассказ соответствует истине, и буду и дальше так считать, пока его не заменят другим, который так же хорошо будет отвечать фактом. На мой взгляд, строка в предсказании сивиллы о «жене не жене» подтверждает мое объяснение.
Увы, я сказал еще не все. Желая спасти доброе имя Августа, я умолчал о том, что все же сейчас расскажу. Ибо, как говорит пословица, шила в мешке не утаишь. Речь идет вот о чем. Ради того, чтобы укрепить свою власть над Августом, бабка Ливия по собственному почину предоставляла в его распоряжение красивых молодых женщин всякий раз. когда замечала, что его одолевает вожделение. Она устраивала это втайне, не говоря Августу ничего ни до, ни после, не давая волю ревности, которую она как законная жена должна была, по его убеждению, испытывать, и делала все тихо, не нарушая приличий, — молодых женщин, безмолвных в присутствии императора, словно духи, явившиеся ему во сне (Ливия сама выбирала их на сирийском невольничьем рынке, так как Август предпочитал сириек), проводили ночью к нему в спальню, подав сигнал стуком в дверь и позвякиванием цепи, а рано утром с таким же сигналом уводили. То, что Ливия улаживала это так заботливо и оставалась ему верна, несмотря на его бессилие, Август, должно быть, считал доказательством самой искренней ее любви. Вы можете возразить, что Август в его положении мог утолить свой аппетит без помощи Ливии в качестве сводницы — самые прекрасные женщины мира, будь то рабыни или свободнорожденные, девицы или замужние, были готовы его ублажить. Верно, но после женитьбы на Ливии ему, как он однажды сказал, ничего не лезло в горло, хотя, возможно, это могло, напротив, означать, что сама Ливия была несъедобна.
Так что у Ливии не было оснований ревновать Августа, разве что к своей золовке, моей второй бабке, Октавии, чья добродетель вызывала у всех такое же восхищение, как ее красота. Ливии доставляло злобное удовольствие сочувствовать ей по поводу неверности Антония. Она дошла до того, что сказала, будто Октавия сама во всем виновата: нечего было так скромно одеваться и так чинно вести себя. Марк Антоний, указывала она, был человеком больших страстей, и, чтобы держать его в руках, женщина должна сочетать добродетель римской матроны с хитростями и уловками восточной куртизанки. Октавии надо было последовать примеру Клеопатры; египтянка, хоть и была старше Октавии на восемь лет и уступала ей в красоте, знала, как разжечь и как утолить похоть Антония. «Такие люди, как он, настоящие мужчины, предпочитают пикантное полезному, — нравоучительно заключала Ливия. — Для них червивый зеленый сыр вкуснее свежего творога». «Держи своих червей при себе!» — вспыхивала Октавия.
Сама Ливия одевалась очень богато и употребляла самые дорогие восточные духи, но в домашнем хозяйстве не допускала никакой расточительности и вела его, как она хвалилась, в старинном римском духе по следующим правилам: простая, но обильная пища, регулярные семейные богослужения, никаких горячих ванн после еды, постоянная работа для всех и суровая экономия. Под «всеми» понимались не только рабы и вольноотпущенники, но и каждый член семьи. Бедняжка Юлия, тогда еще девочка, должна была подавать пример прилежания. Она вела очень тоскливую жизнь. Каждый день она чесала и пряла шерсть, ткала пряжу и занималась рукоделием; даже в зимние месяцы ее поднимали с жесткой постели до рассвета, чтобы она успела выполнить все свои задания. А поскольку мачеха считала, что девушки должны получать широкое общее образование, Юлии было велено, помимо всего прочего, выучить наизусть гомеровские «Илиаду» и «Одиссею».
Юлия должна была также для удобства Ливии вести дневник, где записывалось, какую она сделала работу, какие прочитала книги, какие вела разговоры и так далее, что было для девушки большим бременем. Ей не разрешалось заводить знакомство с мужчинами, хотя те не раз поднимали чаши в честь ее красоты. Один юноша из старинного рода, сын консула, известный безупречным поведением, набрался смелости представиться ей однажды в Байях под каким-то учтивым предлогом, когда она совершала свою ежедневную получасовую прогулку у моря в сопровождении одной лишь дуэньи. Ливия, завидующая красоте Юлии и любви к ней Августа, отправила юноше очень суровое письмо, где говорилось, что ему нечего и ждать какого-либо общественного поста от отца девушки, чье доброе имя он пытался запятнать своим недопустимо фамильярным поступком. Саму Юлию также наказали — не разрешили выходить за пределы сада при вилле. Примерно в это время Юлия совершенно облысела. Я не знаю, приложила ли к этому руку Ливия, вполне возможно, что да, хотя, спору нет, в роду Цезарей все рано лысели. Так или иначе, Август нашел египетского мастера, который сделал ей великолепный белокурый парик, так что ее несчастье не только не уменьшило, а, напротив, усилило ее чары — свои волосы были у нее не очень хороши. Говорили, будто парик сделан не так, как обычно, на волосяной сетке, а представляет собой целый скальп, содранный с головы дочери одного из германских вождей и пригнанный по голове Юлии; а чтобы он оставался живым и мягким, в него время от времени втирали специальную мазь. Но должен сказать, что я этому не верю.
Все знали, что Ливия держит Августа в строгости, пусть и не в страхе, и он старается ни в коем случае ничем не обидеть ее. Однажды Август в качестве цензора выговаривал нескольким богатым римлянам за то, что они разрешают своим женам увешивать себя драгоценностями.[25]
— Женщине не подобает, — сказал он, — слишком богато одеваться. Долг мужа — отвратить жену от роскоши.
Увлеченный собственным красноречием, он, к сожалению, добавил:
— Мне иногда приходится журить за это собственную жену.
С уст провинившихся сорвался восторженный крик:
— О, Август, — воскликнули они, — скажи нам, какими именно словами ты журишь Ливию? Это послужит нам образцом.
Август был смущен и напуган.
— Вы неправильно меня поняли, — промолвил он, — я вовсе не говорил, что у меня когда-либо был повод упрекать Ливию. Как вы все прекрасно знаете, она образец женской скромности. Но я, разумеется, не колеблясь сделал бы ей замечание, если бы она забыла свое достоинство и по примеру ваших жен нарядилась подобно александрийской танцорке, которая, благодаря капризу судьбы, стала вдовствующей царицей Армении.
В тот же самый вечер Ливия не преминула поставить Августа на место, явившись к обеду в самом фантастически роскошном одеянии, какое только смогла найти, — его основной частью было одно из платьев Клеопатры для торжественных церемоний. Но Август хорошо вышел из неловкого положения, похвалив Ливию за остроумную и своевременную пародию на тот недостаток, который он порицал.
Ливия стала умнее с тех пор, когда она советовала моему деду надеть на голову венец и объявить себя царем. Титул «царь» все еще вызывал ненависть в Риме из-за непопулярной династии Тарквиниев, с которой, согласно легенде, покончил первый Брут (я называю его так, чтобы вы не спутали его со вторым Брутом, убившим Юлия Цезаря), изгнав царскую фамилию из Рима и став одним из первых двух консулов римской республики. Ливия уже поняла, что до тех пор, пока Август будет держать кормило власти, с самим титулом можно и подождать. Следуя ее совету, Август постепенно сосредоточил в своих руках все высшие должности республики. Он был консулом, а когда передал консульские полномочия надежному другу, сделался принцепсом, что, хотя номинально считалось равным консульству, было на практике выше него, да и любого другого государственного поста. Под наблюдением Августа находились также все провинции, он назначал туда губернаторов, стоял во главе всех армий и имел прерогативу набирать рекрутов, объявлять войну и заключать мир. Его избрали пожизненно народным трибуном Рима, что позволяло ему беспрепятственно пользоваться своими полномочиями, давало право накладывать вето на решения других должностных лиц и обеспечивало личную неприкосновенность. Титул «император», который означал просто «главнокомандующий», а в последнее время стал означать «верховный правитель», Август делил с другими удачливыми военачальниками. Он занимал также должность цензора, что давало ему власть над двумя главными сословиями: сенаторов и всадников; сославшись на то, что тот или иной член этих сословий совершил аморальный поступок. Август мог лишить его звания и связанных с ним привилегий, что считалось несмываемым позором. В ведении Августа была государственная казна; предполагалось, что через определенные промежутки времени он будет делать отчеты, но никто ни разу не отважился потребовать ревизии, хотя всем было известно о постоянном «уплывании» денег из государственной казны в императорскую.
Таким образом, Август распоряжался армией, держал под контролем законы (ибо его влияние на сенат было таково, что сенаторы принимали все, что бы он ни предложил), государственные финансы и общественные нравы, к тому же пользовался личной неприкосновенностью. Август даже имел право приговаривать любого из римских граждан от пахаря до сенатора к смерти или пожизненному изгнанию. Последний высокий титул, который он присвоил себе, был титул великого понтифика, что позволяло ему подчинить своему влиянию всю религиозную систему Рима. Сенат был готов даровать Августу любой титул — только пожелай, — кроме титула «царь»; они бы и на это пошли, если бы не страх перед народом. Самому Августу хотелось бы зваться Ромулом, но Ливия отговорила его от этого. Она доказывала ему, что Ромул был царем и поэтому принимать это имя опасно, к тому же он входил в число божеств — покровителей Рима, и если Август возьмет его имя, это могут счесть кощунством. (Думала-то она другое — что имя «Ромул» недостаточно хорошо. Кто он был? Обыкновенный вожак разбойников и один из второстепенных богов.) Поэтому, последовав ее совету. Август, звавшийся до тех пор Октавианом, дал знать сенату, что ему было бы приятно получить имя «Август». Его желание тут же было удовлетворено. Имя это в переводе означает «священный». Разве мог с ним сравниться обыкновенный титул «царь»?
Сколько царей платили дань Августу! Сколько их прошло в цепях за его триумфальной колесницей! Разве верховный царь далекой Индии, прослышав о славе Августа, не отправил в Рим послов с подарками — шелками и благовониями, рубинами, изумрудами и сардониксами, тиграми, впервые увиденными тогда в Европе, и Гермесом, знаменитым безруким мальчиком, умевшим делать необыкновенные вещи ногами, — чтобы умилостивить его, и не просил Августа о дружбе и покровительстве? Разве Август не оборвал династию египетских царей, которая возникла не меньше чем за пять тысяч лет до возникновения Рима? А какие только чудовищные предзнаменования не возникали, когда произошло это роковое вмешательство в историю! Разве не доносился из туч лязг оружия, не шел кровавый дождь? Разве на главной улице Александрии не возникла вдруг гигантская змея, издавая неправдоподобно громкое шипение? Разве не явились людям призраки мертвых фараонов? Разве не хмурились их изваяния? Разве Апис, священный бык Мемфиса, не разразился слезами, жалобно мыча?..[26] Так моя бабка рассуждала сама с собой.
Большинство женщин вообще не честолюбивы, те немногие, кто честолюбив, не переходят границ дозволенного. Но Ливия была единственной в своем роде: ее честолюбие вообще не знало границ, и при этом она оставалась абсолютно хладнокровной и уравновешенной, делая шаги, за которые любую другую женщину сочли бы безумной. Даже я, имевший такую прекрасную возможность наблюдать за ней, лишь постепенно стал догадываться, и то в общих чертах, каковы ее настоящие планы. При всем том, когда это наконец полностью обнаружилось, я был потрясен. Но, пожалуй, все же лучше перечислить поступки Ливии в исторической последовательности, не задерживаясь подробно на ее скрытых мотивах.
По ее совету Август убедил сенат создать два новых божества, а именно: богиню Рому, олицетворяющую женскую душу римской империи, и полубога Юлия, воинственного героя, обожествленного Юлия Цезаря (то, что Юлий при жизни не отказался от божественных почестей, предложенных ему на востоке, было одной из причин его убийства). Август знал цену религиозным узам, связывающим провинцию с Римом, узам куда более крепким, чем страх или благодарность. Нередко случалось, что, прожив много лет в Египте или в Малой Азии, даже урожденные римляне начинали поклоняться местным богам и забывали своих собственных, становясь тем самым чужестранцами во всем, кроме имени. С другой стороны, Рим ввез к себе столько религий из завоеванных стран, предоставляя — и не только ради удобства приезжающих в Рим гостей — пришлым богам, таким, как Изида и Кибела, великолепные храмы в самом городе, что было вполне резонно и справедливо в обмен внедрить в чужих городах своих богов.[27] Рома и Юлий должны были служить кумирами для тех жителей провинций, которые были римскими гражданами и не хотели забывать о своем национальном наследии.
Следующим шагом Ливии было организовать приезд делегаций от тех жителей провинций, которым не посчастливилось получить в Риме полное право гражданства, с просьбой дать им какого-нибудь римского бога, которому они могли бы смиренно и преданно поклоняться. По совету Ливии Август полушутя сказал сенату, что, хотя этим беднягам, само собой, невозможно разрешить поклоняться таким божествам, как Рома и Юлий, нельзя их оставлять совсем без бога, пусть самого скромного. На это Меценат, один из приближенных Августа,[28] с которым тот в свое время обсуждал целесообразность принятия имени Ромул, сказал: «Давайте дадим им бога, который хорошо приглядит за ними. Давайте дадим им самого Августа». Август несколько смутился, но признал, что предложение Мецената разумно. Почему бы не обратить на пользу Риму укоренившийся у восточных народов обычай воздавать божественные почести своим правителям? А поскольку поклоняться всему сенату вряд ли возможно — не помещать же шестьсот статуй в каждом из их храмов, — единственным выходом для них было поклоняться тому, кто проводит в жизнь решения сената, первому среди равных, которым случайно оказался он сам. И сенаторы, чувствуя себя польщенными тем, что в каждом из них есть хоть одна шестисотая божества, дружно приняли предложение Мецената. В Малой Азии тут же были воздвигнуты храмы Августу. Правда, культ его стал распространяться сперва только в пограничных провинциях, которые были под прямым контролем императора; ни во внутренних провинциях, номинально находившихся под контролем сената, ни в самом Риме он не привился.
Август одобрял то, как Ливия воспитывает Юлию, как бережливо ведет домашнее хозяйство. У него самого были простые вкусы. Август не ощущал разницы между свежим оливковым маслом и последними прогорклыми выжимками, когда оливки в третий раз идут под пресс. Он носил одежду из домотканой ткани. Вполне справедливо считалось, что пусть Ливия и была фурией, если бы не ее неустанная деятельность, Август ни за что не смог бы выполнить взятую им на себя колоссальную задачу: вернуть Риму мир и безопасность, отнятые долгими и бедственными гражданскими войнами, в которых сам он, спору нет, сыграл такую роковую роль. Август трудился четырнадцать часов в сутки, но Ливия, как утверждали, все двадцать четыре. Она не только, как я уже упоминал, умело вела огромное домашнее хозяйство, но наравне с Августом участвовала во всех государственных делах. Полный отчет о правовых, социальных, административных, религиозных и военных реформах, которые они провели совместными усилиями, не говоря уж об общественных работах, которые они предприняли, о храмах, которые воздвигли, колониях, которые основали, занял бы много томов. И все же многие выдающиеся граждане Рима, принадлежавшие к старшему поколению, не могли забыть, что это, казалось бы, превосходное переустройство государства стало возможным лишь благодаря военному поражению, тайным убийствам и публичным казням почти всех тех, кто не подчинился нашей энергичной паре. Если бы их деспотизм не был замаскирован старинными формами «свободного» правления, Ливии с Августом ни за что не удалось бы надолго удержать власть в своих руках. Даже при существующих порядках нашлись претенденты на роль Брута — на жизнь Августа было совершено четыре покушения.
Глава III
Имя «Ливия» одного корня с латинским словом, означающим «злобность». Моя бабка была превосходная актриса, и внешняя благопристойность ее поведения, острота ума и любезные манеры обманывали почти всех. Но никто по-настоящему ее не любил: злобность внушает страх, а не симпатию. В ее присутствии обыкновенные беспечные и добродушные люди остро ощущали свои недостатки — она умела ткнуть пальцем в их слабые места. Я должен попросить прощения за то, что продолжаю писать о Ливии, но это неизбежно: как все честные римские историки, я пишу «от яйца до яблок»,[29] я предпочитаю наш тщательный метод, при котором ничто не упускается, методу Гомера и прочих греков, которые кидаются в самую гущу событий, а уж оттуда идут вперед или назад, как им вздумается. Не скрою, у меня нередко возникала мысль переписать заново историю Троянской войны латинской прозой для наших более бедных граждан, не умеющих читать по-гречески, начав с яйца, из которого вылупилась Елена,[30] и двигаясь глава за главой, пока не дойду до яблок, поданных на десерт на празднике в честь возвращения Улисса[31] и его победы над женихами жены. В тех местах, где Гомер непонятен или умалчивает о чем-то, я бы обращался к более поздним поэтам или к более раннему повествованию жреца Дареса,[32] которое, хоть и полно поэтических вымыслов, на мой взгляд, достовернее, чем рассказ Гомера, потому что Дарес лично принимал участие в войне, сперва на стороне троянцев, затем — греков.
Я однажды видел странную картину на внутренней стороне крышки старого кедрового сундука, привезенного, кажется, откуда-то из северной Сирии. Надпись по-гречески гласила: «Отрава царит над миром». А лицо Отравы, хотя и нарисованное за сто лет до рождения Ливии, было, бесспорно, ее лицом. В этой связи я должен написать о Марцелле, сыне Октавии от прежнего брака. Август, очень любивший Марцелла, усыновил его, задолго до положенного возраста назначал на административные посты и женил на Юлии. По общему мнению римлян, он намеревался сделать Марцелла своим преемником. Ливия не возражала против усыновления, напротив — искренно приветствовала этот шаг, дающий ей больше возможности завоевать любовь и доверие Марцелла. Ее привязанность к юноше ни у кого не вызывала сомнений. Именно Ливия посоветовала Августу назначать его раньше срока на высокие должности, и Марцелл, который знал об этом, был весьма ей благодарен.[33]
Некоторые проницательные люди думали, что Ливия покровительствует Марцеллу, чтобы вызвать ревность Агриппы — второго после Августа человека в Риме. Хотя и низкого происхождения, он был старинным другом Августа и весьма удачливым военачальником и флотоводцем. До сих пор Ливия делала все возможное, чтобы заручиться его дружбой и поддержкой. Агриппа был честолюбив, но до известных пределов, он никогда не осмелился бы соперничать с Августом, которым от души восхищался, и быть его доверенным министром являлось для Агриппы венцом желаний. К тому же он никогда не забывал о своем скромном происхождении, и изображая перед ним величественную патрицианку, Ливия оставалась хозяйкой положения. Его значение для Ливии и Августа не ограничивалось только его службой, преданностью и популярностью у народа и сената. Дело обстояло так: согласно выдумке самой Ливии, считалось, будто Агриппа в интересах всей нации следит за политическим курсом Августа. Во время знаменитых дебатов между Августом и его двумя ближайшими друзьями Агриппой и Меценатом, инсценированных в сенате после низвержения Антония, Агриппа действительно делал вид, будто не советует Августу присваивать себе единоличную верховную власть, но лишь для того, чтобы аргументы Мецената и восторженные просьбы сенаторов взяли верх над его возражениями. Тогда Агриппа заявил, что будет верно служить Августу до тех пор, пока его владычество не перестанет приносить пользу Риму и не перейдет в деспотию. С тех пор на него смотрели как на надежный оплот против тирании, и с чем соглашался Агриппа, с тем соглашалась нация. Так что теперь те же проницательные наблюдатели считали, что, разжигая зависть Агриппы к Марцеллу, Ливия играет с огнем, и все происходящее вызывало в Риме живейший интерес. Впрочем, возможно, привязанность Ливии к Марцеллу была притворной, и на самом деле она хотела побудить Агриппу убрать Марцелла со своего пути. Ходили слухи, будто один из приверженцев Агриппы и его родич предложил, что он затеет ссору с Марцеллом и убьет его, но Агриппа, хотя и был раздражен, как хотела того Ливия, оказался слишком благороден, чтобы принять его низкое предложение.
Никто не сомневался в том, что Август назначит Марцелла своим преемником и что тот не только унаследует его колоссальное богатство, но и монархию (как иначе я могу это назвать?) в придачу. Поэтому Агриппа заявил, что при всей его преданности Августу — а он никогда не сожалел о своем решении поддерживать его, — существует одно, чего он как гражданин и патриот не может допустить, а именно: наследственной монархии. Но Марцелл к тому времени был почти так же популярен, как Агриппа, и многие юноши из знатных семейств, для которых вопрос «империя или республика?» давно казался теоретическим, старались снискать его расположение, надеясь получить от него почести и важные посты, когда он сменит Августа. Эта всеобщая готовность приветствовать преемственность единовластия, по-видимому, радовала Ливию, но в узком кругу она сказала, что в том прискорбном случае, если смерть заберет у них Августа или его обязанности станут для него слишком обременительны, ведение государственных дел до того момента, как их возьмет в свои руки сенат, должно быть возложено на более опытного человека, чем Марцелл. Однако Марцелл пользовался такой любовью Августа, что, хотя обычно приватные высказывания Ливии претворялись в публичные эдикты, в данном случае на ее слова не обратили внимания, и все больше людей добивалось благоволения Марцелла.
23 г. до н. э.
Проницательные наблюдатели задавались вопросом, как Ливия поступит при этих обстоятельствах, но удача, видимо, была на ее стороне: Август слегка простудился, болезнь его приняла неожиданный оборот, его лихорадило и рвало; во время этой болезни Ливия готовила ему еду собственными руками, но желудок его настолько ослаб, что ничего не мог удержать. С каждым днем Август терял силы и наконец понял, что находится на пороге смерти. Его не раз просили назвать имя наследника, но он воздерживался из страха перед политическими последствиями, а также потому, что гнал от себя мысль о собственном конце. Однако теперь он чувствовал, что долг предписывает ему это сделать, и попросил у Ливии совета. Он сказал, что болезнь лишила его способности здраво рассуждать, он согласится на любого преемника, в пределах разумного, которого она ему укажет. Поэтому она приняла решение за него, и Август не стал возражать. Затем Ливия позвала к его постели второго консула, городских судей и некоторых сенаторов и всадников в качестве представителей своих сословий. Август был слишком слаб, чтобы говорить, но протянул консулу реестр сухопутных и морских военных сил и официальный отчет о государственных доходах, а затем подозвал к себе кивком Агриппу и передал ему свой перстень с печаткой, тем самым молчаливо признав его своим наследником, пусть даже править ему надлежало в тесном сотрудничестве с консулами. Это было большой неожиданностью. Все думали, что выбран будет Марцелл.
И с этого момента Август стал таинственным образом поправляться, лихорадка спала, желудок начал принимать пищу. Однако в заслугу это поставили не Ливии, которая продолжала за ним ухаживать, а некоему доктору по имени Муза, у которого был безобидный пунктик относительно холодных примочек и холодных микстур. Август был так благодарен ему за его мнимые услуги, что наградил Музу золотыми монетами в количестве, равном его весу, а сенат это количество еще удвоил. И хотя Муза был вольноотпущенник, его произвели в ранг всадника, что давало ему право носить золотое кольцо и претендовать на общественные должности. Сенат же принял еще более нелепый декрет, по которому всех лекарей освобождали от налогов.
Марцелл крайне оскорбился тем, что его обошли. Он был очень молод, ему еще и двадцати не исполнилось. Предыдущие милости Августа привели к тому, что Марцелл переоценил как свои таланты, так и политический вес. Он попытался отыграться, ведя себя подчеркнуто грубо по отношению к Агриппе на публичном пиру. Агриппа, хотя и с трудом, сдержался, чтобы не ответить, но так как инцидент этот остался без последствий, сторонники Марцелла подумали, будто Агриппа его боится. Они даже стали толковать между собой о том, что, если в ближайшие год-два Август не переменит свое решение, Марцелл силой захватит у него императорскую власть. Они вели себя так шумно и хвастливо, а Марцелл так мало делал, чтобы их обуздать, что между ними и приверженцами Агриппы то и дело возникали ссоры. Агриппу раздражала наглость «этого щенка», как он называл Марцелла, — разве не он, Агриппа, занимал чуть не все государственные посты, не он выиграл множество баталий? Но к его раздражению примешивался испуг. В результате всех этих стычек создавалось впечатление, что они с Марцеллом, вопреки приличиям, спорят, кто из них будет носить перстень с печаткой, когда Август умрет.
Агриппа был готов принести чуть не любую жертву, лишь бы не создалась видимость, будто он играет такую роль. Обидчиком был Марцелл, пусть он и выпутывается, как сумеет. Агриппа решил удалиться из Рима. Он отправился к Августу и попросил назначить его губернатором Сирии. Когда Август поинтересовался, чем вызвана его неожиданная просьба, Агриппа объяснил, что надеется в этом качестве заключить важное соглашение с царем Парфии. Он постарается вернуть полковых орлов и пленников, взятых у римлян тридцать лет назад, в обмен на царского сына, которого Август держал в Риме в качестве заложника.[34] О ссоре с Марцеллом Агриппа не сказал ни слова. Августа и самого эта ссора весьма тревожила, но, раздираемый между давней дружбой с Агриппой и слепой родительской любовью к Марцеллу, он не признался даже себе самому в том, как благородно поступает Агриппа, ибо тогда ему пришлось бы признаться в собственной слабости, и также промолчал. Он поспешил согласиться на просьбу Агриппы, сказав, что им очень важно получить обратно орлов и пленников, если кто-нибудь из них еще остался в живых, и спросил, когда Агриппа будет готов выехать. Агриппа обиделся, неправильно истолковав его поведение. Он подумал, будто Август рад избавиться от него, поверив, что он на самом деле соперничает с Марцеллом из-за престола. Агриппа поблагодарил Августа за то, что тот согласился на его просьбу, холодно заверил его в своей дружбе и верности и сказал, что готов отплыть хоть на следующий день.
Но отправился Агриппа не в Сирию. Он доплыл всего лишь до Лесбоса, послав предварительно в Сирию своих заместителей, чтобы те вместо него управляли провинцией. Агриппа знал, что его пребывание на Лесбосе будет расценено как ссылка за ссору с Марцеллом, но не поехал в Сирию, так как в противном случае это дало бы сторонникам Марцелла повод говорить, будто он поехал на Восток, чтобы собрать армию и пойти походом на Рим. Агриппа искренне верил, что Марцелл намерен узурпировать монархию, и льстил себя надеждой, что Августу скоро понадобятся его услуги. Лесбос отвечал его целям, так как находился недалеко от Рима. Агриппа не забыл о своем обещании и начал через посредников переговоры с царем Парфии, однако не торопился с их завершением. Требуется немало времени и терпения, чтобы заключить выгодную сделку с восточным правителем.
Марцелла избрали городским судьей — его первый официальный пост, — и он устроил по этому случаю великолепные публичные игры. Он не только приказал покрыть навесом от солнцепека и дождя все театры и увесить их роскошными тканями, но воздвиг на рыночной площади гигантский многоцветный шатер, что создавало великолепный эффект, особенно если смотреть изнутри, когда стены и крышу шатра пронизывали солнечные лучи. На это ушло баснословное количество красной, желтой и зеленой материи, которую после окончания игр разрезали на куски и раздали гражданам на одежду и постельное белье. Из Африки привезли для травли в амфитеатре множество диких зверей, в том числе львов. Был также бой между пятьюдесятью германскими пленниками и равным числом черных воинов из Марокко. Август взял на себя значительную часть издержек, так же как и Октавия, мать Марцелла. Когда Октавия появилась в торжественной процессии, ее приветствовали столь оглушительными овациями, что Ливия с трудом сдержала слезы зависти и гнева. Через два дня Марцелл заболел. Симптомы его болезни были в точности такими же, как у Августа во время его последней болезни, так что, естественно, послали за Музой. Муза стал невероятно богат и известен, брал по тысяче золотых за визит и то приходил к больному из милости. Во всех случаях, когда болезнь не зашла слишком далеко, одного его имени было достаточно для немедленного исцеления, а люди ставили это в заслугу примочкам и микстурам, рецепт которых он держал в строжайшей тайне. Вера Августа в Музу была столь велика, что он не придал особого значения болезни Марцелла. и игры продолжались. Но почему-то, несмотря на неослабный уход Ливии и самые холодные примочки и микстуры Музы, Марцелл умер. Горе Октавии и Августа было безгранично; весь Рим оплакивал эту смерть как общественное бедствие. Однако было немало рассудительных людей, которые не сожалели об исчезновении Марцелла. Они не сомневались в том, что умри Август, Марцелл попытался бы занять его место и между ним и Агриппой началась бы гражданская война, а теперь Агриппа был единственным реальным наследником. Но они не взяли в расчет Ливию, твердым намерением которой в случае смерти Августа было… Клавдий, Клавдии, ты же говорил, что не будешь упоминать о мотивах Ливии и обещал только перечислять ее поступки… твердым намерением которой было в случае смерти Августа продолжать править империей, избрав орудием для этого моего дядю Тиберия, а в помощь ему — моего отца. Надо только, чтобы Август усыновил их и они стали его наследниками, а уж это она провернет.
После смерти Марцелла ничто не мешало Тиберию жениться на Юлии, и планы Ливии легко могли бы осуществиться, если бы в Риме не вспыхнули политические беспорядки — толпа требовала восстановления республики. Когда Ливия попыталась обратиться к народу с дворцовой лестницы, ее закидали грязью и тухлыми яйцами. Августа в то время в Риме не было, он вместе с Меценатом объезжал восточные провинции; письмо Ливии нагнало его в Афинах. Она писала коротко, в спешке, что положение в Риме из рук вон плохо и что надо любой ценой добиться помощи Агриппы. Август тут же вызвал Агриппу с Лесбоса и стал умолять его по имя давней дружбы поехать вместе с ним в Рим и вернуть пошатнувшееся доверие народа. Но Агриппа слишком долго вынашивал обиду, чтобы быть сейчас благодарным Августу за то, что тот его наконец призвал. Гордость не позволяла ему пойти на примирение. За три года Август написал ему всего три письма, да и те в весьма официальном тоне, и не пригласил его обратно после смерти Марцелла. С чего бы ему помогать теперь Августу? На самом деле виновата в их разрыве была Ливия, она ошиблась в оценке политической ситуации и поторопилась отстранить Агриппу. Она даже намекнула Августу, что Агриппа, хоть и находится за пределами Рима, на Лесбосе, знает больше, чем многие другие, о таинственной и роковой болезни Марцелла; кто-то ей говорил, утверждала она, будто, когда Агриппе сообщили печальное известие, он не выказал ни удивления, ни скорби. Теперь Агриппа сказал Августу, что он давно не был в Риме и не в курсе политических дел, — вряд ли он сможет взять на себя то, о чем его просят. Август, опасаясь, что, в теперешнем своем настроении вернувшись в Рим, Агриппа скорее выступит в качестве поборника народных свобод, чем защитника единовластия, отпустил его, любезно выразив свое сожаление, и поспешно призвал Мецената, желая посоветоваться с ним. Меценат попросил разрешения переговорить с Агриппой от имени Августа, чтобы попытаться узнать, на каких условиях он выполнит то, чего от него хотят. Август ради всех богов умолял Мецената сделать это «быстрее, чем спаржа варится» (его любимое выражение). Поэтому Меценат отвел Агриппу в сторону и сказал:
— Ну, дружище, признайся, чего тебе надо. Я понимаю, ты считаешь, будто с тобой плохо обошлись, но, уверяю тебя, у Августа есть все основания полагать, что ты в равной мере его обидел. Разве ты хорошо поступил, все от него скрыв? Ты оскорбил этим и его чувство справедливости, и его чувство дружбы к тебе. Если бы ты объяснил ему, что сторонники Марцелла поставили тебя в крайне неловкое положение, а сам Марцелл задел твою честь, — клянусь, Август ничего о том не знал до вчерашнего дня, — он сделал бы все возможное, чтобы уладить дело миром. Честно говоря, ты вел себя как капризный ребенок, который чуть что надувает губы, а Август отнесся к тебе как отец, который не склонен этому потакать. Ты говоришь, он писал тебе холодные письма? А твои что — были нежны? А как ты с ним попрощался? Я хочу стать между вами посредником, потому что, если разрыв будет продолжаться, это приведет всех нас к гибели. Вы оба горячо любите друг друга, и как же иначе, ведь вы — два величайших римлянина наших дней. Август сказал мне, что, стоит тебе выказать былое прямодушие, он с радостью возобновит вашу дружбу и будет с тобой в прежних отношениях и даже еще более близких.
— Он так сказал?
— Его собственные слова. Разреши мне передать Августу твои сожаления по поводу того, что ты оскорбил его, и объяснить, что все это было недоразумением и ты покинул Рим, так как думал, будто он знает о той обиде, которую Марцелл нанес тебе на пиру. И что теперь ты, со своей стороны, горячо стремишься загладить урон, который причинил вашей дружбе, и надеешься, что Август пойдет тебе навстречу.
Агриппа:
— Меценат, ты — прекрасный человек и настоящий друг. Скажи Августу, что я, как всегда, в его распоряжении.
Меценат:
— Передам это ему с величайшим удовольствием. И добавлю, что, по моему личному мнению, небезопасно посылать тебя в Рим, чтобы восстановить там порядок, не выказав каким-либо особым образом своего личного доверия.
Затем Меценат отправился к Августу.
— Я умаслил его. Он сделает все, что ты желаешь. Но, как ребенок, ревнующий отца к другому ребенку, он хочет быть уверенным в твоей любви. Я думаю, единственное, что его удовлетворит, — это твое согласие на его брак с Юлией.
Решать надо было быстро. Август вспомнил, что Агриппа и его жена, сестра Марцелла, были в плохих отношениях со времени ссоры с Марцеллом и что про Агриппу говорили, будто он влюблен в Юлию. Август жалел, что с ним нет Ливии, чтобы дать ему совет, но медлить было нельзя: если он сейчас обидит Агриппу, он никогда не сможет вернуть его поддержки. Ливия написала, что помощи Агриппы надо добиться «любой ценой», — это развязывало ему руки, он мог принимать те меры, какие считал нужными. Август снова послал за Агриппой, и они разыграли величественную сцену примирения. Если Агриппа согласится взять в жены его дочь, сказал Август, это будет для него, Августа, доказательством, что их дружба, которую он ценит превыше всего на свете, держится на крепкой основе. Агриппа ронял радостные слезы и просил прощения за свои проступки. Он попытается быть достойным любви и великодушия Августа, сказал он.
21 г. до н. э.
Агриппа вернулся вместе с Августом в Рим, немедленно развелся с женой и женился на Юлии. Брак этот вызвал у всех такое одобрение, а празднество, устроенное на широкую ногу, прошло с таким великолепием, что политические беспорядки тут же прекратились. К тому же в заслугу Августу поставили и то, что Агриппа успешно довел до конца переговоры о возвращении полковых орлов, которые официально передали Тиберию как личному представителю Августа. Орлы были священными предметами, более священными для римских сердец, чем мраморные статуи богов. Вернулось также несколько пленных, но после тридцатидвухлетнего отсутствия их вряд ли стоило с этим поздравлять; большинство из них предпочло остаться в Парфии, где они прочно обосновались и взяли в жены местных женщин.
12 г. до н. э.
Ливия отнюдь не была довольна сделкой, заключенной с Агриппой, единственным плюсом которой был позор, навлеченный на Октавию разводом ее дочери. Но бабка скрыла свои чувства. Прошло девять лет, прежде чем они смогли обойтись без услуг Агриппы. Тогда он неожиданно умер в своем загородном доме. Август в то время был в Греции, поэтому не провели ни дознания, ни вскрытия. Агриппа оставил много детей: трех мальчиков и двух девочек; все они являлись законными наследниками Августа, и Ливия понимала, что Август вряд ли легко поступится их интересами ради ее сыновей. Как бы там ни было, Тиберий женился на Юлии, которая облегчила для Ливии дело тем, что влюбилась в него и умоляла Августа замолвить за нее словечко перед Тиберием. Август согласился только потому, что Юлия угрожала в противном случае покончить с собой. Тиберию была ненавистна сама мысль о женитьбе на Юлии, но он не осмеливался возражать. Он был вынужден развестись со своей женой Випсанией, дочерью Агриппы от первого брака, которую он страстно любил. Однажды, уже после женитьбы на Юлии, встретив Випсанию случайно на улице, Тиберий долго смотрел ей вслед с такой безнадежной тоской, что Август, услышав об этом, приказал, ради соблюдения приличий, больше встреч между ними не допускать. Челядь из того и другого дома должна была следить, чтобы Тиберий никогда больше не видел свою бывшую жену. Випсания вскоре вышла замуж за честолюбивого молодого патриция по имени Галл. Кстати, я чуть было не забыл упомянуть о женитьбе моего отца на моей матери Антонии, младшей дочери Марка Антония и Октавии. Это случилось в тот же год, когда заболел Август и умер Марцелл.
Мой дядя Тиберий принадлежал к числу дурных Клавдиев. Он был угрюмый, скрытный и жестокий, но существовало три человека, которые влияли на него и держали в узле эти черты его характера. Первый из них — мой отец, один из лучших Клавдиев, жизнерадостный, открытый и великодушный; второй — Август, честный, веселый и доброжелательный человек, который, хоть и не любил Тиберия, хорошо относился к нему ради его матери; и, наконец, — Випсания. Влияние моего отца ослабло, когда братья смогли по возрасту принять участие в военных кампаниях и были отправлены сражаться в разных частях империи. Затем наступила разлука с Випсанией, за чем последовало охлаждение Августа, обиженного плохо скрываемой неприязнью Тиберия к Юлии. Лишенный их влияния, Тиберий мало-помалу совсем морально опустился.
Я думаю, сейчас самое время описать его внешность. Это был высокий, черноволосый, белолицый мужчина грузного сложения, с широченными плечами и такими сильными руками, что он давил ими орехи и мог проткнуть насквозь зеленое яблоко с жесткой кожурой указательным и большим пальцем. Если бы движения его не были так медлительны, он мог бы стать чемпионом по кулачному бою. Однажды в дружеской схватке он голыми руками, без ремней с металлическими пластинами, убил приятеля ударом по голове, от которого у того раскололся череп. Ходил он слегка вытянув шею вперед, опустив глаза в землю. Тиберий был бы хорош собой, если бы не множество прыщей, глаза навыкате и нахмуренные брови. На статуях эти недостатки не видны, поэтому он кажется на редкость красивым. Говорил он мало и медленно, так что, беседуя с ним, людям не терпелось одновременно закончить за него фразу и ответить на нее. Но при желании Тиберий мог произнести эффектную публичную речь. Он рано облысел, а оставшиеся на затылке волосы носил длинными, как было в моде у древней знати. Он никогда не болел.
Тиберий не пользовался популярностью в римском обществе, зато был весьма удачливым полководцем. Он возродил ряд стародавних дисциплинарных взысканий, но, поскольку он не жалел себя во время походов, редко спал в палатке, пил и ел то же, что и все остальные, и всегда сам возглавлял атаки, солдаты предпочитали служить под его началом, а не под началом какого-нибудь добродушного и беспечного командира, полководческому искусству которого они не так доверяли. Тиберий никогда не улыбался солдатам и не хвалил их и часто перегружал работой и муштрой. «Пусть ненавидят меня, — сказал он однажды, — лишь бы повиновались».[35] Он держал полковников и полковых офицеров в такой же строгости, как солдат, так что никто не мог пожаловаться на его пристрастность. К тому же служить под его командой было и выгодно, так как, захватив вражеские лагеря и города, он обычно отдавал их своему войску на разграбление. Тиберий с успехом вел войны в Армении, Парфии, Германии, Испании, Далмации, в Альпах и во Франции.
Мой отец, говорю еще раз, был одним из лучших Клавдиев. Такой же сильный, как его брат, он был куда красивее его, быстрее в речи и движениях и ничуть не менее удачлив как полководец. Он относился к солдатам как к римским гражданам, а следовательно, равным себе во всем, кроме ранга и воспитания. Ему было тягостно наказывать их, и он отдавал приказ, чтобы с нарушителями дисциплины, по возможности, боролись их товарищи, которым, надо полагать, дорого доброе имя своего подразделения. Отец объявил, что, если, по их мнению, солдаты сами не в силах образумить нарушителя — ибо он не разрешал им ни убивать виновных, ни калечить, и тем самым выводить их из строя, — нужно обратиться к полковым командирам, но он предпочел бы, чтобы его люди были судьями сами себе. Капитаны могли применять розги с разрешения полковых командиров, но только в тех случаях, когда преступление — такое, как трусость в бою или кража у товарищей — говорило о низости характера и делало экзекуцию уместной; подвергшихся порке солдат отец приказывал не брать больше в действующие войска и отправлять в обоз или канцелярию. Любой солдат, считающий, будто его товарищи или командиры вынесли ему слишком суровый приговор, мог обратиться к отцу лично, хотя он сомневался в том, что приговоры эти заслуживают пересмотра. Такая система действовала великолепно — отец сам был прекрасный воин и своим личным примером вселял в войска такое мужество, на какое, на взгляд других командиров, они были не способны. Однако вы понимаете, как опасно было солдатам, с которыми обращались подобным образом, служить потом у обыкновенных начальников. Тому, кто получил в дар независимость, нелегко с ней расстаться. Всякий раз, когда войска, служившие под командой отца, оказывались под командой дяди, дело кончалось неприятностями. Но и войска, служившие под началом дяди, в свою очередь, смотрели с презрением и подозрением на дисциплинарную систему отца. Они привыкли покрывать проступки друг друга и гордились тем, как ловко избегают разоблачения; и поскольку в дядиных войсках солдата могли высечь, например, за то, что он первым обратился к офицеру или говорил излишне свободно и вообще за любое проявление независимости, рубцы от розог служили скорее к его чести, чем к позору.
Самые большие победы отец одержал в Альпах, во Франции и Нидерландах, но особенно в Германии, где его имя, я думаю, никогда не будет забыто. Он всегда находился в самой гуще сражения. Его мечтой было совершить подвиг, лишь дважды совершенный в римской истории, а именно: своими руками убить командующего армией противника и снять с него личное оружие.[36] Много раз казалось, что счастье улыбается ему, но жертва всегда ускользала. То его враг спасался с поля боя бегством, то, вместо того чтобы драться, сдавался в плен, то какой-нибудь услужливый рядовой первым наносит удар. Ветераны, рассказывая мне об отце, восхищенно посмеивались: «Да что говорить, сердце радовалось смотреть, как твой отец верхом на вороном коне играет в прятки с каким-нибудь германским вождем. Порой сразит человек десять из его личной охраны, а они парни крепкие, пока доберется до знамени, а к тому времени хитрая птичка уже тю-тю». Те, кто служил под командой отца, горделиво хвалились тем, что он был первым римским военачальником, который прошел вдоль Рейна из конца в конец, от Швейцарии до Северного моря.
Глава IV
Мой отец не забывал уроков свободолюбия, которые давал ему его отец. Совсем маленьким мальчиком он поссорился с Марцеллом, бывшим на пять лет его старше, когда Август наделил того титулом «глава юношества». Он сказал Марцеллу, что титул этот пожалован ему только по случаю троянских игр («битва греков с троянцами», разыгранная на Марсовом поле двумя верховыми отрядами, состоящими из сыновей сенаторов и всадников) и не дает ему никакого права вершить суд над другими людьми, которое Марцелл присвоил себе с тех пор; что касается его лично, то он, как свободнорожденный римлянин, не намерен подчиняться такой тирании. Он напомнил Марцеллу, что почестей за победу удостоился не он, а Тиберий, возглавлявший отряд «противников», и вызвал Марцелла на поединок. Августа очень позабавила эта история, когда он о ней услышал, и с тех пор он шутливо называл моего отца не иначе как «свободнорожденный римлянин».
Всякий раз, что отец приезжал теперь в Рим, его возмущало все растущее раболепие перед Августом, которое он встречал на каждом шагу, и он стремился поскорее вернуться в армию. Исполняя обязанности одного из главных городских судей в то время, как Август и Тиберий были во Франции, отец не мог не видеть роста карьеризма и политических спекуляций, внушавших ему отвращение. Он сказал с глазу на глаз одному своему другу, от которого я это услышал много лет спустя, что в одной роте его солдат больше старого римского свободолюбия, чем у всех сенаторов, вместе взятых. Незадолго до смерти он написал Тиберию из лагеря во внутренних областях Германии горькое письмо в том же духе. Он писал, что молит небо, чтобы Август последовал славному примеру диктатора Суллы,[37] который, будучи единственным хозяином Рима после первой гражданской войны — все его враги были или покорены, или умиротворены, — решил по своему усмотрению самые неотложные государственные дела, а затем сложил с себя полномочия и снова стал рядовым гражданином. Если Август не сделает в ближайшее время то же самое — а он всегда заявлял, что таково в конечном счете его намерение, — будет слишком поздно. Ряды старой знати, к сожалению, сильно поредели; проскрипции и гражданские войны унесли самых лучших и храбрых, а те, кто выжил, затерявшись среди новой знати — тоже мне знать! — с каждым годом все более ведут себя по отношению к Августу и Ливии как их личные рабы. Скоро Рим забудет, что такое свобода, и подпадет под тиранию, не менее жестокую и деспотическую, чем на Востоке. Не для того он сражался во многих утомительных кампаниях под верховным командованием Августа, чтобы способствовать подобному бедствию. Даже его любовь к Августу и глубокое восхищение тем, кто был ему вторым отцом, не удерживает его от выражения подобных чувств. Он спрашивал Тиберия, как он думает, не удастся ли им двоим убедить или даже принудить Августа покинуть свой пост. «Если он согласится, я буду питать к нему в сто раз большую любовь и смотреть на него с во сто раз большим восхищением, чем раньше, но должен, увы, сказать, что тайная и неправомерная гордость, которую наша мать Ливия испытывает от того, что пользуется через Августа верховной властью, будет для нас в этом деле самой большой помехой».
К несчастью, письмо это было передано Тиберию в присутствии Августа и Ливии.
— Депеша от твоего благородного брата! — провозгласил императорский гонец, протягивая ему пакет.
Тиберий, не подозревая о содержании письма, не предназначенного для глаз и ушей Ливии и Августа, попросил разрешения тут же прочитать его.
— Пожалуйста. — ответил Август. — но при условии, что ты прочтешь его вслух. — И выслал слуг из комнаты. — Ну же, не будем терять времени. Какие его последние победы? Мне не терпится все услышать. Письма твоего брата всегда хорошо написаны и так интересны, куда лучше твоих, мой дорогой мальчик, если ты простишь мне это сравнение.
Тиберий прочел несколько слов и сильно покраснел. Он попытался проскочить через опасную часть, но увидел, что безопасных в письме почти нет, разве что конец, где отец жаловался на головокружение от раны в висок и рассказывал о трудном марше к Эльбе. Странные предзнаменования, писал он, появились здесь в последнее время: ночь за ночью с неба дождем падают звезды, из леса доносятся непонятные звуки, похожие на женские рыдания, на рассвете через лагерь проехали на белых конях два богоподобных юноши в греческих одеждах, а у входа в его палатку появилась германская женщина больше человеческого роста и сказала ему по-гречески, чтобы он прекратил свое продвижение вперед, так как судьба повелевает ему остановиться. Тиберий читал, одно слово — здесь, другое — там, запинался, жаловался на неразборчивый почерк, снова принимался читать, снова запинался и наконец совсем остановился.
— В чем дело? — спросил Август. — Неужели ты ничего больше не можешь там разобрать?
Тиберий собрался с духом:
— Честно говоря, могу, но письмо это не стоит того, чтобы его читать. Судя по всему, мой брат был не совсем здоров, когда писал его.
Август сильно встревожился:
— Надеюсь, он не серьезно болен?
Но бабка Ливия, конечно, сразу догадалась, что в письме есть строки, которые Тиберий боится читать вслух, так как они касаются Августа или ее самой, и, сделав вид, будто материнская тревога заставила ее забыть о хороших манерах, выхватила письмо из рук Тиберия. Она прочитала его от начала до конца, сурово нахмурилась и протянула Августу, сказав:
— Это вопрос, который касается только тебя. Не мое это дело — наказывать сына, даже самого противоестественного, а твое, ты — его отец и глава государства.
Август перепугался, не понимая, что, собственно, произошло. Он прочитал письмо, но оно показалось ему если не заслуживающим неодобрения, то скорее за то, что вызвало гнев Ливии, чем за то, что касалось его самого. По правде говоря, если оставить в стороне некрасивое слово «принудить», Август в глубине души одобрял чувства, выраженные в письме, хотя оскорбление, нанесенное бабке, затрагивало и его, ведь выходит, что он позволяет ей склонять себя к тому, против чего восстает его здравый смысл. Спору нет, сенаторы стали обращаться к нему, членам его семьи и даже к его слугам с постыдным подобострастием. Это коробило Августа не меньше, чем моего отца, и он действительно еще перед поражением и смертью Антония публично обещал уйти на покой, когда у Рима не останется больше внешних врагов, и с тех пор не раз упоминал в своих речах о том счастливом дне, когда его задача будет наконец выполнена. Август устал от бесконечных государственных дел и от бесконечных почестей, он мечтал об отдыхе и безвестности. Но бабка и слышать ни о чем не хотела, она всякий раз говорила, что его задача не выполнена и наполовину и если он сейчас уйдет в отставку, это приведет лишь к междоусобице. Да, верно, он трудится, не жалея сил, но разве она, Ливия, не трудится еще более усердно, хоть и не имеет за это от государства прямой награды. И не надо быть простачком: как только он сложит с себя полномочия и сделается частным лицом, что защитит его от преследования и изгнания, а быть может, и от худшей участи? А как насчет родичей тех, кто был им убит или покрыт позором? Думаешь, они не затаили в душе зла? Если он станет рядовым гражданином, ему придется отказаться от личной охраны, не только от армий. Пусть он согласится пробыть еще десять лет на своем посту, возможно, к концу этого времени положение изменится к лучшему. И Август каждый раз уступал и продолжал править. Он принимал привилегии монарха в рассрочку, сенат утверждал их на пятилетний или десятилетний срок, чаще — на десять лет.
Бабка сурово посмотрела на Августа, когда он кончил читать.
— Ну как? — спросила она.
— Я согласен с Тиберием, — мягко сказал Август. — Молодой человек, должно быть, болен. У него помутился разум от переутомления. Ты обратила внимание на последний абзац, где он пишет о последствиях ранения в голову и о всех этих видениях? Это ли не доказательство? Ему нужен отдых. Врожденное благородство его души нарушено передрягами военной кампании. Эти германские леса — неподходящее место для больного человека, не так ли, Тиберий? Ничто так не действует на нервы, как вой волков — я уверен, рыдания женщин, о которых он пишет, не что иное, как волчий вой. Не стоит ли сейчас, после того как он задал германцам хорошую взбучку — они не скоро ее забудут, — отозвать его в Рим? Мне будет приятно снова его повидать. Да, разумеется, надо, чтобы он вернулся. Ты ведь будешь рада, дражайшая Ливия, увидеть своего мальчика?
Бабка не ответила прямо. Она сказала, все еще хмурясь:
— А ты что думаешь, Тиберий?
Дядя был большим дипломатом, чем Август. Он лучше знал натуру своей матери. Он ответил так:
— Похоже, что брат действительно нездоров, но даже болезнь не оправдывает такое не подобающее сыну поведение и такое чудовищное безрассудство. Я согласен с тем, что его надо отозвать, чтобы объяснить, сколь гнусно иметь такие низкие мысли насчет своей преданной ему и неутомимой матери и сколь возмутительно вверять их бумаге и посылать с гонцом через вражескую страну. К тому же ссылка на Суллу прямо наивна. Как только Сулла отказался от власти, сразу начались гражданские войны и его реформам пришел конец.
Так что Тиберий вышел сухим из воды, но гнев его против брата был вполне искренний: разве тот не поставил его в поистине трудное положение?
Ливия задыхалась от ярости, ведь Август так легко пропустил мимо глаз нанесенные ей оскорбления, да еще в присутствии ее сына. В равной мере жестоко гневалась она на моего отца. Она знала, что, вернувшись, он скорее всего попробует привести в исполнение свой план — заставить Августа отказаться от власти. Она также увидела, что не сможет управлять через Тиберия, даже если ей удастся добиться для него права наследования, пока мой отец, пользующийся огромной популярностью в Риме, за спиной которого, к тому же, были все западные полки, только и будет ждать случая восстановить, пусть силой, народные свободы. А для нее верховная власть значила теперь больше, чем жизнь или честь: слишком многим она ей пожертвовала. Но Ливия умела скрывать свои чувства. Она сделала вид, будто разделяет мнение Августа — мой отец просто болен, и сказала Тиберию, что его приговор слишком суров. Однако она согласилась с тем, что отца надо немедленно отозвать из армии. Ливия поблагодарила Августа за то, что он великодушно пытался найти оправдание ее бедному сыну; она пошлет к нему своего личного лекаря, а с ним пакет чемерицы из Антикиры в Фессалии[38] — лекарство, которое, как считалось, лучше всего помогает при душевных заболеваниях.
Лекарь отправился в путь на следующий день вместе с гонцом, который вез письмо Августа. В письме тот дружески поздравлял отца с победами и сочувствовал ему по доводу раны в голову; в нем было также разрешение вернуться в Рим, выглядевшее скорее как приказ, и отцу стало ясно, что ему придется вернуться, хочет он того или нет.
Отец ответил через несколько дней и выразил Августу признательность за его доброту. Он писал, что вернется, как только ему разрешит здоровье, но письмо достигло его после небольшой неприятности: его конь упал под ним на всем скаку, придавил ему ногу, и он поранил ее об острый камень. Он признателен матери за ее заботу, за лекарство и за то, что она отправила к нему своего врача, чьими услугами он не замедлил воспользоваться. Но он опасается, что даже его широко известное искусство не сможет помешать ранению принять дурной оборот. В конце отец писал, что предпочел бы остаться на своем посту, но желание Августа для него закон, и, повторил отец, как только он поправится, он вернется в Рим. Сейчас он находится в лагере в Тюрингии возле реки Сааль.
9 г. до н. э.
Узнав эти новости, Тиберий, бывший в то время с Августом и Ливией в Павии, тут же попросил разрешения ухаживать за больным братом. Август ответил согласием, и, вскочив на коня, Тиберий лишь с небольшим эскортом помчался галопом на север, направляясь к самой короткой дороге через Альпы. Перед Тиберием лежало пятьсот миль пути, но он мог рассчитывать на частую смену лошадей на почтовых станциях, а когда он будет уставать от верховой езды, он прикажет заложить повозку и урвет несколько часов сна, не задерживая продвижения вперед. Погода благоприятствовала Тиберию. Он пересек Альпы и спустился в Швейцарию, затем последовал по главной дороге вдоль Рейна, ни разу не остановившись, чтобы поесть горячей пищи, пока не достиг поселения под названием Манхейм. Здесь он пересек реку и, повернув на северо-восток, поскакал по бездорожью в глубь враждебной страны. Когда к вечеру третьего дня он достиг цели своего путешествия, он был один — первый его эскорт давно отстал, да и новый, набранный в Манхейме, не смог за ним угнаться. Говорят, что на вторые сутки Тиберий проскакал от полудня до полудня двести миль. Он успел приветствовать моего отца, но не успел спасти ему жизнь: нога к этому времени была до бедра охвачена гангреной. У отца, хоть он и был при смерти, хватило самообладания приказать, чтобы Тиберию были оказаны в лагере все почести, положенные ему как главнокомандующему. Братья обнялись, и отец шепнул:
— Она прочитала мое письмо?
— Еще раньше, чем я, — простонал дядя Тиберий.
Больше они не разговаривали, лишь отец сказал со вздохом:
— У Рима жестокая мать, у Луция и Гая опасная мачеха.
Это были его последние слова, и вскоре дядя Тиберий закрыл брату глаза.
Я слышал все вышесказанное от Ксенофонта, грека с острова Кос, который в то время, еще совсем молодым, был полковым лекарем отца и весьма возмущался тем, что присланный бабкой врач отстранил его от лечения. Следует объяснить, что Гай и Луций были внуки Августа от Юлии и Агриппы. Он усыновил их еще в младенчестве. У них был еще один брат по имени Постум, названный так потому, что он родился после смерти отца, но его Август не усыновил и оставил ему имя Агриппы, чтобы было кому продолжать его род.
Лагерь, где умер отец, назвали «Проклятый»; погребальная процессия с его телом проследовала торжественным маршем на зимние квартиры армии в Майнце на Рейне; дядя Тиберий как самый близкий родственник усопшего прошел весь путь пешком. Армия хотела похоронить отца здесь, но дядя отвез тело в Рим, где оно и было сожжено на колоссальном погребальном костре, воздвигнутом на Марсовом поле. Август сам произнес надгробное слово, в частности он сказал: «Я молю богов сделать моих сыновей Гая и Луция такими же благородными и добродетельными людьми, как этот Друз, а мне даровать такую же безупречную смерть».
Ливия не знала, насколько она может доверять Тиберию. Когда он вернулся с телом брата, его сочувствие ей выглядело принужденным и неискренним, а когда Август пожелал себе такой же смерти, как у моего отца, она увидела на губах Тиберия мимолетную улыбку. Но Тиберий, который, по-видимому, уже давно подозревал, что мой дед умер насильственной смертью, твердо решил ни в чем не перечить матери. Часто обедая за ее столом, он чувствовал себя полностью в ее власти и делал все возможное, чтобы завоевать ее милость. Ливия понимала, что у него на уме, и ее это устраивало. Тиберий был единственный, кто догадывался, что она отравительница, и, судя по всему, намеревался держать свои догадки при себе. Своим образом жизни и поведением Ливия заставила забыть то, как скандально она вышла за Августа, и теперь считалась в Риме образцом добродетели в самом прямом и неприятном смысле этого слова. Чтобы утешить Ливию в ее потере, сенат принял решение поставить ее статуи в четырех общественных местах, а также, опираясь на юридическую фикцию, внес Ливию в число «матерей трех детей». По законодательству Августа матери трех я более детей пользовались особыми привилегиями, в частности при получении наследства, а старые девы и бесплодные женщины вообще были лишены права получать что-либо по завещанию, и то, что они теряли, шло их плодовитым сестрам.
…Клавдий, ты, старый зануда, еще дюйм-два, и кончится четвертый свиток твоей автобиографии, а ты даже не добрался до места своего рождения. Ну-ка, давай сразу же пиши об этом, а не то ты никогда не достигнешь и середины своей истории. Пиши: «Я родился во Франции, в Лионе, первого августа, за год до смерти моего отца». Вот так. У родителей было до меня шестеро детей, но, поскольку мать всегда сопровождала отца в военных походах, ребенок должен был быть очень выносливым, чтобы выжить. Ко времени моего рождения в живых остались только брат Германик, на пять лет старше меня, и сестра Ливилла, на год старше; оба они унаследовали великолепное здоровье отца. Я — нет. Еще до того как мне исполнилось два года, я раза три чуть не умер, и если бы после гибели отца мы не вернулись в Рим, маловероятно, что эта история была бы написана.
Глава V
В Риме мы жили в большом доме, принадлежавшем деду, который завещал его бабке. Дом стоял на Палатинском холме, рядом с дворцом Августа и воздвигнутым им храмом Аполлона, в портиках которого была библиотека, и неподалеку от храма богов-близнецов Кастора и Поллукса. (Это был старый храм, сделанный из бревен и дерна, и шестнадцать лет спустя Тиберий построил на его месте за свой счет великолепное мраморное здание, раскрашенное и позолоченное изнутри и обставленное с такой роскошью, словно это был будуар богатой патрицианки. Скорее всего, сделать это ему велела бабка Ливия, чтобы доставить удовольствие Августу. Тиберий не был религиозен и не любил бросать деньги на ветер). Холм был более здоровым местом, чем низина у реки, большая часть домов на нем принадлежала сенаторам. Я был очень болезненный ребенок, «форменное поле боя болезней», как говорили доктора, и, возможно, выжил я лишь потому, что болезни никак не могли столковаться, какая из них удостоится чести свести меня в могилу. Начнем с того, что родился я семимесячным, раньше срока, молоко кормилицы плохо подействовало на мой желудок, и меня всего обсыпало противной сыпью; я перенес малярию и корь, после чего немного оглох на одно ухо, и рожистое воспаление, и колит, и, наконец, детский паралич, от которого у меня укоротилась одна нога, так что я был обречен всю жизнь хромать. Из-за какой-то из этих болезней у меня сделались очень слабые колени, и до конца своих дней я не мог ни пробежать, ни пройти пешком даже небольшое расстояние, и меня обычно носили в носилках. Надо еще упомянуть об ужасной боли под ложечкой, которая часто пронзает меня после еды. Боль эта настолько сильна, что были два-три случая, когда, не вмешайся мои друзья, я бы всадил нож для нарезания мяса, который я, обезумев, хватал со стола, в самое средоточие своих мучений. Я слышал, что эта боль, которую называют «сердечный приступ», страшнее любой другой боли, известной человеку, кроме боли при затрудненном мочеиспускании. Что ж, я, верно, должен быть благодарен богам за то, что они избавили меня хотя бы от нее. Вы предположите, что моя мать Антония, прекрасная и благородная женщина, воспитанная в правилах строжайшей добродетели ее матерью Октавией и единственная страсть моего отца, нежно заботилась обо мне, своем младшем ребенке, и даже, жалея меня за все мои злоключения, любила больше остальных детей. Отнюдь. Мать делала для меня все, что повелевал ей долг, но не больше. Она не только не любила меня, она питала ко мне отвращение как из-за моей хилости, так и потому, что я был причиной очень трудной беременности, а затем очень мучительных родов, — она едва осталась в живых, а потом много лет болела. Своим преждевременным появлением на свет я был обязан испугу, который она испытала на пиру, данном в честь императора, когда тот приехал к отцу в Лион, чтобы торжественно открыть там Алтарь Ромы и Августа; мой отец был в то время губернатором трех французских провинций, и Лион служил ему штаб-квартирой. Безумный раб-сицилиец, прислуживавший за столом, внезапно выхватил кинжал и занес его сзади над головой отца. Этого никто не заметил, кроме матери. Она поймала взгляд раба, и у нее хватило самообладания улыбнуться ему и неодобрительно покачать головой, указывая, чтобы он убрал кинжал. Пока раб колебался, двое других слуг увидели, куда она смотрит, и успели скрутить ему руки и обезоружить его. После чего мать потеряла сознание, и у нее тут же начались схватки. Возможно, как раз из-за этого я испытываю патологический страх перед убийством, ведь говорят, что предродовой испуг может перейти по наследству. Но, пожалуй, нет оснований упоминать о каком-то внутриутробном воздействии. Много ли членов императорской фамилии умерли своей смертью?
Я был ласковым ребенком, и отношение матери причиняло мне много горя. Я слышал от своей сестры Ливиллы, красивой, но жестокой, тщеславной и властолюбивой девочки — словом, типичный образчик худших Клавдиев, — что мать называла меня «живым предостережением» и говорила, что, когда я родился, надо было обратиться за советом к сивиллиным книгам. И что природа начала меня лепить, но не кончила и с отвращением отбросила в сторону, отчаявшись в успехе. И что древние были мудрее нас и великодушнее: они оставляли хилых младенцев на голом склоне холма в дождь и ветер ради блага целой расы. Возможно, Ливилла приукрашивала менее жестокие замечания матери — хотя недоношенные дети действительно выглядят довольно страшно, — но я и сам помню, как однажды, рассердившись на какого-то сенатора, выдвинувшего глупое предложение, мать вскричала: «Этого человека следует убрать! Он глуп, как осел… Что я говорю? Ослы — разумные существа по сравнению с ним… он глуп, как… как, о боги! Он глуп, как мой сын Клавдий!»
Ее любимцем был Германик — правда, он был всеобщим любимцем, — но я не только не завидовал тому, что он возбуждал повсюду любовь и восхищение, я радовался за него. Германик жалел меня и делал все, что мог, чтобы жизнь моя стала счастливой, хвалил меня старшим, называл хорошим и добрым ребенком, который вознаградит их за великодушное и заботливое обращение. Строгость только пугает его, говорил он, и делает еще более хворым. И он был прав. Нервное дрожание рук, подергивание головы, заикание, слабый желудок, постоянная слюна в уголках губ были, в основном, результатом тех ужасов, которым меня подвергали во имя дисциплины. Когда Германик заступался за меня, мать обычно нежно смеялась, глядя на него, и говорила: «Благородное сердечко. Доброта так и переполняет его. Найди для нее объект получше». Но бабка Ливия говорила иначе: «Не болтай глупости, Германик. Если Клавдий будет подчиняться дисциплине, мы станем относиться к нему с добротой, которую он этим заслужит. Ты ставишь все с ног на голову». Бабка редко обращалась ко мне, а если и обращалась, то, не глядя на меня, говорила презрительным тоном чаще всего одно и то же: «Выйди из комнаты, мальчик, здесь буду я». В том случае, если она желала побранить меня, она никогда не делала это устно, но посылала мне короткую, холодную записку, например: «Нам стало известно, что мальчик Клавдий тратит зря время, болтаясь в библиотеке Аполлона. Пока он не научится извлекать пользу из простейших учебников, которые ему дают учителя, бессмысленно совать нос в серьезные труды на полках библиотеки. К тому же он беспокоит настоящих читателей. Этому должен быть положен конец».
Что до Августа, то, хоть он никогда не относился ко мне с преднамеренной жестокостью, он так же, как бабка Ливия, не любил бывать со мной в одной комнате. Он не чаял души в маленьких мальчиках (сам оставаясь большим мальчиком до конца своих дней), но только в таких, кого он называл «славные малые», вроде его внуков Гая и Луция и моего брата Германика — все они были на редкость хороши собой. В Риме жили сыновья союзных царей и вождей — из Франции, Германии, Парфии, Северной Африки, Сирии, — которых держали в заложниках, чтобы обеспечить покорность их родителей. Они учились вместе с внуками Августа и сыновьями ведущих сенаторов в Школе для мальчиков; Август часто приходил туда и играл с ними в галереях в шарики, бабки или пятнашки. Его любимцами были смуглые мальчики — мавры, парфяне или сирийцы — и те, кто весело болтал с ним о чем попало, словно Август был одним из них. Только раз он попытался преодолеть свое отвращение ко мне и разрешил поиграть в шарики со своими любимцами, но попытка эта была столь противоестественна, что я еще сильнее разнервничался и стал заикаться и трястись, как безумный. Больше он этого не делал. Август терпеть не мог карликов, калек и уродцев, говоря, что они приносят несчастье и их надо убирать с глаз долой. И все же я никогда не питал к нему ненависти, как к бабке Ливии. Ведь в его неприязни ко мне не было озлобления, и он всячески старался ее преодолеть; что скрывать, я действительно был жалким маленьким монстром, позором для такого сильного, пышущего здоровьем отца и для такой красивой и величавой матери. Август и сам был хорош собой, хотя не очень высок: у него были кудрявые белокурые волосы, поседевшие лишь к концу его жизни, блестящие глаза, веселое лицо и прекрасная осанка.
Я помню, как однажды случайно услышал эпиграмму на греческом языке, сочиненную Августом на мой счет и прочитанную Афинодору, философу-стоику из Тарса в Киликии,[39] простому, серьезному человеку, к которому Август часто обращался за советом. Мне было тогда около семи лет, и они наткнулись на меня возле садка для карпов в нашем саду. Эпиграмма не сохранилась у меня в памяти слово в слово, но смысл ее был таков: «Антония старомодна, она не тратит лишних денег и не покупает себе на забаву мартышек у торговцев с Востока. А почему? Потому, что рожает мартышек сама». Афинодор подумал немного и сурово ответил в том же размере:
— «Антония не только не покупает себе на забаву мартышек у торговцев с Востока, но даже не ласкает и не кормит сладостями бедняжку сына, рожденного от ее благородного мужа».
Август смешался. Надо вам объяснить, что ни он, ни Афинодор, которому меня всегда представляли дурачком, не догадывались, что я их понимаю. Поэтому Афинодор притянул меня к себе и шутливо сказал по латыни:
— А что думает по этому поводу юный Тиберий Клавдий?
Меня прикрывал от Августа массивный торс Афинодора, и я, почему-то вдруг перестав заикаться, выпалил по-гречески:
— Моя мать Антония не балует меня, но она позволила мне выучиться греческому у той, кто сама научилась у Аполлона.
Я хотел сказать всего лишь, что понял, о чем они говорили. Греческому меня научила женщина, которая была раньше жрицей Аполлона на одном из греческих островов, но попала в плен к пиратам, продавшим ее содержателю публичного дома в Тире.[40] Ей удалось бежать, но она не могла больше быть жрицей, так как в неволе ей пришлось быть проституткой. Моя мать Антония, познакомившись с ее дарованиями, взяла ее к детям воспитательницей. Эта женщина часто говорила, что научилась всему от Аполлона, и я просто процитировал ее, но так как Аполлон был богом учения и поэзии, мои слова прозвучали куда остроумнее, чем я предполагал. Август был поражен, а Афинодор заметил:
— Хорошо сказано, малыш Клавдий. Мартышки не понимают ни одного слова по-гречески, верно?
Я ответил:
— Да, у них длинные хвосты, и они таскают яблоки со стола.
Однако когда Август принялся нетерпеливо меня расспрашивать, я снова смутился и стал заикаться так же сильно, как и всегда. Но с тех пор Афинодор сделался моим другом.
Существует история про Афинодора и Августа, которая им обоим делает честь. Как-то раз Афинодор сказал Августу, что он ведет себя неосторожно, допуская к себе кого попало: как бы ему не получить удар кинжалом в грудь. Август отвечал, что все это глупости. На следующий день Августу доложили, что прибыла его сестра, госпожа Октавия, по поводу годовщины смерти их отца и хочет приветствовать его. Август приказал немедленно ее впустить. Октавия была неизлечимо больна — в том самом году она умерла, — и ее всегда носили в занавешенных носилках. Когда носилки внесли, занавеси раздвинулись, оттуда выскочил Афинодор с мечом в руке и приставил меч к сердцу Августа. Август не только не рассердился, но поблагодарил Афинодора и признал, что он был неправ, когда отмахнулся от его предупреждения.
Кстати, не забыть бы рассказать вам об одном необыкновенном событии, случившемся в моем детстве однажды летом, когда мне исполнилось восемь лет. Моя мать, брат Германик, сестра Ливилла и я поехали в гости к тете Юлии в ее прекрасный загородный дом на самом берегу моря в Антии. Было около шести часов вечера, и мы сидели в винограднике, наслаждаясь свежим ветерком. Юлии с нами не было, но в компанию входили сын Тиберия Тиберий Друз — тот самый, которого мы потом всегда звали Кастор, — и дети Юлии — Постум и Агриппина. Внезапно мы услышали над головой громкий скрипучий крик. Мы взглянули наверх и увидели, что в небе дерутся орлы. Вниз летели перья. Мы пытались схватить их. Германик и Кастор оба поймали по перу, до того как они упали на землю, и воткнули себе в волосы. У Кастора было маленькое перышко из крыла, а у Германика — великолепное хвостовое перо. Оба пера были запятнаны кровью. Капли крови попали на поднятое вверх лицо Постума и платья Ливиллы и Агриппины. Вдруг по воздуху пронесся какой-то темный предмет. Сам не знаю почему, я приподнял подол своей тоги и поймал его. Это был крошечный волчонок, напуганный и раненый. Орлы устремились вниз, чтобы отобрать свою добычу, но я надежно спрятал волчонка, и. когда мы стали кричать и кидать в них палки, орлы растерянно поднялись вверх и с громким криком улетели. Я не знал, что делать. Волчонок мне был не нужен. Ливилла схватила его, но мать очень серьезно велела ей отдать волчонка обратно.
— Он упал к Клавдию, — сказала она, — у него он и должен быть.
Затем она спросила старого патриция, члена коллегии авгуров, который был с нами:[41]
— Скажи мне, что это предвещает?
Старик ответил:
— Трудно сказать. Это может иметь очень важное значение или не иметь никакого.
— Не бойся, скажи, о чем, по-твоему, это говорит.
— Сперва отошли детей, — сказал он.
Я не знаю, дал ли он то толкование, которое вы волей-неволей будете вынуждены принять, когда прочитаете мою историю. Знаю только, что в то время как все остальные дети отошли подальше — милый Германик нашел еще одно орлиное перо в кусте боярышника для меня, и я гордо втыкал его себе в волосы, — Ливилла, которая всюду совала свой нос, забралась за живую изгородь из шиповника и кое-что подслушала. Громко рассмеявшись, она прервала старика:
— Несчастный Рим — он его защитник! Да помогут мне боги до этого не дожить!
Авгур повернулся к ней и погрозил ей пальцем:
— Дерзкая девчонка! — сказал он. — Не сомневайся, боги выполнят твою просьбу, да так, что это вряд ли придется тебе по вкусу.
— Ты будешь заперта в комнате без еды, девочка, — сказала мать.
Когда я теперь припоминаю эти слова, они тоже звучат зловеще. Ливиллу продержали взаперти до самого отъезда. Чего только она ни придумывала, чтобы выместить на мне злость! Но она не могла пересказать слов авгура, потому что поклялась именем Весты и наших домашних пенатов, пока хоть один из нас жив, не говорить о предзнаменовании ни прямо, ни окольным путем.[42] Нас всех заставили дать эту клятву. Поскольку уже много лет я — единственный из тех, кто там был, оставшийся в живых (моя мать и авгур пережили остальных, хотя и были всех старше), я больше не обязан молчать. Какое-то время после того я замечал, что мать глядит на меня с любопытством, чуть ли не с почтением, но обращалась она со мной, как всегда.
Мне не разрешили ходить в Школу для мальчиков: из-за слабых ног я не смог бы участвовать в гимнастических упражнениях, составлявших основную часть образования, из-за своих болезней я отстал от остальных, а моя глухота и заикание служили помехой занятиям. Поэтому я редко бывал в компании мальчиков своего возраста и положения, для игры со мной звали сыновей наших домашних рабов; двое из них, Каллон и Паллант, оба греки, стали впоследствии моими секретарями, которым я доверял дела величайшей важности. Каллон сделался отцом двух других моих секретарей. Нарцисса и Полибия. Немало времени я проводил со служанками матери, слушал их болтовню, в то время как они пряли, чесали шерсть или ткали полотно. Многие из них так же, как моя воспитательница, были широко образованные женщины, и, признаюсь, я получал большее удовольствие от их общества, чем от почти любого общества мужчин, в котором мне с тех пор довелось бывать: они были терпимыми, очень неглупыми, скромными и добрыми.
Мой домашний учитель, о котором я уже упоминал, Марк Порций Катон, был, во всяком случае — в его собственных глазах, воплощением тех древнеримских добродетелей, которыми отличались все его предки до единого. Он вечно похвалялся своими предками, как все глупые люди, которые сами не совершили ничего, чем можно было бы хвалиться. Особенно часто он хвастался Катоном Цензором, который из всех персонажей римской истории, пожалуй, самый ненавистный для меня, так как он неустанно отстаивал «древние добродетели», отождествив их в умах римлян с такими понятиями, как грубость, педантизм и жестокость. Вместо учебников меня заставляли читать его хвастливые книги, и помню, как данное в одной из них описание его похода в Испанию, где он разрушил больше городов, чем провел там дней, не так поразило меня его военным мастерством и патриотизмом, как вызвало отвращение к его бесчеловечности. Поэт Вергилий говорит, что миссия римлян — господствовать. Но как? «Милость покорным являть и смирять войною надменных».[43] Катон действительно смирял надменных, но не столько войною, сколько ловко используя внутриплеменные противоречия; мало того — он прибегал к услугам наемных убийц, чтобы убирать грозных врагов. А что до «милости покорным», так он предавал мечу толпы безоружных людей, даже когда они безоговорочно капитулировали и сдавали свои города. Катон с гордостью пишет, что сотни испанцев предпочли покончить с собой целыми семьями, лишь бы не испытать на себе месть римлян. Неудивительно, что племена снова поднялись против нас, как только смогли собрать кое-какое оружие, и с тех пор остаются для нас бельмом на глазу. Катону нужны были две вещи: добыча и триумф; триумф назначался, если было столько-то — в то время, кажется, пять тысяч — убитых, и он старался, чтобы никто не обвинил его, как сам он обвинял из зависти своих соперников, будто он претендует на триумф, не сняв положенный урожай с полей смерти.
Триумфы, между прочим, были проклятием Рима. Сколько развязывалось ненужных воин только потому, что полководцам хотелось, надев лавровый венец, со славой проехаться по улицам города с закованными в цепи пленными, идущими позади колесницы, и военной добычей, горой нагруженной на карнавальные повозки. Август это понимал; по совету Агриппы он издал указ, согласно которому триумф предоставлялся только тому военачальнику, кто был членом императорской фамилии. Этот указ, выпущенный в год моего рождения, мог навести на мысль, будто Август завидовал своим полководцам, потому что к тому времени сам он перестал участвовать в активных военных действиях, а члены его семьи были еще малы, чтобы получать триумфы, но значил он совсем иное. Август не хотел больше расширять границ империи и рассчитывал, что военачальники не станут вызывать пограничные племена на столкновения, если победа над ними не принесет им в награду триумфа. Однако он разрешил «триумфальные украшения»: вышитая тога, статуя, венок и так далее — для тех, кому раньше назначили бы триумф: это должно было быть достаточным стимулом для хорошего военачальника, который ведет нужную Риму войну. Кроме всего прочего, триумфы плохо влияют на дисциплину. Солдаты напиваются, выходят из повиновения и обычно кончают день тем, что громят винные лавки, поджигают те, где продается масло, оскорбляют женщин и вообще ведут себя так, словно завоевали не какой-то там лагерь с деревянными домишками в Германии или занесенную песком деревню в Марокко, а сам Рим. После триумфа, отпразднованного моим племянником, о котором я вам вскоре расскажу, четыреста солдат и почти четыре тысячи частных граждан тем или иным путем расстались с жизнью, сгорело дотла пять больших кварталов жилых домов в районе проституток, было разграблено триста винных лавок, не говоря уже о прочих огромных убытках.
Но вернемся к Катону Цензору. Его руководство по ведению хозяйства и домашней экономии было дано мне для упражнений в правописании, и всякий раз, что я ошибался, я получал две затрещины: одну, по левому уху, за глупость, вторую, по правому — за оскорбление благородного Катона. Я помню один абзац в этой книге, который прекрасно иллюстрировал этого низкого, скаредного и злобного человека: «Хозяин должен… продать состарившихся волов, порченую скотину, порченых овец, шерсть, шкуры, старую телегу, железный лом, дряхлого раба, болезненного раба, продать вообще все лишнее».[44] Что касается меня, то, когда я жил и хозяйничал в своем небольшом поместье в Калуе, я следил за тем, чтобы старых животных использовали на легкой работе, а затем просто держали на пастбище, пока возраст не делался для них обузой, тогда я велел убивать их ударом по голове. Я не ронял свое достоинство, продавая их за безделицу крестьянину, который непосильной работой довел бы их до последнего издыхания. С рабами я всегда обращался великодушно, как с больными, так и со здоровыми, как с молодыми, так и со старыми, и ожидал от них, в свою очередь, глубокой преданности. Я редко бывал обманут в своих ожиданиях, хотя когда они злоупотребляли моим великодушием, я безжалостно наказывал их. Я не сомневаюсь, что рабы старого Катона все время болели, надеясь, не продаст ли он их более гуманному хозяину, и думаю также, что вряд ли он добивался от них такой честной работы и услужения, каких добиваюсь я. Глупо обращаться с рабами, как со скотом. Они куда понятливее, к тому же способны своей преднамеренной небрежностью и упрямством за одну неделю причинить больший урон вашему имуществу, чем заплаченная за них цена. Катон хвастал, что никогда не тратил на раба много денег, ему годился любой злобный урод, лишь бы у него были крепкие мускулы и крепкие зубы. Убейте меня, не понимаю, как он умудрялся находить на них покупателей, когда выкачивал из них все силы. Судя по тому, что я знаю о его потомке — говорят, как две капли воды похожем на него по характеру и по внешности (рыжеволосый, зеленоглазый, громкоголосый и грузный), — я полагаю, что он угрозами заставлял своих бедных соседей покупать у него отслуживших свое рабов по цене молодых.
Мой дорогой друг Постум, двумя годами меня старше, — самый верный друг, какой у меня был после Германика, — прочитал в одной старой книге, что Катон Цензор был не только скупердяй, но и мошенник: он оказался замешан в каких-то грязных махинациях при торговле судами, но избежал публичного позора, объявив одного из своих бывших рабов номинальным владельцем. В качестве цензора, то есть человека, блюдущего общественную нравственность, он делал довольно странные вещи, якобы во имя общественной благопристойности, но в действительности, похоже, для того, чтобы насолить своим личным врагам. По его собственным словам, он исключил одного человека из сословия сенаторов потому, что тому «недостает римской чинности», — он поцеловал свою жену днем, да еще в присутствии дочери! Когда друг исключенного, тоже сенатор, обвинил Катона в несправедливости и спросил, неужели тот никогда не обнимает свою жену, кроме как на супружеском ложе, Катон горячо ответил:
— Никогда!
— Неужели никогда?
— Ну, откровенно говоря, года два назад жена бросилась мне на шею, испугавшись грозы, но, к счастью, этого никто не видел, и, уверяю тебя, она не скоро это повторит.
— О, — сказал сенатор, делая вид, будто неправильно понял Катона, который скорее всего хотел сказать, что прочитал жене суровую нотацию за недостаток чинности. — Я тебе сочувствую. Некоторые женщины не очень ласковы с некрасивыми мужьями, как бы те ни были справедливы и добродетельны. Но не отчаивайся — возможно, Юпитер пожалеет тебя и снова нашлет грозу.
Катон не простил этого обидчику, бывшему, кстати, его дальним родственником. Год спустя он проверял списки сенаторов, что входило в его обязанности цензора, и спрашивал каждого из них по очереди, женат ли тот. Тогда существовал ныне отмененный закон, согласно которому сенаторы должны были состоять в законном браке. Подошла очередь его родственника, и Катон задал ему вопрос по обычной формуле: «Есть ли у тебя жена? Отвечай по чести и в знак доверия», — на что следовало ответить: «Да (или нет), по чести и в знак доверия». Услышав этот вопрос, произнесенный скрипучим голосом, сенатор немного смутился, — он попал в глупое положение, так как, пошутив насчет жены Катона, он вскоре узнал, что сочувствовать надо не Катону, а ему самому, и был вынужден развестись. Поэтому, чтобы, не уронив собственного достоинства, обратить шутку против себя самого, сенатор ответил: «Да, у меня действительно есть жена, но она вышла из моего доверия, а за честь ее я и гроша ломаного не дам». После чего Катон исключил его из сословия сенаторов за непочтительность.
А кто навлек на Рим Проклятие? Этот же самый Катон, который, когда в сенате спрашивали его мнение по любому вопросу, заканчивал свою речь следующими словами: «Так я считаю, и считаю также, что Карфаген должен быть разрушен, он является угрозой Риму». Твердя без конца одно и то же об угрозе, которую представляет собой Карфаген, Катон вселил в умы римлян такую тревогу, что, как я уже говорил, они нарушили свое торжественное обещание и стерли Карфаген с лица земли.
Я написал о Катоне Цензоре больше, чем намеревался, но это не случайно: в моей памяти он связан и с гибелью Рима, в которой он повинен не менее, чем те люди, чья «недостойная мужчин роскошь, — как он говорил, — подрывает силы государства», и с моим несчастливым детством под ферулой этого погонщика мулов, его прапраправнука. Я старый человек, и мой наставник уже пятьдесят лет как умер, но когда я думаю о нем, сердце мое по-прежнему преисполняется ненависти и гнева.
Германик защищал меня перед старшими уговорами и убеждениями, а Постум сражался за меня, как лев. Казалось, ему все нипочем. Он даже осмеливался высказывать свое собственное мнение в лицо самой бабке. Постум был любимцем Августа, поэтому какое-то время Ливия делала вид, будто ее забавляет его, как она называла это, детская импульсивность. Сперва Постум, сам не способный к обману, ей доверял. Однажды, когда мне было лет двенадцать, а ему четырнадцать, он случайно проходил мимо комнаты, где Катон занимался со мной. Постум услышал звуки ударов и мои мольбы о пощаде и, разъяренный, влетел внутрь.
— Не смей его трогать! — вскричал он.
Катон взглянул на него с презрительным удивлением и так меня ударил, что я свалился со скамейки.
Постум проговорил:
— Тот, кто боится бить осла, бьет седло (в Риме была такая поговорка).
— Наглец, что ты этим хочешь сказать?! — заорал Катон.
— Я хочу сказать, — ответил ему Постум, — что ты вымещаешь на Клавдии свое зло на людей, которые, как ты думаешь, сговорились помешать твоему возвышению. Ты слишком хорош, чтобы быть его учителем, да?
Постум был умен, он догадался, что эти слова так разозлят Катона, что он потеряет над собой власть. И Катон попался на удочку. Нанизывая одно на другое старомодные ругательства, он закричал, что во времена его предка, чью память оскорбляет этот проклятый заика, горе было бы тому ребенку, кто проявлял недостаточное почтение к старшим: в те времена дисциплину поддерживали крепкой рукой. А в наши развращенные дни первые люди Рима дают любому невежественному деревенскому придурку (это по адресу Постума) или слабоумному хромому молокососу разрешение…
Постум прервал его с предостерегающей улыбкой:
— Значит, я был прав. Развращенный Август оскорбил великого цензора, наняв тебя служить в этом развращенном семействе. Ты, верно, уже доложил почтенной Ливии о своих чувствах по этому поводу?
Катон был готов откусить себе язык от досады и страха. Если Ливия узнает о том, что он сказал, ему не поздоровится; до сих пор он выражал глубочайшую благодарность за честь, которую ему оказали, доверив воспитывать ее внука, не говоря уже о том, что ему безвозмездно вернули фамильное поместье, конфискованное после битвы при Филиппах, где его отец погиб, сражаясь против Августа. Катон был достаточно благоразумен (или труслив), чтобы учесть намек, и после этого мои ежедневные мучения значительно ослабли. Через три или четыре месяца после того он, к моему восторгу, перестал быть моим наставником, так как его назначили директором Школы для мальчиков. Теперь Постум попал под его начало.
Постум был необычайно силен. Когда ему еще не исполнилось четырнадцати, он мог согнуть на колене железную полосу толщиной с мой большой палец, и я видел, как он ходил по площадке для игр с двумя мальчиками на плечах, одним на спине и еще одним, стоящим у него на ладонях. Он не был прилежным учеником, но умом — говорю без всякого преувеличения — намного превосходил Катона, и в последние два года пребывания в Школе мальчики избрали его своим вожаком. Во всех школьных играх он был «царь» — странно, что слово «царь» надолго уцелело у мальчиков, — и строго следил за порядком среди своих товарищей. Катону приходилось быть любезным с Постумом, если он хотел, чтобы остальные ученики поступали по его желанию, потому что все они слушались Постума с полуслова.
Катону было приказано Ливией представлять ей каждые полгода отчеты об учениках; она сказала, что если они покажутся ей интересными для Августа, она передаст их ему. Из этого Катон вывел заключение, что отчеты эти должны быть нейтральными, за исключением тех случаев, когда Ливия намекнет, чтобы он похвалил или осудил кого-нибудь из мальчиков. Многие браки устраивались, когда юные патриции были еще в Школе, и отчеты Катона могли пригодиться Ливии в качестве аргумента за или против предполагаемого союза. Браки среди римской знати должны были быть одобрены Августом как великим понтификом и большей частью диктовались Ливией. Однажды Ливия неожиданно зашла в Школу и увидела в галерее, как Постум, сидя на стуле, изображает «царя». Катон заметил, что она нахмурилась, и это придало ему смелости написать в очередном отчете: «Хотя и с большим нежеланием, я вынужден во имя добродетели и справедливости сообщить, что мальчик Агриппа Постум отличается жестоким, властным и упрямым нравом». После этого Ливия держалась с Катоном так милостиво, что следующий его отчет был написан в еще более сильных выражениях. Ливия не показала эти отчеты Августу, но отложила их на всякий случай, сам же Постум ничего об этом не знал.
В «царствование» Постума я провел два счастливейших года моей юности, могу даже сказать: моей жизни. Он приказал другим мальчикам, чтобы меня брали в игры в галереях, хотя я и не был учеником Школы, и сказал, что будет рассматривать всякую нанесенную мне обиду и причиненное мне зло так, словно их причинили ему самому. Поэтому я принимал участие во всех гимнастических упражнениях, которые позволяло мне здоровье, и только когда в школу заглядывали Август или Ливия, я старался уйти в тень. Теперь вместо Катона моим наставником был добрый старый Афинодор. За шесть месяцев я узнал от него больше, чем от Катона за шесть лет. Афинодор никогда не бил меня и относился ко мне с величайшим терпением. Он подбадривал меня, говоря, что хромота должна подстегивать мой ум. Вулкан, бог ремесленников, тоже был хромым. Что касается заикания, то Демосфен, самый великий оратор всех времен, был заикой с рождения, но излечился от этого благодаря терпению и настойчивости. Демосфен применял тот же самый способ, которым Афинодор учил сейчас меня: он заставлял меня декламировать, набрав в рот мелкие камушки. Стараясь справиться с мешавшими мне камнями, я забывал о заикании, камни один за другим постепенно вынимались изо рта, и, когда исчезал последний, я вдруг с удивлением обнаруживал, что могу произносить слова не хуже других людей. Но только когда декламирую. При обычном разговоре я по-прежнему сильно заикался. То, что я так хорошо декламирую, Афинодор держал от всех в тайне.
— Настанет день, мартышечка, и мы удивим Августа, — частенько говорил он мне. — Подожди еще немного.
Он звал меня «мартышечха» в знак любви, а не презрения, и я гордился этим прозвищем. Когда Афинодор бывал мной недоволен, он, чтобы меня пристыдить, произносил громко и отчетливо:
— Тиберий Клавдий Друз Нерон Германик, помни, кто ты и думай, что ты делаешь.
2 г. н. э.
С такими друзьями, как Постум, Афинодор и Германик у меня мало-помалу появилась какая-то уверенность в себе. Афинодор сказал на самом первом нашем занятии, что будет учить меня не фактам, ведь факты я и сам могу узнать, где угодно, а умению правильно их изложить. Однажды, например, он ласково спросил меня, почему я так возбужден: я был не в состоянии сосредоточиться на том, что мне было задано. Я сказал ему, что только что видел множество рекрутов, которым Август делал смотр на Марсовом поле, перед тем как отправить их в Германию, где недавно снова разразилась война.
— Ну что ж, — сказал Афинодор тем же ласковым голосом, — если ты не можешь думать ни о чем другом и слеп сейчас к красотам гесиодовского слога,[45] Гесиод может подождать до завтра. В конце концов, он ждал семьсот лет с лишком, так что он не будет в обиде, если мы отложим его еще на день. А пока давай сделаем вот что: садись, возьми свою дощечку и напиши мне письмо, опиши коротко все, что ты видел на Марсовом поле, как будто я уже пять лет как уехал из Рима, и ты шлешь мне морем весточку, скажем, на мой родной Тарс. Это даст занятие твоим рукам, которым ты не можешь найти места, и будет к тому же хорошей практикой.
Я с радостью стал царапать стилом по воску, а затем мы прочитали письмо с начала до конца, выискивая ошибки в правописании и композиции. Я был вынужден признать, что написал об одном слишком много, о другом слишком мало и поместил факты в неверном порядке. Абзац, где описывался плач невест и матерей и то, как толпа кинулась к мосту, чтобы в последний раз прокричать «ура» вслед уходящей колонне, должен был завершить письмо, а не начинать его. И ни к чему было упоминать, что кавалерия была на лошадях, это и так понятно. И я дважды написал, что боевой конь Августа споткнулся, одного раза достаточно, если он споткнулся один раз. А то, что Постум рассказал мне, когда мы возвращались домой, о религиозных обычаях евреев, интересно, но не имеет отношения к делу, потому что рекруты — италийцы, а не евреи. К тому же на Тарсе у моего адресата, вероятно, больше возможности изучать обычаи евреев, чем у Постума в Риме. С другой стороны, я не упомянул о некоторых вещах, о которых ему было бы интересно узнать: сколько рекрутов было на плацу, хорошо ли они обучены, в какой гарнизон их отправляли, грустный или веселый у них был вид, что сказал им Август в своей речи.
Три дня спустя Афинодор велел мне описать ccopу между моряком и старьевщиком, которую мы с ним наблюдали в тот день, проходя через рынок, и я сделал это с большим успехом. Сперва он обучал меня правильно излагать мысли, когда я писал сочинения, затем — когда говорил на заданную тему, и наконец — когда просто беседовал с ним. Афинодор не жалел на меня труда, постепенно я сделался более собранным, потому что он не пропускал без замечания ни одной моей небрежной, неуместной и неточной фразы.
Афинодор пытался заинтересовать меня философией, но когда увидел, что у меня нет к ней склонности, не принуждал меня переходить за границы общего знакомства с этим предметом. Именно Афинодор привил мне вкус к истории. У него были экземпляры первых двадцати томов «Истории Рима» Ливия, которые он давал мне читать в качестве образца легкого и ясного стиля. Ливий очаровал меня, и Афинодор обещал, как только я справлюсь с заиканием, познакомить меня с ним — они были друзья. Афинодор сдержал свое слово. Через шесть месяцев он взял меня в Аполлонову библиотеку и представил сгорбленному бородатому человеку лет шестидесяти, с желтоватым цветом лица, веселыми глазами и четкой манерой речи, который сердечно приветствовал меня как сына отца, всегда вызывавшего его восхищение. В то время Ливий не написал еще и половины своей «Истории», которая по ее окончании состояла из ста пятидесяти томов, начинаясь с легендарных времен и кончаясь смертью моего отца, за двенадцать лет до нашей встречи с Ливием.[46] В том же самом году он начал публиковать свою работу — по пять томов в год — и как раз подошел к той дате, когда родился Юлий Цезарь. Ливий поздравил меня с тем, что у меня такой учитель, как Афинодор, а Афинодор сказал, что я сторицей возмещаю его труды; затем я признался Ливию в том, какое получаю удовольствие, читая его книги, которые Афинодор рекомендовал мне в качестве образца превосходного слога. Все были довольны, особенно Ливий.
— Что, ты тоже собираешься стать историком, молодой человек? — спросил он.
— Я бы хотел стать достойным этого почетного звания, — отвечал я, хотя, по правде говоря, никогда серьезно об этом не задумывался.
Тогда Ливий посоветовал, чтобы я составил жизнеописание своего отца, и предложил мне помочь, отослав к самым надежным историческим источникам. Я был очень польщен и решил взяться за работу прямо на следующий день. Но Ливий сказал, что писать для историка — последняя задача, сперва надо собрать материал и отточить перо. Афинодор одолжит мне свой острый перочинный ножичек, пошутил он.
Афинодор был величественным старцем с темными глазами, орлиным носом и самой удивительной бородой, когда-либо росшей на подбородке. Она спускалась волнами до пояса и была белой, как лебединое крыло. Это не просто поэтическое сравнение, я не из тех историков, которые пишут в псевдоэпическом стиле. Я хочу сказать, что она была в буквальном смысле слова такая же белая, как крыло лебедя. На искусственном озере в Саллюстиевых садах[47] жило несколько ручных лебедей; однажды мы с Афинодором кормили их с лодки хлебом, и я помню, когда он перегнулся через борт, я обратил внимание на то, что его борода и их крылья — одного и того же цвета. Афинодор имел привычку во время беседы медленно и ритмично поглаживать бороду, и как-то раз он заметил, что именно благодаря этому она сделалась такой пышной. Он сказал, что с его пальцев струятся невидимые частицы огня, которые питают волосы. Это была типичная шутка стоика по поводу философии эпикурейцев.[48]
Борода Афинодора напоминала мне о Сульпиции, которого, когда мне исполнилось тринадцать, Ливия назначила моим учителем истории. У Сульпиция была самая жалкая бороденка из всех бород, какие я видел, седая, вернее, сивая, грязного, серовато-белого цвета с желтыми прожилками, как снег на улицах Рима после оттепели, и всегда взлохмаченная. Когда его что-то тревожило, Сульпиций накручивал ее на палец и даже совал кончик в рот и жевал. Я думаю, Ливия выбрала его потому, что считала самым скучным человеком в Риме и надеялась, назначив его мне в учителя, отбить у меня охоту заниматься историей, — она не замедлила узнать о том, какие я питаю честолюбивые намерения. Ливия не ошиблась: Сульпиций умудрялся засушить самые интересные вещи, но даже его сухость не смогла отвратить меня от моей работы, а у него было одно прекрасное свойство — исключительная память на факты. Если мне были нужны какие-нибудь редкие сведения вроде того, каковы законы наследования у вождей тех альпийских племен, с которыми сражался мой отец, или значение и этимология их необычного боевого клича, Сульпиций знал, к кому обратиться по этому вопросу, в какой книге об этом написано, с какой полки в какой комнате какой библиотеки ее можно достать. Сульпиций не обладал критическим чувством и сам писал очень плохо, факты у него душили друг друга, как непрореженные цветы на грядке с рассадой. Но он оказался бесценным помощником, когда позднее я стал пользоваться его услугами, а не указаниями; он работал со мной тридцать один год, до самой своей смерти в возрасте восьмидесяти лет; его память до самого конца оставалась безупречной, а борода — такой же выцветшей, жидкой и растрепанной, как и раньше.
Глава VI
6 г. до н. э.
Я должен теперь вернуться на несколько лет назад и написать о моем дяде Тиберии, судьба которого имеет прямое отношение к этой истории. Тяжелая у него была жизнь; стремясь к одному — покою и уединению, он был вынужден помимо своей воли все время быть на виду то в качестве военачальника в какой-нибудь пограничной военной кампании, то в качестве консула в Риме, то в качестве особого уполномоченного в провинциях. Публичные почести мало для него значили, хотя бы потому, как он пожаловался раз моему отцу, что присуждались ему скорее за его услуги в качестве главного мальчика на побегушках у Августа и Ливии, чем за те поступки, которые он совершал по собственной инициативе на свою ответственность. К тому же, обязанный поддерживать достоинство императорской фамилии и зная, что Ливия все время следит за ним, Тиберий должен был быть крайне осторожным, чтобы не переступить в своей личной жизни канонов нравственности. Из-за подозрительного, ревнивого, замкнутого и меланхоличного, как я уже говорил, характера у него было мало друзей, да и те — не друзья, а прихлебатели, к которым он относился с циничным презрением, чего они и заслуживали. И, наконец, его отношения с Юлией со времени женитьбы на ней лет пять назад становились все хуже и хуже. У них родился сын, но вскоре умер, и после этого Тиберий отказался с ней спать. На то были три причины. Во-первых, Юлия старела и теряла свою стройность, а Тиберий терпеть не мог пышных форм — чем больше женщина походила на мальчика, тем лучше. (Випсания была совершенно воздушной.) Во-вторых, Юлия оказалась чересчур требовательна в своей страсти, отвечать на которую Тиберии не хотел, а когда он отвергал ее, она впадала в истерику. А в-третьих, он обнаружил, что, будучи отвергнута супругом, Юлия мстит ему тем, что заводит любовников, которые дают ей то, в чем он отказал.
К несчастью. Тиберии не мог добыть никаких улик ее неверности, кроме свидетельства рабов, так как Юлия вела себя осмотрительно, а показании рабов было недостаточно, чтобы, опираясь на них, просить у Августа разрешения развестись с его единственной любимой дочерью. Однако Ливии Тиберий ничего не сказал, так как его ненависть к ней равнялась его недоверию, и он предпочитал молча страдать. Тиберий подумал, что, если ему удастся уехать из Рима, оставив Юлию, возможно, она перестанет остерегаться и Август сам в конце концов узнает о ее поведении. Вот если бы где-нибудь на границе развязалась война, достаточно серьезная, чтобы его туда отправили главнокомандующим! Это был его единственный шанс. Но всюду все было спокойно, да и самому Тиберию порядком надоело сражаться. После смерти моего отца к нему перешло командование германскими армиями (Юлия настояла на том, чтобы сопровождать его к Рейну), и он вернулся в Рим всего несколько месяцев назад. С первого дня его возвращения Август выжимал из него все соки, поручив ему трудную и неприятную задачу обследовать, как ведутся дела в работных домах и каковы вообще условия труда в районах, где живет беднота. Как-то раз, забыв на миг об осторожности, Тиберий воскликнул, обращаясь к Ливии: «О, мать, если б я мог избавиться, хотя бы на несколько месяцев, от этой невыносимой жизни!» Она напугала его, ничего не ответив и гордо покинув комнату, но позднее, в тот же день, позвала Тиберия к себе и, к его удивлению, сказала, что решила исполнить его желание и попросить для него у Августа временный отпуск. Ливия приняла это решение отчасти потому, что хотела, чтобы Тиберий чувствовал себя ей обязанным, отчасти потому, что узнала о любовных шашнях Юлии, и ей, как и ему, пришла в голову мысль дать ей возможность сломать себе на этом шею. Но главной причиной было то, что старшие братья Постума Гай и Луций успели подрасти, и их отношения с Тиберием, их отчимом, были весьма натянутые.
Гай, который, по существу, был совсем неплохой малый (как и Луций), до некоторой степени занял в сердце Августа место Марцелла. Но Август, несмотря на предупреждения Ливии, так баловал обоих мальчиков, что можно только удивляться, как они не стали еще хуже, чем были. Они дерзко вели себя со старшими, особенно с теми, по отношению к кому, как они знали, Август в глубине души одобрял такое поведение, и окружили себя роскошью. Когда Ливия увидела, что потворство Августа внукам пресечь нельзя, она изменила политику и стала поощрять его баловство. Она не скрывала этого от мальчиков, надеясь завоевать их доверие. Ливия рассудила также, что если их самомнение еще хоть немного возрастет, они забудутся и попытаются захватить власть в свои руки. У нее была превосходная сеть осведомителей, так что она вовремя узнает про заговор и успеет арестовать зачинщиков. Ливия посоветовала Августу назначить Гая консулом на четырехлетний срок, когда ему было всего пятнадцать, хотя, согласно законам Суллы, гражданин Рима не мог стать консулом раньше чем в сорок три года, а перед этим должен был занять одну за другой три важных государственных должности.[49] Позднее та же честь была оказана Луцию. Ливия также предложила, чтобы Август представил их сенату в качестве «глав юношества». Титул этот, в отличие от Марцелла, которому он был пожалован по определенному поводу, ставил братьев над всеми их ровесниками, равными им по рождению, и давал над ними постоянную власть. Стало совершенно ясно, что Август прочит Гая себе в преемники. Неудивительно, что сыновья тех самых патрициев, которые во времена своей молодости противопоставляли неопытного мальчишку Марцелла испытанному военачальнику и министру Агриппе, теперь делали то же самое, противопоставляя его сына Гая ветерану Тиберию, которого они подвергали бесчисленным оскорблениям. Ливия хотела, чтобы Тиберий последовал примеру Агриппы. Если, одержав столько побед и получив столько публичных почестей, он сейчас удалится на какой-нибудь близлежащий греческий остров, это произведет лучшее впечатление и скорее привлечет к нему всеобщую симпатию, чем если он останется в Риме и будет оспаривать победу на поле политической деятельности у Гая и Луция. (Историческая параллель стала бы еще явственнее, если бы они умерли во время отсутствия Тиберия и Августу вновь понадобилась бы его помощь). Поэтому Ливия обещала уговорить Августа дать Тиберию отпуск на неопределенный срок и разрешить ему отказаться от всех занимаемых им постов, но пожаловать ему почетный титул защитника народа — что обеспечит его неприкосновенность и помешает Гаю убить его, если тот вздумает от него избавиться,
Ливии оказалось исключительно трудно сдержать свое обещание, ведь Тиберий был самым способным министром Августа и самым его удачливым военачальником, и в течение долгого времени старик отказывался смотреть на просьбу жены всерьез. Но Тиберий ссылался на слабое здоровье и убеждал Августа, что его отсутствие выведет Гая и Луция из затруднительного положения, — он признался, что пасынки с ним не в ладах. Август ничего не желал слушать. Гай и Луций были еще мальчишки, лишенные опыта в военных и государственных делах, и, начнись серьезные беспорядки в Риме, провинциях или пограничных областях, от них будет мало проку. Август осознал, возможно, впервые, что в чрезвычайных обстоятельствах Тиберий — единственный, на кого он сможет опереться. Но его сердило, что ему «помогли» это осознать. Он ответил на просьбу Тиберия отказом и заявил, чтобы больше к нему с этим не обращались. Поскольку у Тиберия не оставалось другого выхода, он пошел к Юлии и с умышленной грубостью сказал ей, что брак их превратился в фарс и ему противно находиться с ней в одном доме. Тиберий предложил ей отправиться к Августу и пожаловаться, что ее негодяй муж плохо с ней обращается, и она не будет счастлива, пока не разведется с ним. Август, сказал Тиберий, вряд ли согласится, по семейным соображениям, на их развод, но, возможно, вышлет его из Рима. Он готов отправиться в ссылку, лишь бы не жить с ней вместе.
Юлия решила забыть, что когда-то любила Тиберия. Он заставил ее много страдать. Он не только пренебрегал ею, когда они бывали одни, но, как узнала Юлия, начал понемногу приобретать те мерзкие привычки, из-за которых позже его имя внушало такое отвращение всем добропорядочным людям. Поэтому Юлия поймала его на слове и пожаловалась Августу в куда более сильных выражениях, чем мог предвидеть Тиберий, тщеславно полагавший, будто она все еще, несмотря ни на что, его любит. Августу всегда было трудно скрывать, что в качестве зятя Тиберий ему не по душе — это, естественно, поощряло сторонников Гая, — и теперь в ярости он принялся метаться по комнате, обрушивая на Тиберия все ругательства, какие приходили ему на язык. Однако он не преминул напомнить Юлии, что она сама во всем виновата, — разве он, Август, не предупреждал ее, каков Тиберий; послушалась бы отца — не было бы разочарования в муже. И хотя он очень любит и жалеет ее, расторгнуть их брак он не может. О том, чтобы разорвать союз между его дочерью и пасынком, союз, которому придавалось такое большое политическое значение, нечего и говорить; Ливия, он уверен, увидит это в таком же свете. Тогда Юлия стала умолять его, чтобы Тиберия по крайней мере отправили куда-нибудь на год или на два, потому что ей невыносимо его присутствие даже на расстоянии в сто миль. На это Август в конце концов согласился, и через несколько дней Тиберий уже был на пути к Родосу, который он давным-давно выбрал как идеальное место для жизни после отставки. Август, хотя и даровал ему по настоянию Ливии титул трибуна — защитника народа, ясно дал понять, что ничуть не опечалится, если никогда больше не увидит его.
Никто, кроме главных персонажей этой трагикомедии, не знал, почему Тиберий покинул Рим, и Ливия использовала нежелание Августа обсуждать этот вопрос публично в интересах Тиберия. Она говорила своим друзьям «по секрету», что Тиберий решил удалиться от дел в знак протеста против скандального поведения сторонников Гая и Луция. Она добавляла, что Август ему сочувствует и сначала отказался принять его отставку, обещая заставить обидчиков умолкнуть, но Тиберий, по собственным его словам, не хотел раздувать вражду между собой и сыновьями жены и подтвердил непреклонность своего намерения тем, что голодал четыре дня. Чтобы поддержать этот фарс, Ливия отправилась провожать Тиберия в Остию, римский порт, и умоляла его там от имени Августа и своего собственного изменить решение. Она даже устроила так, что все члены ее семьи — маленький сын Тиберия Кастор, моя мать, Германик, Ливилла и я — приехали в Остию вместе с ней и усилили пикантность ситуации, добавив наши мольбы к ее собственным. Юлия не появилась, и ее отсутствие только подтвердило то впечатление, которое пыталась создать Ливия — что жена стоит на стороне сыновей против мужа. Это была забавная и хорошо поставленная сцена. Мать моя играла превосходно, трое детей, которых как следует натаскали дома, произносили слова своей роли так, словно они шли от самого сердца. Я растерялся и не мог выдавить из себя ни звука, пока Ливилла не ущипнула меня, тогда я расплакался и произвел больший эффект, чем все остальные. Мне было четыре года, когда все это случилось, и лишь когда мне исполнилось двенадцать, Август был вынужден против своего желания призвать дядю в Рим, где к тому времени произошли перемены в политической жизни.
Теперь о Юлии. Она заслуживает куда большего сочувствия и симпатии, чем она снискала в Риме. Хотя она любила удовольствия и развлечения, по природе она была, полагаю, скромная, добросердечная женщина, единственная из моих родственниц, у кого находилось для меня доброе слово. Я полагаю также, что не имелось никаких оснований обвинять ее, как это делали впоследствии, в том, будто она изменяла Агриппе, когда была за ним замужем. Все ее три сына — вылитые его копии. А произошло на самом деле вот что. Овдовев, она, как я уже упоминал, влюбилась в Тиберия и уговорила Августа дозволить ей выйти за него. Тиберий, в ярости от того, что ему пришлось развестись с Випсанией, чтобы жениться на ней, держался с Юлией очень холодно. Она опрометчиво обратилась за советом к Ливии, которой хоть и боялась, но доверяла. Ливия дала ей приворотное зелье, сказав, что его надо пить целый год и тогда она станет неотразимой для мужа; принимать его надо раз в месяц, в полнолуние, и произносить при этом определенные молитвы Венере; об этом нельзя обмолвиться ни одной душе, иначе снадобье потеряет свою благотворную силу и причинит ей немалый вред. На самом деле Ливия дала Юлии — очень жестокий поступок — порошок из растертых зеленых мушек, которые водятся в Испании, и он так подстегнул ее вожделение, что она словно обезумела. (В дальнейшем я объясню, как я узнал об этом.) Какое-то время Юлия действительно разжигала страсть Тиберия безудержной распущенностью, к которой побуждало ее любовное зелье, вопреки ее врожденной скромности, но вскоре она надоела ему, и он отказался делить с ней супружеское ложе. Под воздействием злого снадобья, принимать которое, видимо, вошло у нес в привычку, Юлия была вынуждена удовлетворять свое желание при помощи любовных связей с теми молодыми придворными, на молчание и осмотрительность которых она могла положиться. Так было в Риме; в Германии и Франции она соблазняла телохранителей Тиберия и даже германских рабов, угрожая, если они колебались, обвинить их в том, что они сами предлагали ей близость, а за это их запороли бы до смерти. Так как Юлия все еще была красива, колебания, по-видимому, длились недолго.
После ссылки Тиберия Юлия позабыла осторожность, и вскоре весь Рим узнал об ее похождениях. Ливия и словом ни о чем не обмолвилась Августу, уверенная, что придет время и это дойдет до его ушей из какого-нибудь другого источника. Но слепая любовь Августа к Юлии вошла в поговорку, и никто не осмеливался ничего ему сказать. Через некоторое время люди решили, что уж теперь-то Август все знает, и, раз прощает дочери ее поведение, тем более следует молчать. Ночные оргии Юлии на Рыночной площади и даже на самой ростральной трибуне[50] вызывали возмущение всего Рима, однако прошло четыре года, прежде чем у Августа открылись глаза. Только тогда он услышал всe, и не от кого-нибудь, а от родных сыновей Юлии — Гая и Луция, которые пришли к нему вдвоем и возмущенно спросили, долго ли еще он намерен позволять их матери позорить собственное его имя и имя своих внуков. Они понимают, сказали юноши, что забота о репутации семьи заставляет Августа быть терпеливым с дочерью, но всякому долготерпению должен быть предел. Что им — ждать, пока мать одарит их кучей братьев-ублюдков от разных отцов? Когда на ее выходки будет официально обращено внимание? Август слушал с ужасом и удивлением и долгое время лишь молча глядел на них, широко раскрыв глаза и беззвучно шевеля губами. Наконец к нему вернулся голос, и он, задыхаясь, позвал Ливию. Гай и Луций повторили все слово в слово в ее присутствии; Ливия сделала вид, будто плачет, и сказала, что последние три года Август сознательно пропускал правду мимо ушей, и это было ее самой большой печалью. Несколько раз, сказала Ливия, она собиралась с духом, чтобы поговорить с ним, но ей было совершенно ясно, что он не хочет слышать от нее ни единого слова. «Я была уверена, что ты все знаешь, но вопрос этот слишком больной, чтобы обсуждать его даже со мной…» Август, стиснув виски, со слезами отвечал, что до него не доходили никакие слухи и он не питал ни о чем никаких подозрений, будучи уверенным в том, что его дочь — самая добродетельная женщина Рима. Почему же тогда, спросила Ливия, Тиберий добровольно удалился на Родос? Может быть, ему нравится жить в изгнании? Нет, он уехал потому, что был не в силах обуздать распутство жены и огорчался тем, что Август, как он полагал, закрывает на это глаза. Поскольку Тиберий не хотел восстанавливать против себя Гая и Луция, ее сыновей, обращаясь к Августу за разрешением о разводе, что ему еще оставалось, как не покинуть пристойным образом Рим?
Разговор о Тиберии пропал зря, Август накинул полу тоги на голову и ощупью направился в свою спальню, где заперся и оставался там, никого, даже Ливию, к себе не пуская, целых четыре дня, в течение которых он не ел, не пил и не спал и даже ни разу не брился, что было еще большим доказательством глубины его горя. Наконец Август дернул шнур, который проходил через отверстие в стене в комнату Ливии: серебряный звоночек зазвонил. Ливия поспешила к нему, придав лицу любящее, заботливое выражение; Август, все еще не доверяя голосу, написал на вощеной табличке одну фразу по-гречески: «Пусть ее отправят в пожизненное изгнание, но не говорят мне куда». Он протянул Ливии перстень с печатью, чтобы она написала в сенат письмо от его имени, рекомендуя изгнание Юлии. (Эта печать, между прочим, представляла собой большой смарагд, на котором была вырезана голова Александра Македонского в шлеме, и была похищена из его гробницы вместе с мечом, нагрудником и прочей амуницией героя. Август пользовался этой печатью по настоянию Ливии, хотя и не без колебаний, так как сознавал, что это слишком самонадеянно с его стороны. Но однажды ему приснился сон: сердито нахмурившись, Александр отсек ему палец, на котором был перстень. Тогда Август сделал себе собственную печатку: рубин из Индии, обработанный знаменитым золотых дел мастером Диоскуридом, которую наследники Августа носили как знак их верховной власти).
Ливия написала письмо сенату в очень сильных выражениях. Она сочинила его, следуя стилю самого Августа, которому было нетрудно подражать, так как он всегда предпочитал ясность изяществу, например, сознательно повторял одно и то же слово в предложении вместо того, чтобы подыскивать синоним или использовать перифразу (как это обычно принято в изящной словесности), и имел склонность злоупотреблять предлогами. Ливия не показала письмо Августу и послала его прямо в сенат, который тут же вынес решение о пожизненной ссылке Юлии. Ливия перечислила ее проступки в таких подробностях и выразила, якобы от лица Августа, такое к ним отвращение, что лишила его всякой возможности изменить впоследствии свой приговор и просить сенат вернуть Юлию в Рим. Попутно Ливия обстряпала неплохое дельце, представив в качестве любовников Юлии трех или четырех человек, погубить которых было в ее интересах. Среди них был один из моих дядьев, Юл, сын Антония, к которому Август весьма благоволил ради Октавии и сделал его консулом. Назвав его имя в письме к сенату, Ливия всячески подчеркивала, какой неблагодарностью он отплатил своему благодетелю, и намекала, что у них с Юлией был сговор захватить верховную власть. Юл наложил на себя руки. Я думаю, что обвинение в заговоре не имело под собой оснований, но как единственный оставшийся в живых сын Антония от Фульвии (Антилла, старшего его сына, Август убил сразу же после того, как Антоний покончил с собой, а двое других, Птоломей и Александр, сыновья Антония от Клеопатры, умерли в детстве) и как бывший консул и муж сестры Марцелла, с которой развелся Агриппа, Юл казался Ливии опасным. Недовольство народа Августом часто выражалось в сожалениях, что не Антоний выиграл битву при Акции. Остальные, кого Ливия обвинила в любовной связи с Юлией, были отправлены в изгнание.
Неделю спустя Август спросил у Ливии, был ли принят «определенный указ», — он теперь никогда не называл Юлию по имени и даже редко упоминал о ней окольным путем, хотя было ясно, что он беспрестанно о ней думает. Ливия сказала ему, что «определенное лицо» было приговорено к пожизненному заключению на острове и уже находится на пути туда. Услышав это, Август опечалился еще больше, ведь Юлия не совершила единственного порядочного поступка, который ей оставался, а именно не покончила жизнь самоубийством. Ливия упомянула, что Феба, камеристка Юлии и главная ее наперсница, повесилась, как только указ об изгнании был обнародован. Август сказал: «Хотел бы я быть отцом Фебы». Еще две недели после того он не выходил из дворца. Я хорошо помню этот ужасный месяц. Нам, детям, по приказу Ливии было ведено надеть траур и не позволялось ни играть, ни шуметь, ни улыбаться. Когда мы снова увидели Августа, он выглядел постаревшим на десять лет, и прошло много времени, прежде чем он решился посетить площадку для игр в школе мальчиков или хотя бы возобновить утренние физические упражнения, состоявшие из ежедневной прогулки быстрым шагом по саду вокруг дворца, а затем бега по дорожке с препятствиями.
Ливия сразу же сообщила все новости Тиберию. По ее подсказке он написал Августу два или три письма, умоляя, подобно ему самому, простить Юлию и говоря, что, хотя она и была ему плохой женой, он хочет, чтобы все имущество, какое он когда-либо ей передавал, осталось в ее владении. Август не ответил. Он был убежден, что холодность и жестокость Тиберия к Юлии и пример безнравственности, который он ей подал, были причиной ее падения. Август не только не вызвал Тиберия в Рим, но отказался продлить срок его полномочий трибуна, когда тот истек в конце следующего года.
Существует солдатская походная песня, которая называется «Три печали сиятельного Августа», написанная в грубом трагикомическом духе, типичном для военного лагеря, которую много лет спустя после изгнания Юлии пели полки, расквартированные в Германии. В ней говорится о том, что сперва Август горевал о Марцелле, затем о Юлии, а затем о полковых орлах, утерянных Варом. Горевал глубоко о смерти Марцелла, еще глубже — о позоре Юлии, но глубже всего — об орлах, потому что с каждым орлом исчезал целый полк самых храбрых римских солдат. В песне, состоящей из многих куплетов, оплакивается злосчастная судьба семнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого полков, которые, когда мне было девятнадцать лет, попасти в засаду в глухом болотистом лесу и были уничтожены германцами, и говорится, что, получив известие об этом не имеющем себе равных несчастье, Август стал биться головой о стену:
Колотясь башкой о стенку, Август поднял страшный рев: «Вар, Вар, Вар, о Вар Квинтиллий, Возврати моих орлов!» Разорвал он одеяло, Разорвал две простыни: «Вар, Вар, Вар, о Вар Квинтиллий, Мне полки мои верни!»В следующих куплетах поется, что Август никогда не давал новым полкам номера тех трех, которые погибли в Германии, и на их месте в армейском списке был пробел. Автор песни заставляет Августа поклясться, что жизнь Марцелла и честь Юлии для него ничто по сравнению с жизнью и честью его солдат и что душа его не найдет покоя, «как блоха на очаге», пока все три орла не будут отвоеваны и положены в Капитолии. Но хотя с тех пор германцы терпели поражение за поражением, никто еще не обнаружил «насеста», где сидели орлы, — так хорошо эти трусы сумели их запрятать. Таким вот образом войска принижали горе Августа из-за Юлии, но я думаю, что на каждый час, что он горевал об орлах, приходился целый месяц, когда он горевал о дочери.
Август не хотел знать, куда ее выслали, потому что тогда он бы постоянно обращался мыслями к этому месту и вряд ли смог бы удержаться и не навестить ее. Так что Ливии ничто не мешало дать волю своей мстительности. Юлию лишили вина, косметики, хорошей одежды — вообще всех предметов роскоши, стражей ей служили евнухи и старики. Ей не было разрешено принимать посетителей, она должна была каждый день прясть пряжу, как в детстве. Остров, куда ее сослали, находился у берегов Кампаньи. Он был очень маленький, и Ливия намеренно усилила страдания Юлии, держа там год за годом без смены одну и ту же стражу; естественно, стражники винили пленницу за то, что оказались сосланы на этот одинокий гнилой остров. Единственный, кто хорошо показал себя в этой некрасивой истории, — мать Юлии, Скрибония, с которой, как вы помните, Август развелся, чтобы жениться на Ливии. Много лет она вела уединенную жизнь вдали от мира и была сейчас очень стара, но она не побоялась пойти к Августу и попросить разрешения разделить изгнание дочери. Скрибония сказала ему в присутствии Ливии, что дочь забрали у нее сразу же после рождения, но она всегда обожала ее на расстоянии и теперь, когда весь свет отвернулся от ее милой девочки, она хочет показать, какова любовь истинной матери. Она считает, что бедное дитя ни в чем не виновато: ее поставили в очень трудное положение. Ливия презрительно расхохоталась, но чувствовала себя, должно быть, довольно неловко. Совладав со своими чувствами, Август знаком показал, чтобы просьба Скрибонии была выполнена.
Пять лет спустя, в день рождения Юлии, Август вдруг спросил Ливию:
— А остров большой?
— Какой остров? — сказала Ливия.
— Остров… на котором живет несчастная женщина.
— О, несколько минут пути от одного конца до другого, я полагаю, — сказала Ливия с нарочитой небрежностью.
— Несколько минут! Ты шутишь?
Август думал, что Юлия живет на каком-нибудь большом острове вроде Кипра, или Лесбоса, или Корфу. Помолчав немного, он спросил:
— Как он называется?
— Пандатерия.
— Что? О, боже, эта дыра? Как жестоко! Пять лет на Пандатерии!
Ливия сурово взглянула на него и сказала:
— Ты, верно, хочешь, чтобы она вернулась в Рим?
Тогда Август подошел к висевшей на стене карте Италии, выгравированной на тонком листе золота, с драгоценными камнями на месте городов. Он не мог говорить и лишь указал пальцем на Регий, живописный греческий город у Мессинского пролива.
Юлию перевезли в Регий, где ей была предоставлена большая свобода и даже позволялось принимать посетителей, — но тот, кто хотел ее повидать, должен был сперва обратиться за разрешением лично к Ливии, объяснить, какое у него дело к Юлии, и заполнить подробный пропуск, который шел к Ливии на подпись, где указывался цвет волос и глаз его владельца, перечислялись все особые приметы и шрамы, чтобы никто другой не мог воспользоваться этим документом. Мало кто хотел подвергаться этой процедуре. Дочь Юлии Агриппина попросила разрешения поехать к матери, но Ливия отказала — по ее словам, из соображений нравственности: Юлия могла плохо повлиять на дочь. Юлию по-прежнему держали в строгости, рядом не было ни одного друга, так как Скрибония умерла от лихорадки на Пандатерии.
Несколько раз, когда Август шел по улицам Рима, горожане кричали ему: «Верни свою дочь! Она достаточно страдала! Верни свою дочь!» Это было очень тяжело для Августа. Однажды он даже велел страже схватить двух человек, которые кричали громче других, и сказал им сурово, что Юпитер их накажет и допустит, чтобы жены и дочери обманули и опозорили их. Эти выходки говорили не столько о жалости к Юлии, сколько о вражде к Ливии, которую все справедливо винили в суровости наказания и в том, что из-за ее искусной игры на гордости Августа он не позволяет себе смягчиться.
Что до Тиберия, то его удобный большой остров год-два вполне его устраивал. Климат там превосходный, еда хороша, и у дяди было предостаточно свободного времени, чтобы возобновить свои литературные занятия. Стиль его греческой прозы весьма неплох, и он написал несколько изящных незатейливых греческих элегий в подражание таким поэтам, как Эвфорион и Парфений.[51] Они где-то у меня есть. Не один час у Тиберия уходил на дружеские диспуты с членами тамошних философских школ. Он увлекся классической мифологией и нарисовал огромную генеалогическую схему в виде концентрических кругов, пронзенных линиями родства, которые расходились лучами от нашего самого первого предка Хаоса, породившего Отца Время, и достигали наружной окружности, усеянной нимфами, царями и героями. Работая над этой схемой, Тиберий не раз ставил в тупик экспертов по генеалогии такими, к примеру, вопросами: «Как звали бабку Гектора по материнской линии?»[52] или: «Был ли у Химеры отпрыск мужского пола?»,[53] а затем предлагал им привести соответственные стихи кого-либо из древних поэтов в подтверждение ответа. Между прочим, как раз воспоминание об этой таблице, находящейся сейчас в моем владении, вызвало знаменитую шутку моего племянника Калигулы по адресу Августа: «О да, он приходится мне двоюродным дедом. Мы были точно в таком родстве, как пес Цербер[54] с Аполлоном». По правде говоря, если подумать, Калигула здесь ошибается. Вам не кажется, нет? Двоюродным дедом Аполлона был Тифон, согласно одним авторитетным источникам — отец, согласно другим — дед Цербера. Но раннее генеалогическое древо богов так запутано и так изобилует кровосмесительными союзами — сын с матерью, брат с сестрой, — что, возможно, Калигула и доказал бы свою правоту.
Так как Тиберий был народный трибун, жители Родоса смотрели на него со страхом и почтением, и должностные лица провинции, плывущие на Восток, где их ждал какой-нибудь пост, или возвращавшиеся оттуда, не забывали сделать крюк на своем пути, чтобы нанести ему визит и засвидетельствовать почтение. Но Тиберий настаивал на том, что он — просто частное лицо, отклонял любые публичные почести и обычно обходился без положенных ему телохранителей. Только однажды он употребил власть, которую давало его звание: арестовал и присудил к месячному тюремному заключению молодого грека, который во время грамматического диспута, где Тиберий был председателем, пытался пренебречь его замечаниями. Дядя держался в хорошей форме, благодаря тому что ездил верхом и занимался упражнениями в гимнастическом зале, и был в курсе всех дел в Риме — Ливия каждый месяц присылала ему письмо с последними новостями. Кроме дома, в главном городе острова ему принадлежала небольшая вилла неподалеку, выстроенная на высоком мысу, господствующем над морем. Вверх по утесу к вилле шла потайная тропинка, по которой его доверенный вольноотпущенник, человек большой физической силы, проводил к Тиберию всяких сомнительных личностей — проституток, педерастов, гадалок, магов, — с которыми он обычно коротал вечера. Говорили, будто очень часто эти его гости, если Тиберий был ими недоволен, почему-то оступались на обратном пути и падали в море.
Я уже упоминал, что Август отказался вновь утвердить Тиберия на посту трибуна, когда истекло пять лет. Можно представить, что это поставило того в очень неловкое положение на Родосе, где он не пользовался особой популярностью; увидев, что дядя лишен своих телохранителей, судейской власти и права личной неприкосновенности, родосцы сперва стали обращаться с ним с фамильярностью, а затем и с пренебрежением. Например, один известный греческий учитель философии, к которому Тиберий обратился за разрешением посещать его занятия, ответил, что у него нет сейчас свободных мест, пусть зайдет через неделю, возможно, тогда место и освободится. Затем Ливия сообщила дяде, что Гая послали губернатором в Малую Азию. Но, хотя он был совсем недалеко, в Хиосе, Гай не заехал на Родос и не нанес Тиберию ожидаемого визита. Тиберий слышал от кого-то из друзей, что Гай верит в ложные слухи, которые ходят по Риму, будто он, Тиберий, и Ливия составили заговор, чтобы поднять в войсках восстание, и что кто-то из свиты Гая даже предложил на публичном пиру, где все порядочно выпили, что он сплавает на Родос и привезет обратно голову «ссыльного». Гай сказал тому, что «ссыльный» его не страшит, пусть уж его бесполезная голова остается на его бесполезных плечах. Тиберии проглотил обиду, тут же отплыл в Хиос, чтобы помириться с пасынком, и вел себя с ним с таким смирением, что об этом все потом толковали. Тиберий, самый выдающийся римский гражданин после Августа, обхаживает мальчишку, которому нет и двадцати, и к тому же сына его собственной беспутной жены! Гай принял его холодно, но был польщен. Тиберий умолял его ничего не опасаться, ибо дошедшие до него, Гая, слухи были столь же безосновательны, сколь злонамеренны. Тиберий сказал, что не собирается возобновлять политическую карьеру, которую он прервал из уважения к самому Гаю и его брату Луцию; хочет он лишь одного: чтобы ему позволили провести остаток дней в мире и уединении, которые он научился ценить превыше всех публичных почестей.
Гай, польщенный возможностью проявить великодушие, взял на себя миссию переслать Августу письмо Тиберия с просьбой разрешить ему вернуться в Рим и обещал подкрепить это письмо собственным ходатайством. Тиберий писал, что он покинул Рим, только чтобы не мешать юным принцам, своим пасынкам, но теперь, когда они выросли и твердо стоят на ногах, не осталось никаких препятствий к тому, чтобы ему спокойно жить в самом Риме; он добавил, что Родос ему надоел и он жаждет вновь увидеть своих родичей и друзей. Гай переслал это письмо с обещанным ходатайством. Август ответил Гаю, не Тиберию, что Тиберий уехал, несмотря на настоятельные уговоры его родичей и друзей, когда государство очень в нем нуждалось; не ему теперь ставить условия возвращения. Содержание его письма получило широкую огласку, и тревога Тиберия еще усилилась. Он слышал, что во Франции, в Ниме, народ сбросил статуи, воздвигнутые в память о его победах, и что к Луцию тоже поступили о нем ложные сведения, которым тот был склонен верить. Тиберий уехал из города и поселился в маленьком домике в глухой части острова и лишь изредка посещал свою виллу на мысу. Он перестал заботиться о здоровье и даже о внешнем виде, редко брился, ходил в шлепанцах и халате. В конце концов Тиберий отправил приватное письмо Ливии, где объяснил, в каком он опасном положении. Он дал ей торжественное обещание, что, если она сможет добиться для него разрешения вернуться в Рим, он будет до конца жизни поступать по ее указке. Дядя писал, что обращается к ней не столько, как к любящей матери, сколько в первую очередь, как к истинному, хотя и не признанному пока, кормчему государственного корабля.
2 г. до н. э.
Это-то и было нужно Ливии; она сознательно до этих пор не просила Августа призвать Тиберия в Рим. Она хотела, чтобы дядя так пресытился бездействием и публичным бесчестьем, как раньше — деятельностью и публичными почестями. Ливия отправила ему депешу, где говорила, что получила его письмо и согласна на предложенную сделку. Через несколько месяцев Луций таинственным образом умер в Марселе, на пути в Испанию, и Ливия принялась обрабатывать оглушенного этим ударом Августа, говоря, как ей все эти годы недоставало помощи ее дорогого сына Тиберия, о возвращении которого она до сих пор не отваживалась просить. Конечно, Тиберий поступил некрасиво, но он получил хороший урок, и его личные письма к ней говорят о безграничной преданности и любви к Августу. Теперь, когда брат его умер, доказывала она, Гаю, поддержавшему просьбу Тиберия о возвращении, понадобится рядом преданный ему душой и телом человек, которому он сможет доверять.
Однажды вечером на виллу Тиберия на мысу пришел астролог по имени Фрасилл, араб по происхождению. Он бывал здесь раза два-три и сделал несколько многообещающих предсказаний, но ни одно из них до сих пор не исполнилось. Тиберий, почти потеряв в него веру, сказал своему вольноотпущеннику, что, если Фрасилл опять обманет его ожидания, придется ему споткнуться на обратном пути. Когда Фрасилл появился, Тиберий первым делом спросил:
— Каково взаимоположение моих звезд сегодня?
Фрасилл сел и, взяв кусок угля, сделал на каменной столешнице сложный астрологический расчет. Наконец он сказал:
— Они находятся в наиболее благоприятном сближении. Кризис твоей жизни миновал, все дурное осталось позади. С этого дня фортуна повернулась к тебе лицом.
— Превосходно, — холодно проговорил Тиберий, — а как насчет твоих звезд?
Фрасилл снова занялся расчетами, затем взглянул на Тиберия в действительном или притворном смятении:
— О, боги! — воскликнул он. — Мне угрожает ужасная опасность с воздуха и с воды.
— И никакой возможности избежать ее? — спросил Тиберий.
— Трудно сказать. Если мне удастся остаться в живых в течение ближайших двенадцати часов, я буду жить не менее счастливо — для моего положения, — чем ты. Но все недоброжелательные ко мне планеты находятся в сближении, и похоже, что опасности не избежать. Только Венера может спасти меня.
— Что такое ты сейчас говорил насчет нее? Я забыл.
— Что она сближается со Скорпионом, твоим созвездием, предвещая удивительно счастливую перемену в твоей судьбе. Разреши мне сделать дальнейшие выводы из этого крайне важного сближения: ты вскоре станешь членом рода Юлиев, который, вряд ли мне надо об этом напоминать, ведет свое происхождение по прямой линии от Венеры, матери Энея. Тиберий, моя скромная судьба таинственным образом связана с твоей блистательной судьбой. Если хорошие известия достигнут тебя до завтрашнего рассвета, это явится знамением того, что меня будет ждать впереди почти столько же счастливых лет жизни, сколько тебя самого.
Они сидели в портике, и внезапно на колено Фрасилла опустился королек или какая-то другая маленькая птичка и, наклонив головку набок, стала что-то чирикать. Фрасилл сказал ей:
— Спасибо, сестричка, твои новости пришли в самый раз. — Затем он обернулся к Тиберию: — Корабль везет тебе хорошие известия. Я спасен. Опасность отвращена.
Тиберий вскочил с места и, обняв Фрасилла, признался в своих злых намерениях. Фрасилл не ошибся: на корабле прибыло официальное послание от Августа, который сообщал Тиберию о смерти Луция и говорил, что при сложившихся обстоятельствах ему милостиво дозволяется вернуться в Рим, хотя пока только как частному лицу.
Ну а как обстояли дела у Гая? Август очень боялся, как бы во время его губернаторства на Востоке не начались бы волнения — справиться с ними Гаю было бы не под силу. К несчастью, царь Армении восстал, а царь Парфии угрожал с ним объединиться, что поставило Августа в затруднительное положение. Хотя Гай показал себя умелым губернатором в мирное время, Август сомневался, что юноша сумеет успешно возглавить такую важную военную кампанию, а сам он был слишком стар, чтобы участвовать в ней, да к тому же у него хватало дел в Риме. Однако Август не мог никого послать на Восток на смену Гаю, так как Гай был консулом, и его не допустили бы до отправления этой должности, если бы оказалось, что он не способен быть главнокомандующим. Положение было безвыходным, оставалось предоставить Гая его судьбе и уповать на лучшее.
Сперва Гаю везло. Опасность со стороны Армении миновала, так как с востока в нее вторглись орды кочевников-варваров. В то время как их изгоняли, царь Армении был убит. Услышав об этом, а также о большой армии, которую собрал Гай, царь Парфии помирился с ним, к большому облегчению Августа. Но новый царь Мидэ, посаженный Августом на престол Армении, был неугоден армянской знати, и, когда Гай отослал за ненадобностью дополнительные полки, армяне опять объявили войну. Гай снова собрал армию и выступил походом на Армению, где несколько месяцев спустя был предательски ранен вражеским военачальником, пригласившим его на переговоры. Рана была легкая. Гай не обратил на нее внимания и успешно завершил кампанию. Но лечили его, видимо, неверно, и здоровье Гая, которое последние два года неизвестно почему становилось все хуже, серьезно пошатнулось: он потерял способность сосредотачивать мысли. В конце концов Гай обратился к Августу с просьбой разрешить ему отказаться от всех должностей и жить частной жизнью. Август был огорчен, но просьбу удовлетворил. По пути домой Гай умер. Таким образом, из всех сыновей Юлии остался один пятнадцатилетний Постум, а Август настолько примирился с Тиберием, что, как предсказал Фрасилл, усыновил его, сделав членом рода Юлиев и, вместе с Постумом, своим наследником.
Восток был на какое-то время замирен, но когда вновь вспыхнувшая в Германии война — я упоминал о ней в связи с учебным сочинением, которое я написал для Афинодора, — приняла серьезный оборот, Август сделал Тиберия главнокомандующим и выказал вернувшееся доверие, назначив его на десять лет народным трибуном. Кампания была жестокая, и Тиберий провел ее с прежним умением. Однако Ливия настаивала на его частых приездах в Рим, чтобы он был в курсе всех политических событий. Тиберий не забывал об их сделке и позволял ей во всем собой руководить.
Глава VII
1 г. до н. э.
Я вернулся на несколько лет назад, чтобы рассказать о дяде Тиберии, но, следуя за событиями его жизни вплоть до усыновления Тиберия Августом, я опередил мою собственную историю. Я постараюсь посвятить ряд последующих глав событиям, которые произошли до того, как мне минуло шестнадцать. В основном это будет перечень помолвок и браков между нами, молодыми аристократами. Первым достиг совершеннолетия Германик — ему исполнилось четырнадцать тринадцатого сентября, но празднование совершеннолетия всегда происходит в марте. Как это принято, Германик вышел ранним утром с венком на голове из нашего дома на Палатинском холме, в последний раз надев, как положено мальчикам, платье с пурпурной каймой. Впереди бежали поющие дети, разбрасывая цветы, рядом шел эскорт из друзей-патрициев, а позади — огромная толпа горожан, разделившихся на группы согласно их общественному положению. Процессия медленно спустилась по склону холма и вступила на рыночную площадь, где Германика встретили восторженные клики. Он ответил короткой речью. Затем процессия поднялась по склону Капитолийского холма. У Капитолия их ждали Август и Ливия, чтобы приветствовать Германика. В Капитолийском храме он принес в жертву Юпитеру Громовержцу белого быка и впервые надел белую мужскую тогу. К моему великому разочарованию, мне не разрешили его сопровождать. Идти пешком, мол, мне будет слишком трудно, а если меня понесут на носилках, это произведет плохое впечатление. Из всех церемоний я видел лишь, как, вернувшись домой, Германик посвящал домашним пенатам свое детское платье и украшения и как бросал монеты и пирожки в толпу, собравшуюся у входа в дом.
Через год Германик женился. Август делал все, что мог при помощи законодательства, чтобы поощрять браки между знатными семьями. Империя была велика и нуждалась в большем количестве должностных лиц и старших армейских офицеров, чем могли дать аристократия и дворянство, несмотря на то, что их ряды все время пополнялись за счет простолюдинов. Когда именитые господа сетовали на вульгарность новоиспеченной знати, Август обычно отвечал раздраженно, что это наименее вульгарные из тех, кого он мог найти. Лекарство в их собственных руках, говорил он: все высокородные римляне и римлянки должны как можно раньше вступать в брак и рожать как можно больше детей. Августа не переставала терзать мысль о том, что число браков и количество детей в среде правящих классов неуклонно идет на убыль.
Однажды, когда благородное сословие всадников, из числа которых избирали сенаторов, стало жаловаться на суровость его законов против холостяков, Август вызвал все сословие на рыночную площадь, чтобы прочитать им мораль. Когда всадники собрались, он разделил их на две группы: женатых и холостяков. Неженатых оказалось гораздо больше. К каждой из этих групп он обратился отдельно. Он сильно распалил себя, обращаясь к холостякам, называл их разбойниками и свиньями и даже, прибегнув к забавной фигуре речи, убийцами собственного потомства. В это время Август уже был стариком, с присущими его возрасту раздражительностью и причудами, тем более естественными для человека, возглавлявшего государство чуть не всю свою жизнь. Он спросил, может, им пригрезилось, будто они — девственные весталки? Так весталки ни с кем не спят, чего нельзя сказать о них. Не будут ли они так добры объяснить ему, почему вместо того, чтобы делить ложе с добропорядочными женщинами своего сословия и зачинать здоровых детей, они тратят мужскую силу на грязных рабынь, мерзких азиатских и греческих шлюх? А если ему верить своим ушам, то партнером их ночных развлечений часто бывает одно из тех отвратительных созданий, профессию которых он, Август, даже не хочет упоминать, чтобы признание того факта, что они существуют в Риме, не расценили бы как прощение. Если бы это зависело от него, мужчина, который уклоняется от своего общественного долга и в то же время ведет распутную жизнь, подвергался бы такому же ужасному наказанию, как весталка, нарушившая обет девственности, — его закапывали бы живым в землю.
Что касается нас, женатых мужчин (ибо я тоже в то время уже был женат), Август произнес по нашему адресу настоящий панегирик, простирая к нам руки, словно хотел обнять. «Вас немного по сравнению с огромным населением Рима. Вы куда малочисленнее, чем ваши собратья вон там, не желающие исполнить свои естественные обязанности перед обществом. Однако по этой самой причине я возношу вам хвалу и вдвойне благодарен за то, что вы показали себя послушными моим желаниям и приложили все силы, чтобы увеличить население государства. Благодаря таким людям римляне будущего станут великой нацией. Сперва нас была горстка, но когда мы все поголовно стали жениться и производить на свет детей, мы смогли соперничать с соседями не только в мужественности наших граждан, но и в размере населения. Будем же всегда об этом помнить. Подверженные смерти, мы должны утешаться бесконечной преемственностью поколений, сменяющих одно другое, как несущие факел участники эстафеты; так точно при помощи друг друга мы можем сделать бессмертной ту часть нашей природы, которой никогда не достичь божественного блаженства. Именно по этой причине первый и самый великий бог, сотворивший нас, разделил человеческую расу на две половины, он создал одних мужчинами, других — женщинами и вселил в эти половины взаимное тяготение, сделав их любовный союз плодоносным, чтобы, благодаря непрерывному размножению, смертные стали в некотором смысле бессмертны. Предание гласит, что сами боги — одни мужского, другие женского пола и что все они взаимосвязаны кровным родством — отцовством и материнством. Вы видите, что даже среди существ, которые не нуждаются в таком средстве, брак и деторождение считаются благородным обычаем».
Я с трудом удерживался от смеха, во-первых, меня хвалили за то, что было навязано мне против воли (я скоро расскажу вам об Ургуланилле, на которой я был в то время женат), а во-вторых, все это было чистым фарсом. Что толку обращаться к нам с такой речью, когда Август прекрасно знает, что «увиливают», как он это называл, от брака не мужчины, а женщины? Если бы он собрал вместо нас женщин и нашел к ним правильный подход, возможно, из этого что-нибудь бы и вышло.
Я помню, как-то раз я услышал, как две вольноотпущенницы моей матери обсуждали современный брак с точки зрения семейной женщины. Что она выигрывает, выходя замуж? — спрашивали они. Нравы так распущенны, что никто больше не принимает брак всерьез. Бесспорно, некоторые старомодные мужчины настолько уважают супружество, что недовольны, когда жены рожают им детей от друзей и домашних слуг; а некоторые старомодные женщины настолько уважают чувства своих мужей, что остерегаются беременеть от кого-либо, кроме мужа. Но, как правило, любая недурная собой женщина может в наши дни спать с любым мужчиной, который ей приглянется. А если она выйдет замуж, а затем муж ей надоест, как это обычно случается, и она захочет развлечься с кем-то другим, ей, возможно, придется бороться с гордостью или ревностью мужа. И финансовое положение женщины обычно не становится лучше после замужества. Ее приданое переходит в руки мужа или свекра, если он еще жив, как главы семьи, а с мужем или со свекром труднее поладить, чем с отцом или старшим братом, чьи уязвимые места женщина давно изучила. Замужество просто означает обременительные хозяйственные заботы. Что до детей — кому они нужны? Они причиняют вред здоровью госпожи и служат помехой ее забавам за несколько месяцев до рождения, и, хотя после рождения их тут же передают в руки кормилицы, нужно еще оправиться от этой неприятности — родов, и частенько случается, что, родив двух-трех детей, женщина навсегда теряет фигуру. Посмотри, как изменилась красавица Юлия, послушно уступив желанию Августа иметь потомство. А если госпожа любит своего мужа, ей приходится мириться с тем, что во время ее беременности он утешается с другими женщинами, а когда родится ребенок — и не взглянет на него. К тому же, если не говорить о всем прочем, кормилицы в наши дни на редкость беспечны, и дети часто умирают. Какое счастье, что есть эти ловкие греческие доктора — если дело не зашло слишком далеко, они могут за два-три дня избавить вас от нежелательного ребенка, от чего никто не пострадает, и все останется шито-крыто. Конечно, некоторые, даже вполне современные, женщины питают старомодную тягу к детям, но ведь всегда можно усыновить ребенка, купив его у человека из порядочной семьи, на которого сильно нажимают кредиторы…
Август дал сословию всадников разрешение жениться на простолюдинках, даже на вольноотпущенницах, но это мало исправило положение. Всадники если уж и женились, то ради богатого приданого, а не по любви и не ради детей, и вольноотпущенница не была такой уж завидной партией, к тому же всадники, особенно те, кто был недавно включен в сословие, не хотели жениться на женщинах ниже себя по званию. В семьях старой знати картина была еще хуже: меньше выбор среди женщин, подходящих по степени родства, и более жесткие условия брачного контракта. Жена попадала в полную зависимость от главы семьи, в которую входила. Всякая разумная женщина десять раз подумает, прежде чем подпишет такой контракт, ведь расторгнуть его может только развод, а после развода трудно получить обратно имущество, которое она принесла мужу в виде приданого. Однако во всех других, менее аристократических семьях женщина могла законно выйти замуж и при этом остаться независимой и держать под контролем собственное добро, если она оговаривала себе в качестве особого условия, что три ночи в году она будет спать вне стен супружеского дома — это лишало мужа права смотреть на нее как на свою собственность. Женщинам нравилась такая форма брака по тем самым вполне понятным причинам, по которым она не нравилась их мужьям. Практика эта началась среди низкорожденных семей города и распространялась все выше, пока не утвердилась во всех семьях, кроме семей старой знати. Здесь против нее возражали по религиозным мотивам. Из этих семей выбирали государственных жрецов, а согласно принятым установлениям жрец должен быть женат, причем женат по всей форме, и происходить из семьи, где родители тоже были женаты по всей форме. Время шло, и с каждым годом было все труднее находить кандидатов на должность жреца. Наконец в коллегии жрецов оказалось много незаполненных вакансий; надо было что-то предпринять, и юристы нашли выход. Высокорожденным женщинам разрешили, заключая брачный контракт по всей форме, оговаривать, что полный отказ от личной свободы и своего достояния «касается лишь вопросов веры», а в остальном они пользуются всеми благами свободного супружества.
Но это произошло позднее. А пока единственное, что мог сделать Август, помимо законов о штрафах, налагаемых на холостяков и бездетных женатых мужчин, это оказывать давление на старших в семье, чтобы те женили и выдавали замуж детей и внуков (с наказом плодиться и множиться), пока те еще молоды, не понимают, чему их намерены подвергнуть, и вынуждены слепо повиноваться. Чтобы показать хороший пример, всех нас, младших отпрысков рода Августа и Ливии, помолвили и поженили в самом раннем возрасте, допускаемом законом. Как ни трудно этому поверить, Август был прадедом в пятьдесят четыре года и прапрадедом до того, как он умер в семьдесят шесть лет; а Юлия в результате второго, даже не первого, замужества, когда сама еще могла рожать, имела внучку в брачном возрасте. Таким образом, разные поколения частично перекрывали одно другое и генеалогическое древо императорской фамилии могло соперничать по сложности с генеалогическим древом Олимпа. Произошло это не только из-за частых усыновлений и браков между членами рода в более близкой степени родства, чем разрешалось религией, — императорская фамилия была превыше закона, — но потому, что не успевал муж умереть, как его вдову заставляли снова выйти замуж, причем за кого-нибудь из того же узкого родственного кружка. Я постараюсь сейчас разъяснить этот вопрос, избегая ненужных и скучных подробностей.
Я уже упоминал о детях Юлии, главных наследниках Августа, поскольку сама Юлия была отправлена в ссылку и вычеркнута из завещания, а именно: о трех мальчиках — Гае, Луции и Постуме и двух девочках — Юлилле и Агриппине. Младшие члены рода Ливии были: сын Тиберия Кастор, два двоюродных брата Кастора — мой брат Германик и я — и двоюродная сестра — моя сестра Ливилла. Да, не забыть еще внучку Юлии Эмилию. Зa неимением подходящего мужа из рода Ливии Юлилла вышла замуж за богатого сенатора по имени Эмилий (ее двоюродный брат по первому, до Августа, браку Скрибонии) и родила ему дочь. Брак Юлиллы не принес ей удачи, так как Ливия хотела, чтобы внучки Августа выходили замуж только за ее внуков, но, как вы скоро видите, бабку это недолго тревожило. Тем временем Германик женился на Агриппине, красивой серьезной девушке, в которую давно был влюблен. Гай женился на моей сестре Ливилле, но вскоре умер, не оставив детей. Луций, помолвленный с Эмилией, умер, не успев жениться.
После смерти Луция встал вопрос о подходящей паре для Эмилии. У Августа возникла близкая к истине догадка, что Ливия прочит ей в мужья не кого иного, как меня, а он с нежностью относился к девочке и даже помыслить не мог о том, чтобы выдать ее за такого калеку. Август решил воспротивиться этому браку; на этот раз, обещал он себе, Ливии не удастся настоять на своем. Случилось так, что вскоре после смерти Луция Август обедал у Медуллина, одного из своих старейших военачальников, происходившего по прямой линии от диктатора Камилла.[55] После нескольких кубков вина Медуллин с улыбкой сказал Августу, что у него есть внучка, которую он очень любит. Она сделала неожиданно большие успехи в литературных занятиях, и насколько он понял, благодарить за это надо юного родственника его достопочтенного гостя.
Август был удивлен.
— Кто бы это мог быть? Ума не приложу. Я ничего об этом не слышал. Что происходит? Тайный роман под литературным соусом?
— Нечто в этом роде, — сказал, улыбаясь, Медуллин. — Я разговаривал с молодым человеком, и, несмотря на его физические недостатки, он мне понравился. Он еще себя покажет. У него открытая и благородная натура, а своей ученостью он произвел на меня весьма большое впечатление.
Не веря ушам, Август спросил:
— Неужто ты имеешь в виду Тиберия Клавдия?
— Да, именно его, — сказал Медуллин.
Внезапно лицо Августа просветлело — видно, он что-то решил, — и он спросил с неприличной поспешностью:
— Послушай, Медуллин, старый друг, ты бы не возражал, если бы Клавдий стал мужем твоей внучки? Если ты согласишься на этот брак, я буду очень рад устроить его. Номинально глава дома сейчас Германик, но в подобных делах он прислушивается к советам старших. Спору нет, не всякая девушка сумеет преодолеть свое отвращение к глухому и хромому заике, и мы с Ливией, естественно, не хотели его никому навязывать. Но если твоя внучка по собственной воле…
Медуллин сказал:
— Девочка сама заговорила со мной об этом браке и очень тщательно взвесила все «за» и «против». Она говорит, что Тиберий Клавдий — скромный, правдивый и добрый юноша, что из-за хромоты его никогда не отправят на войну и не убьют…
— И он не будет бегать за другими женщинами, — смеясь, закончил Август.
— …И что глух он только на одно ухо, а что до его здоровья вообще…
— Плутовка, верно, рассудила, что на ту «ногу», которая более всего заботит честных жен, он не хромает. И правда, почему он не может стать отцом вполне здоровых детей? Мой старый, хромой, запаленный жеребец Буцефал произвел больше победителей в гонках, чем любой другой племенной конь в Риме. Но, шутки в сторону, Медуллин, твой род — один из самых почтенных, и семья моей жены будет горда породниться с вами. Ты серьезно хочешь сказать, что одобряешь этот союз?
Медуллин ответил, что девочку могла ждать куда худшая участь, не говоря уж о неожиданной чести вступить в родство с самим отцом отчизны.
Так вот, его внучка, Медуллина, была моей первой любовью, и, клянусь, во всем свете было не сыскать такого прелестного создания. Я встретил ее летом в Саллюстиевых садах, куда меня привел Сульпиций, так как Афинодор был болен. Дочь Сульпиция была замужем за дядей Медуллины, Фурием Камиллом, выдающимся воином, который шесть лет спустя был назначен консулом. Когда я увидел ее впервые, я был поражен не только ее неожиданным появлением — она подошла ко мне со стороны глухого уха в то время, как я был поглощен чтением, и когда я поднял глаза от книги, она стояла, склонившись надо мной, и смеялась, — но и ее красотой. Медуллина была тоненькая, с густыми черными волосами, белой кожей и темно-синими глазами, движения ее были быстрые и легкие, как у птички.
— Как тебя зовут? — спросила она дружески.
— Тиберий Клавдии Друз Нерон Германик.
— О, боги, так много имен! Меня зовут Медуллина Камилла. Сколько тебе лет?
— Тринадцать, — сказал я, ни разу не заикнувшись.
— Мне только одиннадцать, но, спорю на что угодно, я перегоню тебя, если мы побежим к тому кедру и обратно.
— Значит, ты чемпионка по бегу, да?
— Могу перегнать любую девочку в Риме и своих старших братьев — тоже.
— Боюсь, ты выиграешь за мой невыход на состязание. Я совсем не могу бегать, я — хромой.
— Ах, бедняжка! Как же ты сюда добрался? Хромал всю дорогу?
— Нет, Камилла, в носилках, как ленивый старик.
— Почему ты называешь меня вторым именем?
— Потому что оно больше тебе подходит.
— Откуда ты это знаешь, умник?
— Этруски дают имя «Камилла» юным охотницам — жрицам Дианы. С таким именем просто нельзя не быть чемпионкой по бегу.
— Мне это нравится. Я никогда не слышала об этом. Я велю всем моим друзьям звать меня теперь Камилла.
— А ты зови меня Клавдий, ладно? Это имя подходит мне. Оно означает «калека». Дома меня зовут Тиберий, но это неподходящее для меня имя, ведь в Тибре очень быстрое течение.
Камилла рассмеялась.
— Хорошо, Клавдий. А теперь расскажи мне, что ты делаешь целыми днями, если не можешь бегать с другими мальчиками.
— Читаю, главным образом, и пишу. В этом году я прочитал кучу книг, а сейчас всего лишь июнь. Эта — на греческом.
— Я еще не умею читать по-гречески. Я только выучила алфавит. Дедушка сердится на меня — отца у меня нет, — думает, что я ленюсь. Конечно, когда говорят по-гречески, я понимаю, нас всегда заставляют говорить по-гречески за едой и когда приходят гости. О чем эта книжка?
— Это часть «Истории» Фукидида. Я как раз читаю про то, как один политик, кожевник по имени Клеон, стал критиковать полководцев, окруживших Спарту. Он сказал, что они не проявляют должного старания и что если бы он командовал греками, он бы через двадцать дней забрал в плен всю армию спартанцев. Афинянам так надоело его слушать, что они поймали его на слове и назначили главнокомандующим.
— Забавно. И что же дальше?
— Он сдержал обещание. Он выбрал хорошего начальника штаба и сказал, пусть воюет, как хочет, лишь бы выиграл битву. Тот знал свое дело, и через двадцать дней Клеон привез в Афины сто двадцать спартанцев высшего ранга.
Камилла сказала:
— Я слышала, как мой дядя Фурий говорил, что самый умный вождь тот, кто выбирает умных людей, чтобы они за него думали.
Затем добавила:
— Ты, наверно, много всего знаешь, Клавдий.
— Считается, что я — круглый дурак, и чем больше я читаю, тем большим слыву дураком.
— Я думаю, ты очень умный. Ты так хорошо рассказываешь.
— Но я заикаюсь. Мой язык не поспевает за мыслями. Он тоже из Клавдиев.
— Может быть, это просто робость. У тебя ведь мало знакомых девочек?
— Да, — сказал я, — и ты- первая, кто надо мной не смеется. Вот если бы нам с тобой хоть изредка встречаться, Камилла! Ты не можешь научить меня бегать, но я могу научить тебя читать по-гречески. Ты бы хотела?
— Очень. Но мы будем учиться по интересным книгам?
— По любой, какой хочешь. Тебе нравится история?
— Поэзия мне нравится больше, в истории надо помнить столько имен и дат. Моя старшая сестра без ума от любовной поэзии Парфения. Ты читал ее?
— Некоторые стихотворения, но они мне не понравились. Они такие манерные. Мне нравятся настоящие книги.
— И мне. Но есть ли у греков любовная поэзия, которая не звучит манерно?
— Есть. Феокрит.[56] Я очень его люблю. Попроси, чтобы тебя привели сюда завтра в это же время, а я принесу Феокрита, и мы сразу начнем.
— Честное слово, это не скучно?
— Да, он очень хорош.
С тех пор мы встречались в саду почти каждый день и, сев в тени, читали вместе Феокрита и разговаривали. Я заставил Сульпиция пообещать, что он никому об этом не скажет, боясь, что если о наших встречах услышит Ливия, она запретит мне туда ходить. Однажды Камилла сказала, что я — самый добрый мальчик из всех, кого она знает, и я нравлюсь ей больше друзей ее братьев. Тогда и я сказал ей, как она мне нравится, и она была очень довольна, и мы поцеловались. Камилла спросила, есть ли для нас хоть какая-нибудь надежда пожениться. Она сказала, что дед сделает для нее все, что она захочет, и что она как-нибудь приведет его с собой в сад и познакомит нас, но согласится ли мой отец? Когда я сказал ей, что у меня нет отца и все решают Август и Ливия, она пришла в уныние. До тех пор мы редко говорили о своих семьях. Камилла никогда не слышала ничего хорошего о Ливии, но я сказал, возможно, бабка не станет возражать — она питает ко мне глубокое отвращение, и ей, по-моему, безразлично, что бы я ни делал, лишь бы не осрамил ее.
Медуллин был честный, горделивый старик и тоже увлекался историей, так что нам было о чем побеседовать. Он служил старшим офицером во время первой военной кампании моего отца и знал множество эпизодов из его жизни, большую часть которых я с благодарностью записал для «Биографии». Однажды мы с Медуллином заговорили о предке Камиллы Камилле, и, когда Медуллин спросил меня, какой его поступок вызывает во мне самое большое восхищение, я ответил: «Когда учитель из Фалерий[57] предательски заманил вверенных его попечению детей к стенам Рима и сказал Камиллу, что фалерианцы будут согласны получить их обратно любой ценой, у того это вызвало лишь возмущение. Он велел содрать с предателя платье, связать ему за спиной руки и дать мальчикам розги и плети, чтобы они хлестали его весь обратный путь домой. Вот это я понимаю!» Читая эту историю, я представлял учителя в виде Катона, а на место мальчиков ставил Постума и себя самого, так что к моему гражданскому восторгу примешивались и личные чувства, но Медуллин был доволен.
Когда Германика попросили дать согласие на наш брак, он с радостью это сделал, так как я рассказал ему о своей любви к Камилле, у дяди Тиберия тоже не было никаких возражений: бабка Ливия скрыла, как обычно, свое недовольство и поздравила Августа с тем, что он поймал Медуллина на слове:
— Он, верно, был пьян, — заметила она, — раз одобрил такой союз, хотя, с другой стороны, приданое он дает маленькое, а честь породниться с императорским домом — велика. В роду Камиллов уже много десятков лет не появлялось людей с выдающимися способностями и высокой репутацией.
Германик сказал мне, что обо всем договорено, и помолвка состоится в ближайший счастливый день — мы, римляне, очень суеверны в этом отношении: никому и в голову не прилет, например, устраивать сражение, или жениться, или покупать дом шестнадцатого июля — день катастрофы при Аллии, случившейся при жизни Камилла.[58] Я не верил своему счастью. Я тоже боялся, что меня женят на Эмилии, сварливой жеманной девчонке с дурным характером, которая в подражание Ливилле дразнила меня и выставляла в глупом свете всякий раз, когда приходила к нам в гости, что случалось часто. Ливия настаивала на том, чтобы помолвка состоялась в самом узком кругу, так как она-де не может на меня положиться — вдруг я сваляю дурака. Я был доволен, я терпеть не мог пышные церемонии. Присутствовать должны были только свидетели; устраивать пиршества не станут, будет лишь ритуальное принесение в жертву барана, чьи внутренности покажут, благоприятны ли нам предзнаменования. Естественно, они окажутся благоприятными, уж Август, который будет совершать обряд, постарается об этом из любезности к Ливии. Затем будет подписан контракт относительно бракосочетания, которое состоится, когда я достигну совершеннолетия, а также обусловлено приданое. Мы с Камиллой возьмемся за руки и поцелуемся, потом я дам ей золотое кольцо, и она вернется в дом деда — тихо и спокойно, как пришла, без свиты из поющих подружек.
Даже сейчас я не могу без боли писать об этом дне. В чистой тоге, в венке, я стоял с Германиком у фамильного алтаря, тревожно дожидаясь, когда появится Камилла. Она запаздывала. Сильно запаздывала. Свидетели потеряли терпение и стали порицать старого Медуллина за плохие манеры — разве можно заставлять людей ждать во время такой важной церемонии! Наконец привратник объявил, что прибыл дядя Камиллы Фурий. Фурий вошел — бледный, как мел, в траурном платье. После нескольких приветственных слов он попросил прощения у Августа и у всех, кто там был, за опоздание и за зловещий вид и сказал:
— Случилось ужасное несчастье. Моя племянница мертва.
— Мертва! — вскричал Август. — Что ты мелешь! Нам передали всего полчаса назад, что она уже на пути сюда.
— Ее отравили. У дверей собралась толпа, как обычно, когда люди узнают, что дочь хозяина дома отправляется на помолвку. Племянница вышла, и женщины, любуясь ею, сгрудились вокруг нее. Вдруг девочка вскрикнула, точно ей наступили на ногу, но никто не обратил на это внимания, и она села в носилки. Не успели мы отъехать, как моя жена Сульпиция увидела, что племянница побледнела, и спросила, не боится ли она. «Ах, тетя, — сказала девочка, — какая-то женщина воткнула мне в руку иглу, мне дурно». Это были ее последние слова. Через несколько минут Медуллины Камиллы не стало. Я поспешил сюда сразу же, как переоделся. Простите меня.
Я разразился слезами, у меня сделалась истерика. Мать, разгневанная моим недостойным поведением, велела вольноотпущеннику увести меня в мою комнату, где я провел много дней в нервной лихорадке, не в состоянии ни есть, ни спать. Если бы не милый Постум, всячески утешавший меня, думаю, я вообще лишился бы рассудка. Отравительницу так и не нашли, и никто не мог объяснить, зачем она это сделала. Несколько дней спустя Ливия сообщила Августу, что, по достоверным источникам, одна из женщин в толпе, гречанка, считала себя, несомненно без оснований, обиженной дядей Камиллы и, возможно, решила отомстить ему таким чудовищным образом.
Когда я поправился, во всяком случае вернулся к обычному своему состоянию, Ливия посетовала в разговоре с Августом на то, что смерть Медуллины Камиллы поставила их в трудное положение. Она боится, что маленькую Эмилию придется все же помолвить с ее невозможным внуком, несмотря на вполне простительное нежелание Августа заключать этот брак. «Все удивляются, — сказала Ливия, — что их не обручили раньше». Так что бабка, как обычно, поставила на своем. Через несколько недель меня помолвили с Эмилией; и я ни разу за всю церемонию не опозорился, так как горе сделало меня ко всему безразличным. Но глаза Эмилии, когда она появилась, были красны от слез ярости, а не горя.
Что касается Постума, то он, бедняга, был влюблен в мою сестру Ливиллу, с которой он часто виделся, так как, выйдя замуж за его брата Гая, она переехала жить во дворец и до сих пор жила там. Все ожидали, что Постум женится на ней, чтобы возобновить семейные связи, разорванные смертью его брата. Ливилле льстила его страстная привязанность, она постоянно флиртовала с ним, но она его не любила. Ее избранником был Кастор — жестокий, беспутный красивый юноша, словно созданный для нее. Я совсем случайно узнал о связи Ливиллы и Кастора и очень расстраивался из-за Постума, который не подозревал, что представляет собой моя сестра, а я не осмеливался сказать ему об этом. В его присутствии Ливилла обращалась со мной с наигранной нежностью, что трогало Постума и злило меня. Я знал, что как только Постум уйдет, она снова начнет надо мной издеваться. Ливия пронюхала насчет интрижки между Ливиллой и Кастором и держала их под наблюдением. Однажды ночью она была вознаграждена, получив записку от доверенного слуги, где сообщалось, что Кастор влез в комнату Ливиллы через балконное окно. Ливия поставила на балкон вооруженного стражника, а затем постучала в дверь и позвала Ливиллу по имени. Минуты две спустя Ливилла открыла ей с таким видом, будто только что проснулась, но Ливия вошла в комнату и нашла за занавесями Кастора. Бабка поговорила с ними без обиняков и, по-видимому, дала им понять, что не доложит о них Августу, который, конечно, отправил бы их в изгнание, только на определенных условиях, и если эти условия будут неуклонно выполняться, она сама поможет им вступить в брак. Вскоре после моей помолвки с Эмилией Ливия уговорила Августа помолвить Постума, к его величайшему горю, с девушкой по имени Домиция, моей двоюродной сестрой с материнской стороны, а Кастор женился на Ливилле. Это было в том же самом году, когда Август усыновил Тиберия и Постума.
4 г. н. э.
Ливия сочла, что Юлилла и ее муж Эмилий могут послужить препятствием ее планам. Ей повезло получить доказательство того, что Эмилий и Корнелий, внук Помпея Великого, составили заговор с целью лишить Августа власти и разделить его посты между собой и некоторыми экс-консулами, в том числе с Тиберием, хотя его мнения на этот счет еще не выяснили. Заговор этот был раскрыт в зародыше, потому что первый же экс-консул, к которому обратились Эмилий и Корнелий, отказался в нем участвовать. Август не приговорил ни того, ни другого ни к смерти, ни даже к изгнанию. То, что они не смогли найти поддержку, было свидетельством его силы, а тем, что он помиловал их, он лишний раз это подтверждал. Август просто позвал виновных к себе и прочитал им нотацию по поводу их безрассудства и неблагодарности. Корнелий упал к его ногам и униженно благодарил за милосердие. Август попросил его не ставить себя в глупое положение. Я не тиран, сказал Август, чтобы устраивать против меня заговоры или преклоняться предо мной за милосердие, я просто государственный служащий римской республики, получивший на какой-то срок широкие полномочия для поддержания порядка. Эмилий, по-видимому, увлек его на ложный путь, исказив факты. Лучшим лекарством от этой глупости будет стать консулом в будущем году, когда наступит его черед, и удовлетворить свое честолюбие, разделив честь с ним, Августом, ведь в Риме нет должности выше, чем консул (теоретически это было так). Эмилий не захотел ронять свое достоинство и остался стоять. Август сказал ему, что как его свойственник он мог бы вести себя пристойнее, а как экс-консул мог бы вести себя благоразумнее. После чего лишил его всех почестей.
Забавным в данном случае было то, что за «милосердие» Августа вся заслуга была приписана Ливии — она утверждала, будто молила, как это может только женщина, сохранить жизнь заговорщикам, которых Август уже решил примерно наказать. Она получила от Августа разрешение опубликовать небольшую написанную ею книжечку под названием «Ночные дебаты о силе и мягкости», где было полно интимных штришков. Мы видим, что Август беспокоен, тревожен, не может уснуть. Ливия ласково уговаривает его раскрыть, что у него на душе, и они вместе обсуждают, как следует поступить с Эмилием и Корнелием. Август говорит, что не хочет казнить их, но боится, что будет вынужден это сделать, так как, если он их простит, подумают, будто он их боится, и это может побудить других людей устраивать против него заговоры. «Всегда быть вынужденным мстить и наказывать очень тяжко для любого благородного человека, моя дражайшая жена».
Ливия: «Ты совершенно прав, и я хочу тебе кое-что посоветовать — конечно, если ты согласен выслушать мой совет и не станешь порицать меня за то, что я, женщина, дерзнула предложить тебе вещь, которую никто, даже самые близкие твои друзья, не дерзнут предложить».
Август: «Выкладывай, что бы то ни было».
Ливия: «Я скажу тебе без колебаний, ибо у нас с тобой один жребий и мы поровну делим радость и горе; пока ты в безопасности, я властвую вместе с тобой, если же, боги избавь, с тобой что-нибудь случится — это будет и моим концом…» Ливия советует Августу простить заговорщиков: «Мягкие слова отвращают ярость, а жестокие даже у мягких духом вызывают гнев, прощение смягчит самое горделивое сердце, а наказание ожесточит самое смиренное… Я не хочу этим сказать, что мы должны прощать всех преступников без разбора, ибо существуют люди, отличающиеся неискоренимой испорченностью, — на них бесполезно тратить доброту. Таких людей надо немедленно удалять из общества, как раковую опухоль из тела. Но во всех других случаях, когда ошибки, умышленные или нет, совершены по молодости, невежеству или недоразумению, следует, я полагаю, просто отчитать виновных или наказать в самой легкой форме. Давай сделаем опыт, начав с Эмилия и Корнелия». Август восхищается ее мудростью и признает, что она права. Но обратите внимание на то, как Ливия заверяет весь свет, будто в случае смерти Августа ее правлению придет конец, и запомните ее слова насчет «неискоренимой испорченности» неких людей. Бабка Ливия была хитрая бестия!
Ливия предложила Августу отменить предполагаемый брак между мной и Эмилией в знак императорского недовольства ее родителями, и Август с радостью согласился на это, так как Эмилия горько жаловалась ему на то, что ей, несчастной, придется выйти за меня. Ливии больше нечего было опасаться Юлиллы, которую Август считал пособницей мужа, но и о ней Ливия «позаботится» в свое время. А пока ей надо было заплатить долг чести своей подруге Ургулании, женщине, о которой я еще не упоминал и которая является одним из самых неприятных персонажей моей истории.
Глава VIII
Ургулания, связанная с бабкой крепкими узами выгоды и благодарности, была ее единственной наперсницей. Она потеряла мужа, сторонника Помпея во время одной из гражданских войн, и Ливия, тогда еще не покинувшая моего деда, укрыла ее и спасла от жестокости солдат Августа. Выйдя за Августа, Ливия настояла на том, чтобы Ургулании вернули конфискованные владения мужа, и пригласила ее жить в своем доме в качестве члена семьи. Благодаря Ливии — так как именем Августа Ливия могла заставить Лепида, великого понтифика, делать любые нужные ей назначения — Ургулания получила пост, который давал ей власть над всеми замужними женщинами из знатных семейств. Это надо объяснить. Каждый год в начале декабря высокородные римлянки должны были совершать жертвоприношения Доброй Богине — очень важный обряд, возглавляемый весталками, и от того, правильно ли эти таинства совершались, зависели благосостояние и безопасность Рима в последующие двенадцать месяцев.[59] Ни одному мужчине под страхом смерти не разрешалось осквернять их своим присутствием. Ливия, снискавшая расположение весталок тем, что перестроила их обитель и роскошно ее обставила, а также добилась для них в сенате через Августа многих привилегий, намекнула старшей весталке, что добродетель некоторых из женщин, приносящих ритуальные жертвы, вызывает подозрение. Ливия сказала, что, вполне возможно, бедствия гражданских войн были вызваны гневом Доброй Богини за распутство тех, кто тогда участвовал в ее таинствах. Она сказала далее, что если женщинам, которые признаются в прелюбодеянии, клятвенно пообещать, что об этом не узнает ни один человек и им не грозит публичный позор, служить Богине будут лишь добродетельные жены, и это смягчит ее гнев.
Старшая весталка, женщина очень религиозная, согласилась с ней, но попросила, чтобы Ливия поддержала это нововведение. Ливия сказала, что только прошлой ночью видела Богиню во сне, и та попросила, поскольку весталки неопытны в вопросах плотской любви, назначить какую-нибудь почтенную вдову из хорошей семьи матерью-исповедницей. Старшая весталка спросила, будут ли обнаруженные проступки оставаться без возмездия. Ливия ответила, что не смогла бы ничего об этом сказать, но, к счастью, Богиня во время того же сна выразила по этому поводу свое мнение, а именно: матери-исповеднице дается право подвергнуть грешницу наказанию, но это должно держаться в священной тайне между матерью-исповедницей и виновницей преступления. Старшей весталке просто будут сообщать, что такая-то женщина в этом году недостойна участвовать в таинствах или что такая-то искупила уже свою вину. Это вполне устраивало старшую весталку, но она боялась, что, если она назовет определенное имя, Ливия его отклонит. Ливия сказала, что назначить мать-исповедницу, конечно, должен великий понтифик, и, если старшая весталка не возражает, она все ему объяснит и попросит назвать подходящее лицо, совершив необходимые церемонии, чтобы удостовериться, угоден ли его выбор Богине. Так Ургулания получила это назначение, и, разумеется, Ливия не стала разъяснять ни Лепиду, ни Августу, какую оно давало власть. Она лишь вскользь упомянула, что это пост советницы по моральным вопросам при старшей весталке, «ведь сама она, бедняжка, не от мира сего».
Таинства обычно происходили в доме одного из консулов, но теперь их перенесли во дворец Августа, ведь он же был рангом выше, чем консулы. Это было удобно для Ургулании; она призывала женщин к себе в комнату (где все было устроено так, чтобы внушить страх и вызвать на откровенность), брала с них страшные клятвы говорить правду, а когда они признавались в своих грехах, удаляла их на то время, пока она решит, какого они заслуживают наказания. Но решала это Ливия, которая с самого начала была в комнате, скрываясь за занавесями. Обе старухи получали от этой игры огромное удовольствие, а Ливия вдобавок много полезных сведений и помощь в осуществлении своих планов.
Ургулания считала, что поскольку она — мать-исповедница и служит Доброй Богине, она неподвластна законам. Позднее я расскажу, как однажды, вызванная в долговой суд по иску одного из сенаторов, которому она задолжала большую сумму денег, она отказалась туда явиться, и Ливии, чтобы замять скандал, пришлось самой заплатить долг. В другой раз Ургуланию пригласили в качестве свидетельницы в сенатскую следственную комиссию; не желая подвергаться перекрестному допросу, она добилась разрешения не являться туда, и к ней отправили одного из судей, чтобы получить ее показания в письменном виде. Это была жуткая старуха с раздвоенным подбородком и крашенными сажей волосами (седыми, что было ясно видно у корней), дожившая до глубокой старости. Ее сын Сильван был консулом незадолго до заговора Эмилия, одним из тех, к кому тот обратился. Сильван пошел прямо к Ургулании и рассказал ей о намерениях Эмилия. Она передала это Ливии, и Ливия обещала наградить их за эти ценные сведения, выдав за меня дочь Сильвана Ургуланиллу и тем самым породнив их с императорской фамилией. Ургулания пользовалась полным доверием Ливии и знала, что следующим императором будет не Постум, — хотя он являлся ближайшим наследником Августа, — а дядя Тиберий, так что этот брак был еще более почетным, чем казался на первый взгляд.
Я никогда не видел Ургуланиллы. Никто ее не видел. Мы знали, что она живет с теткой в Геркулануме, городе на склоне Везувия, где у старой Ургулании были земельные владения, но она никогда не приезжала в Рим даже в гости. Мы решили, что у нее слабое здоровье. Но когда Ливия прислала мне короткую резкую записку, где говорилось, что по решению семейного совета я должен жениться на дочери Сильвана Плавтия — куда более подходящий брак, чем предполагаемые ранее, если учитывать мои телесные недостатки, — я стал подозревать, что с этой Ургуланиллой дело куда серьезнее и слабое здоровье здесь ни при чем. Может быть, у нее заячья губа или родимое пятно на пол-лица? Во всяком случае, нечто такое, из-за чего ее не показывают людям. Вдруг она хромая, как я сам? Пусть. Возможно, она славная девушка, не понятая, как и я, окружающими. У нас может оказаться много общего. Конечно, это не то, что жениться на Камилле, но все же лучше, чем получить в жены Эмилию.
Назначили день помолвки. Я спросил Германика насчет Ургуланиллы, но он был в таком же неведении, как я сам, и мне показалось, что он чувствует себя неловко, дав согласие на брак и не раздобыв предварительно никаких сведений. Он был очень счастлив с Агриппиной и желал того же мне. Наконец настал условленный день, и снова в чистой тоге и в венке я ждал у семейного алтаря появления своей невесты. «Третий раз приносит удачу. — сказал Германик. — Право, я уверен, что она — красавица, добрая и разумная, как раз такая, какая тебе нужна». Такая? Со мной сыграли в жизни немало злых шуток, но эта, я думаю, была самой злой и жестокой. Ургуланилла оказалась… короче говоря, она вполне оправдывала свое имя, которое по-гречески звучит «Геркуланила». Она и выглядела юным Геркулесом в женском платье. В пятнадцать лет она была больше шести футов ростом (и продолжала расти), соответственной толщины и силы, с самыми большими руками и ногами, какие я видел в жизни, если не считать пленного парфянина-великана, который шел в триумфальной процессии, но это было значительно позднее. Она горбилась. Черты лица у нее были правильные, но тяжелые, и она все время злобно хмурила брови. Говорила Ургуланилла так же медленно, как дядя Тиберий (на которого, между прочим, она была очень похожа — ходили слухи, что на самом деле она — его дочь). Ургуланилла была невежественна, невоспитанна и тупа, вы не нашли бы в ней никаких привлекательных качеств. Странно, но первое, что пришло мне в голову, когда я ее увидел, была мысль: «Эта женщина способна на убийство. Надо тщательно скрывать, что она внушает мне отвращение, и не давать ей повода затаить против меня зло. Если она возненавидит меня, моя жизнь будет в опасности». Я неплохой актер, и хотя торжественную церемонию прерывали смешки, шепот, шутки и приглушенное хихиканье, меня обвинить в нарушении благопристойности у Ургуланиллы не было причин. Когда процедура окончилась, нам с Ургуланиллой велели предстать перед Ливией и Ургуланией. Мы вошли в комнату, закрыв за собой дверь, и стали перед ними — я, переступая ногами на месте от волнения, Ургуланилла, массивная, с ничего не выражающим лицом, сжимая и разжимая пальцы) — и тут эти две злобные старухи не выдержали и, позабыв всю свою важность, разразились безудержным хохотом. Никогда раньше я не слышал, чтобы они так смеялись, — это было страшно. Они издавали мерзкие всхлипы и взвизгивания, словно две пьяные проститутки, которые любуются пытками или распятием; меньше всего это походило на нормальный здоровый смех.
— Ах, мои красавчики! — проговорила наконец Ливия, вытирая глаза. — Чего бы я не дала, чтобы видеть вас вдвоем в постели в вашу брачную ночь! Это будет самое забавное зрелище после Девкалионова потопа.
— А что смешного произошло при этом знаменательном событии, дорогая? — спросила Ургулания.
— Неужели ты не знаешь? Бог затопил землю и уничтожил всех зверей и людей, кроме Девкалиона с семьей и нескольких животных, укрывшихся на вершине горы. Ты разве не читала «Потоп» Аристофана? Из всех его комедий эта — моя любимая. Место действия — гора Парнас. Там собрались разные животные, к сожалению, по одному от каждого вида, и каждый считает, что он — единственный из своих собратьев, оставшийся в живых. Поэтому, чтобы хоть как-то вновь заселить землю, они должны спариваться друг с другом, несмотря на колебания морального толка и явные неудобства. Девкалион обручает верблюда со слонихой.
— Верблюд и слониха! Неплохо придумано! — фыркнула Ургулания. — Посмотри на длинную шею Тиберия Клавдия, его тощее тело и длинное глупое лицо. А ножищи моей Ургуланиллы, большие оттопыренные уши и крошечные свинячьи глазки! Ха-ха-ха-ха! И кто же у них родился? Жираф? Ха-ха-ха-ха!
— В пьесе до этого не дошло. На сцене появляется Ирида[60] и приносит благую весть: на горе Атлас нашли прибежище другие животные тех же видов; в последний момент она успевает расторгнуть бракосочетания.
— Был верблюд разочарован?
— О, жестоко.
— А слониха?
— Слониха только хмурилась.
— Они поцеловались на прощание?
— Аристофан ничего об этом не говорит. Но я уверена, что да. Ну же, зверюги, поцелуйтесь!
Я глупо улыбнулся. Ургуланилла нахмурилась.
— Поцелуйтесь же, — настойчиво повторила Ливия таким тоном, что стало ясно — надо повиноваться.
Мы поцеловались, и это вызвало у старух новую истерику. Когда мы вышли из комнаты, я шепнул Ургуланилле:
— Мне очень жаль. Я не виноват.
Но она не ответила и нахмурилась еще сильнее.
До свадьбы оставался целый год, так как на семейном совете решили, что я буду считаться совершеннолетним лишь в пятнадцать с половиной лет, а за это время многое могло случиться. Ах, если бы появилась Ирида!
Но она не появилась. У Постума тоже были свои неприятности: он уже достиг совершеннолетия, а Домиции оставались до брачного возраста считанные месяцы. Бедный Постум был влюблен в Ливиллу, хотя она и была замужем. Но прежде чем продолжить историю Постума, я должен рассказать о своей встрече с «последним римлянином».
Глава IX
Звали его Поллион, и я во всех подробностях помню нашу встречу, которая произошла ровно через неделю после моей помолвки с Ургуланиллой. Я читал в Аполлоновой библиотеке, как вдруг туда зашел Ливий и невысокий бодрый старик в тоге сенатора. Я услышал слова Ливия:
— Похоже, что у нас нет никакой надежды найти ее, разве только… А, здесь Сульпиций! Уж если кто-нибудь может нам помочь, так он. Доброе утро, Сульпиций. Я хочу попросить тебя оказать услугу моему другу Азинию Поллиону и мне. Нам нужна одна книга, комментарий грека по имени Полемокл на «Военную тактику» Полибия. Помнится, как-то раз она попалась мне здесь на глаза, но в каталоге ее нет, а от библиотекарей никакого толку.
Сульпиций пожевал молча бороду, затем сказал:
— Ты неправильно запомнил имя. Не Полемокл, а Полемократ, и он был не грек, хоть имя и греческое, а еврей. Пятнадцать лет назад я видел эту книгу, если память мне не изменяет, на верхней полке, четвертой от окна, в заднем ряду, и название ее — «Трактат о тактике». Сейчас я ее достану. Не думаю, что ее переставили куда-нибудь с тех пор.
Тут Ливий увидел меня:
— Здравствуй, мой друг, как дела? Ты знаком со знаменитым Азинием Поллионом?
Я приветствовал их, и Поллион сказал:
— Что ты читаешь, мальчик? Какую-нибудь ерунду, судя по тому, с каким смущенным видом ты прячешь книгу. Молодежь нынче читает одну ерунду. — Он обернулся к Ливию: — Спорю на десять золотых, что это какое-нибудь злосчастное «Искусство любви»,[61] или дурацкие аркадские пасторали, или еще что-нибудь в этом же роде.
— Идет, — сказал Ливий. — Юный Клавдий совсем не такой, как ты думаешь. Ну, Клавдий, кто из нас выиграл?
Я сказал, заикаясь, Поллиону:
— Рад тебе сообщить, что ты проиграл.
Поллион сердито нахмурился:
— Что ты сказал? Рад, что я проиграл, да? Красиво же ты разговариваешь со старым человеком и к тому же сенатором.
Я промолвил:
— Я сказал это со всем уважением к тебе. Я рад, что ты проиграл. Я не хотел бы, чтобы эту книгу называли ерундой. Это твоя собственная «История гражданских войн», превосходная, осмелюсь заметить, книга.
Лицо Поллиона просияло. Посмеиваясь, он вынул кошелек и стал совать монеты в руку Ливия. Ливий, с которым он, судя по всему, был в состоянии дружеской вражды — если вы понимаете, что я имею в виду, — отказывался от них, напустив на себя крайне серьезный вид:
— Мой дорогой Поллион, я не могу взять деньги. Ты был совершенно прав, нынешняя молодежь читает всякую чушь. Ни слова больше, прошу. Я согласен, я проиграл пари. Вот тебе десять золотых из моего кармана, я рад их отдать.
Поллион обратился за помощью ко мне:
— Послушай, любезный юноша, я не знаю, кто ты, но похоже, что ты — человек разумный. Ты читал труды нашего друга Ливия? Скажи честно, ведь его писанина еще большая чушь, чем моя?
Я улыбнулся:
— Но его, во всяком случае, легче читать.
— Легче? Что ты подразумеваешь под этим?
— У него древние римляне ведут себя и разговаривают так, словно они живут в наше время.
Поллион был в восторге:
— Он попал в твое самое больное место, Ливий. Ты приписываешь людям, которые жили семь веков назад, современные поступки и мотивы этих поступков, современные привычки и современные слова. О да, читать тебя интересно, но это не история.
Прежде чем излагать дальше нашу беседу, я должен сказать несколько слов о старом Поллионе, возможно, самом одаренном человеке своего времени, не исключая Августа. Ему уже перевалило за восемьдесят, но ум его был по-прежнему светлым, а здоровье, по видимости, крепче, чем у многих шестидесятилетних. Он пересек Рубикон вместе с Юлием Цезарем[62] и сражался с ним против Помпея, служил под началом моего деда Антония до того, как тот поссорился с Августом, и был консулом и губернатором в Дальней Испании и Ломбардии, ему был назначен триумф за победу на Балканах, и он был личным другом Цицерона, пока они не поссорились, и покровителем поэтов Вергилия и Горация. Кроме того, Поллион был выдающимся оратором и автором трагедий. Но историком он был еще более превосходным, потому что любил правду, и придерживался ее в своих трудах со скрупулезной точностью, доходившей до педантизма, а это плохо сочеталось с условностями литературных форм. На трофеи, доставшиеся ему в балканской кампании, он основал публичную библиотеку — первую публичную библиотеку в Риме. Теперь здесь существуют еще две: та, в которой мы находились, и другая, названная в честь моей бабки Октавии, но библиотека Поллиона была организована лучше всех.
Сульпиций тем временем нашел нужную им книгу, и, поблагодарив его, они возобновили спор.
Ливий:
— Беда Поллиона в том, что, когда он пишет об исторических событиях, он считает нужным подавлять в себе все благородные поэтические чувства: его персонажи и их поступки невероятно скучны, а когда он заставляет их говорить, он отказывает им в малейшем ораторском искусстве.
Поллион:
— Да, поэзия — это поэзия, риторика — это риторика, а история — это история, и смешивать их нельзя.
— Нельзя? Еще как можно! Ты хочешь сказать, что я не имею права использовать в истории эпическую тему, потому что это прерогатива поэзии, и не могу вкладывать в уста моих военачальников зажигательные речи перед битвами, потому что это прерогатива риторики?
— Да, это самое я и хочу сказать. История должна отражать и увековечивать истинное положение вещей: что происходило, как люди жили и умирали, что они делали и говорили; эпос лишь искажает истину. Что до речей твоих полководцев, то они превосходные образцы ораторского искусства, но к истории никакого отношения не имеют, у тебя нет никаких свидетельств того, как они звучали на самом деле, они не только не соответствуют правде, они неправдоподобны. Мало кто слышал столько речей накануне битв, сколько их слышал я, но хотя полководцы, которые произносили эти речи, особенно Цезарь и Антоний, считались прекрасными ораторами, они были еще лучшими военачальниками и помнили, что они не на трибуне и с солдатами риторика ни к чему. Они разговаривали с ними, а не упражнялись в красноречии. Какую, думаешь, речь произнес Цезарь перед битвой при Фарсале?[63] Умолял нас не забывать о женах и детях, и священных храмах Рима, и славных победах в прошлых походах? Ничего подобного, клянусь богами. Он залез на сосновый пень, держа в правой руке огромную редьку, в левой — кусок черствого солдатского хлеба, и, откусывая то от одного, то от другого, шутил. И это были не какие-нибудь утонченные остроты, нет, настоящие соленые шутки, насчет того, например, насколько целомудреннее жена Помпея его собственной распутной жены. И все это с самым серьезным видом. А что он при этом вытворял с редькой?! Животики надорвешь. Я помню один совершенно непристойный анекдот о том, как Помпей получил название «Великий»… ох уж эта редька!.. и другой, того хуже, как сам Цезарь потерял волосы на александрийском базаре. Я бы рассказал их вам, если бы не мальчик, да вы все равно не поймете в чем соль, вы же не обучались в лагере Цезаря. Ни слова о предстоящей битве, лишь под конец: «Бедный Помпей! Хочет тягаться с Юлием Цезарем и его солдатами. Много же у него шансов!»
— Но ты не пишешь об этом в своей «Истории», — сказал Ливий.
— В общем издании — нет, — сказал Поллион. — Я не дурак. Но если хочешь взять у меня частное «Дополнение», которое я только что закончил, там ты это найдешь. Боюсь только, ты не соберешься это сделать. Ладно, доскажу вам остальное. Цезарь, как вы знаете, был великолепный имитатор, так вот, он изобразил перед нами Помпея, произносящего предсмертную речь до того, как пронзить себя мечом (все та же редька с откусанным кончиком), и проклинал — ну точь-в-точь Помпей — всемогущих богов за то, что они позволяют пороку брать верх над добродетелью. Как все хохотали! А затем заорал: «А ведь так оно и есть, хоть это говорит Помпей! Поспорьте с этим, если сможете, вы, проклятые, блудливые псы!» И кинул в них остаток редьки. Ну и рев тут поднялся. Да, таких солдат, как у Цезаря, больше не было. Вы помните песню, которую они пели во время триумфа после победы над Францией?
В Рим идет развратник лысый, Горожане, прячьте жен!Ливий:
— Поллион, дорогой друг. мы обсуждали не нравственность Цезаря, а то, как надо писать историю.
Поллион:
— Да, верно. Наш начитанный молодой друг критиковал твой метод, прикрывшись из уважения к тебе похвалой тому, что твои труды легко читаются. Мальчик, ты можешь предъявить нашему благородному другу Ливию еще какие-нибудь претензии?
Я:
— Пожалуйста, не заставляйте меня краснеть. Я восхищаюсь трудами Ливия.
— Не увиливай, мальчик. Тебе никогда не приходилось его ловить на исторической неточности? Похоже, что ты много читаешь.
— Я бы предпочел не…
— Давай начистоту. Что-нибудь у тебя да есть.
И я сказал:
— Должен признаться, действительно есть одна вещь, которая меня удивляет. Это история Ларса Порсены.[64] Согласно Ливию, Порсена не смог захватить Рим, так как сперва ему помешало героическое поведение Горация у моста,[65] а затем его привело в смятение беспримерное мужество Сцеволы; Ливий пишет, будто захваченный после попытки убить Порсену Сцевола сунул руку в огонь на алтаре и поклялся, что триста римлян, подобно ему, дали зарок лишить Порсену жизни. И поэтому Ларс Порсена заключил с Римом мир. Но я видел в Клузии гробницу Ларса Порсены, и там на фризе изображено, как римляне выходят из ворот Рима, и не шее у них ярмо, и как этрусский жрец стрижет ножницами бороды отцам города. И даже Дионисий Галикарнасский,[66] который был расположен к нам, утверждает, что сенат постановил дать Порсене трон из слоновой кости, скипетр, золотую корону и триумфальную тогу, а это может означать лишь одно: что они оказывали ему почести, положенные верховному владыке. Так что, возможно, Ларс Порсена все же захватил Рим, несмотря на Горация и Сцеволу. И Арунт, жрец в Капуе (считается, что он — последний человек, умеющий читать этрусские надписи), сказал мне прошлым летом, что, согласно этрусским преданиям, Тарквиния изгнал из Рима вовсе не Брут, а Порсена, а Брут и Коллатин, два первых консула Рима, были всего-навсего городские казначеи, назначенные Ларсом Порсеной собирать налоги с населения.[67]
Ливий страшно рассердился:
— Право, удивляюсь тебе, Клавдий. Неужели ты настолько не уважаешь традиции, что веришь лживым измышлениям, которые рассказывают этруски — наши исконные враги, чтобы умалить величие Рима?
— Я только спросил, — смиренно ответил я, — что произошло на самом деле.
— Ну же, Ливий, — сказал Поллион. — Ответь нашему юному любителю истории. Что произошло на самом деле?
Ливий сказал:
— В другой раз. А сейчас вернемся к тому вопросу, который мы рассматривали, а именно: как надо писать историю. Клавдий, мой друг, ведь у тебя есть свои планы на этот счет. Кого из нас, двух именитых историков, ты возьмешь за образец?
— Вы ставите мальчика в трудное положение, — вступился Сульпиций. — Какой вы надеетесь получить ответ?
— Правда не обижает, — возразил ему Поллион.
Я перевел взгляд с одного лица на другое. Наконец я сказал:
— Думаю, я выбрал бы Поллиона. Я уверен, что мне и надеяться нечего достичь изящества стиля Ливия, поэтому я лучше попытаюсь подражать точности и усердию Поллиона.
Ливии проворчал что-то и направился было к дверям, но Поллион задержал его. Постаравшись затаить свою радость, он сказал:
— Полно, Ливий, неужели тебе обидно, что у меня появился один-единственный ученик, когда у тебя их тысячи по всему свету! Мальчик, ты никогда не слышал о старике из Кадиса? Нет, это вполне пристойная история. И, по правде сказать, печальная. Этот старик пришел в Рим пешком. Для чего? Что он хотел увидеть? Не храмы и не театры, не статуи и не толпы горожан, не лавки и не здание сената. Он хотел увидеть одного человека. Какого? Того, чья голова вычеканена на монетах? Нет, нет. Того, кто еще более велик. Он пришел, чтобы увидеть не кого иного, как нашего друга Ливия, чьи труды, похоже, он знал наизусть. Он увидел его, приветствовал и тут же вернулся в Кадис, где… сразу умер: разочарование и долгий путь оказались ему не по силам.
Ливий:
— Во всяком случае, мои читатели — искренние читатели. Ты знаешь, мальчик, как Поллион создал себе репутацию? Я тебе расскажу. Он богат, у него красивый огромный дом и на редкость хороший повар. Он приглашает к обеду кучу людей, которые интересуются литературой, кормит их изумительным обедом, а затем, словно невзначай, берет последний том своей «Истории». И скромно говорит: «Друзья, тут есть кое-какие места, в которых я не очень уверен. Я много над ними работал, и все же они еще нуждаются в последней шлифовке. Я надеюсь на вашу помощь. Если позволите…» И принимается читать. Слушают его вполуха. Животы у всех полны. «Этот повар — чудо, — думают они, — кефаль под пикантным соусом, и эти жирные фаршированные дрозды… а дикий кабан с трюфелями… когда я в последний раз так вкусно ел? Пожалуй, ни разу с тех пор, как Поллион читал нам прошлый том. А вот снова вошел раб с вином. Что может сравниться с кипрским вином? Поллион прав, оно лучше любого греческого вина на рынке». Тем временем голос Поллиона — а это красивый голос, как у жреца на вечернем жертвоприношении, — журчит и журчит; порою он смиренно говорит: «Ну как, по-вашему, сойдет?» И все отвечают, думая кто о дроздах, а кто, возможно, о кексах с коринкой: «Восхитительно, Поллион, восхитительно». Иногда он делает паузу и спрашивает: «Как вы полагаете, какое слово здесь больше подходит? Как лучше сказать: вернувшиеся посланцы побудили племя к мятежу или толкнули на него? Или что их отчет о создавшемся положении повлиял на решение племени поднять мятеж? Я полагаю, их отчет о том, что они видели, был вполне беспристрастным». И со скамей доносятся голоса: «…Повлиял», Поллион. Напиши лучше «повлиял». «Благодарю, друзья, — говорит он, — вы очень любезны. Раб, где мой перочинный нож и перо? Я сразу же изменю предложение, если вы не возражаете». Затем Поллион публикует книгу и шлет всем обедавшим дарственный экземпляр. А они говорят своим знакомым, болтая с ними в общественных банях: «Прекрасная книга. Вы ее читали? Поллион — величайший историк нашего времени и не гордый, не гнушается спросить совета насчет стилистических тонкостей у людей со вкусом. Да хотя бы это слово „повлиял“ — я его подсказал ему сам».
Поллион:
— Верно, мой повар слишком хорош. В следующий раз я одолжу у тебя твоего, а заодно и несколько дюжин так называемого фалернского вина, и тогда получу действительно искреннюю критику.
Сульпиций протестующе поднял руку:
— Друзья мои, вы переходите на личности.
Ливий уже шел к дверям. Но Поллион усмехнулся, глядя на удалявшуюся спину, и громко сказал, чтобы тот услышал:
— Порядочный человек Ливий, у него есть только один недостаток: болезнь под названием «падуаница».
Ливий тут же остановился и обернулся к нам:
— Чем тебе не угодила Падуя? Я не желаю слышать о ней ничего плохого.
Поллион объяснил мне:
— Ливий там родился. Где-то в северных провинциях. У них есть знаменитый горячий источник, обладающий удивительным свойством. Падуанца всегда можно узнать. Благодаря купанию в этом источнике и тому, что они пьют из него воду, — мне говорили, будто жители Падуи делают и то и другое одновременно, — падуанцы верят всему, чему хотят верить, причем так горячо, что убеждают в том и других. Именно благодаря этому падуанские товары славятся на весь мир. Одеяла и ковры, которые там делают, не лучше, чем в других местах, по правде говоря, даже хуже, так как шерсть у тамошних овец желтая и грубая, но для падуанцев она — белая и мягкая, как гусиный пух. И они убедили весь мир в том, что это так.
Я сказал, подыгрывая ему:
— Желтые овцы! Вот диковина! Откуда у них такой цвет?
— Откуда? От воды в источнике. В ней есть сера. Все падуанцы желтые. Взгляни на Ливия.
Ливий медленно подошел к нам:
— Шутка шуткой, Поллион, и я на шутки не обижаюсь. Но мы затронули серьезный вопрос, а именно: как следует писать историю. Возможно, я допустил ошибки. Какой историк может их избежать? Но я, во всяком случае, если и искажал истину, то не сознательно, в этом ты меня не обвинишь. Да, я с радостью включал в свое повествование легендарные эпизоды, взятые из более ранних исторических текстов, если они подтверждали основную тему моего труда — величие древнего Рима; пусть они уклонялись от правды в фактических подробностях — они были верны ей по духу. Когда я наталкивался на две версии одного и того же эпизода, я выбирал ту, которая ближе моей теме, и я не буду рыться в этрусских гробницах в поисках третьей, которая, возможно, противоречит двум первым, — какой в этом толк?
— Это послужит выяснению истины, — мягко сказал Поллион. — Разве это так мало?
— А если истина окажется в том, что наши почитаемые всеми предки на самом деле были трусы, лгуны и предатели? Тогда как?
— Пусть мальчик ответит на твой вопрос. Он только вступает в жизнь. Давай, мальчик.
Я сказал первое, что пришло в голову:
— Ливий начинает свою «Историю», сетуя на современную порочность и обещая проследить постепенный упадок нравов, по мере того как Рим все больше богател благодаря завоеваниям. Он говорит, что с самым большим удовольствием будет писать первые главы, так как сможет при этом закрыть глаза на пороки наших дней. Но, закрывая глаза на современные пороки, не закрывал ли он их иногда и на пороки древних римлян?
— Что же дальше? — спросил Ливий, прищуриваясь.
— Дальше? — замялся я. — Возможно, между их пороками и нашими не такая большая разница. Возможно, все дело в поле деятельности и возможностях.
Поллион:
— Другими словами, мальчик, падуанец не сумел заставить тебя увидеть желтую от серы шерсть белоснежной?
Я чувствовал себя очень неловко.
— Читая Ливия, я получаю больше удовольствия, чем от любого другого автора, — сказал я.
— О да, — улыбнулся Поллион. — То же самое сказал старик из Кадиса. Но, как и он, ты чуть-чуть разочарован, да? Ларс Порсена, Сцевола и Брут стали у тебя поперек горла.
— Это не разочарование, не в этом дело. Теперь я вижу, хотя раньше об этом не задумывался, что есть два различных способа писать историю: один — чтобы побуждать людей к добродетели, другой — чтобы склонять их к истине. Первый путь — Ливия, второй — твой, и, возможно, они не так уж непримиримы.
— Да ты настоящий оратор! — восхищенно сказал Поллион.
Сульпиций, который все это время стоял на одной ноге, держа ступню другой в руке, как он обычно делал, будучи взволнован или раздражен, и закручивал в узлы бороду, теперь подвел итог всей беседы:
— Да, у Ливия никогда не будет недостатка в читателях. Людям нравится, когда превосходный писатель побуждает их к древним добродетелям, особенно если им тут же говорят, что в наше время, при современной цивилизации, таких добродетелей достичь невозможно. Но историки-правдолюбцы — гробовщики, которые обряжают труп истории (как выразился бедняга Катулл в своей эпиграмме на благородного Поллиона), — люди, запечатлевающие в своих записях лишь то, что произошло на самом деле, могут иметь аудиторию, только если у них есть превосходный повар и целый погреб вина с Кипра.
Его слова привели Ливия в ярость. Он сказал:
— Это пустой разговор, Поллион. Родня и друзья юного Клавдия всегда считали его придурковатым, но до сегодняшнего дня я не соглашался с общим мнением. Я с удовольствием отдам тебе такого ученика. А Сульпиций может совершенствовать его придурь. Он для этого самый подходящий человек в Риме.
И затем выпустил в нас парфянскую стрелу:[68]
— Et apud Ароllinem istum Pollionis Pollinctorem diutissime polleat.
Что значит, хотя по-гречески каламбур пропадает: «Так пусть ваш Клавдий там и процветает, где Поллион искусство в гроб кладет!» И, громко ворча, вышел.
Поллион весело крикнул ему вслед:
— Guod certe pollicitur Роlliо. Pollucibiliter pollebit puer. («Одно лишь Поллион вам обещает: что мальчик в самом деле расцветет»).
Когда мы остались вдвоем — Сульпиций ушел искать какую-то книгу, — Поллион принялся расспрашивать меня.
— Кто ты, мальчик? Тебя зовут Клавдий, не так ли? Судя по всему, ты из хорошего рода, но я не знаю тебя.
— Я — Тиберий Клавдий Друз Нерон Германик.
— Святые боги! Но Ливий прав, тебя считают дурачком.
— Да. Родные стыдятся меня, ведь я заикаюсь и хромаю и к тому же часто болею, поэтому я очень редко появляюсь на людях.
— Дурачок! Да ты один из самых одаренных юношей, каких я встречал за многие годы.
— Вы очень добры.
— Отнюдь. Ты хорошо поддел старика Ливия с Ларсом Порсеной. У Ливия нет совести, если говорить по правде. Я все время ловлю его не на том, так на другом. Я как-то спросил его, очень ли ему трудно находить нужные ему медные таблички среди беспорядка, царящего в государственном архиве. «Ничуть», — ответил он. Оказалось, что он ни разу туда не заглянул, чтобы проверить хоть один факт! Скажи, почему ты читал мою «Историю»?
— Я читал твое описание осады Перузии. Мой дед — первый муж Ливии — был там. Меня интересует этот период, и я собираю материал для жизнеописания отца. Мой наставник Афинодор посоветовал прочитать твою книгу, он сказал: это честная книга. Прежний мой наставник, Марк Порций Катон, говорил, что она соткана из лжи, естественно, я поверил Афинодору.
— Да, Катону такая книга вряд ли может понравиться. Его предки воевали на противной стороне. Я помогал выгнать его деда с Сицилии. Но ты — первый молодой человек из всех, кого я встречал, который хочет заниматься историей. Это занятие для стариков. Когда же ты будешь выигрывать сражения, как твой отец и дед?
— Возможно, в старости.
Он рассмеялся:
— Что ж, почему бы из историка, посвятившего всю жизнь изучению военной тактики, и не выйти непобедимому военачальнику, если он не трус и у него будут хорошие войска…
— И хорошие штабные офицеры, — вставил я, вспомнив Клеона.
— Да, и хорошие штабные офицеры… пусть даже он никогда не держал в руках меч или щит.
Я набрался смелости и спросил Поллиона, почему его часто называют «последним римлянином». Он был доволен, услышав этот вопрос, и ответил:
— Это имя мне дал Август. Это было тогда, когда он звал меня присоединиться к нему во время войны с твоим дедом Антонием. Я спросил его, за кого он меня принимает, — Антоний в течение многих лет был одним из моих лучших друзей. «Азиний Поллион, — ответил он, — я полагаю, что ты — последний римлянин. Зря так прозвали этого убийцу Кассия».[69] «Но если я — последний римлянин, — сказал я, — чья в этом вина? И чья будет вина, если после того, как ты уничтожишь Антония, никто, кроме меня, не осмелится держать голову прямо в твоем присутствии или говорить, когда не спросят?» «Не моя, Азиний, — сказал он, словно оправдываясь, — не я Антонию, а он мне объявил войну. И как только я его разобью, я, конечно, восстановлю республику». «Если госпожа Ливия не наложит свое вето, — проговорил я».
Затем Поллион обхватил меня за плечи:
— Я хочу сказать тебе кое-что, Клавдий. Я очень старый человек, и, хотя кажусь бодрым, конец мой близок. Через три дня я умру, я это знаю. Перед самой смертью у людей наступает прозрение, они могут предсказывать будущее. Послушай меня! Ты хочешь прожить долгую, деятельную жизнь и пользоваться почетом на склоне лет?
— Да.
— Тогда подчеркивай свою хромоту, нарочно заикайся, почаще делай вид, что ты болен, болтай чепуху, тряси головой и дергай руками на всех официальных и полуофициальных церемониях. Если бы ты мог видеть то, что открыто мне, ты бы знал, что это — твой единственный путь к спасению, а в дальнейшем и к славе.
Я сказал:
— Рассказ Ливия о Бруте — я имею в виду первого Брута, — может быть, и не соответствует истине, но вполне подходит в данном случае.[70] Брут тоже притворялся полоумным, чтобы было легче возродить народную свободу.
— Что, что? Народную свободу? Ты в нее веришь? Я думал, что младшее поколение даже не знает этих слов.
— Мой отец и дед — оба верили в нее…
— Да, — резко прервал меня Поллион, — потому они и умерли.
— Что ты хочешь этим сказать?
— То, что поэтому-то их и отравили.
— Отравили? Кто?
— Гм-м… Не так громко, мальчик. Нет, имен я называть не стану. Но я дам тебе верное доказательство того, что я не просто повторяю пустые сплетни. Ты говоришь, что пишешь жизнеописание отца?
— Да.
— Так вот, ты увидишь, что тебе позволят дописать его только до определенного места. И тот, кто остановит тебя…
Тут к нам подошел, шаркая ногами, Сульпиций, и Поллион не сказал больше ничего любопытного; лишь когда настало время с ним прощаться, он отвел меня в сторону и пробормотал:
— До свидания, маленький Клавдий. Выкинь из головы глупые мысли насчет народной свободы. Время для нее еще не пришло. Положение должно стать куда хуже, чтобы оно могло стать лучше. — Затем громко добавил: — И еще одно. Если, когда я умру, ты найдешь в моих трудах что-либо не соответствующее, по твоему мнению, исторической правде, разрешаю тебе — я обусловлю твое право — разъяснить мою ошибку в приложении. Поддерживай мои книги на современном уровне. Когда книги устаревают, они годятся только на обертку для рыбы.
Я сказал, что почту за честь выполнить этот долг.
Через три дня Поллион умер. В своем завещании он отписал мне собрание ранних латинских исторических трудов, но мне их не отдали. Дядя Тиберий сказал, что тут какая-то ошибка, книги были оставлены не мне, а ему, ведь наши имена так похожи. Данное мне право делать исправления все посчитали шуткой, но я выполнил свое обещание, хотя и через двадцать лет. Я обнаружил, что Поллион очень сурово отозвался о Цицероне — «тщеславный, нерешительный, трусливый малый», — и, хотя был согласен с его мнением о характере Цицерона, счел нужным указать, что при всем том предателем, как считают Поллион, он не был. Поллион исходил из некоторых писем Цицерона, которые, как мне удалось доказать, были сфабрикованы Клодием Пульхром. Цицерон вызвал вражду Клодия, выступив против него свидетелем, когда того обвинили в том, что он пробрался на таинства Доброй Богини в виде музыкантши. Этот Клодий был еще одним из плохих Клавдиев.
Глава Х
6 г. н. э.
Незадолго до моего совершеннолетия[71] Август велел Тиберию усыновить Германика, хотя у него уже был наследник — Кастор, тем самым переведя моего старшего брата из рода Клавдиев в род Юлиев. Я оказался главой старшей ветви Клавдиев и владельцем денег и поместий, унаследованных от отца. Я сделался также опекуном матери — так как она не вышла вторично замуж, — что она воспринимала как унижение. Мать обращалась со мной еще более сурово, чем раньше, хотя все деловые документы должны были попадать ко мне на подпись, и я был семейным жрецом. Церемония, отметившая мое совершеннолетие, сильно отличалась от той, которая была у Германика. В полночь я надел мужскую тогу, один, без сопровождающих и процессии, был отнесен в носилках в Капитолий, совершил там жертвоприношение и тем же образом вернулся обратно в постель. Германик и Постум пошли бы со мной, но для того, чтобы привлечь ко мне как можно меньше внимания, Ливия в этот вечер устроила во дворце пир, на котором они не могли не присутствовать.
Во время бракосочетания с Ургуланиллой было то же самое. Большинство людей узнало о нашей свадьбе лишь на следующий день, после того как торжественный обряд был совершен. Сама церемония прошла по всем правилам. Желтые туфли Ургуланиллы, ее фата огненного цвета, чтение предзнаменований, священный пирог, два стула, покрытые овечьей шкурой, совершенное мной возлияние, помазание новобрачной дверных косяков, три монеты, преподнесение мной Ургуланилле огня и воды — все было согласно ритуалу, за исключением того, что отменили процессию с факелами, и само действо разыграли небрежно, в спешке, только-только приличия соблюли. Для того, чтобы молодая жена не споткнулась о порог мужнего дома, когда она впервые входит в него, ее обычно переносят на руках. Мужчины из нашего рода, которые должны были это сделать, были пожилые люди, и Ургуланилла оказалась им не по силам. Один из них поскользнулся, и Ургуланилла шмякнулась вниз, увлекая их за собой, так что все трое растянулись на мраморном полу. Нет худшего предзнаменования во время свадьбы, чем это. И все же неверно было бы сказать, что союз наш оказался несчастливым. Сперва мы спали вместе, так как этого, по-видимому, от нас ожидали, и даже изредка вступали в половое сношение — мой первый опыт в этой области; этого тоже требовал брак, но отнюдь не любовь и не вожделение. Я всегда был предельно внимателен и учтив по отношению к жене, она платила мне базразличием — лучшее, чего можно было ожидать от подобной женщины. Через три месяца после свадьбы Ургуланилла забеременела и родила мне сына Друзилла, к которому я при всем желании не мог испытывать никаких отцовских чувств. От моей сестры Ливиллы он унаследовал злобность и язвительность, а от брата Ургуланиллы Плавтия — все остальные черты характера. Скоро я расскажу вам об этом Плавтии, с которого, по указанию Августа, я должен был во всем брать пример.
У Августа и Ливии вошло в обыкновение при решении важных вопросов, касающихся государственных или семейных дел, сохранять для потомства как вывод, к которому они приходили, так и все предварительные обсуждения — обычно в форме писем друг другу. Из обширной корреспонденции, оставшейся после их смерти, я сделал копии нескольких писем, иллюстрирующих тогдашнее отношение Августа ко мне. Первый отрывок относится к периоду за три года до моей женитьбы.
«Дорогая Ливия!
Хочу написать тебе о странной вещи, которая случилась сегодня. Не знаю, как ее и объяснить. Я разговаривал с Афинодором и между прочим сказал ему: „Боюсь, что обучать Тиберия Клавдия — довольно утомительное занятие. По-моему, он с каждым днем выглядит все более жалким, тупым и нервозным“. Афинодор сказал: „Не суди мальчика слишком строго. Он очень болезненно переживает то, что родные разочарованы в нем и относятся к нему с пренебрежением. Но он далеко не туп, и — хочешь верь, хочешь нет — я получаю большое удовольствие от его общества. Ты никогда не слышал, как он произносит речь на заданную тему?“ „Речь?“ — сказал я, смеясь. „Да, речь, — повторил Афинодор. — Я вот что тебе предложу. Назови какую-нибудь тему для выступления и возвращайся сюда через полчаса, послушаешь, как он ее разовьет. Но только спрячься за занавесями, не то ты не услышишь ничего путного“. Я дал тему: „Римские завоевания в Германии“, — и через полчаса вернулся и спрятался, чтобы его послушать. Еще ни разу в жизни я не был так поражен. Материал он знал, как свои пять пальцев, названия основных разделов были выбраны превосходно, а подробности находились в надлежащем соотношении с подтемами и надлежащей связи друг с другом; мало того, он владел голосом и не заикался. Клянусь тебе, слушать его было приятно и интересно. Но, хоть убей, не могу понять, как он сумел, выступая с речью, к тому же подготовив ее за столь короткий срок, говорить так разумно и связно, когда обычно он говорит так бестолково и бессвязно. Я выскользнул из комнаты, сказав Афинодору, чтобы он не упоминал при мальчике, что я его слышал и как он меня удивил. Однако считаю, что должен сообщить тебе об этом случае и даже спросить, не стоит ли нам с этого времени изредка допускать его к столу, когда у нас мало гостей, при условии, что он станет держать уши открытыми, а рот закрытым. Если, как я склонен полагать, все же есть какая-то надежда, что он в конце концов выправится, ему надо постепенно привыкать общаться с равными себе по положению. Мы не можем вечно держать его взаперти с наставниками и вольноотпущенниками. Конечно, насчет его умственных способностей мнения резко расходятся. Его дядя Тиберий, мать Антония и сестра Ливилла единодушно считают Клавдия идиотом. С другой стороны, Афинодор, Сульпиций, Постум и Германик клянутся, что, когда он хочет, он не глупее других людей, но легко теряет голову из-за своей нервозности. Что до меня, повторяю, я пока еще не пришел к определенному решению».
На что Ливия ответила:
«Дорогой Август!
Удивление, которое ты испытал, прячась за занавесями, сродни тому удивлению, которое мы испытали, когда индийский посол сдернул шелковое покрывало с золотой клетки, которую нам прислал его господин, верховный царь Индии, и мы впервые увидели птицу попугая, его зеленое оперенье и ярко-красную грудку и услышали, как он говорит: „Да здравствует цезарь. Отец отчизны!“ В самой фразе нет ничего удивительного: любой ребенок может ее произнести, и удивило нас другое — то, что ее произносит птица. Ни один умный человек не станет хвалить птицу за то, что она произнесла подходящие слова, так как она не понимает значения ни одного из них. В заслугу это надо поставить тому, кто, проявив необыкновенное терпение, научил птицу их повторять, ведь, как ты сам знаешь, попугаев учат говорить совсем другие фразы, а что до нашего попугая, обычно он болтает сущие глупости, и нам приходится накрывать клетку, чтобы он замолчал. То же самое с Клавдием, хотя сравнение с моим внуком вряд ли лестно для попугая, красоту которого никто не станет отрицать. Речь, которую ты слышал, была, несомненно, выучена наизусть. Если на то пошло, „Римские завоевания в Германии“ — очень распространенная тема, и Афинодор мог натаскать Клавдия, дав ему для образца с полдюжины речей подобного толка, чтобы он выучил их назубок. Я не хочу сказать, что я недовольна. Напротив, я рада слышать, что мальчик поддается обучению, очень рада. Это значит, к примеру, что мы сможем подготовить его к свадебной церемонии. Но твое предложение, чтобы он участвовал в наших трапезах, просто смешно. Я есть в одной комнате с ним отказываюсь, у меня будет несварение желудка.
Что касается свидетельств в пользу того, что Клавдий не отстает в развитии, посмотри, кто свидетели. Германик еще в детстве поклялся отцу на его смертном одре любить и оберегать младшего брата, ты сам знаешь, какое у него благородное сердце; чтобы не обмануть отца и выполнить свой священный долг, он готов привести любые доводы в защиту Клавдия, даже назвать его умником в надежде, что со временем он, возможно, действительно поумнеет. В равной степени ясно, почему Афинодор и Сульпиций считают, что Клавдий поддается обучению: им очень хорошо платят за то, что они его обучают, а их должность дает им возможность болтаться во дворце с важным видом и изображать из себя семейных советников. Что до Постума, то все последние месяцы я жаловалась тебе — не так ли? — что не могу понять этого молодого человека. Я считаю, что смерть поступила жестоко, отняв у нас его талантливых братьев и оставив нам его. Постум заводит споры со старшими, когда и спорить нечего, так как факты говорят сами за себя. просто чтобы досадить нам и подчеркнуть собственное значение как твоего единственного оставшегося в живых внука. Его защита Клавдия — яркий пример тому. Он очень нагло со мной разговаривал, когда на днях я случайно заметила, что Сульпиций зря тратит время на мальчика; он сказал — собственные его слова, — что, по его мнению, у Клавдия более острый ум, чем у многих его ближайших родичей… полагаю, что он имел в виду и меня! Но Постум — другая проблема. Сейчас о Клавдии, и я не могу допустить, чтобы он ел за одним столом со мной по причинам, которые, я надеюсь, ты поймешь.
Ливия».
Год спустя, когда Ливия на короткое время уехала за город, Август писал ей:
«…Юного Клавдия, пока тебя нет, я буду каждый день звать к обеду, — хотя не скрою, его общество по-прежнему смущает меня, — чтобы он не обедал с Сульпицием и Афинодором. Они беседуют только на отвлеченные темы, и, притом что и тот и другой превосходные люди, их нельзя назвать идеальными сотрапезниками для юноши его возраста и положения. Я бы хотел, чтобы он выбрал какого-нибудь молодого патриция в качестве образца для подражания и в выправке, и в платье, и в манере себя держать. Но при его застенчивости и робости на это трудно рассчитывать. Он преклоняется перед нашим дорогим Германиком, но так остро ощущает собственные недостатки, что скорее я стану расхаживать в львиной шкуре, с дубинкой в руке и называть себя Геркулесом, чем он осмелится подражать своему старшему брату. Бедняге не везет, ведь в предметах важных, когда ум его блуждает, он достаточно обнаруживает благородство своей души…»
Небезынтересно и третье письмо, написанное вскоре после моей женитьбы, когда меня только что назначили жрецом Марса:
«Дорогая Ливия!
По твоему совету я беседовал с Тиберием о том, что нам делать с твоим внуком Клавдием на Марсовых играх.[72] Теперь, когда он достиг совершеннолетия и его назначили жрецом в коллегии жрецов Марса, мы не можем больше откладывать решение относительно его будущего, ведь мы с тобой согласились, что это необходимо. Если он — человек, так сказать, полноценный физически и духовно и может стать в итоге уважаемым членом нашей семьи, — а я полагаю, что это так, иначе я не усыновил бы Тиберия и Германика и не оставил Клавдия во главе старшей ветви рода Клавдиев. — тогда, очевидно, надо им заняться и предоставить ему возможность пройти ступень за ступенью тот же путь, какой прошел его брат. Возможно, я ошибаюсь — за последнее время он сделают весьма скромные успехи. Но если мы все же придем к заключению, что его физические недостатки связаны с недостатками умственными, не следует давать повода для насмешек над ним и над нами злым людям, которые привыкли потешаться над вещами такого рода. Повторяю, мы должны как можно скорее прийти к окончательному выводу, хотя бы для того, чтобы не ломать себе голову всякий раз, когда придется решать, способен ли он справиться с той или иной государственной должностью, к которой обязывает его рождение.
В данном случае — отвечаю на твой вопрос, что делать с Клавдием во время Марсовых игр, — я не возражаю против того, чтобы он ведал угощением жрецов, но лишь при условии, что он все предоставит своему шурину, молодому Плавтию Сильвану, и будет слушаться его указаний. Он сможет многому научиться, и, если хорошо выучит урок, у него не будет причин ударить в грязь лицом. Но о том, чтобы сидеть рядом с нами на виду у всех в императорской ложе возле священной статуи, не может быть и речи; он только будет обращать на себя всеобщее внимание, и любые странности в его поведении вызовут нежелательные толки.
Вторая проблема — что делать с ним во время Латинских игр.[73] Германик идет вместе с консулами на Альбанскую гору, чтобы принять участие в жертвоприношениях, и Клавдий, как я понял, хочет пойти с ним. Снова я не уверен, можно ли на него положиться и не выставит ли он себя на посмешище. Германик будет занят своими обязанностями и не сможет все время присматривать за ним. И если все же Клавдий пойдет туда, люди обязательно спросят, что он там делает и почему мы не назначили его на время праздника городским префектом — почетная должность, на которую, как ты должна помнить, мы назначали по очереди, как только они достигали совершеннолетия, Гая, Луция, Германика, юного Тиберия и Постума, чтобы они попробовали вкус власти. Лучший способ выйти из этого затруднительного положения — объявить, что Клавдии болен, так как о том, чтобы предоставить ему пост префекта, нечего и говорить.
Если захочешь, можешь показать это письмо нашей Антонии; заверь ее, что вопрос относительно ее сына будет скоро так или иначе решен. То, что официально он — ее опекун, ни с чем не сообразно.
Август».
За исключением того, что угощение жрецов было моей первой общественной обязанностью, ничего особенно интересного об этом я сказать не могу. Плавтий, тщеславный проворный человечек, похожий на воробья, исполнял все за меня и даже не дал себе труда объяснить мне систему обслуживания или порядок соблюдения старшинства жрецов, мало того — не желал отвечать мне, когда я его об этом спрашивал. Единственное, что он сделал, — познакомил меня с определенными ритуальными жестами и фразами, которые я должен был пускать в ход, приветствуя жрецов, а затем на разных стадиях обеда, запретив мне произносить хотя бы слово по собственному почину. Это было крайне неприятно, так как я не раз мог с успехом принять участие в беседе, а мое молчание и подчинение Плавтию производили плохое впечатление. Самих игр я не видел.
Вы заметили в письме Ливии слова, порочащие Постума? С этого времени они стали все чаще появляться в ее письмах, и, хотя Август сперва пытается защитить внука, постепенно недовольство им все растет. Я думаю, говорила ему Ливия куда больше, чем писала, — как иначе объяснить, что Постум так легко лишился расположения деда, — но некоторые претензии проскользнули и в письмах. Сперва Ливия передает жалобу Тиберия на то, что Постум дерзко отзывался о родосском университете. Затем — жалобу Катона на то, что Постум плохо влияет на младших товарищей, не желая подчиняться дисциплине. Вслед за тем Ливия предъявляет частные отчеты Катона, говоря, что не показывала их до сих пор, надеясь на перемену к лучшему. Потом упоминает, что Постум угрюм и замкнут — это было время, когда он горевал из-за смерти Гая и терзался из-за Ливиллы. Затем Ливия советует, когда Постум достигнет совершеннолетия, не отдавать ему сразу всего наследства, завещанного отцом, Агриппой, так как «оно предоставит ему возможности еще большего расточительства, чем он позволяет себе сейчас!». Когда по возрасту Постум смог вступить в армию, его зачисляют в гвардию в чине простого лейтенанта и не воздают никаких особых почестей, оказанных в свое время Гаю и Луцию. Август считает, что это самый безопасный путь: Постум честолюбив, нельзя допустить, чтобы возникла такая же неловкая ситуация, как тогда, когда молодые патриции поддерживали Марцелла против Агриппы или Гая против Тиберия. Вскоре мы читаем, что Постум с негодованием говорит по этому поводу Августу: «Сами по себе почести мне не нужны, но то, что меня их лишили, было неправильно понято моими друзьями — они сочли, будто я впал в немилость».
Затем идут более серьезные жалобы. Выведенный из себя Плавтием — ни один из них не сказал Ливии, что именно вызвало ссору, — Постум схватил его и бросил в фонтан в присутствии нескольких высокопоставленных лиц и их прислужников. Когда Август призвал его к ответу, Постум не выказал ни малейшего раскаяния и настаивал на том, что Плавтий заслужил купание, так как оскорбительно разговаривал со мной; при этом он выразил недовольство тем, что у него несправедливо удерживают наследство. Вскоре Ливия укоряет Постума в том, что он переменился и ведет себя грубо по отношению к ней. «Что отравляет тебя?» — спрашивает Ливия, и Постум отвечает, ухмыляясь: «Может быть, ты подсыпала чего-нибудь мне в суп». Когда Ливия требует объяснения этой дерзкой шутки, он отвечает с еще более вульгарной ухмылкой: «Подсыпать приправу в суп — обычное дело для мачех». Затем поступила жалоба от начальника Постума насчет того, что тот не общается с другими молодыми офицерами и проводит все свое свободное время на море, где удит рыбу. Он даже получил прозвище «Нептун».
Обязанности жреца Марса не сильно меня обременяли. Плавтию, который был жрецом той же коллегии, предписали надзирать за мной во время церемоний. Я начинал ненавидеть Плавтия. Оскорбление, за которое Постум кинул его в воду, было далеко не единственным. Он называл меня лемуром и говорил, что лишь из уважения к Августу и Ливии не плюет мне в лицо всякий раз, как я задаю ему глупые и ненужные вопросы.
Глава XI
Год, предшествующий моему совершеннолетию и женитьбе, оказался плохим годом для Рима. На юге Италии произошло несколько землетрясений, разрушивших ряд городов. Весной дожди почти не выпадали, и у посевов по всей стране был жалкий вид, а затем, когда еще не успели собрать урожай, начались ливни и прибили те хлеба, которые все же заколосились. Ливни были такие сильные, что на Тибре снесло мост, и в течение семи дней в нижнюю часть города добраться можно было только на лодках. Стране угрожал голод, и Август отправил в Египет и другие части империи уполномоченных для закупки зерна в огромных количествах. Общественные амбары были пусты из-за плохого урожая в предшествующий год — хотя не такого плохого, как сейчас. Уполномоченным удалось купить зерна, но по очень высокой цене и меньше, чем нужно. Зимой город оказался в бедственном положении, тем более бедственном, что он был перенаселен — за последние двадцать лет население Рима удвоилось; к тому же швартовка кораблей в Остии, городском порту, была зимой небезопасна, и караваны с зерном, прибывшие с Востока, не могли разгрузиться в течение многих недель. Август делал все возможное, чтобы уменьшить голод. Он временно выслал из Рима в сельские местности — не менее, чем за сто миль от города — всех его обитателей, кроме домовладельцев и их семей, назначил продовольственный совет из экс-консулов для распределения зерна и запретил публичные пиршества, даже в собственный день рождения. Много зерна он ввозил за свой счет и раздавал нуждающимся. Как всегда, голод привел к бесчинствам, а бесчинства привели к поджогам; целые улицы, где были расположены лавки, выжигались по ночам полумертвыми от истощения грабителями из бедных кварталов. Чтобы предотвратить это, Август организовал бригаду ночных сторожей, разделенную на семь подразделений. Бригада эта оказалась настолько полезной, что ее так никогда и не распустили. Ущерб, причиненный грабежами и поджогами, был огромным. В это самое время ввели новый налог, чтобы добыть деньги для войны с Германией, и из-за голода, пожаров и налогов в народе началось брожение, стали открыто говорить о перевороте. На двери общественных зданий прикалывали ночью угрожающие призывы. Ходили слухи, что существует огромный заговор. Сенат обещал награду за сведения, которые помогут арестовать вожака, и множество людей поспешило донести на своих соседей, чтобы ее получить, и это еще увеличило беспорядки. По-видимому, на самом деле заговора не было, были лишь надежды, что он есть, да слухи. Наконец из Египта, где урожай убирают гораздо раньше, чем у нас, стало поступать зерно, и волнения постепенно улеглись.
Среди тех, кого временно выселили из Рима во время голода, были гладиаторы. Хоть и немногочисленные, они могли, по мнению Августа, в случае смуты быть опасны. Это был отчаянный народ, некоторые из них в прошлом — аристократы, проданные за долги в рабство и получившие от своих хозяев разрешение собрать сумму для выкупа, участвуя в гладиаторских боях. Если юный аристократ входил в долги, как это порой бывает, не по собственной вине или из-за юношеского легкомыслия, даже отдаленные родичи обычно спасали его от рабства, а не то вмешивался сам Август. Так что эти «благородные» гладиаторы были людьми, которых никто не счел нужным избавить от их участия и которые, став, само собой, вожаками в гладиаторских школах, вполне могли возглавить вооруженный бунт.
Когда обстановка исправилась, их вернули обратно, и, чтобы привести всех в хорошее настроение, было решено устроить от имени Германика и моего имени большие гладиаторские игры и травлю диких зверей в честь нашего отца. Ливия хотела напомнить Риму об его подвигах, чтобы привлечь внимание к Германику, который был живой портрет отца и которого, как все ожидали, должны были вскоре отправить на помощь Тиберию в Германию, где наших славных полководцев ждали новые победы. Мать и Ливия внесли свою долю, однако основное бремя расходов пало на нас с Германиком. А поскольку Германику в его положении деньги были нужнее, чем мне, то будет лишь справедливо, объяснила мне мать, если я дам в два раза больше. Я был только рад как-то услужить Германику. Но когда после окончания игр я узнал, во что они обошлись, у меня волосы стали дыбом: все представления были задуманы на широкую ногу, и, помимо обычных издержек на гладиаторские бои и травлю диких зверей, очень много денег ушло на то, чтобы разбрасывать их в толпу.
По особому указу сената во время процессии к амфитеатру мы с Германиком ехали в отцовской военной колеснице. Перед этим мы совершили жертвоприношения в его память у большой гробницы, выстроенной Августом для себя самого, где он велел захоронить урну с пеплом отца рядом с урной Марцелла. Мы проехали по Аппиевой дороге под мемориальной аркой отца, на которой была воздвигнута его колоссальная конная статуя, украшенная лаврами в честь торжества. Дул северо-восточный ветер, и врачи не разрешили мне выйти из дома без плаща. Я сидел рядом с Германиком, деля с ним пост распорядителя, и заметил, что, за одним исключением, только я из всех присутствующих был в плаще. Вторым был Август, сидевший по другую сторону от Германика. Он плохо переносил сильную жару и сильный холод и зимой, помимо очень плотной тоги, надевал четыре туники и шерстяной жилет. Кое-кто из находившихся в амфитеатре увидел особое предзнаменование в сходстве нашей одежды и в том, что родился я в первый день месяца, названного в честь Августа, к тому же в Лионе, где в тот самый день Август освящал свой алтарь. Во всяком случае, так они говорили через много лет после того. Ливия тоже была в императорской ложе — особая честь, оказанная ей как матери моего отца. Обычно она сидела с весталками. Согласно правилам, на играх мужчины и женщины сидели порознь.
То был первый бой гладиаторов, который мне разрешили смотреть, и это еще усиливало мое замешательство, вызванное тем, что мне пришлось играть роль устроителя и сидеть в императорской ложе. Германик взял весь труд на себя, хотя делал вид, будто советуется со мной, когда надо было принимать решение, и провел всю церемонию с большой уверенностью и достоинством. Мне повезло: эти игры были лучшими, какие когда-либо показывались в амфитеатре. Правда, глядя на подобное зрелище впервые, я не мог оценить его по заслугам — мне не с чем было сравнивать, так как память не сохранила ни одного образца этого искусства. Но и после того я не видел ничего лучшего, а с тех пор мне пришлось быть свидетелем около тысячи первоклассных игр. Ливия хотела, чтобы Германик приобрел популярность как сын своего отца, и не жалела денег, чтобы нанять лучших гладиаторов Рима. Обычно профессиональные гладиаторы были очень осторожны и старались не пораниться сами и не поранить противника и тратили почти всю свою энергию на ложные удары и выпады, которые на вид и слух казались гомерическими, но на самом деле не причиняли никакого вреда, вроде тех ударов, которые наносят друг другу бутафорскими дубинками рабы в низкой комедии. Лишь изредка, когда бойцы приходили в ярость или хотели свести старые счеты, на них стоило смотреть. На этот раз Ливия собрала всю верхушку корпорации гладиаторов и сказала им, что желает получить за свои деньги настоящий товар. Если хоть одна схватка окажется притворной, она разгонит школы — слишком много было прошлым летом уловок во время боев. Поэтому главы школ предупредили гладиаторов, чтобы на этот раз они не вздумали играть в пятнашки, не то их вышвырнут из корпорации.
Во время первых шести поединков одного человека убили, один был так серьезно ранен, что умер в тот же день, а третьему отрубили руку со щитом у самого плеча, что вызвало хохот зрителей. В каждом из последующих трех поединков один из сражающихся обезоруживал другого, но побежденные настолько хорошо держались по время боя, что Германик и я вполне могли подтвердить одобрение публики, подняв большой палец в знак того, что им даруется жизнь. Один из победителей был за год или два до того богатым всадником. Во всех этих поединках противники, согласно правилу, сражались при помощи разного оружия: меч против копья или боевого топора, копье против палицы и так далее. Седьмой поединок был между гладиатором, вооруженным мечом установленного в армии образца и старомодным, круглым, обитым медью щитом, и гладиатором, чье оружие составлял трезубец для ловли форели и короткая сеть. Человеком с мечом, или «преследователем», был солдат гвардии, недавно приговоренный к смерти за то, что напился и ударил своего капитана. Смертная казнь была заменена боем с профессиональным гладиатором из Фессалии — человеком с трезубцем, — которому платили большие деньги и который, как сказал мне Германик, убил больше двадцати противников за последние пять лет.
Мои симпатии были на стороне старого солдата; когда он вышел на арену, он был очень бледен и нетвердо держался на ногах — он уже несколько дней просидел в тюрьме, и яркий свет резал ему глаза. Вся его рота, которая, по-видимому, очень ему сочувствовала, так как капитан был злой и грубый человек, который запугивал их и не брезговал рукоприкладством, стала его хором подбадривать; они кричали, чтобы он взял себя в руки и постоял за их честь. Солдат выпрямился и крикнул: «Постараюсь, ребята!» Его лагерное прозвище, как оказалось, было Окунь, и поэтому большая часть зрителей приняла его сторону, хотя гвардейцы не пользовались популярностью в городе. Если бы «окуню» удалось убить «рыболова», это было бы неплохой шуткой. Для человека, который борется за жизнь, иметь зрителей на своей стороне — половина успеха. Фессалиец — гибкий, жилистый, длинноногий и длиннорукий малый — вышел с чванным видом сразу вслед за солдатом, одетый только в кожаную тунику и жесткую круглую кожаную шапочку. Он был в хорошем настроении и перекидывался шутками с передними скамьями: его противник был всего лишь любитель, а ему Ливия заплатила тысячу золотых за выступление и обещала еще пятьсот, если он убьет противника после хорошего боя. Гладиаторы вместе приблизились к нашей ложе и приветствовали сперва Августа и Ливию, а затем нас с Германиком обычной фразой:
— Здравствуй, цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!
Мы ответили на приветствие принятым жестом, и тут Германик сказал Августу:
— Взгляни, государь. Этот солдат — один из ветеранов моего отца. Он получил в Германии награду за то, что первым проник за укрепление врага.
Это заинтересовало Августа.
— Прекрасно, — сказал он, — значит, мы увидим настоящий бой. Но фессалиец, стало быть, на десять лет моложе, а возраст немало значит в этой игре.
Тут Германик дал сигнал трубачам, и бой начался. Фессалиец принялся танцевать вокруг Окуня, но тот не отступал. Он был не дурак и не тратил зря силы, бегая за более легко вооруженным противником, но и не стоял на месте. Фессалиец пытался вывести его из себя насмешками, но Окунь оставался невозмутим. Только один раз, когда фессалиец оказался на достижимом расстоянии, он пошел в наступление, и быстрота его выпада вызвала восторженный рев на скамьях. Но фессалиец вовремя отпрыгнул. Скоро бой стал более живым, фессалиец наносил колющие удары трезубцем. Окунь легко отражал их, не упуская из вида сеть с маленькими свинцовыми шариками для тяжести, которую фессалиец держал в левой руке.
— Красивая работа! — сказала Ливия Августу. — Лучший гладиатор в Риме. Он просто играет с солдатом. Ты заметил? Он давно мог запутать его сетью и прикончить, если бы захотел. Но он нарочно затягивает бой.
— Да, — сказал Август, — боюсь, песенка солдата спета. Не стоило ему напиваться.
Не успел Август закончить, как Окунь ударом меча вышиб из рук фессалийца трезубец, подбросил его вверх и, прыгнув вперед, распорол кожаную тунику противника у подмышки. Фессалиец молниеносно отскочил и на бегу кинул сеть в лицо Окуня. Как назло, свинцовый шарик ударил того по глазу, на секунду ослепив его. Солдат приостановился, и фессалиец, воспользовавшись преимуществом, повернулся и выбил меч у него из рук. Окунь прыгнул за мечом, но фессалиец его опередил; схватив меч, он подбежал к барьеру и кинул его богатому покровителю, сидевшему в первом ряду скамей, отведенных всадникам. Затем приступил к приятному занятию — расправе над безоружным врагом: сеть свистела возле самой головы Окуня, трезубец колол то тут, то там, но Окунь не падал духом, а один раз схватился за трезубец и чуть не вырвал его. Фессалиец теперь подгонял его поближе к нашей ложе, чтобы поэффектнее убить.
— Хватит, — сказала Ливия деловым тоном, — он достаточно поиграл. Пора кончать с этим солдатом.
Фессалиец не нуждался в указке. Он одновременно взметнул над головой Окуня сеть и нацелился трезубцем ему в живот. И тут раздался оглушительный рев. Откинувшись назад, Окунь правой рукой поймал сеть и тут же изо всех сил ударил ногой в древко трезубца у самой руки врага. Трезубец взмыл вверх, перелетел через голову фессалийца, перевернулся в воздухе и вонзился, дрожа, в деревянный барьер. Секунду фессалиец не мог прийти в себя, затем, оставив сеть в руках Окуня, кинулся мимо него за трезубцем. Окунь прыгнул вперед и в сторону и, когда фессалиец пробегал мимо, поддел его под ребра острым шипом в центре щита. Фессалиец, ловя ртом воздух, упал на четвереньки. Окунь не стал терять времени и, резко взмахнув щитом, ударил его по затылку.
— Так бьют кроликов, — сказал Август, — но я никогда не видел, чтобы этот удар применяли на арене. А ты, моя милая Ливия? Прикончил его, могу поклясться.
Фессалиец был мертв. Я ожидал, что Ливия очень рассердится, но она сказала только:
— Поделом ему. Вот что получается, когда недооцениваешь противника. Я в нем разочарована. Однако я сэкономила на этом пятьсот золотых, мне, по-видимому, не на что жаловаться.
Завершились все удовольствия этого дня боем между двумя германскими заложниками, принадлежавшими к соперничающим племенам и добровольно вызвавшими друг друга на смертельный поединок. Оба рубили друг друга длинными мечами и алебардами — не очень красивое зрелище; у каждого к левому предплечью был привязан небольшой, богато украшенный щит. Мы не привыкли к такой манере драться, рядовые германские солдаты сражаются при помощи ассагаев — метательных копий с тонким древком и узким наконечником; алебарды и длинные мечи являются атрибутом высокого ранга их владельцев. Один из сражавшихся, светловолосый мужчина выше шести футов ростом, быстро расправился с противником, жестоко его изрубив, а затем прикончив сокрушительным ударом по шее. Толпа громко его приветствовала, и это вскружило ему голову: германец произнес целую речь на своем языке пополам с лагерной латынью и заявил, что он — прославленный воин у себя на родине, что он убил в битвах шесть римлян, в том числе одного офицера, до того как его дядя, вождь племени, отдал его из зависти в заложники. И теперь он вызывает на бой любого римлянина не ниже себя по положению; у них в Германии семь — счастливое число.
Первым на арену выскочил молодой офицер из хорошего, но обедневшего рода, Кассий Херея, и подбежал к императорской ложе за разрешением ответить на вызов. Его отец, сказал он, был убит в Германии, где он служил под началом славного генерала, в чью честь устроен праздник. Будет ли ему позволено принести этого хвастуна в жертву духу своего отца? Кассий был искусный фехтовальщик. Я часто наблюдал за ним на Марсовом поле. Германик посовещался с Августом, затем со мной; когда Август дал свое согласие и я промямлил свое, Кассию было велено вооружиться. Он пошел в раздевалку и одолжил у Окуня его меч, щит и доспехи — «на счастье» и в знак уважения к их владельцу.
Вскоре на арене завязался куда более серьезный бой, чем те схватки, которые показывали здесь гладиаторы-профессионалы; германец размахивал своим большим мечом, а Кассий, защищаясь щитом от ударов, старался застать противника врасплох; но тот был столь же проворен, сколь могуч, и дважды сбивал Кассия с ног. В амфитеатре было совершенно тихо, зрители, как при священнодействии, замерли, слышался лишь лязг мечей и треск щитов. Август сказал:
— Боюсь, что германец слишком силен. Нельзя было разрешать этот поединок. Если он убьет Кассия, это произведет в войсках плохое впечатление.
Тут Кассий поскользнулся в луже крови и упал навзничь. Германец с торжествующей улыбкой сел на него верхом, а затем… затем в ушах у меня раздался шум, в глазах потемнело, и я потерял сознание. Волнение, охватившее меня при виде того, как убивают людей — я впервые наблюдал это воочию, — поединок между Окунем и фессалийцем, во время которого я всей душой сочувствовал Окуню, и, наконец, последний бой, когда мне показалось, что не Кассий, а я сам отчаянно бьюсь с германцем за жизнь, — все это оказалось мне не по силам. Поэтому я не видел, как германец поднял свой грозный меч, чтобы проломить Кассию череп, и как в этот самый момент тот молниеносным взмахом руки вонзил шип своего щита ему в поясницу, перекатился на бок и нанес решающий удар мечом под мышку. Да, Кассий благополучно прикончил своего противника. Не забудьте это имя — Кассий Херея, он трижды сыграет важную роль в этой моей истории. Но вернемся ко мне. Сперва никто не заметил, что я потерял сознание, а когда заметили, я уже начал приходить в себя. Меня подперли с боков и поддерживали, пока представление не было закончено по всем правилам. Если бы меня пришлось выносить, это было бы позором не только для меня одного.
На следующий день Игры продолжались, но я на них не присутствовал. Объявили, что я заболел. Я пропустил одно из самых красочных зрелищ, когда-либо показанных в амфитеатре; — бой между индийским слоном — они куда больше африканских — и носорогом. Знатоки держали пари за носорога; хотя он уступал слону в размере, шкура у него куда толще, и они полагали, что он быстро расправится со слоном, пустив в ход свой длинный острый рог. В Африке, говорили они, слоны стараются держаться подальше от логовищ носорогов, и те единолично господствуют в своих угодьях. Однако этот индийский слон, как описывал мне потом Постум, не выказывал ни тревоги, ни страха; когда носорог выбегал на арену и кидался на него, он отражал нападение бивнями и неуклюже трусил за носорогом вдогонку, стоило тому в замешательстве повернуть вспять. Но увидев, что и сам он не может пропороть толстую кожу на шее носорога, слон, это удивительное животное, прибегнул к хитрости. Подняв хоботом оставленную служителем на песке метлу, сделанную из веток колючего кустарника, слон ткнул ею в морду противника, когда тот опять атаковал его, и выколол ему сначала один глаз, затем второй. Носорог, вне себя от боли и ярости, бросался в разные стороны в погоне за слоном и наконец врезался на всем бегу в деревянный барьер, пробил его и, оглушенный, со сломанным рогом, был остановлен мраморным барьером позади деревянного. Слон, раскрыв рот, точно в улыбке, подошел поближе и, расширив сперва брешь в деревянном барьере, принялся топтать своего врага, пока не проломил ему череп. Затем, кивая головой, словно в такт музыке, спокойно отошел в сторону. Тут выбежал его погонщик-индус с миской сластей, которые слон высыпал в рот под рукоплескания публики. Подставив хобот в качестве лестницы, он помог погонщику взобраться себе на спину и зашагал к императорской ложе, где сидел Август. Здесь он протрубил царский салют, которым этих животных учат приветствовать монархов, и опустился в знак почтения на колени. Но, как я уже говорил, сам я это зрелище пропустил.
В тот же вечер Ливия писала Августу:
«Дорогой Август!
Вчерашнее недостойное мужчины поведение Клавдия — его обморок при виде сражающихся людей, не говоря уж о нелепом подергивании рук и головы, — которое было тем более позорным, что произошло все это на торжественном празднике в ознаменование побед его отца, имеет по крайней мере одно преимущество: теперь мы можем раз и навсегда с уверенностью сказать, что, кроме как в качестве жреца — ибо вакансии в коллегии должны быть так или иначе заполнены, и Плавтий сумел как следует его натаскать для исполнения его обязанностей, — Клавдий ни в коем случае не должен появляться на людях. Придется сбросить его со счетов, он годится разве что для продолжения рода — я слышала, он исполнил свой долг перед Ургуланиллой, — но и в этом я буду уверена, лишь когда взгляну на ребенка, ведь он может оказаться таким же уродом, как отец.
Сегодня Антония извлекла из его комнаты тетрадь с историческими материалами, которые он собирает, чтобы написать жизнеописание отца; там же она нашла вымученное предисловие к предполагаемому труду, которое я посылаю тебе вместе с письмом. Как ты заметишь, Клавдий выбрал для восхваления единственный недостаток своего дорогого отца — его упрямое нежелание видеть, что время идет вперед, его нелепое заблуждение, будто политические формы правления, подходившие Риму, когда он был небольшим городком и сражался с другими небольшими городками, могут быть возрождены, после того как Римская империя стала величайшей империей со времен Александра. А что случилось с его империей, когда Александр умер и не нашлось сильного человека, который мог бы унаследовать его трон и стать монархом? Она просто развалилась. Но я не буду тратить ни своего, ни твоего времени, изрекая всем известные истины.
Афинодор и Сульпиций, с которыми я совещалась по этому поводу, утверждают, будто впервые видят это предисловие, и согласны со мной в том, что его обнародование нежелательно. Они клянутся, что никогда не внушали ему такие крамольные мысли, и думают, что он почерпнул их из старинных книг. Лично я полагаю, что он унаследовал их — у его деда, как ты помнишь, была такая же курьезная слабость; так похоже на Клавдия — взять в наследство этот единственный недостаток и пренебречь его физическим и духовным здоровьем. Надо благодарить богов за Тиберия и Германика. У них, насколько я знаю, республиканские глупости не в чести. Естественно, я приказала Клавдию прекратить его биографические занятия, сказав, что если он позорит память отца, падая в обморок на торжественных играх, устроенных в его честь, он недостоин писать его биографию; пусть найдет какое-нибудь другое применение своему перу.
Ливия».
Когда Поллион сказал мне о том, что дед и отец были отравлены, он поставил меня в тупик. Я не мог решить, что это: старческая болтовня, шутка, или он действительно что-то знает. Кто, кроме Августа, был настолько заинтересован в единовластии, чтобы отравить патриция за то лишь, что он верит в республику? Однако я не мог представить, что Август на это способен. Прибегнуть к отраве могут рабы — это подлый, низкий вид убийства. Август никогда бы не опустился до него. К тому же Август всегда говорил о моем отце с любовью и восхищением, а уж в лицемерии его упрекнуть нельзя. Я просмотрел несколько исторических книг, появившихся в последнее время, однако не вычитал в них ничего нового относительно смерти отца по сравнению с тем, что я уже знал от Германика. Но дня за два до игр я случайно разговорился с нашим привратником, который был денщиком отца во время всех его военных кампаний. Честный малый хлебнул лишнего, потому что в эти дни имя моего отца было у всех на устах, и ветераны купались в отраженных лучах его славы.
— Скажи мне, что ты знаешь о смерти своего командира? — храбро спросил я. — Ходили ли в лагере какие-нибудь слухи о том, что его смерть была не случайна?
Он ответил:
— Я не сказал бы этого никому, кроме тебя, господин, но тебе я могу доверять. Ты — сын своего отца, а я не знаю никого, кто бы не доверял ему. Да, такие слухи ходили, и для них были основания. Твоего храброго и благородного отца отравили. Я уверен в этом. Некая персона, имени которой я не буду называть — ты и сам догадаешься, — позавидовала победам твоего отца и отозвала его в Рим. Это не болтовня, не толки, так было на самом деле. Приказ возвращаться пришел, когда твой отец сломал ногу; ничего страшного, нога хорошо заживала, пока не появился этот шарлатан из Рима — с сумкой, полной ядов. Кто его прислал? Та самая персона, которая прислала письмо. Дважды два — четыре, не так ли, господин? Мы хотели убить этого лекаришку, но он благополучно вернулся в Рим под особой охраной.
Когда я прочитал записку бабки Ливии, где мне предписывалось прекратить работу над жизнеописанием отца, я был озадачен еще больше. Не мог же Поллион указывать на бабку как на убийцу бывшего мужа и сына! Это было невероятно. Какие у нее могли быть мотивы? И все же, подумав, я пришел к выводу, что если их кто и отравил, то скорее не Август, а Ливия.
В то лето Тиберию нужны были солдаты для войны в восточной Германии, и рекрутов стали набирать в Далмации, до тех пор спокойной и покорной Риму провинции. Но когда рекруты были собраны вместе, то случилось так, что туда прибыл, как и каждый год, сборщик налогов и стал взыскивать с провинции сумму, хоть и не больше той, которую назначил Август, однако больше той, которую Далмация могла заплатить. Крестьяне ссылались на бедность. Сборщик воспользовался правом забирать силой детей в тех деревнях, которые не выплатили налога, и увозить их, чтобы продать в рабство. Отцы некоторых из этих детей были в числе рекрутов и, естественно, выразили гневный протест. Все войско восстало, командиры-римляне были убиты. В поддержку далматинцев поднялось племя боснийцев, и скоро все пограничные провинции от Македонии до Альп были в огне. К счастью, Тиберию удалось заключить с германцами мир — причем по их просьбе — и выступить против бунтовщиков. Далматинцы избегали генерального сражения; разбившись на небольшие отряды, они вели умелую партизанскую войну. Они были легко вооружены, хорошо знали местность и, когда настала зима, осмелели настолько, что стали делать набеги на территорию Македонии.
Сидя в Риме, Август не мог правильно оценить трудности, которые возникли перед Тиберием, и, заподозрив, что тот нарочно откладывает боевые действия из каких-то тайных и непонятных ему побуждений, решил отправить на границу Германика во главе собственной армии, чтобы подстегнуть Тиберия.
Германик, которому шел в то время двадцать третий год, только что, за пять лет до положенного срока, получил первую магистратуру. Его назначение на пост командующего всех удивило: ожидали, что выбор падет на Постума. У него не было никакой судейской должности, и, будучи в ранге полкового командира, он занимался тем, что обучал на Марсовом поле рекрутов для новой армии. Постум был на три года младше Германика, но его брата Гая послали губернатором в Малую Азию в девятнадцать, а на следующий год после того Гай стал консулом. Все сходились во мнении, что Постум ни чуть не менее одарен, чем Гай, и, в конце концов, он был единственным внуком Августа, оставшимся в живых.
Когда я услышал о назначении Германика, еще до того, как эта новость была обнародована, меня стали разрывать противоречивые чувства: радость за Германика и грусть из-за Постума. Я отправился разыскивать Постума и нашел его в его комнатах во дворце, куда я прибыл одновременно с братом. Постум пылко нас приветствовал и от всей души поздравил Германика.
Германик:
— Вот из-за этого-то я и пришел, дорогой Постум. Ты сам понимаешь, я очень рад тому, что на меня пал выбор, и горд этим, но военная репутация для меня ничто, если я наношу тебе вред. Как полководцы мы с тобой равны, но, будучи наследником Августа, ты, и никто другой, должен быть избранным на этот пост. С твоего разрешения, я пойду сейчас к Августу и откажусь в твою пользу. Я объясню ему, что отданное мне за твой счет предпочтение может быть неправильно истолковано в городе. Еще не поздно все переменить.
Постум:
— Милый Германик, зная твое благородство и великодушие, я позволю себе говорить откровенно. Ты прав, в Риме посчитают, что мне нанесено оскорбление. А то, что у тебя есть судейские обязанности, которые тебе придется на время прервать, а меня ничто здесь не задерживает, лишь ухудшает дело. Но поверь, мое разочарование с лихвой искупается доказательством твоей дружбы, которое ты даешь мне не в первый раз, и я желаю тебе победы над врагом и скорого возвращения.
Тут заговорил я:
— Если вы не возражаете, мне хотелось бы выразить свое мнение: по-моему, Август обдумал создавшуюся ситуацию значительно тщательнее, чем вы полагаете. Судя по нечаянно услышанным мной словам матери, он подозревает, что дядя Тиберий сознательно затягивает войну. Если после той старой размолвки между моим дядей и Гаем с Луцием послать туда Постума во главе свежих воинских сил, дядя может обидеться и заподозрить неладное. Он будет смотреть на Постума как на соглядатая и соперника. Но Германик — его приемный сын, и он не усомнится, что его прислали в подкрепление. Я думаю, единственное, что здесь можно сказать: Постуму, безусловно, выпадет другой удобный случай показать себя, и довольно скоро.
Им обоим пришлась по душе такая точка зрения, не затрагивавшая чести ни того, ни другого, и мы дружески расстались.
В тот же самый вечер, вернее сказать, за полночь — я засиделся за работой у себя в комнате на верхнем этаже — до меня донеслись издалека крики, а затем раздался легкий шум с балкона. Я подошел к дверям и увидел над перилами голову и руку. Это был мужчина в военной форме. Он перекинул через перила ногу и перелез на балкон. На миг я прирос к полу — у меня мелькнула дикая мысль: «Это убийца, подосланный Ливией». Только я собрался позвать на помощь, как он шепнул:
— Тише. Не бойся. Это я, Постум.
— О, Постум! Ну и напугал же ты меня. Почему ты залезаешь в дом, как грабитель, да еще в такое время? Что с тобой случилось? У тебя все лицо в крови и порван плащ.
— Я пришел попрощаться, Клавдий.
— Не понимаю. Август передумал? Я полагал, что назначение уже обнародовано.
— Дай мне попить, у меня пересохло горло. Нет, я не еду на войну. Об этом и речи нет. Меня отправляют удить рыбу.
— Не говори загадками. Вот вино, пей побыстрей и скажи, что случилось. Куда ты поедешь удить?
— На какой-нибудь островок. Думаю, они еще не выбрали, какой именно.
— Ты хочешь сказать… — сердце мое упало, голова закружилась.
— Да, меня отправляют в изгнание, как мою несчастную мать.
— Но почему? Какое ты совершил преступление?
— Никакого. Ничего, о чем бы можно было официально заявить в сенате. Я думаю, речь будет идти о «неискоренимой испорченности». Ты помнишь их «Ночные дебаты»?
— О, Постум! Значит, бабка?..
— Слушай внимательно, Клавдий. Время не ждет. Я под строгим арестом, но я ухитрился справиться со стражниками и убежал. На ноги поднята дворцовая стража, и перекрыты все пути. Они знают, что я в одном из этих зданий, и обыщут комнату за комнатой. Мне надо было увидеть тебя, потому что я хочу, чтобы ты знал правду и не верил той напраслине, которую они возвели на меня. И я хочу, чтобы ты все передал Германику. Передай ему самый горячий привет и расскажи ему все от начала до конца, как я расскажу тебе. Мне безразлично, что обо мне подумают остальные, но я хочу, чтобы вы с Германиком знали правду и думали обо мне хорошо.
— Я не забуду ни единого слова, Постум. Не теряй времени, начинай.
— Ну, ты знаешь, что в последнее время я был у Августа в немилости. Сперва я не понимал почему, но вскоре мне стало ясно, что Ливия настраивает его против меня. Там, где дело касается Ливии, он становится просто тряпкой. Подумай только, живет с ней почти пятьдесят лет и до сих пор слепо верит ей! Но против меня была не только Ливия. В сговор с ней вступила Ливилла.
— Ливилла! Какой ужас!
— Да. Ты знаешь, как я ее любил и как страдал из-за нее. Ты однажды, год назад, намекнул, что она не стоит этого, и помнишь, как я рассердился на тебя. Я долго не хотел с тобой разговаривать. Прости меня, Клавдий. Надо знать, что такое безответная любовь. Я не открыл тебе тогда, что перед тем, как выйти за Кастора, Ливилла сказала мне, будто ее вынудила к этому Ливия, а на самом деле она любит меня. Я ей поверил. Почему мне было не поверить ей? Я надеялся, что когда-нибудь с Кастором что-нибудь случится, и мы с ней поженимся. С тех пор день и ночь я только об этом и думал. Сегодня в полдень, сразу после того как я повидался с тобой, я сидел с ней и Кастором в виноградной беседке возле большого пруда с сазанами. Кастор принялся насмехаться надо мной. Теперь-то я понимаю, что все это было заранее тщательно отрепетировано. Сперва он сказал: «Значит, предпочли Германика, а не тебя, да?» Я ответил, что считаю назначение вполне разумным и только что был у Германика и поздравил его. Тогда он сказал, ухмыляясь: «О, ваше высочество выразило свое одобрение. Кстати, ты что — все надеешься унаследовать от деда императорский престол?» Я держал себя в руках ради Ливиллы и сказал только, что не считаю пристойным обсуждать вопрос о том, кто будет преемником Августа, пока он жив и сохраняет все умственные и физические способности. Затем с иронией спросил его, не хочет ли он выдвинуть свою кандидатуру на пост императора. Он сказал с неприятной улыбкой: «Что ж, если бы я это сделал, у меня было бы больше шансов на успех, чем у тебя. Я обычно получаю то, что хочу. Я шевелю мозгами. Я завоевал Ливиллу, потому что шевелил мозгами. Не могу удержаться от смеха, когда вспоминаю, с какой легкостью я убедил Августа, что ты для нее не пара. Возможно, таким же путем я получу все прочее, к чему я стремлюсь. Кто знает». Тут уж я взорвался. Я спросил его, что он имеет в виду — что возводил на меня поклеп? Он сказал: «Почему бы и нет? Я хотел Ливиллу и этим добыл ее». Тогда я обернулся к Ливилле и спросил, знала ли она об этом. Она сделала вид, что возмущена, сказала, будто ей ничего не известно, но, спору нет, Кастор способен на любой бесчестный поступок. Она выдавила несколько слезинок и сказала, что Кастор — насквозь испорченный человек, и никто не представляет, сколько ей пришлось от него перенести; лучше бы ей умереть.
— Да, это ее старый трюк. Ливилла может заплакать в любую минуту. Всех ловит на эту удочку. Если бы я рассказал тебе все, что я о ней знаю, ты бы, возможно, сперва возненавидел меня, но избежал того, что случилось. Так что же случилось?
— Вчера вечером она прислала ко мне служанку, и та передала, что Кастор отправился, как всегда, на попойку и, возможно, будет отсутствовать всю ночь, и если вскоре после полуночи я увижу в окне свет, значит, путь свободен. Этажом ниже будет открыто окно, через которое я смогу потихоньку проникнуть в дом. Ливилла хочет сообщить мне что-то очень важное. Естественно, все это могло иметь лишь один смысл, и у меня чуть не выскочило сердце из груди. Несколько часов я прождал в саду, наконец в одном из окон мелькнул огонек. Я увидел, что окно под ним открыто, и залез внутрь. Служанка Ливиллы уже была там и провела меня наверх. Она показала мне, как пробраться к Ливилле в комнату, перелезая с одного балкона на другой, пока я не доберусь до ее окна, — мера предосторожности против стражи, оставленной в коридоре у ее дверей. Ливилла ждала меня; в пеньюаре, с распущенными волосами, она была необыкновенно хороша. Она сказала, что Кастор обращается с ней очень жестоко и что ее связывает с ним лишь супружеский долг, ведь, по его собственным словам, он женился на ней обманом и так ужасно с ней обращается. Она обвила меня руками, и я схватил ее в охапку и отнес на постель. Я сходил с ума от желания. И тут вдруг она принялась кричать и бить меня кулаками. Я подумал, что она потеряла рассудок, и зажал ей рот рукой, чтобы унять ее. Она вырвалась от меня, свалив но пол столик с лампой и стеклянным кувшином. Затем завопила: «Насилуют! Насилуют!» И тут, выбив дверь, в комнату вошли дворцовые стражники с факелами в руках. Угадай, кто был у них во главе?
— Кастор?
— Ливия. Она отвела нас в том виде, в котором мы были, в покои Августа. Кастор был там, хотя Ливилла сказала мне, что он ужинает в другом конце города. Август отпустил стражу, и Ливия, не вымолвившая до тех пор ни слова, тут же накинулась на меня. Она сказала, что по совету Августа она отправилась ко мне, чтобы познакомить меня без свидетелей с обвинением Эмилии и спросить, какое я могу дать объяснение…
— Эмилии? Какой Эмилии?
— Моей племянницы.
— Я не знал, что она имеет что-нибудь против тебя.
— Ей нечего против меня иметь. Но она тоже участвует в заговоре… Так вот, сказала Ливия, не найдя меня в моих комнатах, она стала расспрашивать людей, и ей сказали, будто патруль видел меня под грушей в южной части сада. Она послала за мной солдата, он вернулся и доложил, что не нашел меня, но хочет сообщить об одном подозрительном обстоятельстве: он видел, как прямо над солнечными часами какой-то мужчина перелезал с балкона на балкон. Ливия знала, чьи там комнаты, и очень испугалась. К счастью, она появилась вовремя и услышала крики Ливиллы о помощи: я проник к ней в комнату через балкон и собирался ее изнасиловать. Стража взломала дверь и оттащила меня от «перепуганной полуобнаженной женщины». Она, Ливия, тут же привела меня сюда, захватив Ливиллу в качестве свидетельницы. Все время, что Ливия рассказывала свою историю, эта шлюха, Ливилла, рыдала, пряча лицо. Пеньюар ее был разорван сверху донизу — видно, она сама специально разорвала его. Август назвал меня диким зверем и сатиром и спросил, не сошел ли я с ума. Конечно, я не мог отрицать, что был у Ливиллы в комнате, и даже того, что хотел заняться с ней любовной игрой. Я сказал, что пришел туда по ее приглашению, и попытался объяснить все с самого начала, но Ливилла принялась вопить: «Он лжет, он лжет! Я спала, когда он влез в окно и попытался взять меня силой». Тогда Ливия сказала: «А твоя племянница Эмилия тоже, верно, пригласила тебя, чтобы ты на нее напал с гнусными намерениями? Ты пользуешься большой популярностью у молодых женщин». Это был умный ход с ее стороны. Я должен был доказать, что ни в чем не повинен перед Эмилией, и оставить разговор о Ливилле. Я сказал Августу, что накануне я обедал у своей сестры Юлиллы и там действительно была Эмилия, которую я видел перед тем полгода назад. Я спросил, при каких обстоятельствах я якобы на нее напал, и Август ответил, что я и сам это прекрасно знаю — после обеда, когда родители девушки вышли из комнаты, так как слуги подняли тревогу, закричав, будто в дом забрались воры, и только возвращение отца с матерью помешало мне осуществить мой гнусный умысел. История настолько нелепая, что я, как ни был обозлен, не мог удержаться от смеха, но это лишь разожгло гнев Августа. Он был готов встать с кресла и ударить меня.
Я сказал:
— Я ничего не понимаю. В дом на самом деле забрались воры?
— Нет, тревога оказалась ложной: мы с Эмилией оставались вместе несколько минут, однако разговор вели абсолютно невинный и при нем присутствовала воспитательница. Мы говорили о фруктовых деревьях и садовых вредителях до той самой минуты, пока не вернулись Юлилла и Эмилий и не сказали, что тревога была ложной. Они-то не станут выслуживаться перед Ливией, можешь в этом не сомневаться, они ее ненавидят. Значит, все это — дело рук самой Эмилии. Я стал лихорадочно соображать, какое зло она могла затаить против меня, но так ничего и не вспомнил. И вдруг меня осенило. Юлилла сказала мне по секрету, что Эмилия наконец добилась своего: она выходит замуж за Аппия Силана. Ты знаешь этого молодого щеголя, да?
— Да, но я не совсем улавливаю, где тут связь?
— Все очень просто. Я сказал Ливии: «Награда Эмилии за эту ложь — брак с Силаном? Верно? А что получит Ливилла? Может, ты обещала отравить ее теперешнего мужа и снабдить ее другим, покрасивее?» Как только я произнес слово «отравить», я понял, что обречен. Поэтому я решил воспользоваться случаем и высказать все, что накопилось у меня на душе. Я спросил Ливию, как ей удалось отравить моего отца и братьев и какие яды ей больше по вкусу — быстрого действия или медленного. Ты как думаешь, Клавдий, она отравила их? Я в этом уверен.
— Ты отважился задать ей такой вопрос? Вполне возможно, что ты прав. Я думаю, она отравила также моего отца и деда, — сказал я, — и предполагаю, что они — не единственные ее жертвы. Но у меня нет доказательств.
— У меня тоже. Но как приятно было бросить ей в лицо обвинение! Я орал во весь голос, верно, половина дворца слышала меня. Ливия поспешила из комнаты и позвала стражу. Я видел, что Ливилла улыбается. Я хотел ее задушить, но Кастор кинулся между нами, и ей удалось убежать. Тогда я стал бороться с Кастором, сломал ему руку и вышиб два передних зуба — они вылетели прямо на мраморный пол. Но я не мог драться с солдатами, это ниже моего достоинства. К тому же они были вооружены. Двое из них держали меня за руки, в то время как Август обрушивал на меня громы и молнии. Он сказал, что меня надо отправить в пожизненную ссылку на самый пустынный остров в его владениях и что только его чудовищная дочь могла родить ему такого чудовищного внука. Я сказал ему, что, хотя он считается римским императором, на самом деле он менее свободен, чем рабыня в публичном доме, который содержит пьяница хозяин, и что наступит день, когда у него откроются глаза на действительно чудовищные преступления этой гнусной обманщицы — его жены. Но моя любовь к нему и верность остаются неизменными.
По всему первому этажу дома уже раздавались крики «Держи! Лови!». Постум сказал:
— Я не хочу бросать на тебя тень, дорогой Клавдий. Не годится, чтобы меня нашли у тебя в комнате. Если бы у меня был меч, я пустил бы его в ход. Лучше умереть, сражаясь, чем гнить заживо на каком-нибудь острове.
— Терпенье, Постум. Уступи сейчас, ты еще свое возьмешь. Я тебе обещаю. Когда Германик узнает правду, он не успокоится, пока ты снова не будешь на свободе, и я тоже сделаю, что смогу. Если тебя убьют — это будет дешевая победа для Ливии.
— Вы с Германиком не можете опровергнуть все измышления и объяснить, что на самом деле произошло. Вы только попадете в беду, если попытаетесь.
— Я уверен, нам представится удобный случай. Ливии слишком долго удавалось добиваться своего, она скоро позабудет об осторожности. Рано или поздно она сделает промах. Она не была бы человеком, если бы не ошибалась.
— Она и не человек, по-моему, — сказал Постум.
— А когда Август наконец поймет, как она его обманывала, ты не думаешь, что он будет не менее беспощаден по отношению к ней, чем был беспощаден по отношению к твоей матери?
— Она успеет его отравить.
— Мы с Германиком проследим, чтобы этого не случилось. Мы предупредим его. Не отчаивайся, Постум. Все в конце концов образуется. Я буду писать тебе как можно чаще и посылать книги. Я не боюсь Ливии. Если письма не будут до тебя доходить, знай, что их перехватывают. Внимательно гляди на седьмую страницу любой книги, которая придет от меня. Когда мне надо будет сообщить тебе что-нибудь по секрету, я напишу это молоком. Египтяне придумали такой хитрый способ. Буквы становятся видны, только если подержать страницу над огнем… Ой, слышишь, как хлопают двери? Тебе пора уходить. Они в конце соседнего коридора.
На глазах Постума были слезы. Он нежно обнял меня, ничего больше не говоря, и быстро вышел на балкон. Перелез через перила, помахал на прощанье рукой и скользнул вниз по виноградной лозе, по которой сюда забрался. Я услышал, как он бежит по саду, а через минуту раздались крики стражи.
7 г. н. э.
О том, что произошло за следующий месяц, а то и больше, я ничего не помню. Я снова был болен, очень серьезно болен, никто не верил, что я останусь в живых. К тому времени, как я стал поправляться, Германик был уже на войне, а Постум лишен наследства и отправлен в пожизненное изгнание. Остров, куда его сослали, назывался Планазия.
Он находился в двенадцати милях от Эльбы по направлению к Корсике и, на памяти людей, всегда был необитаем. Однако там были каменные развалины каких-то древних строений, и их приспособили под жилье Постуму и страже. По форме Планазия напоминала треугольник, самая большая сторона которого была в пять миль длиной. Остров этот — скалистый, без единого дерева, посещали его лишь живущие на Эльбе рыбаки и то лишь летом, когда они приезжали насаживать наживки в вершах для омаров. По приказу Августа, боявшегося, что Постум подкупит кого-нибудь из них и убежит, рыбакам запретили там появляться.
Тиберий был теперь единственным преемником Августа, за ним следовали Германик и Кастор — по женской линии, линии Ливии.
Глава XII
Если бы, описывая события последующих двадцати пяти с лишним лет, я ограничился перечислением моих собственных поступков, это не заняло бы много места на бумаге и было бы очень скучно читать: но вторая половина моей биографии, та, где я играю более заметную роль, будет понятна только в том случае, если я продолжу рассказ о моих родичах: Ливии, Тиберии, Германике, Постуме, Касторе, Ливилле и всех остальных, а это отнюдь не будет скучным, я вам обещаю.
Постум был в изгнании, Германик — на войне, из друзей со мной остался один Афинодор. Вскоре и он покинул меня и вернулся в родной Тарс. Как я мог возражать против его отъезда, если он поехал туда по горячей и настоятельной просьбе двух своих племянников, которые умоляли Афинодора помочь им освободить город из-под ига правителя. Они писали, что этот правитель на редкость ловко втерся в милость божественного Августа, и понадобится свидетельство такого человека, как Афинодор, в чьей неподкупной честности божественный Август не сомневается, чтобы убедить божественного Августа, что изгнание правителя-тирана из города им заслужено. Афинодору удалось избавить Тарс от этого кровопийцы, но вернуться в Рим, как он намеревался, он не смог. Племянники нуждались в его помощи для переустройства на твердой основе всего городского управления. Август, которому Афинодор отправил подробный отчет о предпринятых им шагах, выказал ему свою благодарность и полное доверие тем, что освободил Тарс на пять лет от уплаты императорской дани. Я регулярно переписывался с добрым стариком до самой его смерти, постигшей его через два года после отъезда из Рима в возрасте восьмидесяти лет. Чтобы почтить память Афинодора, в Тарсе учредили ежегодные празднества с жертвоприношениями в его честь, во время которых именитые жители города по очереди читали от первой до последней страницы его «Краткую историю Тарса», начав на восходе солнца и кончая после заката.
Германик писал мне время от времени, но письма его были столь же коротки, сколь нежны; хорошему командующему некогда писать письма родичам, все время между активными военными действиями уходит у него на то, чтобы лучше познакомиться с солдатами и офицерами, выяснить, каковы условия их жизни, повысить их боеспособность и собрать сведения о расположении и планах противника. Германик был один из самых добросовестных командующих, какие когда-либо служили в римской армии, и пользовался даже большей любовью, чем наш отец. Я очень гордился, когда он попросил меня сделать, причем как можно скорее и тщательнее, краткую сводку из всех достоверных источников, какие я смогу найти в библиотеках, об обычаях различных балканских племен, с которыми он сражался, об обороноспособности и местоположении их городов, их традиционной военной тактике и особенно о хитростях, применяемых ими в партизанской войне. Он писал, что не может на месте добыть достаточно достоверные сведения: Тиберий — человек замкнутый, и то, что знает, держит при себе. С помощью Сульпиция и небольшой группы архивариусов и переписчиков, работавших круглые сутки, я сумел собрать те данные, которые были ему нужны, и отправил их Германику ровно через месяц после того, как получил его письмо. Я был еще более горд, когда вскоре после этого от Германика пришел ответ, где он просил прислать двадцать экземпляров рукописи, чтобы раздать их старшим офицерам, так как собранный мной материал уже сослужил ему большую службу. Германик писал, что каждый абзац ясен по смыслу и показывает существо дела; самыми полезными были разделы, где приводились особые сведения о секретных межплеменных военных содружествах, против которых в основном, а не против самих племен, и велась война, и те, где перечислялись различные виды священных деревьев и кустов — каждое племя поклонялось своему виду, — под чьей защитной кроной члены племени обычно прятали запасы зерна, деньги и оружие, когда были вынуждены в спешке покидать свои селения. Германик обещал рассказать Тиберию и Августу об оказанной мной ценной услуге.
Однако вслух об этой моей работе упомянуто нигде не было, возможно, потому, что, услышь противник об ее существовании, он изменил бы свою тактику и расстановку сил. А теперь они полагали, что в их неудачах виноваты предатели. Август наградил меня приватным образом, включив в коллегию авгуров, но было ясно, что все, сделанное мной, он ставит в заслугу Сульпицию, хотя тот не написал ни слова, лишь нашел для меня кое-какие факты. Одним из главных моих источников был Поллион, чья кампания в Далмации может служить образцом военного искусства: сражения, проведенные по всем правилам, и блестящая работа разведки. Хотя его отчет о местных обычаях и условиях имел полувековую давность, он помог Германику больше, чем примеры из какой-либо более современной военной истории. Ах, если бы Поллион был жив, чтобы услышать это от Германика собственными ушами! Я рассказал об этом Ливию, и тот сердито ответил, что никогда не отказывал Поллиону в умении писать компетентные военные учебники, — он отказывал ему в титуле историка в более высоком смысле этого слова.
Должен добавить, что, прояви я больше такта, Август, без сомнения, похвалил бы меня в своей речи к сенату по завершении войны. Но мои ссылки на его собственную балканскую кампанию были реже, чем они могли бы быть, если бы он, как Поллион, написал о ней подробный отчет или если бы официальные историки уделяли меньше места лести и больше — беспристрастному описанию и объяснению его побед и поражений. Я почти ничего не мог извлечь из этих панегириков, и, читая мою книгу, Август, верно, почувствовал себя оскорбленным. Он настолько искренно считал, будто от него зависит успех войны, что на последние два сезона нынешней балканской кампании переехал из Рима в городок на северо-восточной границе Италии, чтобы быть как можно ближе к театру военных действий, и в качестве главнокомандующего римскими армиями беспрестанно посылал Тиберию довольно бесполезные советы.
Я работал над биографией деда, той ее частью, где говорилось о роли, которую он сыграл в гражданских войнах, но не успел далеко продвинуться вперед — мной было закончено всего два тома, — как вновь был остановлен Ливией. Она заявила, что я так же мало способен написать жизнеописание деда, как жизнеописание отца, и что нечестно было начинать эту работу у нее за спиной. Если я хочу с пользой применить свое перо, почему бы не избрать такой предмет, который не допускает ложного понимания и истолкования фактов. Например, такой, как преобразования в области религии, проведенные Августом после умиротворения. Тема эта была не очень увлекательная, но ее ни разу еще не рассматривали в подробностях, и я не имел ничего против того, чтобы заняться ею. Религиозные реформы Августа были, за небольшим исключением, превосходны: он возродил несколько жреческих общин, воздвиг восемьдесят два храма в Риме и его окрестностях и пожертвовал деньги на их содержание, обновил многочисленные старые храмы, приходившие постепенно в упадок, ввел чужеземные культы ради приезжих из провинций и восстановил ряд интересных старых народных праздников, которые мало-помалу, один за другим исчезли во время гражданских войн за последние пятьдесят лет. Я досконально изучил материал и завершил свой обзор за несколько дней до смерти Августа, шесть лет спустя после того, как его начал. Труд мой занял сорок один том, каждый в пять тысяч слов, но большую его часть составляли копии религиозных эдиктов, поименные списки жрецов, перечисления даров, переданных в сокровищницы храмов, и тому подобное. Самым ценным был вступительный том, где говорилось о первобытном ритуале у римлян. Здесь я оказался в затруднении, так как ритуальные реформы Августа базировались на данных, полученных религиозной комиссией, которая работала спустя рукава. По всей видимости, среди ее членов не было знатока стародавних обрядов, и в результате — в новые узаконенные священнодействия вкрался ряд ошибок, возникших из-за грубого непонимания древних религиозных формул. Лишь тот, кто изучали этрусский и сабинский языки, способен истолковать самые старые из наших заклинаний, а я потратил немало времени, чтобы овладеть начатками их обоих. В то время оставались в живых несколько крестьян, говоривших дома по-сабински, и я упросил двух из них приехать в Рим, чтобы с их помощью Паллант, бывший уже тогда моим секретарем, смог составить краткий словарь сабинского языка. Я хорошо им за это заплатил. Каллона, лучшего из моих секретарей, я отправил в Капую, чтобы он добыл материал для подобного этрусского словаря у Арунта, жреца, снабдившего меня сведениями о Ларсе Порсене, которые привели в восторг Поллиона и вызвали негодование Ливия. Эти два словаря, которые я впоследствии дополнил и опубликовал, дали мне возможность, к моему удовлетворению, прояснить ряд важных проблем, касающихся древних религиозных культов, но я научился быть осторожным, и, что бы я ни писал, это никак не ставило под вопрос эрудицию Августа или разумность его суждений.
Я не буду тратить время на описание балканской войны, скажу лишь, что, несмотря на искусное руководство дяди Тиберия, умелую помощь, оказанную ему моим тестем Сильваном, и боевые подвиги Германика, она тянулась около трех лет. Под конец весь край был покорен и практически превращен в пустыню, так как эти племена — все, и мужчины, и женщины, — доведенные до крайности, сражались с безрассудной храбростью и признавали свое поражение лишь после того, как огонь, голод и моровые болезни уменьшали их наполовину. Когда вожди повстанцев пришли к Тиберию на переговоры о мире, он стал их подробно расспрашивать, во-первых, почему им взбрело в голову восстать, и затем — почему они так отчаянно сопротивлялись. Главарь бунтовщиков, человек по имени Батон, ответил: «Вы сами в этом виноваты. Вы посылаете стеречь свои стада не пастухов и даже не пастушьих собак, а волков».
Это не совсем верно. Август сам выбирал губернаторов пограничных провинций, назначал им достаточное жалование и следил, чтобы имперские доходы не попадали в их карман. Налоги платились непосредственно губернатору, а не взимались бесчестными откупщиками. Губернаторы Августа не были волками, подобно почти всем губернаторам республики, которые интересовались одним — как бы побольше выжать из подвластных им провинций. Многие из его губернаторов были хорошими пастушьими псами, а кое-кто честными пастухами. Но часто бывало так, что Август ненамеренно назначал слишком высокий налог, не принимая во внимание плохой урожай, или мор на скот, или землетрясение, а губернатор, не желая говорить, что налог чересчур велик, предпочитал взыскивать его до последней монетки, даже под угрозой восстания. Мало кто из них проявлял личный интерес к народу, которым они, как считалось, управляли. Губернатор селился в романизированном главном городе провинции, где были прекрасные здания, и театры, и храмы, и общественные бани, и рынки, ему и в голову не приходило посещать отдаленные районы. Управляли провинцией, по сути дела, помощники губернатора, помощники помощников и всякие мелкие чины; вот они-то и притесняли население, и, вероятно, именно их Батон назвал «волками», хотя тут куда уместнее было бы слово «блохи». Не может быть сомнения в том, что при Августе провинции куда больше благоденствовали, чем при республике, и что внутренние провинции, управляемые ставленниками сената, были куда беднее, чем пограничные, управляемые ставленниками Августа. Это послужило поводом для одного из самых благовидных аргументов, выдвинутых против республики, хотя он и исходил из малоубедительной гипотезы, будто средний моральный уровень руководителей республики ниже среднего морального уровня абсолютного монарха и его приближенных, и из софизма, будто вопрос об управлении провинциями важнее вопроса о том, что происходит в Риме. Отдавать предпочтение единовластию на том основании, что при нем процветают провинции, по-моему, все равно что рекомендовать человеку относиться к родным детям, как к рабам, если он будет относиться к рабам с должной заботой.
9 г. н. э.
За эту дорогую и разорительную войну сенат назначил Августу и Тиберию большой триумф. Напомню, что теперь только самому Августу и членам его семьи было позволено иметь настоящий триумф, всех остальных генералов награждали так называемыми триумфальными украшениями. Германик, хотя и был из рода цезарей, по «техническим причинам» триумфа не получил. Август мог бы сделать ради него исключение, но он был благодарен Тиберию за успешное проведение войны и не хотел вызывать его неудовольствие, оказывая Германику равные с ним почести. Однако Германика повысили в должности и назначили консулом раньше положенного возраста. Хотя Кастор не принимал участия в войне, ему было дано право посещать заседания сената до того, как он стал его членом, и его также повысили в звании.
Все население Рима с нетерпением ожидало триумфа, который всегда сопровождался раздачей зерна и денег и интересными зрелищами, но было обмануто в своих ожиданиях. За месяц до того дня, когда был назначен триумф, молния ударила в храм бога войны на Марсовом поле и чуть не сожгла его — ужасное предзнаменование, — а несколько дней спустя из Германии пришла весть о самом тяжком военном поражении, какое римская армия потерпела со времени Карр, я бы даже сказал — со времени Аллии, четыреста лет назад.[74] Три полка пехоты были полностью уничтожены, и все территории, захваченные нами восточнее Рейна, были потеряны в один миг; казалось, ничто не может помешать германцам пересечь реку и предать огню и мечу замиренные и богатые французские провинции.
Я уже говорил о том, что для Августа это был сокрушительный удар. Он так тяжело переживал эту катастрофу не только потому, что нес за нее официальную ответственность как человек, которому сенат и народ поручили следить за безопасностью границ, но и потому, что был за нее в ответе морально. Катастрофа эта произошла из-за его опрометчивых попыток навязать варварам цивилизацию слишком быстрыми темпами. Германцы, покоренные моим отцом, мало-помалу приспосабливались к римским порядкам, учились пользоваться деньгами, завели постоянные рынки, строили дома и обставляли их, как принято у цивилизованных людей, и когда они теперь собирались на сходки, это не кончалось, как раньше, побоищами. Они считались союзниками Рима, и, если бы им дали постепенно забыть старые варварские обычаи и позволили наслаждаться мирной жизнью под охраной римского гарнизона, который защищал бы их от диких соседей, возможно, за одно-два поколения, а то и раньше, они сделались бы такими же мирными и послушными, как жители соседней Франции. Но Вар, мой свойственник, которого Август назначил губернатором всех зарейнских земель Германии, стал обращаться с германцами не как с союзниками, а как с рабами. Он был порочный человек и совершенно не считался с тем, какое большое значение германцы придают целомудрию своих женщин. А когда Августу понадобились деньги, чтобы пополнить военную казну, опустошенную балканской войной, и он установил ряд новых налогов, от уплаты которых зарейнские германцы также не были освобождены. Вар, желая выслужиться, преувеличил платежеспособность своей провинции.
В лагере Вара было два германских вождя — Германн и Зигмир, которые бегло говорили по-италийски и казались полностью романизированными. Германн в предыдущую войну командовал германскими вспомогательными войсками, и его верность Риму не вызывала сомнения. Он прожил в Риме какое-то время и даже был включен в сословие всадников. Оба вождя часто разделяли с Варом трапезу и были с ним в самых близких, дружеских отношениях. Они всячески старались ему внушить, будто их соотечественники так же верны Риму и благодарны ему за блага цивилизации, как они сами, но втайне поддерживали постоянную связь с недовольными Римом вождями, которых они убедили пока что не оказывать римским войскам вооруженного сопротивления и проявлять полную готовность платить налоги. Вскоре они получат сигнал к массовому восстанию. Германн, имя которого означает «воин», и Зигмир — вернее, Сегимер, — чье имя означает «радостная победа», оказались куда умнее Вара. Помощники не раз предупреждали его, что германцы слишком уж хорошо себя ведут в последнее время, видно, стараются усыпить его бдительность перед внезапным бунтом, но он смеялся над их словами. Вар говорил, что германцы — очень глупый народ: куда им составить план восстания, тем более привести его в исполнение, они выдадут свою тайну задолго до того, как приспеет время. Их покорность — не что иное, как трусость: чем сильнее вы ударите германца, тем больше он будет вас уважать; богатство и независимость только порождают в них наглость, но стоит их победить, и они приползут к вашим ногам, как побитые псы, и будут беспрекословно вам повиноваться. Вар даже пренебрег предупреждением германского вождя, у которого был против Гepмaннa зуб и который давно разгадал его планы. Вместо того, чтобы держать войска в одном месте, как следовало бы сделать в не полностью покоренной стране, Вар разделил их на части.
Следуя секретным инструкциям Германна и Сегимера, дальние общины обратились к Вару с просьбой о защите против разбойников и военной охране для транспортов с французскими товарами. И тут же вспыхнуло восстание в самом восточном уголке провинции. Сборщик налогов и его помощники были убиты. Когда Вар собрал для карательной экспедиции бывшие в его распоряжении войска, Германн и Сегимер сопровождали его часть пути, а затем попросили их отпустить, обещая, если это понадобится, как только Вар за ними пошлет, прийти к нему на помощь со вспомогательными силами. Эти вспомогательные силы в полной боевой готовности находились в засаде впереди Вара, в нескольких днях пути. Германн и Сегимер послали дальним общинам приказ напасть на римские отряды, отправленные для их защиты, и полностью их уничтожить. Весть об этой бойне не достигла Вара потому, что никто из солдат не остался в живых, да к тому же он не поддерживал связи с собственным штабом. Дорога, по которой шли римляне, была обыкновенной лесной тропой. Но Вар не принял никаких мер предосторожности — не выставил авангарда из стрелков, не прикрыл фланги; вся колонна, в которой было немало нестроевых солдат, растянулась беспорядочной цепью так беспечно, словно они находились в пятидесяти милях от Рима. Двигалась колонна очень медленно, так как солдаты были вынуждены все время рубить деревья и строить мосты через реки, чтобы переправить повозки с провиантом, и это позволило множеству племен присоединиться к тем германцам, которые уже сидели в засаде. Внезапно погода переменилась, полил дождь, длившийся более суток; кожаные щиты солдат насквозь промокли и стали слишком тяжелыми для боя, луки лучников пришли в негодность. Глинистая тропа сделалась такой скользкой, что люди с трудом могли удержаться на ногах, а повозки без конца застревали в грязи. Расстояние между головой и хвостом колонны все увеличивалось. И тут с соседнего холма поднялся столб дыма — сигнал, и германцы напали на римлян спереди, с обоих флангов и сзади.
Германцы не могли тягаться с римлянами в честном бою, и Вар не сильно преувеличивал их трусость. Сперва они отваживались нападать лишь на отбившихся солдат и возчиков, избегая рукопашной и забрасывая римлян из-за прикрытия градом ассагаев и стрел; стоило римлянину хотя бы взмахнуть мечом и крикнуть, как они убегали в лес. Однако при этой их тактике римляне несли большие потери. Отряды германцев под предводительством Германна, Сегимера и других вождей устраивали на тропе завалы — они скатывали в одно место захваченные повозки, сбивали с них колеса и наваливали поверх срубленные деревья. Было сделано несколько таких заграждений; спрятавшиеся за ними германские воины мешали римлянам их разобрать. Это сильно задерживало продвижение хвоста колонны, и солдаты, побоявшись быть отрезанными, бросили повозки и поспешили вперед, надеясь, что германцы займутся мародерством и на какое-то время о них забудут.
Передний полк дошел до холма, где из-за недавнего лесного пожара было мало деревьев, и римляне могли спокойно построиться и дождаться остальных двух полков. У них все еще был их обоз, и потери не превышали нескольких сот человек. Два других полка пострадали куда сильней. Многие солдаты оказались оторваны от своих рот, из них формировались новые подразделения числом от пятидесяти до двухсот человек, каждое с авангардом, арьергардом и защитой с флангов. Идущие на флангах передвигались крайне медленно — лес был густой, почва болотистая — и часто теряли связь со своими подразделениями; авангард нес тяжелые потери у заслонов, а арьергард безостановочно забрасывали сзади ассагаями. Когда в тот вечер устроили поверку, Вар обнаружил, что около трети его войска убито или пропало без вести. На следующий день он с боем вышел на открытую местность, но при этом пришлось бросить остаток обоза. Еды не хватало, и на третий день они были вынуждены снова углубиться в лес. На второй день убитых и раненых было не так уж много — большинство германцев грабили фургоны и уносили домой поживу, но на третий вечер при перекличке оказалось, что на месте только четверть войска. На четвертый день Вар, слишком упрямый, чтобы признать поражение и отказаться от первоначальной цели, все еще шел вперед, но прояснившееся было небо вновь заволокли тучи, и германцы, привыкшие к проливным дождям, осмелели, видя, что сопротивление римлян слабеет, и подошли к ним вплотную.
Незадолго до полудня Вар понял, что он разбит и покончил с собой, не желая попасть живым в руки врага. Большая часть старших офицеров и многие солдаты последовали его примеру. Лишь один офицер сохранил присутствие духа — тот самый Кассий Херея, который сражался в амфитеатре. Он командовал арьергардом, состоявшим из горцев-савойцев, которые чувствовали себя в лесу привычней, чем италийцы, и когда они узнали от уцелевшего солдата, что Вар мертв, орлы захвачены и в живых осталось не больше трехсот человек, Кассий решил спасти от резни кого только сможет. Он развернул свой отряд и, внезапно бросив его в атаку, прорвался сквозь ряды врагов. Смелость Кассия, которую он сумел отчасти вдохнуть в своих солдат, поразила германцев. Они не стали преследовать небольшую кучку храбрецов и устремились вперед, туда, где их ждала более легкая добыча. Из ста двадцати солдат, которые были с ним, когда он кинулся в атаку, Кассий Херея сумел после восьмидневного марша по враждебной стране благополучно привести в крепость, откуда он вышел двадцать дней назад, восемьдесят человек, причем не потерять ротного знамени. Поистине — это один из величайших бранных подвигов наших дней!
Трудно передать, какая паника поднялась в Риме, когда слухи о бедствии подтвердились. Жители города паковали свои пожитки и грузили их на повозки, словно германцы были уже у городских ворот. Честно говоря, у них были причины для беспокойства. Потери в балканской войне были так тяжелы, что почти все ресурсы для пополнения войска оказались исчерпаны. Август безуспешно ломал голову над тем, где ему взять армию, чтобы послать ее под предводительством Тиберия к Рейну и не дать германцам захватить предмостные укрепления, чего они, по-видимому, еще не успели сделать. Когда он обнародовал воззвание, призывающее граждан к оружию, мало кто из годных к военной службе римлян добровольно откликнулся на него: идти против германцев казалось им верной смертью. Тогда Август выпустил второе воззвание, где говорилось, что из тех, кто не явится добровольно в течение трех дней, каждый пятый будет лишен гражданских прав и привилегий, а также всего имущества. Многие колебались даже после этого, поэтому Август казнил нескольких человек для примера и силой вынудил остальных вступить в армию, где многие из них, нужно сказать, стали превосходными воинами. Август также мобилизовал мужчин старше тридцати пяти лет и вновь зачислил на военную службу часть ветеранов, отбывших в солдатах шестнадцатилетний срок. С ними да с одним-двумя полками вольноотпущенников, которых обычно не призывали на действительную службу (хотя пополнение Германика во время балканской войны состояло в основном из них), Август собрал довольно внушительные силы, и, как только очередная рота была вооружена и экипирована, он тут же отправлял ее на север, не дожидаясь остальных.
Как мне было стыдно, как я сокрушался, что в этот горестный час, когда каждый человек был на счету, я не мог присоединиться к защитникам Рима. Я пошел к Августу и умолял его послать меня на Рейн, поручив любое занятие, где моя физическая слабость не будет служить помехой. Я предложил, что поеду в качестве начальника разведки при штабе Тиберия и займусь таким нужным делом, как сбор и сравнение данных о передвижении противника, допросы пленных, составление карт и инструктирование наших разведчиков. Не получив этого назначения (для которого я считал себя пригодным, так как тщательно изучил все германские кампании, умел руководить служащими и работать методически), я вызвался быть главным квартирмейстером Тиберия: я бы посылал в Рим заказы на необходимые боеприпасы и распределял бы их по мере поступления. Август был доволен тем, с какой охотой я откликнулся на его призыв, и сказал, что поговорит с Тиберием о моем предложении. Но из этого ничего не вышло. Возможно, Тиберий не верил, что от меня может быть какой-нибудь толк, а возможно, моя просьба была ему неприятна, так как его родной сын Кастор всячески уклонялся от службы в действующей армии и уговорил Августа отправить его на юг Италии для набора и обучения солдат. Германик был в таком же положении, как я, — это меня немного утешало. Он заявил о своей готовности служить в Германии, но Август не мог отпустить его из Рима, где Германик пользовался большой популярностью, — Август нуждался в его помощи при подавлении народных беспорядков, которые, как он опасался, начнутся сразу же, как только войска покинут город.
Тем временем германцы выловили всех бежавших с поля боя солдат из армии Вара и многих из них принесли в жертву лесным богам, сжигая живыми в плетенных из лозы клетках. Остальных они держали в плену (некоторых пленников родственники впоследствии выкупили по невероятно высокой цене, но Август запретил им вступать в пределы Италии), не жалея захваченного у римлян вина, германцы устраивали попойку за попойкой и, не поделив добычу и славу, кидались с ножами друг на друга. Прошло много дней, пока они снова пришли в себя и осознали, какое слабое сопротивление ждало бы их, если бы они сразу двинулись к Рейну. Как только винные запасы стали иссякать, германцы атаковали не оказавшие отпора пограничные крепости, заняли их одну за другой и разграбили. Лишь одна крепость оборонялась до последнего — та, которой командовал Кассий Херея. Германцы взяли бы и ее столь же легко, как остальные, так как гарнизон там был мал, но Германн и Сегимер находились в другом месте, а прочие были незнакомы с римским искусством осады крепостей при помощи катапульт, баллист, «черепах» и подрывных работ.[75] У Кассия был большой запас луков и стрел, и он выучил всех находившихся в крепости, даже женщин и рабов, ими пользоваться. Он с успехом отбил несколько яростных атак на ворота и всегда держал наготове котлы с кипятком, чтобы вылить его на головы германцев, которые вздумали бы взобраться по лестницам на крепостные стены. Германцам так хотелось захватить эту крепость, где они ожидали найти богатую добычу, что они не торопились двигаться к предмостовым укреплениям на Рейне, которые защищала лишь горстка солдат.
И тут пришло известие, что к Рейну с другой стороны приближается Тиберий во главе новой армии. Германн сразу же сосредоточил свои силы, твердо намереваясь захватить мосты до того, как Тиберий подойдет. Под стенами крепости — германцам было известно, что там почти нет провианта, — был оставлен всего один отряд. Кассий, проведавший о планах Германна, решил уйти из крепости, пока еще есть время. Темной ненастной ночью он вывел потихоньку весь гарнизон и умудрился пройти мимо двух первых вражеских застав, прежде чем плач бывших с ними детей вызвал тревогу. На третьей заставе начался рукопашный бой, и, если бы германцы не так стремились проникнуть в городок, чтобы его разграбить, у людей Кассия не было бы никаких шансов остаться в живых. Но ему удалось оторваться от противника, а через полчаса он приказал трубачам играть сигнал атаки, чтобы германцы подумали, будто к нему подошло подкрепление, и больше не преследовали. Дул восточный ветер, и подразделение римлян у ближайшего моста услышало вдалеке звук трубы и догадалось, что происходит, — навстречу Кассию двинулся отряд, чтобы провести гарнизон в безопасное место. Два дня спустя Кассий успешно отразил массовую атаку германцев во главе с Сегимером, после чего к мосту подошел авангард войска Тиберия, и положение было спасено.
Конец года был отмечен изгнанием Юлиллы за «беспорядочные любовные связи» — то же обвинение, что предъявлялось ее матери Юлии, — на Тримерий, маленький островок у берегов Апулии.[76] Настоящей причиной ее изгнания было то, что она вот-вот должна была родить еще одного ребенка, который, окажись это мальчик, будет правнуком Августа, не связанным узами родства с Ливией, Ливия не желала больше рисковать. У Юлиллы уже был один сын — болезненный, робкий и вялый, но его можно было не принимать в расчет. На этот раз Ливии помог, как ни странно, Эмилий. Он поссорился с Юлиллой и обвинил ее в присутствии их дочери Эмилии в том, что она пытается навязать ему ребенка, зачатого от другого. И назвал Децима из рода Силанов как ее соучастника. У Эмилии хватило ума понять, что ее жизнь и безопасность зависят от того, на каком счету она будет у Ливии, поэтому она тут же отправилась к ней и все ей рассказала. Ливия заставила ее повторить свой рассказ в присутствии Августа. Тогда Август призвал к себе Эмилия и спросил, правда ли, что не он — отец ожидаемого ребенка его жены. Эмилию и в голову не пришло, что дочь предала своих родителей, и он сделал вывод, будто связь между его женой и Децимом, о которой он лишь подозревал, стала пищей досужих толков. Поэтому он подтвердил свое обвинение, хотя основывалось оно скорее на ревности, чем на фактах. Как только ребенок родился, Август велел забрать его и оставить на склоне горы. Децим сам отправился в изгнание, его примеру последовало несколько человек, которых обвинили в том, что в то или иное время они были любовниками Юлиллы. Среди них оказался поэт Овидий; Август — любопытная деталь — сделал его главным козлом отпущения, так как Овидий написал (за много лет до того) «Искусство любви». Эта поэма, и ничто другое, заявил Август, растлила ум и душу его внучки. И велел сжечь все экземпляры книги, какие можно было найти.
Глава XIII
Августу было уже за семьдесят. До последнего времени никому и в голову не приходило считать его стариком. Но недавние государственные и семейные катастрофы сильно изменили его. Характер у него стал неровный, и ему все труднее было приветствовать случайных посетителей с былой любезностью и не выходить из терпения на публичных пирах. Порой он раздражался даже на Ливию. Однако Август по-прежнему работал не покладая рук и дал согласие еще десять лет управлять империей. Когда Тиберий и Германик бывали в Риме, они брали на себя многие обязанности Августа, которые раньше он исполнял сам, и Ливия трудилась усерднее, чем всегда. Во время балканской войны, когда Август уезжал из Рима, он оставлял ей дубликат своей печати, и, поддерживая с ним тесную связь при помощи конных курьеров, Ливия сама вершила все дела. Август более или менее примирился с тем, что его преемником будет Тиберий. Он считал, что с помощью Ливии Тиберий сможет довольно неплохо править, продолжая его, Августа, политику, но льстил себя надеждой, что, когда он умрет, всем будет недоставать Отца отчизны и время его правления назовут веком Августа, как называли золотым веком Нумы время правления этого царя.[77] Несмотря на исключительные заслуги Тиберия перед Римом, лично он был непопулярен, и вряд ли его популярность возрастет, когда он станет императором. Август был доволен, что естественным преемником Тиберия станет Германик, будучи старше своего названного брата Кастора, родного сына Тиберия, и что маленькие сыновья Германика, Нерон и Друз, из его собственного рода. Хотя судьба воспротивилась тому, чтобы родные внуки наследовали ему, настанет день, когда он, Август, снова будет править Римом, так сказать, в лице своих правнуков. Август, как и почти все прочие, уже начисто забыл о республике и считал, что сорок лет тяжелой и беспокойной службы на благо Рима дают ему право передать бразды правления, буде ему так вздумается, своим наследникам вплоть до третьего колена.
Пока Германик был в Далмации, я не писал ему о Постуме, боясь, что какой-нибудь агент Ливии перехватит мое письмо, но как только он вернулся с войны, я все ему рассказал. Он сильно встревожился и признался, что не знает, чему и верить. Германику было несвойственно плохо думать о людях, если ему не представляли неопровержимых доказательств того, что тот или иной человек действительно плох, напротив, он был склонен приписывать всем самые благородные мотивы их поступков. Эта его крайняя простота обычно служила ему не во вред, а на пользу. Большинству людей, с которыми он сталкивался, льстило его высокое мнение об их моральных устоях, и они старались не уронить себя в его глазах. Конечно, если бы Германик оказался по власти отпетого негодяя, благородство сердца погубило бы его, но, с другой стороны, если в человеке было хоть что-то хорошее, при Германике это всегда давало себя знать. Поэтому теперь он сказал мне, что не может поверить, будто Ливилла или Эмилия способны на такую низость, хотя в последнее время, признался он, Ливилла его разочаровала. Он также сказал, что не видит, какие у них могли быть мотивы, а сваливать все, как я это сделал, на бабку Ливию — просто смешно. Кто, будучи в здравом уме, негодующе спросил Германик, заподозрит Ливию в том, что она подстрекала их к столь злому поступку? С таким же успехом можно заподозрить Добрую Богиню в том, что она отравила городские колодцы. Но когда я спросил, в свою очередь, действительно ли он верит, будто Постум совершил одну за другой две попытки к изнасилованию, причем обе на редкость безрассудные, а затем, даже если допустить, что он был в них виноват, солгал Августу и нам, Германик ничего не ответил. Он всегда любил Постума и верил ему. Я воспользовался этим и заставил Германика поклясться духом нашего дорогого отца, если он когда-нибудь найдет хоть малейшее свидетельство, что Постум был осужден несправедливо, все рассказать Августу, заставить его вернуть Постума обратно и наказать лжецов по заслугам.
11 г. н. э.
В Германии почти ничего не происходило. Тиберии удерживал мосты, но не решался переходить на другую сторону Рейна, не будучи уверен в своих войсках, которые он усердно муштровал. Германцы тоже не пытались пересечь реку. Август снова потерял терпение и стал побуждать Тиберия, не откладывая, отомстить за Вара и вернуть утраченных орлов. Тиберий отвечал, что стремится к этому всей душой, но войска еще не способны выполнить эту задачу. Когда Германик окончил свой срок исполнения магистратуры, Август отправил его к Тиберию, и тому волей-неволей пришлось проявить активность; надо сказать, что Тиберий вовсе не был ленив или труслив, просто крайне осторожен. Он пересек Рейн и захватил часть утраченной провинции, но германцы избегали генерального сражения, и Тиберию с Германиком, не желавшим попасть в засаду, удалось лишь сжечь сколько-то вражеских лагерей на Рейне да продемонстрировать свою военную мощь. Было несколько схваток, из которых они вышли с победой и взяли сотни три-четыре пленных. Римские войска оставались в этом районе до осени, а затем вновь пересекли Рейн. Следующей весной в Риме отмечался так долго откладываемый триумф, назначенный по поводу победы над далматинцами. К нему прибавился второй — за германский поход — главным образом, чтобы вернуть доверие народа. Нельзя не отдать должного благородному поступку Тиберия, хотя побудил его к нему Германик: показав во время триумфа Батона, пленного далматского вождя, Тиберий затем освободил его, пожаловал большую сумму денег и поселил со всеми удобствами в Равенне. Батон заслужил это: однажды он великодушно дал возможность Тиберию уйти из долины, где тот оказался заперт с большей частью своего войска.
Германик был назначен консулом, и Август направил в сенат официальное письмо, где рекомендовал его вниманию сената, а сенат — вниманию Тиберия. (Рекомендуя сенат Тиберию, а не наоборот, Август давал понять и то, что назначает Тиберия споим преемником — император выше сената, — и то, что не намерен произносить по его адресу хвалебную речь, хотя и произнес ее по адресу Германика.) Агриппина всегда сопровождала мужа в военных походах, как в свое время моя мать. Делала она это в основном из любви к нему, но и потому также, что не хотела оставаться одна в Риме, где ее могли призвать к Августу из-за сфабрикованного обвинения в прелюбодеянии. Она не знала, как к ней относится Ливия. Агриппина была типичная римская матрона из старинных легенд — сильная, мужественная, скромная, благоразумная, набожная, целомудренная и плодовитая. Она уже родила Германику четырех детей, а в дальнейшем родит еще пять.
Хотя правило Ливии насчет моего присутствия — вернее, отсутствия — за ее столом не было отменено, а мать по-прежнему обходилась со мной более чем прохладно, Германик при каждой возможности приглашал меня в компанию своих благородных друзей. Ради него они относились ко мне более или менее уважительно, но взгляд семьи на мои умственные способности был известен, и считалось, будто Тиберий его разделяет, поэтому никто не домогался моего близкого знакомства. По совету Германика я объявил, что намерен устроить публичное чтение моего последнего исторического труда, и пригласил ряд известных любителей и знатоков литературы. Книга, которую я собирался читать и над которой много работал, должна была представить интерес для слушателей — я разбирал в ней формулы, применяемые этрусскими жрецами во время ритуальных омовений, и давал перевод каждой из них на латынь, что проливало новый свет на многие наши очистительные обряды, точное значение которых со временем стало неясным. Германик предварительно прочитал эту работу от корки до корки и показал матери и Ливии, которые одобрили ее, а затем великодушно послушал меня, когда я репетировал. Он поздравил меня как по поводу самой работы, так и исполнения, и, по-видимому, его отзыв стал широко известен, так как комната, где я намеревался читать, оказалась набита битком. Ливии не было, Августа тоже, но мать, сам Германик и Ливилла пришли.
Я был в прекрасном настроении и нисколько не нервничал. Германик предложил мне подкрепиться перед чтением бокалом хорошего вина, и я решил, что это превосходная мысль. Поставили кресло для Августа — если ему вдруг вздумается прийти — и для Ливии; роскошные кресла, в которых они всегда сидели, посещая наш дом. Когда все собрались и заняли места, двери закрыли, и я начал читать. Читал я отлично, следя за тем, чтобы не спешить и не тянуть, не кричать и не произносить слова слишком тихо, читал так, как надо, и чувствовал, что аудиторию, ничего не ждавшую от меня, чтение невольно захватило. И тут, как назло, раздался громкий стук в дверь. Никто не открыл ее, и стук повторился. Затем загрохотала ручка, и в комнату вошел самый толстый человек, какого я видел в жизни, в тоге всадника, с большой вышитой подушкой в руке. Я перестал читать, так как подошел к трудному и важному месту, а меня никто не слушал — все взгляды устремились на всадника. Он заметил Ливия и приветствовал его с певучим акцентом, присущим, как я потом узнал, падуанцам, затем обратился с приветствием ко всем присутствующим, что вызвало приглушенные смешки. Толстяк не обратил особого внимания на Германика, хотя тот был консул, или на нас с матерью, хотя мы были хозяева дома. Оглядевшись в поисках места, он увидел кресло Августа, но оно показалось ему узким, и он завладел креслом Ливии. Положил на него подушку, собрал у колен плащ и с ворчанием уселся. И, естественно, кресло, старинное и очень хрупкое, вывезенное из Египта в числе прочей мебели, захваченной во дворце Клеопатры, с треском под ним развалилось.
Все, кроме Германика, матери, Ливия и наиболее серьезных людей среди присутствующих, разразились хохотом; но когда толстяк со стонами и проклятиями поднялся, потирая ушибленные места и вышел в сопровождении вольноотпущенника из комнаты, тишина восстановилась, и я попытался продолжать. Однако я никак не мог унять смех, у меня сделалась истерика. Возможно, причиной тому было выпитое вино, а возможно, то, что я видел лицо толстяка, когда под ним подломилось кресло, чего не видел никто другой, так как кресло стояло в первом ряду, и он уселся прямо напротив меня. Так или иначе, я обнаружил, что не могу сосредоточиться на ритуале омовения у этрусков. Сперва слушатели разделяли мое веселье и даже смеялись вместе со мной, но когда, с трудом преодолев следующий абзац, я случайно взглянул уголком глаза на злосчастное кресло, еле стоявшее на расколотых ножках, и опять расхохотался, аудитория стала выказывать признаки нетерпения. Но это еще не все; только я успокоился, как двери распахнулись и в комнату вошли — кто, вы думаете? — ну конечно, Август и Ливия. Они торжественно прошествовали между двумя рядами стульев, и Август сел. Ливия собиралась сделать то же, но тут увидела, что кресло сломано, и спросила громким голосом: «Кто сидел на моем кресле?» Германик прилагал все старания, чтобы объяснить Ливии, в чем дело, но она решила, что над ней потешаются, и вышла из комнаты. Август со смущенным видом последовал за ней. Кто меня обвинит в том, что я провалил чтение? Должно быть, сам злой бог Мом[78] уселся в это кресло, потому что спустя пять минут ножки его разъехались, и оно снова рухнуло на пол: с одной из ручек отломилась золотая львиная голова и покатилась прямо мне под ноги. Я снова потерял над собой контроль и, задыхаясь, захлебываясь и хрипя, принялся громко хохотать. Германик подошел ко мне и умолял взять себя в руки, но я смог лишь поднять с пола львиную голову и беспомощно указать на кресло. Если Германик когда-либо сердился на меня, это было в тот раз. Я очень расстроился, увидев, что он сердится, и это сразу отрезвило меня. Но я потерял всякую уверенность в себе и стал так сильно заикаться, что мне, увы, пришлось замолчать. Германик изо всех сил старался спасти положение: он предложил, чтобы мне вынесли благодарность за мой интересный труд, выразил сожаление, что неудачное происшествие вынудило меня прервать чтение и заставило Отца отчизны и сиятельную Ливию, его супругу, лишить их своего общества, а также надежду, что в самом ближайшем будущем при более благоприятных обстоятельствах я прочитаю еще какую-нибудь из своих работ. На свете не было более заботливого брата и более благородного человека. Но я с тех пор ни разу не читал своих трудов на публике.
Однажды Германик пришел ко мне с очень серьезным и мрачным видом. Долгое время он молчал, но наконец решился и заговорил:
— Я беседовал сегодня утром с Эмилием, и мы вспомнили о бедном Постуме. Эмилий сам завел о нем речь, спросив, в чем именно его обвинили, и сказал, по-видимому, вполне искренне, что, как он понял, Постум пытался совершить насилие над двумя патрицианками, но никто, похоже, не знает, кто они. При этих словах я пристально на него посмотрел и увидел, что он не лжет. Тогда я предложил поделиться с ним своими сведениями, но только если он обещает держать в тайне то, что от меня услышит. Когда я сказал, что одна из женщин — его собственная дочь, обвинившая Постума в том, будто он хотел лишить ее невинности, причем не где-нибудь, а в родительском доме, Эмилий страшно был удивлен и не хотел мне верить. Он сильно разгневался и сказал, что воспитательница Эмилии, несомненно, не покидала комнаты, пока там был Постум. Он хотел пойти к Эмилии и выяснить, правда ли все это, и если так, почему он слышит эту историю впервые, но я остановил его, напомнив об обещании. Я не доверял Эмилии. Вместо этого я предложил расспросить воспитательницу, но так, чтобы не напугать ее. Эмилий послал за ней и осведомился, о чем разговаривали Постум и Эмилия во время ложной тревоги насчет воров в тот последний раз, когда Постум у них обедал. Сперва женщина ничего не могла вспомнить, но когда я спросил: «Не о фруктовых ли деревьях?», — она сказала: «Да, да, конечно, о вредителях фруктовых деревьев». Эмилий поинтересовался, не говорили ли они во время его отсутствия о чем-либо еще, и воспитательница ответила, что нет, насколько ей известно. Она припомнила, что Постум объяснял новый греческий способ борьбы с вредителем под названием «арап», и это вызвало у нее большой интерес, так как она знает толк в садоводстве. Нет, ответила женщина, она ни на секунду не отлучалась из комнаты. Поэтому, — продолжал Германик, — я пошел затем к Кастору и, словно случайно, завел разговор о Постуме. Ты помнишь, что поместье Постума было конфисковано, пока я был в Далмации, и продано с торгов, а вырученная сумма внесена в военную казну? Так вот, я спросил, какая судьба постигла мое столовое серебро, которое Постум как-то взял у меня для какого-то пира, и Кастор надоумил меня, как получить его обратно. Затем мы перешли на его ссылку. Кастор ничего не пытался скрыть, говорил без обиняков, и я рад сказать тебе, что вполне уверен — он в заговоре не участвовал.
— Но ты признаешь теперь, что заговор был? — с жаром спросил я.
— Боюсь, иначе всего этого объяснить нельзя. Но Кастор невинен, я не сомневаюсь. Он сам, не дожидаясь расспросов, рассказал мне, что по наущению Ливиллы дразнил Постума в саду, как и говорил тебе Постум. Делал он это потому, что Постум пялил глаза на Ливиллу, и ему, ее мужу, это не нравилось. Он добавил, что не сожалеет об этом, хотя шутки его были не самого лучшего вкуса, — ведь после того, как этот сумасшедший попытался насильно овладеть Ливиллой и нанес серьезные раны ему самому, жалеть о каких-то там словах было бы просто глупо.
— Он верит, что Постум пытался изнасиловать Ливиллу?
— Да. Я не стал открывать ему глаза. Я не хочу, чтобы Ливилла знала о наших подозрениях. Ведь она сразу сообщит о них Ливии.
— Теперь ты видишь, Германик, что все это — дело ее рук?
Он не ответил.
— Ты пойдешь к Августу?
— Я дал тебе слово. Я всегда держу слово.
— Когда ты пойдешь к нему?
— Сейчас.
13 г. н. э.
Что случилось при этом разговоре, я не знаю и никогда не узнаю. Но в тот вечер за обедом у Германика был куда более веселый вид; судя по тому, что он избегал моих вопросов, Август, должно быть, ему поверил, но взял с него клятву держать все пока в секрете. Прошло много времени, прежде чем мне стало известно, что последовало за их беседой. Оказывается, Август написал корсиканцам, которые уже несколько лет жаловались на набеги пиратов, что вскоре лично приедет к ним и разберется в этом деле; по пути он остановится в Марселе, где намеревается освятить храм. Немного погодя Август действительно отплыл из Рима, но прервал свое плавание на два дня, высадившись на Эльбе. В первый день он приказал, чтобы стражу Постума на Планазии заменили новыми людьми. Это было исполнено. В ту же ночь Август тайно отплыл на остров в рыбацкой лодке в сопровождении одного лишь Фабия Максима, его старинного друга, и некоего Клемента, бывшего раньше рабом Постума и удивительно похожего на своего прежнего хозяина. Я слышал, что Клемент был внебрачный сын Агриппы. Им повезло — они встретили Постума, как только высадились на берег. Он ставил на ночь удочки и заметил вдали парус в ярком свете луны; Постум был один. Август подошел к нему, открыл лицо и, протянув руку, вскричал: «Прости меня, мой сын!» Постум взял его руку и поцеловал. Затем оба они отошли в сторону, а Фабий и Клемент стояли на страже. О чем у них шел разговор — не знает никто, но когда они вернулись, на глазах Августа были слезы. Потом Постум и Клемент обменялись одеждой и именами; Постум отплыл вместе с Августом и Фабием на Эльбу, а Клемент занял его место на Планазии до тех пор, пока не будет получен приказ об освобождении Постума, что, по словам Августа, произойдет очень скоро. Клементу обещали свободу и большую сумму денег, если он хорошо сыграет свою роль. Он должен был притвориться больным на несколько ближайших дней и отрастить подлиннее волосы и бороду, чтобы никто не заметил подмену; ведь новая стража видела Постума в течение каких-то нескольких минут.
Ливия заподозрила, что Август делает что-то за ее спиной. Она знала, что он не любит моря и не сядет на корабль, если может ехать по суше, даже когда теряет при этом ценное время. Спору нет, на Корсику попасть было нельзя иначе как морем, но пираты не представляли такой уж серьезной угрозы, и Август вполне мог послать туда Кастора или еще кого-нибудь из своих приближенных, чтобы они разобрались в этом деле. Поэтому Ливия стала выспрашивать всех вокруг и в конце концов узнала, что, когда Август останавливался на Эльбе, он приказал сменить стражу Постума и в тy же ночь отправился вместе с Фабием в маленькой лодчонке ловить рыбу в сопровождении одного раба.
У Фабия была жена по имени Марция, с которой он делился всеми своими секретами, и Ливия, раньше не обращавшая на нее никакого внимания, теперь принялась обхаживать ее. Марцию, женщину простую, легко было обмануть. Когда Ливия убедилась, что полностью втерлась к ней в доверие, она отвела ее как-то раз в сторону и спросила:
— Скажи, милочка, Август очень разволновался, когда увидел Постума после столь долгой разлуки? Он куда более мягкосердечный человек, чем хочет казаться.
Фабий предупредил Марцию, что поездка на Планазию должна держаться в тайне — если она скажет о ней хоть одному человеку, это может привести к роковым для него последствиям. Поэтому сперва Марция ничего не ответила Ливии. Ливия рассмеялась и сказала:
— Ну до чего же ты осторожная. Как часовой в лагере Тиберия в Далмации, который не пропустил в лагерь самого Тиберия, когда тот вернулся с верховой прогулки. потому что он не мог сказать пароль. «Приказ есть приказ», — заявил этот идиот. Милая моя Марция, у Августа нет от меня секретов, как и у меня от Августа. Но я хвалю тебя за осмотрительность.
Марция извинилась перед ней и сказала:
— Фабий говорил, что Август не мог унять слез.
— Естественно, — сказала Ливия. — но знаешь, Марция, пожалуй, лучше не рассказывай Фабию, что мы об этом говорили… Августу не нравится, когда люди знают, до какой степени он мне доверяет. Фабий, верно, рассказывал тебе о рабе?
Это был выстрел наугад. Возможно, раб тут был ни при чем, но задать этот вопрос все же стоило.
Марция сказала:
— Фабий говорил, что он удивительно похож на Постума, только ростом чуть ниже.
— Ты думаешь, стража заметит разницу?
— Фабий сказал, что вряд ли. Клемент был рабом в доме Постума и хорошо знает все его повадки; если он будет осторожен, то не выдаст себя, а стражу, как ты знаешь, заменили.
Теперь Ливии оставалось только найти, где находится Постум, который, как она полагала, скрывается под именем «Клемент». Она решила, что Август намерен вернуть ему свое расположение и, возможно даже, чтобы загладить вину, назначит его, в обход Тиберия, своим преемником. Ливия доверила эту тайну Тиберию и предупредила его о своих подозрениях.
На Балканах опять начались беспорядки, и Август намеревался отправить туда Тиберия, чтобы он подавил их, пока дело не приняло серьезный оборот. Германик был во Франции — собирал там дань. Август предполагал также отослать из Рима и Кастора — в Германию, и очень часто беседовал с Фабием, из чего Ливия заключила, что тот является посредником между Августом и Постумом. Как только путь будет свободен, Август, конечно же, сообщит о Постуме в сенате, заставит отменить указ об его изгнании и предложит избрать внука своим соправителем вместо Тиберия. Если Постума восстановят в правах, ее жизнь будет в опасности. Постум обвинил ее в том, что она отравила его отца и братьев, и Август вряд ли вернул бы ему свою благосклонность, если бы не поверил, что эти обвинения имеют под собой твердую почву. Ливия поручила лучшим своим агентам следить за всеми передвижениями Фабия, чтобы напасть на след раба по имени Клемент, но их усилия не увенчались успехом. Ливия решила не тратить времени даром и поскорей устранить Фабия. Однажды ночью его подстерегли на улице, когда он шел во дворец, и нанесли двенадцать ножевых ран; убийцы в масках скрылись. На похоронах произошел небольшой скандал: Марция упала на труп мужа и с рыданиями просила у него прощения, говоря, что одна она виновата в его смерти, она была неосторожна и не вняла его предостережениям. Однако никто из присутствующих не понял, о чем речь, люди подумали, что от горя у нее помутился рассудок.
14 г. н. э.
Ливия велела Тиберию держать с ней тесную связь по пути на Балканы и двигаться как можно медленнее: за ним в любую минуту могут послать. Август, проводивший Тиберия вдоль побережья до самого Неаполя, внезапно заболел: у него расстроился желудок. Ливия собралась было за ним ухаживать, но Август поблагодарил ее и сказал, что это пустяки, он сам себя вылечит. Он взял свою шкатулку с медикаментами, принял сильное слабительное, затем целый день ничего не ел. Он категорически отверг услуги Ливии: у ней без того хватает забот. Со смехом он отказывался есть что-либо, кроме хлеба с общего стола и зеленых фиг, которые он срывал своими руками, воду пил только из того же кувшина, что и жена. Ничто в его обращении с Ливией, казалось бы, не изменилось, так же как и ее обращение с ним, но каждый читал мысли другого.
Несмотря на все предосторожности, состояние Августа стало хуже; в Ноле ему пришлось прервать поездку; Ливия послала Тиберию депешу, призывая его к себе.[79] Когда Тиберий прибыл, ему доложили, что Август с каждой минутой слабеет и хочет его видеть. Он уже попрощался с несколькими экс-консулами, поспешившими сюда из Рима, когда они услышали о его болезни. Август спросил их с улыбкой, хорошо ли, по их мнению, он сыграл свою роль в фарсе — вопрос, который актеры задают зрителям в конце комедии. И, улыбаясь ему в ответ, хотя у многих на глазах были слезы, они отвечали: «Лучше тебя не сыграл бы никто, Август». «Тогда похлопайте мне на прощание», — сказал он. Тиберий просидел часа три у его постели, затем вышел и скорбным голосом сообщил, что Отец отчизны только что скончался на руках у Ливии с прощальным приветом ему, Тиберию, сенату и римскому народу. Тиберий вознес хвалу богам, что успел приехать вовремя, чтобы закрыть глаза своему отцу и благодетелю. На самом деле Август уже двенадцать часов как был мертв, но Ливия скрыла это и каждые несколько часов сообщала то утешительные, то тревожные сведения о его здоровье. По странному совпадению Август умер в той самой комнате, в которой умер его отец за семьдесят пять лет до того.
Я хорошо помню, как я узнал о его смерти. Это произошло двадцатого августа. Я сильно заспался после того, как проработал всю ночь; летом мне было куда легче работать ночью и спать днем. Меня разбудило прибытие двух старых всадников, которые попросили прощения за то, что побеспокоили меня, но дело не терпит отлагательства. Август умер, и благородное сословие всадников, поспешно собравшись, избрало меня своим представителем в сенат. Я должен был ходатайствовать от их имени, чтобы всадникам поручили почетную миссию отнести тело Августа на плечах обратно в Рим. Я еще нс совсем проснулся и не соображал, что говорю. Я вскричал: «Отрава царит над миром! Отрава царит над миром!» Всадники смущенно и тревожно переглянулись; я пришел в себя и извинился, сказав, что мне привиделся ужасный сон, и я произнес вслух слова, которые слышал во сне. Я попросил их повторить, зачем они ко мне пришли, и затем поблагодарил их за честь и пообещал сделать то, о чем меня просили. По правде говоря, честь эта была небольшая, так как все свободнорожденные граждане Рима были всадниками, если только не навлекали на себя позор каким-нибудь бесчестным поступком и владели определенной собственностью, и, выкажи я при моих семейных связях даже средние способности, я бы уже давно был сенатором, как мой ровесник Кастор. Меня избрали на этот раз как единственного представителя императорской семьи, принадлежащего к сословию всадников, чтобы не вызывать распрей между другими членами сословия. Впервые я оказался в сенате во время сессии. Я произнес ходатайство, не заикаясь, не забыв ни слова и вообще никак не опозорив себя.
Глава XIV
Хотя давно было ясно, что силы покидают Августа и жить ему осталось недолго, Рим не мог свыкнуться с мыслью о его смерти. Город чувствовал себя так, как чувствует себя ребенок, когда умирает его отец, и это не пустое сравнение. Неважно, каким был отец — храбрецом или трусом, справедливым или несправедливым, щедрым или скупым, — он был отцом, и никакой дядюшка или старший брат не заменит его ребенку. Август правил так долго, что только старые люди помнили, как было до него. Чего ж удивляться, если в сенате поставили вопрос, не вынести ли решение о том, чтобы божественные почести, которые еще при жизни воздавались Августу в провинциях, оказывались ему теперь в самом Риме.
Сын Поллиона Галл, которого Тиберий ненавидел за то, что тот женился на Випсании (первой жене Тиберия, если вы не забыли, с которой он был вынужден развестись ради Юлии) и ни разу не опровергнул публичных слухов о том, будто он — настоящий отец Кастора, и за то, что у него был острый язык, — этот Галл оказался единственным сенатором, отважившимся усомниться в уместности этого предложения. Он спросил, какое священное предзнаменование указало на то, что Августа встретят с распростертыми объятиями в небесной обители лишь потому, что его рекомендуют туда его смертные друзья и почитатели. Настала неловкая пауза. Наконец Тиберий поднялся с места и сказал:
— Сто дней тому назад, как вы помните, в пьедестал статуи моего отца Августа ударила молния. Первая буква надписи была стерта, остались слова AESAR AUGUSTUS. Каково значение буквы «С»? Это значит «сто». А каково значение слова AESAR? Я вам скажу. По-этрусски это означает «бог». Ясно, что смысл всего этого таков: через сто дней после того, как молния ударила в статую Августа, он должен сделаться богом в Риме. Какое еще нужно предзнаменование?
Хотя честь интерпретации слова AESAR (об этом странном слове каждый судил, как мог) была приписана Тиберию, перевел его не кто иной, как я, будучи единственным человеком в Риме, который знал этрусский язык. Я сказал об этом матери, и она назвала меня выдумщиком и дурачком, но, должно быть, мое толкование все же поразило ее, раз она повторила его Тиберию, ведь, кроме нее, я об этом не говорил никому.
Галл спросил, почему Юпитер предпочел передать свое повеление на этрусском, а не на греческом или латинском языке? Может быть, кто-нибудь видел другое, более убедительное знамение? Одно дело — издавать декрет о введении новых богов в невежественных азиатских провинциях, другое — приказывать образованным гражданам Рима поклоняться одному из их числа, пусть самому выдающемуся; тут уважаемому собранию нужно хорошенько подумать. Вполне возможно, что этим обращением к гордости и здравому смыслу римлян Галлу удалось бы задержать законопроект, если бы не некий Аттик, один из старших магистратов. Поднявшись с важным видом, он заявил, что, когда тело Августа сжигали на Марсовом поле, он заметил, как с неба спустилось облако, и дух умершего вознесся на нем так точно, как, согласно преданию, вознеслись духи Ромула и Геркулеса. Он клянется всеми богами, что говорит правду.
Речь Аттика была встречена громовыми рукоплесканиями, и Тиберий торжествующе спросил, хочет ли Галл еще что-нибудь сказать. Галл ответил, что хочет. Он вспомнил, сказал он, другое раннее предание о смерти и исчезновении Ромула, которое приводится в трудах самых серьезных историков в противовес версии их уважаемого друга Аттика, в чьей правдивости он отнюдь не сомневался, а именно: Ромула так ненавидели за тиранию, которой он подверг свободный народ, что однажды, воспользовавшись внезапным туманом, сенаторы убили его, разрезали на куски и вынесли эти куски под тогами.
— Ну а Геркулес? — поспешно спросил кто-то.
Галл сказал:
— Сам Тиберий в своей блестящей речи на похоронах возражал против сравнения Августа с Геркулесом. Вот его собственные слова: «Геркулес в детстве сражался только со змеями и даже в зрелом возрасте — с одним-двумя оленями, диким кабаном, которого он убил, и львом, и убивал он их неохотно, по приказу, а Август сражался не с дикими зверями, а с людьми, и делал это по собственной воле». И так далее, и тому подобное. Но я возражаю против сравнения по другой причине: дело в обстоятельствах смерти Геркулеса.
Затем Галл сел. Намек был ясен всем, кто взял бы на себя труд подумать, ибо, согласно преданию, Геркулес умер от яда, которым был пропитан плащ, посланный ему женой.[80]
Но предложение все равно прошло, и Август был обожествлен. В Риме и ближайших городах ему возвели храмы, была основана новая коллегия жрецов, отправляющих там богослужения, а Ливия, которой сенат тогда же пожаловал почетные имена Юлии и Августы, была назначена его верховной жрицей. Аттик получил от Ливии в награду десять тысяч золотых и был принят в новую коллегию без вступительного взноса. Я тоже был назначен жрецом Августа, но мне пришлось внести взнос больший, чем у всех прочих, — ведь я был внуком Ливии. Никто не осмеливался спросить, почему вознесения Августа не видел никто, кроме Аттика. Самым забавным было то, что в ночь перед похоронами Ливия велела спрятать на верхушке погребального костра клетку с орлом, которую сразу, как только зажгут костер, должны были потихоньку открыть, дернув снизу за веревку. Взлетевший орел был бы принят всеми за дух Августа. К сожалению, чудо не удалось. Дверцу клетки заело. Вместо того, чтобы это скрыть, пусть бы орел сгорел, — офицер, которому была поручена вся операция, влез на погребальный костер и открыл клетку своими руками. Ливия была вынуждена сказать, что орла освободили по ее приказанию, это, мол, символический акт.
Я не буду писать о похоронах Августа, хотя более великолепных похорон в Риме не было, мне придется ограничиться лишь самыми важными событиями: я заполнил более тринадцати свитков лучшей бумаги — с новой бумажной фабрики, где я совсем недавно поставил новое оборудование, — а одолел лишь треть моей истории.[81] Но о том, что было написано в завещании Августа, я умолчать не могу; все с интересом и нетерпением ждали, когда его прочтут, но ничье нетерпение не могло сравниться с моим, и вот почему.
За месяц до смерти Август неожиданно появился в дверях моего кабинета — он навещал мою мать, поправлявшуюся после долгой болезни, — и, отпустив свою свиту, завел со мной бессвязный разговор, не глядя на меня и держась так робко, словно он — Клавдий, а я — Август. Он взял книгу моей «Истории» и прочел абзац.
— Превосходно написано, — сказал он. — А когда вся работа будет закончена?
— Через месяц, а то и раньше, — ответил я.
Август поздравил меня и сказал, что прикажет устроить публичное чтение за его счет и пригласит на него друзей. Я был крайне удивлен, а Август продолжал беседу дружеским тоном и спросил, не предпочту ли я, чтобы мою книгу читал профессиональный чтец и ее смогли оценить по заслугам: читать на публике свое произведение всегда неловко — даже твердокаменный старик Поллион признавался ему, что всегда при этом нервничает. Я поблагодарил Августа от всего сердца и сказал, что, конечно, профессионал будет куда уместнее на публичных чтениях, если моя работа вообще заслуживает такой чести.
Тут Август вдруг протянул ко мне руку:
— Клавдий, ты не таишь против меня зла?
Что я мог ответить ему? У меня на глазах выступили слезы, и я пробормотал, что я глубоко почитаю его и что он никогда не сделал мне ничего плохого, — с чего бы я стал таить против него зло?
— Да, — сказал Август со вздохом, — но, с другой стороны, и ничего хорошего, чтобы вызвать твою любовь. Подожди еще несколько месяцев, Клавдий, я надеюсь, мне удастся завоевать и любовь твою, и благодарность. Германик говорил со мной о тебе. Он сказал, что ты верен трем вещам: Риму, друзьям и истине. Я был бы очень горд, если бы Германик сказал то же самое обо мне.
— Германик не просто любит тебя, он поклоняется тебе, как божеству, — сказал я. — Он часто говорил мне об этом.
Лицо Августа просияло:
— Честное слово? Я счастлив. Значит, теперь, Клавдий, нас связывают крепкие узы — хорошее мнение Германика. А пришел я к тебе, чтобы сказать вот что: я очень плохо обращался с тобой все эти годы, и я искренне сожалею об этом, ты увидишь, теперь все изменится. — И процитировал по-гречески: — «Ранивший исцелит».[82]
И с этими словами обнял меня. Повернувшись, чтобы уйти, Август проговорил через плечо:
— Я только что был у весталок и сделал несколько важных изменений в документе, который у них хранится, и, поскольку произошло это частично из-за тебя, твое имя тоже заняло в этом документе более видное место, чем раньше. Но — ни звука!
— Можешь положиться на меня. — сказал я.
Фраза Августа могла значить лишь одно: что он поверил рассказу Постума, переданному ему Германиком с моих слов, и восстановил его в завещании, находившемся у весталок, в качестве своего преемника и что я тоже буду награжден за верность Постуму. В то время я, естественно, не знал о поездке Августа на Планазию, но надеялся в душе, что Постума вернут в Рим и примут здесь с честью. Мои надежды не сбылись. Поскольку Август держал новое завещание, подписанное лишь Фабием Максимом и несколькими престарелыми жрецами, в секрете, было нетрудно утаить его в пользу завещания, сделанного за шесть лет до того, в то самое время, когда Август лишил Постума права наследования. Начало этого завещания звучало так: «Ввиду того, что злая судьба отняла у меня моих сыновей Гая и Луция, я желаю, чтобы моими наследниками в первой степени стали Тиберий Клавдий Нерон Цезарь — в размере двух третей моего состояния и моя возлюбленная жена Ливия — в размере одной трети, если сенат, учитывая ее заслуги перед государством, великодушно позволит ей в виде исключения получить в наследство такое имущество (превышающее установленную законом сумму наследства, оставляемого вдове)». Во второй степени — то есть в случае, если упомянутые ранее наследники умрут или по другой какой-нибудь причине не смогут наследовать ему — Август называл тех своих внуков, которые принадлежали к роду Юлиев и не навлекли на себя общественного позора, значит, речь шла о Германике — как приемном сыне Тиберия и муже Агриппины, самой Агриппине, их детях, а также Касторе, Ливилле и их детях. Постума в их числе не было. Из них Кастор должен был получить одну треть, а Германик с семьей — две трети всего состояния. В третьей степени в завещании были поименованы различные сенаторы и дальние родственники, но это было скорее знаком расположения, чем реальным подарком. Август не мог ожидать, что он переживет столько наследников первой и второй степени. Наследники третьей степени были разбиты на три группы: первые десять человек должны были разделить между собой половину имущества, следующие пятьдесят должны были разделить треть имущества и третья группа, где было еще пятьдесят человек, должна была получить оставшуюся шестую часть. Последним именем в этом последнем списке последней степени наследования было имя Тиберия Клавдия Друза Нерона Германика, другими словами — Клав-Клав-Клавдия, или идиота Клавдия, или, как сыновья Германика все чаще называли меня, «бедного дяди Клавдия», а именно: мое собственное. В завещании не упоминались ни Юлия, ни Юлила, за исключением одного пункта, где Август запрещал после их смерти хоронить урны с их прахом в своей усыпальнице.
Хотя за последние двадцать лет Август получил по завещаниям старых друзей большие деньги — около ста сорока миллионов золотых — и был крайне бережлив в частной жизни, он столько потратил на строительство храмов и общественные работы, на вспомоществование и на зрелища для населения, на пограничные войны (когда военная казна была пуста) и на прочие государственные нужды, что от этих ста сорока миллионов и личного его немалого достояния, собранного из различных источников, осталось для завещательного отказа всего около пятнадцати миллионов, большая часть в виде недвижимости, которую трудно было реализовать. В это количество, однако, не входили некоторые значительные суммы, лежавшие в мешках отдельно от остального имущества в подвалах Капитолия, которые Август оставил, чтобы отказать их по завещанию союзным царям, сенаторам, всадникам и прочим гражданам Рима. Они составляли еще два миллиона. Была также отложена сумма на похоронные издержки. Все были удивлены незначительностью его имущества, и по городу поползли неприятные слухи. Лишь когда душеприказчики предъявили счета Августа, всем стало ясно, что тут нет никакого мошенничества. Римляне были весьма недовольны, что им досталось всего ничего, и когда в честь Августа за общественный счет показывали посвященную ему пьесу, актеры взбунтовались, такую нищенскую субсидию дал сенат, — один из них даже отказался выйти на сцену за предложенную ему плату. О недовольстве в армии я расскажу в скором времени. Сперва о Тиберии.
Август сделал Тиберия своим соправителем и наследником, но он не мог оставить ему империю, во всяком случае, не мог сказать об этом напрямик. Он мог только рекомендовать Тиберия сенату, к которому сейчас вернулась вся власть, бывшая раньше в руках Августа. Сенат не любил Тиберия и не хотел, чтобы он стал императором, но Германика, которого они избрали бы, будь у них такая возможность, не было в Риме. А отказать Тиберию в его притязаниях было не так легко.
Поэтому никто не осмеливался упоминать какое-либо другое имя, кроме имени Тиберия, и когда консулы предложили просить его взять на себя функции Августа, это было принято единогласно. Тиберий дал неопределенный ответ, сказав, что он не честолюбив, а ответственность, которую они на него возлагают, огромна. Одному лишь божественному Августу была по силам такая гигантская задача, и, по его мнению, лучше было бы разделить все обязанности Августа на три части и тем самым разделить ответственность.
Сенаторы, стремясь снискать его благосклонность, возражали, что за прошлое столетие уже не раз прибегали к триумвирату — правлению трех — и что единственным спасением от гражданских войн, к которым это приводило, оказалось единовластие. Последовала позорная сцена. С притворными слезами и вздохами сенаторы обнимали колени Тиберия, умоляя не отказывать им в просьбе. Чтобы положить этому конец, Тиберий сказал, что отнюдь не уклоняется от государственной службы — у него этого и в мыслях нет, — но по-прежнему считает, что все бремя власти ему одному не по плечу. Он уже далеко не молод, ему пятьдесят шесть лет, и у него плохое зрение. Но он возьмет на себя любую часть правления, которую ему поручат. Вся эта комедия разыгрывалась для того, чтобы никто не мог упрекнуть его, что он рвется к кормилу государства, и в особенности для того, чтобы показать Германику и Постуму (где бы он ни был), насколько прочно положение Тиберия в Риме. Тиберий боялся Германика, чья популярность в армии была куда большей, чем его собственная. Он не думал, будто Германик стремится захватить империю для себя самого, но допускал, что, узнав об утаенном завещании, он попытается восстановить Постума в его наследственных правах и даже сделать его третьим — Тиберий, Германик и Постум — участником нового триумвирата. Агриппина была привязана к Постуму, а Германик во всем следовал ее совету, как Август — совету Ливии. Стоит только Германику войти в Рим во главе своих войск, и сенат будет единодушно приветствовать его, это Тиберий знал. Что он теряет? В самом худшем случае теперешнее скромное поведение позволит ему спасти свою жизнь и с честью уйти на покой.
Сенаторы поняли, что на самом деле Тиберий хочет того, от чего смиренно отказывается, и собирались было возобновить свои мольбы, когда Галл прервал их:
— Хорошо, Тиберий, — сказал он деловым тоном, — так какую именно часть правления ты желал бы получить?
Тиберий смешался от такого бестактного и непредвиденного вопроса. Помолчав немного, он сказал:
— Один и тот же человек не может и делить, и выбирать, и, даже будь это возможно, согласитесь, было бы нескромно с моей стороны выбирать или отвергать ту или иную часть государственного руководства, когда, как я уже объяснял, хочу я лишь одного — чтобы меня вообще освободили от него.
Галл решил использовать его ответ в своих целях:
— Единственно возможное деление империи могло бы быть таково: первое — Рим и Италия, второе — армия, третье — провинции. Что из этого ты выбираешь?
Тиберий молчал, и Галл продолжал:
— Прекрасно. Я знаю, что на этот вопрос нет ответа. Поэтому-то я и задал его. Своим молчанием ты признал, что делить на три части административную систему, которая была создана и согласована так, чтобы все нити сходились к одному лицу, чистая глупость. Или мы должны вернуться к республиканской форме правления, или придерживаться единовластия. Говорить о триумвирате — значит попусту тратить время сената, решившего, по-видимому, этот вопрос в пользу единовластия. Тебе предложили империю. Бери или отказывайся.
Другой сенатор, друг Галла, сказал:
— Как народный трибун ты обладаешь правом наложить вето на предложение консулов. Если ты действительно против единовластия, тебе бы следовало воспользоваться этим правом еще полчаса назад.
Поэтому Тиберий был вынужден извиниться перед сенатом и сказать, что неожиданность и внезапность их предложения застали его врасплох; это, конечно, большая честь, но нельзя ли ему еще немного подумать над ответом. Сенат отложил заседание, и на следующих сессиях Тиберий соизволил принять одну за другой все должности Августа. Однако он никогда не употреблял завещанное ему имя «Август», кроме как в письмах чужеземным царям, и следил, чтобы ему не вздумали оказывать божественные почести. Было и еще одно объяснение его осторожности, а именно: то, что Ливия похвалялась во всеуслышание, будто Тиберий получает империю в подарок из ее рук. Сделала она это не только, чтобы укрепить свое положение вдовы Августа, но и желая предупредить Тиберия, что если ее преступления когда-либо выйдут наружу, он будет считаться ее сообщником, ведь он и никто другой в первую очередь извлек из них выгоду. Естественно, Тиберий хотел показать, что ничем ей не обязан, и империя навязана ему сенатом против его желания.
Сенат расточал Ливии льстивые комплименты и был готов воздать ей самые неслыханные почести. Но, будучи женщиной, Ливия не могла присутствовать при дебатах в сенате и была теперь официально под опекой Тиберия, ведь он стал главой рода Юлиев. Поэтому, отказавшись от титула «Отец отчизны», Тиберий от имени Ливии отказался от предложенного ей титула «Мать отчизны» на том основании, что скромность не позволяет ей его принять. При всем том Тиберий очень боялся Ливии и поначалу полностью зависел от нее, так как лишь Ливия могла познакомить его с секретами имперской системы. И вопрос был не только в том, чтобы ориентироваться в заведенном порядке. В руках Ливии были досье на каждого сенатора и всадника, имеющих в Риме какой-то вес, и на большинство высокопоставленных женщин, всевозможные донесения секретной службы, личная переписка Августа с союзными царьками и их родственниками, копии изменнических писем, перехваченных, а затем переданных адресату, причем все это — зашифрованное, так что без помощи Ливии Тиберий ничего не мог прочитать. Но он знал также, что и мать от него зависит. Между ними было соглашение о сотрудничестве, но каждый остерегался другого. Ливия даже поблагодарила Тиберия, когда он отверг предложенный ей титул «Мать отчизны», он, мол, поступил совершенно правильно, а Тиберий в ответ пообещал, что сенат примет большинством голосов любой титул, какой ей приглянется, как только их положение станет достаточно прочным. В знак своей преданности матери Тиберий подписывал все государственные бумаги двумя именами: своим и ее. А Ливия, со своей стороны, дала ему ключ к шифру, однако лишь к общему, а не особому, секрет которого, как она утверждала, умер вместе с Августом. А все досье были написаны как раз этим особым шифром.
Перейдем теперь к Германику. Когда в Лионе он услышал о смерти Августа и о пунктах его завещания, а также о том, что наследником оставлен Тиберий, он посчитал своим долгом поддерживать нового главу государства. Германик был племянником Тиберия, его приемным сыном, и, хотя они не питали особой симпатии друг к другу, они вполне могли работать сообща без всяких трений как дома, в Риме, так и во время военных кампаний. Германик не подозревал об участии Тиберия в заговоре, который привел к изгнанию Постума, и ничего не знал о новом, утаенном завещании; к тому же он полагал, что Постум все еще на Планазии, так как Август не сказал никому, кроме Фабия, ни о посещении острова, ни о замене Постума его рабом. Однако Германик решил как можно быстрее вернуться в Рим и откровенно обсудить дело Постума с Тиберием. Ведь Август сказал ему в приватной беседе, что он намерен вернуть Постуму свою благосклонность, как только получит свидетельства его невиновности, которые можно будет представить сенату; они обязаны считаться с волей покойного, пусть даже смерть помешала ему осуществить свое намерение. Он будет настаивать на том, чтобы Постума немедленно вызвали в Рим, отдали конфискованное имущество и назначили на какой-нибудь почетный пост; а также на временном запрещении Ливии участвовать в государственных делах за то, что ее интриги привели к его изгнанию. Но прежде чем Германик успел хоть что-нибудь предпринять, из Майнца пришли известия о военном мятеже на Рейне, а затем, когда он поспешно отправился туда, чтобы его подавить, их настигла в пути новая весть — о смерти Постума. Его, как сообщали, убил капитан стражи по приказу Августа, согласно которому внук не должен был его пережить. Германик был поражен и опечален тем, что Постума, по сути дела, казнили, но у него не было времени думать ни о чем, кроме мятежа. А вот бедного Клавдия это ввергло в глубочайшее горе, потому что у бедного Клавдия времени для размышлений было хоть отбавляй. Бедному Клавдию часто трудно было найти, чем бы занять свой ум. Невозможно работать над историческим сочинением больше пяти-шести часов в день, особенно если у тебя мало надежды, что его когда-нибудь прочтут. Поэтому я дал волю отчаянию. Откуда мне было знать, что убили не Постума, а Клемента, и что преступление это совершено было вовсе не по приказу Августа, мало того, даже Ливия и Тиберий были неповинны в нем.
На самом деле виноват в убийстве Клемента был старый всадник по имени Крисп, владелец Саллюстиевых садов и близкий друг Августа. Как только он услышал в Риме весть о смерти Августа, он, не дожидаясь, пока увидит Ливию и Тиберия в Ноле, отправил капитану стражи на Планазии срочный приказ убить Постума, скрепив приказ печатью Тиберия (Тиберий доверил ему дубликат своей печати, чтобы Крисп смог подписывать кое-какие деловые бумаги, с которыми Тиберий не успел разобраться до того, как отправился на Балканы). Крисп знал, что Тиберий рассердится или сделает вид, будто рассердился, но объяснил Ливии, сразу же обратившись к ее покровительству, что он убрал Постума с дороги, так как узнал о заговоре гвардейских офицеров, которые были намерены послать за Юлией и Постумом корабль и привезти их в Кельн, в ставку Германика; Германик и Агриппина, естественно, радушно приняли бы их и предоставили им убежище, а затем офицеры заставили бы Германика и Постума пойти походом на Рим. Тиберий сильно разгневался, что его имя использовали таким образом, но Ливия решила обратить ситуацию себе на пользу и притворилась, будто верит, что человек, убитый под именем Постума, и был настоящий Постум. Криспа никак не наказали, а сенаторам неофициально сообщили, будто Постум был убит по приказу его божественного деда, который, благодаря своей мудрости, предвидел, что необузданный юноша попытается захватить верховную власть, как только узнает о его смерти, к чему якобы все и шло. Криспом руководило отнюдь не желание добиться благосклонности Тиберия и Ливии или предотвратить гражданскую войну. Он мстил за личную обиду. Будучи не менее ленив, чем богат, Крисп однажды расхвастался, что никогда не претендовал на какой-нибудь государственный пост — его вполне устраивает быть простым римским всадником. На что Постум заметил: «Простым римским всадником, Крисп? Тогда тебе не помешает взять несколько уроков римской верховой езды».
Тиберий еще не слышал о восстании. Он написал Германику дружеское письмо, соболезнуя ему по поводу смерти Августа и говоря, что теперь Рим ждет от него и его сводного брата Кастора защиты своих границ, поскольку сам Тиберий уже слишком стар для кампаний в чужих краях, и к тому же сенат просит его взять на себя все дела в Риме. Перейдя к смерти Постума, Тиберий пишет, что ему неприятна ее насильственная форма, но он не сомневается в мудрости решения, принятого Августом. О Криспе он даже не упомянул. Германик сделал вывод, что Август еще раз изменил свое мнение о Постуме на основании каких-то сведений, ему самому, Германику, неизвестных, и на какое-то время предоставил событиям идти своим чередом.
Глава XV
Стоявшие на Рейне войска подняли мятеж в знак солидарности с войсками, бунтовавшими на Балканах. Разочарование солдат, узнавших, что по духовной Августа на каждого из них приходится всего по три золотых — плата за четыре месяца службы, — усугубило их давнишние претензия, и они рассудили, что шаткость положения Тиберия вынудит его удовлетворить выдвинутые ими требования, чтобы добиться их поддержки. В эти требования входило повышение жалования, срок службы в армии не более шестнадцати лет и ослабление лагерной дисциплины. Жалование было действительно недостаточным, солдатам приходилось на свои деньги покупать оружие и амуницию, а цены на все возросли. И действительно, так как людские резервы истощились, в армии были оставлены тысячи солдат; которых пора было уволить много лет назад, и призваны ветераны, совсем негодные для строевой службы. И отряды, сформированные из недавно отпущенных на волю рабов, были действительно настолько разболтаны, что Тиберий счел необходимым ужесточить дисциплину, назначил ротными командирами грубых старых служак и приказал постоянно занимать солдат на хозяйственных работах, а розги из виноградной лозы — атрибут ротных — постоянно пускать в ход.
Когда известие о смерти Августа достигло балканских войск, в летнем лагере находилось одновременно три полка, и командующий дал им на несколько дней передышку от муштры и хозяйственных работ. Свобода и безделье выбили солдат из колеи, и когда ротные снова вызвали их на плац, они отказались повиноваться и выставили определенные требования. Командующий сказал, что выполнить их не в его власти, и предупредил о последствиях, к которым может привести мятежное поведение. Солдаты не оскорбили его ни словом, ни действием, но повиноваться отказались и в конце концов вынудили командующего послать сына в Рим к Тиберию с перечнем их требований. Когда юноша уехал, беспорядки усилились. Менее дисциплинированные солдаты принялись грабить лагерь и соседние деревни, а когда арестовали зачинщиков, остальные ворвались в караульное помещение и освободили их, убив ротного, который пытался им помешать. У этого ротного было прозвище «Подай другую», потому что, сломав одну лозу о спину солдата, он требовал вторую и третью. Когда сын командующего прибыл в Рим, Тиберий отправил на Балканы Кастора во главе двух батальонов гвардии, эскадрона гвардейской кавалерии и большей части дворцовой охраны, состоявшей из германцев; в качестве помощника с Кастором поехал штабной офицер по имени Сеян, сын командующего гвардией, один из немногих близких друзей Тиберия. В дальнейшем я еще много чего расскажу вам об этом Сеяне. Прибыв в лагерь, Кастор, с гордым видом, не выказывая страха, обратится к толпе солдат и прочитал им письмо отца, где тот обещал позаботиться о непобедимых полках, с которыми он делил тяготы многих кампаний, и начать с сенатом переговоры об их претензиях, как только оправится от горя, причиненного смертью Августа. Тем временем, писал Тиберий, он посылает к ним своего сына, чтобы удовлетворить те их просьбы, которые он сочтет осуществимыми, — остальное придется оставить на усмотрение сената.
Мятежники заставили одного из ротных выступить в качестве их представителя и изложить их требования — ни один из солдат не рискнул на это из страха, что впоследствии его назовут зачинщиком. Кастор сказал, что, к его великому сожалению, освобождение ветеранов от службы и повышение жалования до одной серебряной монеты в день — требования, которые он не уполномочен удовлетворить. Пойти на такую уступку может лишь его отец и сенат.
Это вызвало среди солдат сильное неудовольствие. Проклятье, сказали они, зачем он тогда сюда явился, если не может ничего для них сделать. Видно, хочет сыграть с ними такую же шутку, как его отец Тиберий: когда они предъявляли ему свои претензии, он обычно прятался за спину Августа и сената. Да и что такое сенат? Кучка никчемных богатых бездельников, большинство которых умрет со страху при виде вражеского щита или меча, выхваченного из ножен! Солдаты принялись кидать камни в свиту Кастора, и дело приняло угрожающий оборот. Но благодаря счастливой случайности все обошлось: в ту же ночь началось затмение луны, и это страшно напугало солдат — все солдаты суеверны. Они решили, что затмение — знак того, что боги гневаются на них за убийство ротного «Подай другую» и за отказ повиноваться начальству. Среди мятежников было немало верных Тиберию солдат, и один из них пришел к Кастору и предложил собрать своих единомышленников, чтобы они по двое, по трое обошли все палатки и попробовали образумить недовольных. Так и было сделано. К утру атмосфера в лагере сильно изменилась, и Кастор, хотя и согласился вновь послать в Рим те же требования, поставив под ними в знак согласия свою подпись, арестовал двух солдат, которые, по-видимому, начали бунт, и всенародно казнил их. Остальные не выражали протеста и даже в доказательство своей верности по собственному почину отдали в руки Кастора пятерых мятежников, убивших ротного. Но солдаты по-прежнему отказывались участвовать в маршировке и хозяйственных работах — разве что в самых неотложных — до тех пор, пока из Рима не придет ответ. Погода испортилась, безостановочно лил дождь, лагерь затопило, солдаты не могли перейти от одной палатки к другой. Они сочли это новым предупреждением небес, и еще до того, как посланец успел вернуться из Рима, бунт окончился и полки послушно направились на зимние квартиры под руководством своих офицеров.
Мятеж на Рейне оказался куда серьезнее. Подвластная Риму Германия, восточная граница которой проходила теперь по Рейну, делилась на две провинции: Верхнюю и Нижнюю. Столицей Верхней провинции, которая простиралась до Швейцарии, был Майнц, столицей Нижней провинции, доходившей на севере до Шельды и Самбры, был Кельн. В каждой из провинций стояла армия из четырех полков; главнокомандующим был Германик. Беспорядки начались в Нижней провинции, в летнем лагере армии. Претензии предъявлялись те же, что и на Балканах, но поведение мятежников было куда более вызывающим, так как здесь находилось больше римских вольноотпущенников, недавно взятых на службу. Эти вольноотпущенники в душе все еще оставались рабами, привычными к безделью и легкой жизни, не в пример свободнорожденным гражданам, в основном бедным крестьянам, составлявшим костяк армии. Солдаты они были прескверные, тем более что для них не существовало таких понятий, как честь мундира или доброе имя полка. И неудивительно, ведь в прошлой кампании эти солдаты воевали под командой Тиберия, а не Германика.
Командующий потерял голову и не сумел обуздать наглость мятежников, окруживших его плотной толпой с жалобами и угрозами. Его нерешительность побудила их напасть на самых ненавистных им ротных; около двадцати из них солдаты засекли насмерть их же собственными розгами и кинули тела в Рейн. Остальных, осыпая насмешками и оскорблениями, выгнали из лагеря. Чудовищные, неслыханные поступки! Единственный старший офицер, сделавший попытку сопротивляться, был Кассий Херея. На него набросилась большая группа бунтовщиков, но вместо того, чтобы спастись бегством или просить пощады, Кассий, выхватив из ножен меч, кинулся в самую их гущу и, нанося удары направо и налево, прорвался к священному трибуналу, где, как он знал, ни один солдат не осмелится его тронуть.[83]
У Германика не было гвардейских батальонов, на которые он мог бы опереться, однако он тут же отправился в мятежный лагерь с небольшой группой офицеров. О резне в лагере он тогда еще не знал. Солдаты окружили его огромной толпой, как ранее своего командира, но Германик наотрез отказался с ними говорить, пока они не построятся, как положено, по ротам и батальонам, каждый под своим знаменем, чтобы он знал, к кому обращаться. Солдаты пошли на эту пустяковую, как им казалось, уступку — им не терпелось услышать, что он скажет. Но оказавшись в строю, солдаты вспомнили о дисциплине. И хотя, убив офицеров, они не могли больше надеяться на доверие Германика или прощение, их сердца вдруг устремились к этому храброму, доброму и честному человеку. Один старый ветеран — там было много таких, кто служил в Германии двадцать пять, а то и тридцать лет назад, — воскликнул:
— Как он похож на отца!
А другой подхватил:
— Он, должно быть, на редкость хороший человек, если он такой же на редкость хороший, как отец!
Германик начал тихо, как при обычной беседе, чтобы привлечь всеобщее внимание. Сперва он говорил о смерти Августа и великом горе, которое вызвала эта смерть, затем заверил солдат в том, что Август превратил Рим в несокрушимую твердыню и оставил после себя преемника, способного управлять страной и командовать армиями так, как делал бы это он сам.
— О славных победах моего отца в Германии вы знаете. Многие из вас принимали участие в сражениях.
— Лучше не было командира и человека! — закричал кто-то из ветеранов.
— Да здравствуют Германики, отец и сын!
Вот вам пример простодушия моего брата — он ведь не понял, какой эффект произвели его слова. Под отцом он подразумевал Тиберия (которого также часто именовали Германиком), а ветераны подумали, что речь идет о его настоящем отце; говоря о преемнике Августа, Германик опять же имел в виду Тибсрия, а ветераны решили, будто он говорит о себе. Не догадываясь об этом недоразумении, брат продолжал свою речь; он сказал о согласии, царящем во всей Италии, и о верности Франции, откуда он только что прибыл. Он не понимает, почему они видят все в мрачном свете. Какая муха их укусила? И что они сделали со своими ротными командирами, с полковниками и генералами? Почему этих офицеров нет в строю? Неужели их изгнали из лагеря, как он слышал?
— Кое-кто из нас еще жив и находится здесь, цезарь, — раздался голос: из рядов вышел, хромая, Кассий Херея и приветствовал Германика: — Но нас немного. Они стащили меня с трибунала и продержали в караулке связанным четыре дня без еды. Один из старых солдат только сейчас выпустил меня.
— Тебя, Кассий! Они поступили так с тобой?! С тобой, кто вывел восемьдесят человек из Тевтобургского леса? Кто отстоял мост на Рейне?
— Ну, во всяком случае, они не лишили меня жизни, — сказал Кассий.
С ужасом в голосе Германик спросил:
— Солдаты, это правда?
— Они сами во всем виноваты! — крикнул кто-то; поднялся страшный шум. Солдаты сдирали с себя одежду, чтобы показать почетные рубцы от ран на груди и позорные багровые кровоподтеки, оставленные розгами на спине. Один дряхлый старик вырвался из рядов и подбежал к Германику, раздвигая пальцами губы над голыми деснами:
— Я не могу есть твердую пищу без зубов, командир, и я не могу делать большие переходы и воевать на одной похлебке. Я был с твоим отцом во время его первой кампании в Альпах на седьмом году моей службы. Вместе со мной в роте два моих внука. Отпусти меня. Я качал тебя на коленях, когда ты был младенцем. И глянь-ка сюда, у меня грыжа, а я должен вышагивать по двадцать миль в день и тащить на спине груз в сто фунтов.
— Вернись в строй, Помпоний, — приказал Германик, узнавший старого солдата; он был поражен, увидев его. — Ты забываешься. Я займусь твоим делом позднее. Ради всех богов, покажи хороший пример молодым солдатам!
Помпоний отдал честь и вернулся на место. Германик поднял руку, призывая солдат к молчанию, но они продолжали кричать о низком жаловании и о ненужных хозяйственных работах, которые их заставляют выполнять от побудки до отбоя, — у них нет и минуты на самих себя, — и о том, что единственный способ расстаться с армией — это умереть от старости в ее рядах. Германик ждал, пока не наступила полная тишина. Тогда он сказал:
— От имени моего отца Тиберия я обещаю вам справедливость. Он так же близко принимает к сердцу ваше благополучие, как я, и все, что может быть сделано для вас без ущерба для империи, будет сделано. Я за это отвечаю.
— Долой Тиберия! — заорал кто-то, и этот возглас подхватили со всех сторон, сопровождая его улюлюканием и свистом. А затем солдаты вдруг принялись кричать: — Давай, Германик! Ты для нас император! Тиберия в Тибр! Давай, Германик! Германика в императоры! Долой Тиберия! Долой эту суку Ливию! Давай, Германик! Пошли на Рим! Мы — за тебя! Давай, Германик, сын Германика! Германика в императоры!
Германика как громом поразило.
— Вы с ума сошли! — воскликнул он. — О чем вы говорите?! Кто я, по-вашему? Предатель?
Kтo-то из ветеранов крикнул:
— Хватит, довольно! Ты сам сказал, что возьмешь на себя обязанности Августа, а теперь идешь на попятный!
Только сейчас Германик осознал свою ошибку, и, поскольку крики «Давай, Германик!» все продолжались, он соскочил с трибунала и поспешил туда, где была привязана его лошадь, чтобы ускакать из проклятого лагеря. Но солдаты вытащили мечи и преградили ему путь.
Вне себя, Германик закричал:
— Дайте мне пройти или, клянусь богами, я покончу с собой!
— Ты для нас — император! — отвечали солдаты.
Германик вытащил меч из ножен, но кто-то схватил его за руку. Каждому порядочному человеку было ясно, что он не шутит, но многие из бывших рабов думали, будто это только жест с его стороны и он только притворяется скромным и добродетельным. Один из них, рассмеявшись, крикнул:
— На, возьми мой, он острее!
Старый Помпоний, стоявший с ним рядом, вспыхнул от гнева и ударил его по губам. Друзья поспешно увлекли Германика к палатке командующего. Тот лежал в постели, спрятав голову под одеяло, полумертвый от ужаса и стыда, не в силах встать и, как положено, приветствовать Германика. И сам он, и штабные офицеры остались в живых лишь благодаря его личной охране из швейцарских наемников.
Не медля, провели военный совет. Из услышанного в караулке разговора, сказал Германику Кассий, он понял, что мятежники собираются послать депутацию в Верхнюю провинцию, чтобы заручиться поддержкой расквартированной там армии и поднять общее восстание. Шли также разговоры о том, чтобы оставить рейнскую границу без охраны и идти во Францию грабить города и похищать женщин, а затем основать на юго-западе страны независимое военное царство, защищенное с тыла Пиренеями Этим маневрам они-де парализуют Рим, а к тому времени, когда их осмелятся тронуть, они сделают свое царство неприступным.
Германик решил немедленно отправиться в Верхнюю провинцию и заставить стоявшие там полки поклясться в верности Тиберию. Это были войска, служившие совсем недавно под его командой, и Германик полагал, что они останутся преданы Риму, если он попадет туда раньше депутации мятежников. Германик был уверен, что услышит там от солдат те же сетования по поводу жалования и службы, но командовали ими более надежные люди, выбранные им лично за твердость духа и воинскую доблесть, а не за имя. Но сперва надо было как-то утихомирить взбунтовавшиеся полки здесь, на месте. Германику оставался один-единственный путь. Он пошел на первое и последнее преступление в жизни: подделал письмо, якобы посланное Тиберием, и «получил» его на следующее утро у входа в свою палатку. Курьеру, тайно высланному ночью за пределы лагеря, было ведено выкрасть лошадь в строевых частях, проскакать двадцать миль на юго-запад, а затем вернуться как можно быстрее другим путем.
В письме говорилось, что Тиберию стало известно, будто стоящие в Германии полки высказали ряд законных претензий, и он готов, не мешкая, их удовлетворить. Он позаботится о том, чтобы солдатам тотчас же выплатили завещанные Августом деньги, и в знак того, что сам Тиберий не сомневается в их верности, он удвоит сумму из собственного кошелька. Он вступит в переговоры с сенатом насчет увеличения жалования. Он немедленно и без всяких оговорок отпустит из армии всех солдат, прослуживших двадцать лет, а те, кто служат больше шестнадцати лет, будут использованы только в гарнизонах.
Германик не был таким умелым лжецом, как его дядя Тиберий, или бабка Ливия, или сестра Ливилла. Хозяин лошади, на которой прибыл курьер, узнал ее, узнали и самого курьера — одного из личных конюхов Германика. Поползли слухи, что письмо подложное. Но ветераны решили сделать вид, будто считают его подлинным, и просить, чтобы обещанные деньги и увольнение из армии были даны немедленно. Германик ответил, что император — человек слова и отпустит их хоть сегодня, но просил подождать денег — их нельзя полностью выплатить, пока полки не перейдут на зимние квартиры. В лагере не хватит наличных, сказал Германик, чтобы выдать каждому солдату по шесть золотых, но те, что есть, будут выданы до последней монеты, он сам за этим проследит. Это успокоило солдат, хотя Германик несколько упал в их глазах, раньше они были о нем лучшего мнения, — он боится Тиберия, говорили они, и не гнушается обмана. Солдаты выслали группы на поиски своих ротных командиров и пообещали снова повиноваться приказам командующего, которому Германик пригрозил, что если тот немедленно не возьмет себя в руки, он предъявит ему перед сенатом обвинение в трусости.
Убедившись, что увольнение проводится по должной форме и все имеющиеся деньги розданы солдатам, Германик отправился в Верхнюю провинцию. Он увидел, что полки стоят наготове, дожидаясь известий из Нижней провинции, но открытого мятежа нет, так как Силий, их командир, был человек умный и решительный. Германик прочитал солдатам то же подложное письмо и велел поклясться в верности Тиберию, что они тут же сделали.
Когда до Рима дошло известие о мятеже на Рейне, там поднялось сильное волнение. Тиберия и так порицали за то, что он послал на Балканы Кастора, а не отправился туда сам, и теперь открыто освистывали на улицах и спрашивали, почему, интересно, бунтуют именно те войска, которые были раньше под его началом, а остальные остаются спокойны (полки, которыми Германик командовал в Далмации, не присоединились к восстанию). Тиберия призывали немедленно выступить на Рейн и самому сделать всю черную работу, а не сваливать ее на Германика. Тиберий заявил сенату, что он поедет в Германию, и принялся не спеша собираться в путь, подбирать офицеров и снаряжать небольшой флот. Когда он был наконец готов, наступила зима, и плавание стало опасным, а из Германии начали поступать более утешительные известия. Так что Тиберий остался в Риме. Он и не собирался его покидать.
Тем временем я получил от Германика срочное письмо, где он просил меня как можно быстрее достать двести тысяч золотых под его поместье, но сделать это в полной тайне: деньги нужны для безопасности Рима. Больше Германик ничего не добавил, лишь приложил к письму подписанную доверенность, чтобы я мог действовать от его имени. Я отправился к его управляющему, и тот сказал мне, что, не продавая имущества Германика, можно добыть лишь половину требуемой суммы, а если объявить продажу, это вызовет разговоры, чего Германик, очевидно, стремится избежать. Поэтому вторую половину мне пришлось доставать самому: пятьдесят тысяч из сейфа — за вычетом этих денег, после того как я заплатил вступительный взнос в новую коллегию жрецов, там осталось всего десять тысяч — и пятьдесят тысяч, полученные от реализации кое-какой городской недвижимости, оставленной мне отцом (к счастью, у меня уже были на нее покупатели), и тех рабов, без которых я мог обойтись, но только если они не были очень ко мне привязаны. Не прошло и двух дней после получения письма, как я уже отправил Германику деньги. Услышав о продаже недвижимости, мать очень рассердилась, но поскольку я не мог открыть ей, для чего были нужны эти деньги, я сказал, что в последнее время, играя в кости, делал очень большие ставки, а желая отыграться, проиграл в два раза больше. Мать поверила мне, и прозвище «игрок» стало еще одной палкой, которой она меня била. Но мысль, что я не подвел Германика и Рим, сторицей возмещала ее насмешки. Должен признаться, я часто в это время играл, но не проигрывал и не выигрывал помногу. Кости служили мне отдыхом от работы. Закончив «Историю религиозных реформ», я сочинил небольшой юмористический трактат об игре в кости (посвященный божественному Августу) с одной целью — подразнить мать. Я цитировал письмо, которое Август, очень любивший эту игру, написал однажды моему отцу; он говорил в нем о том, какое огромное удовольствие доставила ему их вчерашняя игра, он не встречал еще человека, который умел бы так красиво проигрывать. Отец, писал Август, всегда со смехом проклинает судьбу, если у него выпадет «собака», но когда противник делает верный бросок, так доволен, словно повезло ему самому.
«Честное слово, дорогой друг, выигрывать у тебя — одно наслаждение, а это — высшая похвала, с какой я могу отозваться о человеке, так как обычно я терпеть не могу выигрывать, потому что при этом я невольно заглядываю в души моих так называемых добрых друзей. Почти все они, за исключением самых верных, злятся, когда мне проигрывают, ведь я — император и, как они полагают, несметно богат. Разве справедливо со стороны богов давать лишнее тому, у кого и так всего полно? Поэтому я прибегаю к хитрости — возможно, ты и сам это заметил, — после каждой игры я ошибаюсь при подсчете очков. То беру меньше, чем выиграл, то плачу больше, чем проиграл, и почти ни у кого, кроме тебя, не хватает честности указать мне на ошибку». (Я бы с удовольствием процитировал следующий абзац, где говорилось о том, как непорядочно ведет себя при игре Тиберий, но, естественно, не мог этого сделать.)
Начал я эту книгу с шуточного — хотя вполне серьезного по форме — исследования того, насколько древней является игра в кости, подкрепляя его цитатами из несуществующих авторов и описывая различные фантастические способы метания костей. Но основным, разумеется, был вопрос о выигрыше и проигрыше, трактат так и назывался: «Как выиграть в кости». В еще одном письме Август писал, что чем больше он пытается проиграть, тем больше выигрывает и, даже обсчитывая сам себя при расчетах, редко встает из-за стола беднее, чем садятся за него. Я процитировал в противовес ему утверждение, приписываемое Поллионом моему деду Антонию, смысл которого заключался в том, что чем больше он пытается выиграть в кости, тем больше проигрывает. Сведя эти высказывания воедино, я вывел основной закон игры, а именно: боги помогают выиграть тому, кто меньше к этому стремится (разве что они еще раньше затаили против этого человека зло), поэтому единственный способ выиграть в кости — это выработать у себя искреннее желание проиграть. Написанная тяжеловесным языком, пародирующим ненавистного мне Катона, и аргументированная парадоксами, это была, право, очень смешная книжка. Я привел в ней старую пословицу, где вам обещают давать тысячу золотых всякий раз, когда вы встретите незнакомца верхом на пегом муле, но только при условии, что вы не будете думать о хвосте мула, пока не получите денег. Я надеялся, что этот трактат вызовет одобрение людей, которые считали, будто мои исторические работы неудобоваримы. Но нет. Никто не догадался, что он — юмористический. Я не сразу сообразил, что старики, выросшие на произведениях Катона, вряд ли оценят пародию на их любимого автора, а молодежь, не знакомая с его произведениями, просто не догадается, что это пародия. Поэтому книгу сочли исключительно скучной и глупой, написанной вымученным стилем на полном серьезе и неопровержимо доказывающей мое всем известное слабоумие.
Но я позволил себе весьма несвоевременное отступление, заставив Германика, так сказать, ждать своих денег, в то время как я пишу трактат об игре в кости. Будь старый Афинодор жив, он бы сурово меня за это отчитал.
Глава XVI
В Бонне Германика встретила депутация сенаторов, посланная Тиберием. Истинной их целью было выяснить, преувеличивает Германик серьезность мятежа или преуменьшает ее. Они привезли также приватное письмо Тиберия, в котором он одобрял обещания сделанные Германиком от его имени, кроме обещания удвоить отказанные Августом деньги, так как теперь, мол, это придется пообещать всей армии, а не только германским полкам. Тиберий поздравлял Германика с успехом его военной хитрости, но сожалел о необходимости прибегнуть к подлогу. И добавлял, что выполнит ли он эти обещания — зависит от самих солдат (значило это вовсе не то, как понял Германик, что Тиберий сдержит слово, если они вернутся к повиновению, а как раз наоборот). Германик тут же написал Тиберию ответ, где просил прощения за излишние траты, связанные с удвоением суммы, завещанной солдатам, и объяснял, что эти деньги выплачиваются из его собственного кармана (но солдаты ничего об этом не знают и считают своим благодетелем Тиберия) и что в поддельном письме говорилось яснее ясного: двойную сумму получают только германские полки как награду за недавние победы за Рейном. Что касается остальных обещаний, то ветераны, прослужившие двадцать лет, уже отпущены и остаются в рядах армии лишь до тех пор, пока не прибудут дарственные деньги.
Германику нелегко было погасить долговое обязательство на поместье, и он попросил меня в письме подождать, пока он сможет отдать мне мои пятьдесят тысяч. Деньги эти — подарок, ответил я, и я горжусь, что смог его сделать. Но вернемся к ходу событий. Когда сенатская депутация прибыла в Бонн, там уже стояли на зимних квартирах два полка. Во время пути сюда во главе с командиром они являли собой позорное зрелище: рядом со знаменами солдаты несли привязанные к длинным шестам мешки с деньгами. Другие два полка отказались покинуть летний лагерь, пока им полностью не выплатят все, что положено по завещанию. Те полки, Первый и Двадцатый, что находились в Бонне, заподозрили, будто депутацию послали, чтобы отменить сделанные им уступки, и снова начали бесчинствовать. Часть из них была за то, чтобы немедленно отправиться в свое новое царство. И вот в полночь в комнаты Германика, где в запертом ковчеге хранился орел Двадцатого полка, вломилась группа солдат; они стащили Германика с постели, сдернули у него с шеи золотую цепочку с ключами от ковчега, отперли его и забрали свое знамя. В то время как солдаты шумной толпой шли по улице, призывая товарищей «следовать за орлом», они встретили сенаторов — членов депутации, которые услышали крики и побежали на защиту Германика. Солдаты с проклятиями обнажили мечи. Сенаторы повернули и кинулись в штаб-квартиру Первого полка под прикрытие полкового знамени. Преследователи обезумели от ярости и вина, и если бы знаменосец не был храбрым человеком и не владел так хорошо мечом, главе депутации проломили бы череп — злодейство, за которое полку не было бы прошения и которое послужило бы сигналом для гражданской войны по всей стране.
Беспорядки продолжались всю ночь, но, к счастью, обошлось без кровопролития, если не считать крови, пролитой в пьяных драках между соперничающими ротами. Когда наступил рассвет, Германик приказал трубачу играть сбор и взошел на трибунал, взяв с собой сенатора, возглавлявшего депутацию. Солдаты роптали: совесть их была нечиста, и оттого они еще больше злобились, но смелость Германика смирила их. Германик встал, призвал всех к молчанию и вдруг широко зевнул. Прикрыв рот ладонью, он попросил прощения, сказав, что плохо спал эту ночь из-за мышиной возни под полом. Солдатам понравилась шутка, и они рассмеялись. Но Германик не присоединился к ним:
— Благодарение богам, что наступил рассвет. У меня еще не было такой ужасной ночи. Мне даже приснилось, что орел Двадцатого полка куда-то улетел. Какое счастье видеть его сейчас в строю. По лагерю реяли духи разрушения, присланные сюда, надо думать, каким-то божеством, которое мы оскорбили. Вас охватило безумие, и лишь чудо помешало вам совершить преступление, равного которому нет в истории Рима, — без всякой причины убить посланца родного города: счастье, что он нашел убежище от ваших мечей у ваших же полковых богов.
Затем Германик объяснил, что депутация прибыла лишь затем, чтобы подтвердить обещания Тиберия от имени сената и проверить, добросовестно ли он, Германик, их выполняет.
— Так как насчет этого? Где остальные отказанные нам деньги? — крикнул кто-то; остальные подхватили его крик: — Наши деньги! Наши деньги!
По счастливой случайности в этот самый момент показались фургоны с деньгами под охраной отряда верховых из вспомогательных войск — они как раз въезжали в лагерь. Германик воспользовался этим обстоятельством и поспешно отправил сенаторов обратно в Рим в сопровождении того же вспомогательного отряда, затем стал наблюдать за раздачей денег; кое-кто из солдат пытался силой захватить мешки, предназначенные для других полков, и Германику лишь с трудом удалось им помешать.
К полудню беспорядки еще усилились; столько золота в солдатских кошельках могло привести лишь к безудержному пьянству и отчаянной игре в кости. Германик решил, что Агриппине, на этот раз сопровождавшей его, опасно оставаться в лагере. Она снова была беременна, и хотя старшие ее сыновья, мои племянники Нерон и Друз, находились в Риме и жили вместе со мной и моей матерью, маленький Гай был с нею. Солдаты считали, что этот красивый мальчуган приносит им счастье, он был их талисман; кто-то сделал для него маленькие солдатские доспехи, включая оловянный нагрудник, меч, шлем и щит. Все его баловали. Когда мать надевала ему обычное платье и сандалии, он принимался плакать и просить, чтобы ему дали меч и сапожки: он хочет пойти в палатки к солдатам. Поэтому он получил прозвище «Калигула», что означает «Сапожок».
Германик настаивал на том, чтобы Агриппина покинула лагерь, хотя она клялась, что ничего не боится и предпочитает умереть вместе с ним, а не ждать в безопасном месте вестей о том, что он убит мятежниками. Но Германик спросил, не думает ли она, что Ливия будет хорошей матерью для их осиротевших детей? Это решило дело и заставило Агриппину поступить по его желанию. Вместе с ней отправилось несколько офицерских жен; все они были в трауре и заливались слезами. Они медленно прошли через лагерь без слуг и служанок, словно беженцы из обреченного города. Для вещей у них была одна простая повозка, которую тащил мул. Женщин сопровождал Кассий Херея — их проводник и единственный защитник. Калигула сидел верхом у него на плечах, как на боевом коне, и с громкими криками размахивал мечом, то отражая «удары», то «нападая» на врага, как его научили кавалеристы. Вышли они из лагеря очень рано, и вряд ли кто-нибудь их видел; стражи у ворот не было, никто теперь не брал на себя труд трубить подъем, так что большая часть солдат спала, как свиньи, до десяти или одиннадцати утра. Несколько ветеранов, проснувшихся по привычке на рассвете, собирали возле лагеря хворост, чтобы сварить завтрак, и, окликнув беженцев, спросили, куда они направляются.
— В Треве! — крикнул в ответ Кассий. — Главнокомандующий отсылает свою жену и ребенка под защиту диких, но верных нам французских союзников, боясь, как бы они не лишились жизни, попав в руки знаменитого Первого полка! Передайте мои слова своим товарищам!
Ветераны поспешили вернуться в лагерь, и один из них, старик Помпоний, схватил трубу и дал сигнал тревоги. Из палаток высыпали еще не совсем проснувшиеся солдаты с мечами в руках.
— Что случилось? Кто нападает?
— Его забирают от нас. Нам больше не будет удачи, мы никогда больше его не увидим.
— Кого забирают? О ком ты толкуешь?
— Нашего мальчика, Калигулу. Его отец говорит, что не может больше доверить его Первому полку и отсылает его к проклятым французишкам. Одни боги знают, что там с ним будет. Всем известно, что такое французы. И мать тоже отсылает. На восьмом месяце, а идет бедняжка пешком, как рабыня. Эх, ребята! Жена Германика и дочь старого Агриппы, которого мы называли другом солдат. И наш Сапожок.
Удивительный народ — солдаты! Крепкие, как кожаный щит, суеверные, как египтяне, и сентиментальные, как сабинские старухи. Через десять минут не меньше двух тысяч охваченных горем и раскаянием солдат осаждали палатку Германика, в пьяном исступлении умоляя его разрешить жене вернуться в лагерь вместе с их любимым мальчуганом.
Германик вышел к ним, бледный от гнева, и приказал солдатам больше его не тревожить. Они опозорили себя, и его, и Рим, и он до конца жизни не будет им доверять; они оказали ему плохую услугу, когда вырвали из рук меч, который он хотел вонзить себе в грудь.
— Скажи, что нам делать, командир! Мы сделаем все, что ты скажешь. Клянемся больше не бунтовать. Никогда! Прости нас. Мы пойдем за тобой на край света. Только верни нам нашего маленького товарища, нашего Сапожка.
Германик сказал:
— Вот мои условия: поклянитесь в верности Тиберию и выдайте мне тех, кто отвечает за смерть командиров, за оскорбление депутации и за кражу орла. Если вы это выполните, я вас прощу, хоть и не до конца, и верну вам вашего маленького товарища. Однако жена моя не станет рожать в этом лагере, раз ваша вина полностью не заглажена. До родов осталось немного, и я не хочу, чтобы жизнь ребенка была омрачена злыми чарами. Но я могу послать ее не в Треве, а в Кельн, если вы не хотите, чтобы люди говорили, будто я доверил ее защите варваров. Мое полное прощение вы получите только тогда, когда сотрете память о своих кровавых преступлениях еще более кровавой победой над врагами нашей родины — германцами.
Солдаты поклялись выполнить условия Германика. Поэтому он отправил гонца перехватить Агриппину и Кассия, объяснить им, как обстоят дела, и привезти Калигулу обратно. Солдаты разошлись по палаткам и призвали всех товарищей, оставшихся верными Риму, присоединиться к ним и задержать зачинщиков мятежа. Было схвачено около ста человек, их привели к трибуналу, возле которого солдаты из обоих полков, с мечами наголо, образовали каре. Один из командиров заставлял каждого из пленников по очереди всходить на шаткий эшафот, сооруженный возле трибунала, и если рота признавала того виновным, его сбрасывали на землю и обезглавливали. За все два часа, что длилось это неофициальное судилище, Германик не промолвил ни слова, он сидел скрестив руки, с каменным лицом. Почти все зачинщики были признаны виновными.
Когда упала последняя голова, а тела вытащили за пределы лагеря, чтобы сжечь, Германик стал вызывать к трибуналу по очереди ротных командиров и требовать у них полного отчета о службе. Удостоверившись, что командир служил хорошо и место свое, судя по всему, получил не благодаря связям, Германик обращался к ветеранам роты и спрашивал, каково их мнение. Если ветераны отзывались о нем одобрительно и полковник, командир батальона, куда входила рота ничего против него не имел, ротный оставался в своем звании и должности. Но если репутация у ротного была плохая или солдаты роты выражали им недовольство, его разжаловывали, и Германик предлагал роте выбрать в своей среде того, кто более других достоин занять его место. Затем Германик поблагодарил всех солдат за помощь и призвал их принести клятву верности Тиберию. Они торжественно в этом поклялись, а через секунду раздалось громовое «ура!». Солдаты увидели посланца Германика, во весь опор скакавшего к лагерю, а перед ним на спине коня — Калигулу; громко крича что-то пронзительным голосом, мальчик размахивал своим игрушечным мечом.
Германик обнял ребенка и сказал, что хочет добавить еще одно: согласно указаниям Тиберия, из двух находившихся здесь полков отпущены тысяча пятьсот ветеранов, чей срок службы уже истек. Но если кто-нибудь из них, сказал Германик, хочет получить полное прощение, как и их товарищи, которые перейдут через Рейн и отомстят за поражение Вара, они могут его заслужить. Он позволит наиболее крепким и энергичным солдатам вновь вступить в ряды своих рот, а те, кто годится лишь для гарнизонной службы, смогут служить в Тироле, где, как стало известно, в последнее время участились набеги германцев. Хотите верьте, хотите нет — ветераны, все, как один, выступили вперед и больше половины из них вызвалось участвовать в боевых действиях за Рейном. В их числе был и Помпоний, утверждавший, что, несмотря на отсутствие зубов и грыжу, он может служить не хуже любого другого. Германик сделал его своим денщиком, а внуков взял в свою личную охрану. Таким образом, в Бонне все наладилось, и солдаты твердили Калигуле, что он и только он подавил мятеж и что наступит день, когда он станет великим императором и одержит удивительные победы; это очень плохо влияло на мальчика, который, как я уже упоминал, был и без того ужасно избалован.
Но два других полка, расквартированных в месте, которое называлось Сантен, еще нужно было образумить. Они не успокоились даже после того, как им выплатили отказанные Августом деньги, и их командир ничего не мог с ними поделать. Когда стало известно, что боннские полки изменили свои намерения, главные бунтовщики всерьез испугались за собственную жизнь и стали подстрекать товарищей к новым бесчинствам и грабежам. Германик известил командующего, что он направляется к нему по Рейну во главе большой армии, и если те солдаты под его началом, которые еще остались ему верны, не последуют как можно быстрее примеру своих боннских товарищей и не казнят зачинщиков, он, Германик, истребит поголовно обa полка, не разбирая, кто прав, кто виноват. Командующий вызвал к себе потихоньку знаменосцев, сержантов и нескольких заслуживающих доверия ветеранов, прочитал им письмо и сказал, что медлить нельзя, Германик может нагрянуть с минуты на минуту. Они обещали сделать все, что в их силах, и, сообщив содержание письма еще нескольким верным людям, ворвались по данному в полночь сигналу в палатки и принялись уничтожать мятежников. Те яростно защищались и сразили немало верных присяге солдат, но в конце концов те взяли верх. Всего в эту ночь было убито и ранено пятьсот человек. Остальные, оставив в лагере лишь часовых, вышли походным маршем навстречу Германику, чтобы умолять его тут же вести их за Рейн против германцев.
Хотя в такое время года военные действия обычно затухают, погода стояла прекрасная, и Германик пообещал выполнить их просьбу. Он навел через реку понтонный мост и перешел на другой берег во главе двенадцати тысяч римских пехотинцев, двадцати шести батальонов союзников и восьми кавалерийских эскадронов. От своих лазутчиков на вражеской территории он знал о большом скоплении народа в деревнях возле Мюнстера, где был большой ежегодный праздник в честь германского Геркулеса.[84] До германцев уже дошли слухи о мятеже — вернее, мятежники вступили в сговор с Германном и обменялись с ним дарами, — и они только ждали той минуты, когда полки отправятся в свое новое юго-западное царство, чтобы пересечь Рейн и пойти прямиком на Италию. Германик двинул полки пустынной лесной тропой и застиг германцев врасплох с кружками пива в руках (пиво — это напиток, получающийся в результате брожения замоченного зерна; германцы поглощают его на праздниках в невероятном количестве). Германик развернул войско в четыре колонны на протяжении пятидесяти миль и предал все деревни огню и мечу независимо от пола и возраста жителей. На обратном пути он обнаружил, что отряды из различных местных племен устроили засады, чтобы помешать ему пройти через лес, но продолжал продвижение и, вступая в отдельные схватки, с успехом оттеснял врага. Вдруг от Двадцатого полка, бывшего в арьергарде, донесся сигнал тревоги. Оказалось, что на них напал большой отряд германцев под водительством самого Германна. К счастью, лес в этом месте был негустой, и солдаты могли маневрировать. Германик поскакал назад, туда, где было всего опаснее, и крикнул: «Прорвите их строй, Двадцатый, и все будет прощено и забыто!». Солдаты Двадцатого полка сражались как безумные; они отбросили германцев назад и тех, кто уцелел в кровавой резне, загнали далеко в луга, простиравшиеся за лесом. Германик заметил Германна и вызвал его на поединок, но германцы убегали — принять вызов значило обречь себя на верную смерть. Поэтому Германн ускакал. Германику так же, как отцу, не везло — ему никак не удавалось сразиться один на один с вражеским вождем. Но победы он тоже одерживал не реже, чем отец, и полученное в наследство имя «Германик» теперь принадлежало ему по праву. Солдаты ликовали. Германик благополучно привел свою армию в лагерь за Рейном, где им ничто больше не угрожало.
Тиберий никогда не понимал Германика, а Германик — Тиберия. Тиберий, как я уже говорил, был один из дурных Клавдиев. Однако порой его можно было склонить к добродетели, и, живи он во времена, когда царило благородство и великодушие, он вполне сошел бы за человека, обладающего этими свойствами, — подлости в его характере не было. Но времена были отнюдь не такими, и сердце Тиберия ожесточилось, в чем, вы согласитесь со мной, в первую очередь была повинна Ливия. А Германик был по натуре добродетельный человек, и как бы ни были порочны времена, когда он родился, он не мог вести себя иначе, чем вел. Когда Германик отказался от единовластия, предложенного ему германскими полками, и заставил их поклясться в верности Тиберию, тому было не понять, почему он так поступил. Он решил, что Германик еще хитрее, чем он сам, и ведет какую-то сложную игру. Простая мысль о том, что для Германика честь превыше всего и он предан ему как главнокомандующем; и как названному отцу, ни разу не пришла Тиберию в голову. А Германик, поскольку он не подозревал, что Тиберий в сговоре с Ливией, и поскольку тот никак не уязвлял и не ущемлял его, а, напротив, всячески хвалил за то, как ему удалось справиться с мятежом, и назначил полный триумф за мюнстерскую кампанию, думал, будто намерения Тиберия столь же честны и благородны, как у него самого, и тот лишь по простоте душевной не разгадал до сих пор замыслы Ливии. Германик решил откровенно поговорить с Тиберием, как только приедет в Рим для триумфа. Но смерть Вара еще не была отомщена, прошло три года, прежде чем Германик вернулся. Тон писем, которыми за это время обменивались Германик и Тиберий, был задан Германиком, писавшим с сыновней почтительностью. Тиберий отвечал ему в том же дружеском духе, думая, что тем самым бьет Германика его же оружием. Он пообещал возместить Германику отданные солдатам деньги и выплатить вдвойне завещанные суммы балканским полкам. И он действительно заплатил им по три лишних золотых на человека — в балканской армии назревала угроза мятежа, — но отложил возврат потраченных Германиком денег на несколько месяцев из-за, как он выразился, финансовых затруднений. Естественно, Германик не требовал у Тиберия денег, и естественно, Тиберий так и не вернул их. Германик снова написал мне, спрашивая, не подожду ли я до тех пор, пока Тиберий не расплатится с ним, и я ответил, как и в первый раз, что я послал ему эти деньги в подарок.
Вскоре после того как Тиберий стал императором, я отправил ему письмо, где говорил, что в течение довольно долгого времени изучал юриспруденцию и управление делами — так и было в действительности — в надежде, что мне наконец дадут возможность послужить своей стране в какой-нибудь ответственной должности. Он ответил, что, разумеется, брату Германика и его собственному племяннику ходить в платье всадника ни с чем не сообразно, и, поскольку меня сделали жрецом Августа, мне, конечно, должны разрешить носить сенаторское платье, он испросит для меня у сената разрешения ходить в вышитой тоге, какие носят консулы и экс-консулы, если я обещаю при этом не ставить себя в смешное положение. Я тут же написал, что я предпочитаю пост без почетного одеяния одеянию без поста, но единственным ответом были присланные мне в подарок сорок золотых, «чтобы купить на них игрушки во время Сатурналий». Сенат постановил, что я могу носить вышитую тогу, и в честь Германика, который проводил тогда очередную успешную кампанию в Германии, хотел предоставить мне место среди экс-консулов. Но Тиберий наложил на это вето, сказав, что, на его взгляд, я не способен произнести речь о государственных делах, которая не вывела бы из терпенья его собратьев-сенаторов.
В то же самое время Тиберий наложил вето на еще один указ, предложенный сенатом. И вот при каких обстоятельствах. Агриппина разрешилась от бремени в Кельне, родив дочь по имени Агриппинилла, и я должен сразу же сказать, что эта девочка оказалась одной из худших Клавдиев — честно говоря, если судить по ее задаткам, она превзойдет своих предков обоего пола высокомерием и порочностью. Несколько месяцев после родов Агриппина недомогала, и Калигула совсем отбился от рук, поэтому, как только Германик начал весеннюю кампанию, мальчика отправили в Рим. Он сделался своего рода национальным героем. Где бы он ни появлялся с братьями, на него пялили глаза, приветствовали криками и оказывали ему всяческое внимание. Хотя Калигуле еще не исполнилось трех лет, этот не по годам развитой мальчик был очень трудным ребенком, милым — лишь когда ему льстили, послушным — лишь когда его держали в ежовых рукавицах. Он должен был поселиться у своей прабабки Ливии, но ей было некогда как следует за ним присматривать, и, так как он постоянно шалил и попадал в переделки, к тому же ссорился со своими старшими братьями, Калигула перешел жить к нам, с моей матерью и со мной. Мать никогда не льстила ему, но взять его в ежовые рукавицы тоже не смогла. И вот однажды, вспылив, Калигула плюнул в нее, и она задала ему хорошую взбучку. «Ты — гадкая германская старуха, — крикнул мальчик, — я спалю весь твой германский дом». Он употреблял слово «германский» как самое страшное из ругательств. В тот же день Калигула пробрался потихоньку на чердак, где жили рабы, в чулан, который был забит старой мебелью и разным хламом, и поджег лежавшую там груду старых соломенных тюфяков. Вскоре пылал весь верхний этаж, и поскольку дом был старый, с изъеденными жучком балками и щелями в полу, потушить огонь не смогли, хотя от пруда с карпами безостановочно по цепочке подавали воду. Мне удалось спасти все бумаги и ценные вещи, и кое-что из мебели, и не было человеческих жертв, если не считать двух старых рабов, лежавших из-за болезни в постелях, но от дома остались лишь стены и подвалы. Калигулу не наказали, потому что пожар страшно напугал его. Он сам чуть не сгорел, прячась под кроватью, пока дым не заставил его с криком выскочить наружу.
Так вот, сенат хотел издать указ, по которому мой дом отстроили бы за счет государства на том основании, что он служил кровом многим выдающимся членам нашего рода, но Тиберий воспротивился этому. Он сказал, что пожар произошел по моему недосмотру и что, веди я себя с полной ответственностью, пострадал бы один чердак и урон не был бы так велик, и уж если надо заново отстроить и обставить дом, пусть это будет за его счет, а не за государственный, (громкие аплодисменты сенаторов). Это было несправедливо и нечестно, тем более что Тиберий и не собирался сдержать слово. Я был вынужден продать свою последнюю крупную недвижимость в Риме — квартал жилых домов возле Коровьего рынка и примыкающую к нему большую строительную площадку, чтобы отремонтировать дом за свой счет. Я не сказал Германику, что поджег его Калигула, — он счел бы себя обязанным возместить нанесенный ущерб, и по сути дела это был, я думаю, просто несчастный случай, ведь такой маленький ребенок не может отвечать за свои поступки.
Когда солдаты Германика снова отправились воевать с германцами, они добавили еще несколько куплетов к песне о трех горестях Августа; я припоминаю два или три из них и отдельные строчки из прочих, по большей части смешные:
Шесть монет — а что в них толку? Сыр да сало не по мне. Жалко, нет вина ни капли На германской стороне.И еще:
Август нынче взят на небо. В Стиксе плавает Марцелл — Ждет он с Юлией свиданья, И она уж не у дел. Где орлы — никто не знает. И мечтаем мы о том, Как к могиле государя Птиц пропавших принесем!Был там еще куплет, который начинался так:
Германн потерял подружку И вдобавок пива жбан…но остального я не помню, да куплет этот и не представляет особой важности, разве что он напоминал мне о «подружке» Германна. Она была дочерью вождя, которого германцы называли Зигштос или что-то в этом роде, а римляне — Сегест. Он жил в Риме, как сам Германн, и был принят в сословие всадников, но в отличие от Германна, чувствовал себя связанным клятвой верности, которую дал Августу. Этот Сегест был тем самым человеком, который предупредил Вара насчет Германна и Сегимера и посоветовал Вару арестовать их на пиру, куда тот пригласил их как раз перед началом злосчастного похода. У Сегеста была любимая дочь, которую Германн похитил, и хотя он женился на ней, Сегест ему этого не простил. Однако ему было нельзя открыто выступить на стороне римлян против Германна, который считался национальным героем; он мог лишь поддерживать с Германиком секретную переписку, где сообщал ему о передвижениях военных сил германцев и постоянно заверял в том, что его верность Риму неколебима и он только ждет возможности это доказать. Однажды Сегест написал Германику, что Германн осадил его в укрепленной одним лишь частоколом деревне, поклявшись никому не дать пощады, и им долго не продержаться. Германик форсированным маршем подошел к деревне, разгромил не очень многочисленный отряд осаждавших — сам Германн, раненый, находился в другом месте — и вызволил Сегеста. И тут обнаружил, что его ждал ценный подарок — в деревне оказалась жена Германна, которая гостила у отца, когда между ним и ее мужем вспыхнула ссора, и которая вот-вот должна была родить. Германик отнесся к Сегесту и всем его родичам очень милостиво и дал им земли на западном берегу Рейна. Германн, разъяренный пленением жены, испугался, как бы мягкость Германика не побудила других германских вождей сделать попытки к примирению. Он создал новый сильный союз племен, включая некоторые из тех, которые до сих пор были в дружбе с Римом. Но Германик по-прежнему был неустрашим. Чем больше германцев выступало против него в открытом бою, тем больше это было ему по сердцу. Он никогда не доверял им как союзникам.
Еще до окончания лета Германик победил германцев в целом ряде боев, заставил Сегимера сдаться и вернул первого из утраченных орлов — орла Девятнадцатого полка. Он также побывал на поле боя, где Вар потерпел поражение, похоронил кости своих товарищей по оружию по всем правилам и первый, своими руками, возложил кусок дерна на их могильный холм. Военачальник, который вел себя так пассивно во время мятежа, храбро сражался во главе своих войск, а в одном случае неминуемое, как всем казалось, поражение обратил в торжество. Преждевременное известие о том, что битва проиграна и германцы идут триумфальным маршем к Рейну, вызвало среди охранявших ближайший мост солдат такой переполох, что командир отдал солдатам приказ перейти на свой берег, а затем уничтожить мост, тем самым предоставив всех, кто находился на вражеском берегу, их судьбе. Но бывшая здесь Агриппина отменила приказ. Она сказала солдатам, что теперь она — их командир и останется им, пока не придет ее муж и не освободит ее от командования. Когда наконец войска вернулись с победой, Агриппина была на посту и приветствовала их. Ее популярность теперь почти что сравнялась с популярностью мужа. Она устроила лазарет для раненых, которых Германик отправлял в лагерь после каждой битвы, и оказывала им наилучшую медицинскую помощь. Обычно раненые солдаты не покидали своих подразделений, где они или выздоравливали, или умирали. Лазарет был устроен на личные средства Агриппины.
Я, кажется, уже упомянул о смерти Юлии. Когда Тиберий стал императором, ее ежедневный рацион на Регии сократился до четырех унций хлеба и одной унции сыра. Из-за сырости в помещении она заболела чахоткой, и такая голодная диета быстро свела ее в могилу. О Постуме так ничего и не было слышно, а пока Ливия не удостоверилась в его гибели, у нее не могло быть спокойно на душе.
Глава XVII
Тиберий продолжал править, держась во всем средней линии и советуясь с сенатом, прежде чем предпринять любой шаг, имеющий политическое значение. Но сенаторы так долго голосовали по указке, что, похоже, потеряли способность принимать самостоятельные решения, а Тиберий никогда явно не показывал, какое именно решение пришлось бы ему по душе, даже когда для него было очень важно, как они проголосуют. Он стремился удержать пост главы государства, но не желал, чтобы его правление походило на тиранию. Вскоре сенат увидел, что если Тиберий велеречиво выступает в защиту какого-либо предложения, значит, он хочет, чтобы оно было отклонено, а если он столь же велеречиво выступает против какого-нибудь предложения, значит, хочет, чтобы оно было принято; и только в тех редких случаях, когда он говорил коротко, без перлов красноречия, его надо было понимать буквально. Галл и старый остряк по имени Гатерий завели привычку развлекаться, произнося пламенные речи в поддержку Тиберия и доводя смысл его слов чуть не до абсурда, а потом голосуя так, как он на самом деле хотел, чем показывали, что прекрасно понимают его уловки. Этот самый Гатерий в то время, когда сенаторы уговаривали Тиберия принять верховную власть, воскликнул: «О, Тиберий, сколько еще несчастный Рим будет оставаться без властителя?» — рассердив Тиберия, так как тот знал, что Гатерий видит его насквозь. На следующий день Гатерий решил продолжить потеху и, упав перед Тиберием на колени, умолял простить его за то, что он был недостаточно пылок в своих мольбах. Тиберий отпрянул от него с отвращением, но Гатерий схватил его за колени, и Тиберий свалился навзничь, ударившись о мраморный пол затылком. Телохранители Тиберия, состоявшие из германцев, не поняли, что происходит, и кинулись вперед, чтобы зарубить напавшего на их хозяина; Тиберий едва успел их остановить.
Гатерий великолепно пародировал. У него был очень громкий голос, подвижное лицо, изобретательный ум и богатое воображение. Стоило Тиберию употребить в своей речи какое-нибудь архаичное слово или притянутое за уши выражение, как Гатерий подхватывал его и делал ключевым в своем ответе (Август обычно говорил, что колеса красноречия Гатерия нуждаются в цепях, даже когда он едет в гору). Тугодуму Тиберию было трудно тягаться с Гатерием. Галл же превосходно изображал верноподданнический пыл. Тиберий тщательно следил за тем, чтобы не создалось впечатление, будто он претендует на божественные почести, и возражал против того, чтобы ему приписывали сверхъестественные свойства: он даже не разрешил жителям провинций строить храмы в его честь. Поэтому Галл любил, говоря о нем, называть Тиберия, словно случайно, «его священное величество». Когда Гатерий, всегда готовый подхватить шутку, поднимался, чтобы упрекнуть его за столь неподобающее выражение, Галл рассыпался в извинениях, говоря, что у него и в мыслях не было сделать что-либо вопреки приказу его священного… о боже, так легко впасть в ошибку… еще раз тысяча извинений… он хотел сказать, вопреки желаниям его досточтимого друга и собрата-сенатора Тиберия Нерона Цезаря Августа. «Без Августа, дурень, — произносил театральным шепотом Гатерий. — Он отказывался от этого титула тысячу раз. Он пользуется им, только когда пишет письма другим монархам».
Они обнаружили, чем сильнее всего можно уязвить Тиберия. Если он принимал скромный вид, когда сенат благодарил его за какую-нибудь заслугу перед Римом — например, за обещание достроить храмы, которые остались незаконченными после смерти Августа, — шутники всячески восхваляли его порядочность: вот ведь, не поставил же он себе в заслугу труды своей матери, и поздравляли Ливию с таким преданным и покорным сыном. Когда они увидели, что ничто так не раздражает Тиберия, как дифирамбы по адресу Ливии, они стали упражняться в этом на все лады. Гатерий даже предложил, чтобы, подобно тому как греков называют отцовским именем, назвать Тиберия в честь матери Тиберий Ливиад… но, возможно, более правильная для латыни форма будет «Ливигена»; звать его иначе — преступление.[85] Галл нашел другое слабое место Тиберия — тот терпеть не мог, когда упоминали о его пребывании на Родосе. И вот однажды Галл позволил себе такую дерзкую выходку: в тот самый день, когда до Рима дошло известие о смерти Юлии, он принялся превозносить Тиберия за милосердие и в подтверждение привел историю о родосском учителе риторики, который отказал Тиберию, когда тот скромно обратился к нему за разрешением посещать у него занятия, заявив, что сейчас свободных мест нет, и предложил Тиберию наведаться через несколько дней. «Как вы думаете, — продолжал Галл, — что сделал его священное… прошу прощения, мне следовало сказать: что сделал мой досточтимый друг и собрат-сенатор Тиберий Нерон Цезарь, когда после его восшествия на престол этот наглый учителишка приехал в Рим, чтобы засвидетельствовать свое почтение новому божеству? Отрубил его наглую голову и дал вместо мяча своим телохранителям? Ничего подобного. С остроумием, равным его милосердию, он сказал, что у него сейчас нет свободных мест в когорте льстецов, и предложил ему наведаться через несколько лет». Скорее всего, Галл все это придумал, но у сенаторов не было оснований ему не верить, и они так горячо ему аплодировали, что Тиберию пришлось сделать вид, будто слова Галла соответствуют истине.
Наконец Тиберию удалось заткнуть Гатерию рот; однажды он проговорил, как всегда медленно: «Прости меня, Гатерий, если я буду более откровенен, чем это принято между сенаторами, но я должен тебе сказать, что ты — страшный зануда и ни капли не остроумен». Затем он обратился к сенату: «Простите меня, отцы сенаторы, но я всегда говорил и снова скажу, что, раз вы были настолько любезны и предоставили мне абсолютную власть, я не должен стыдиться использовать ее для общего блага. И если я прибегну к ней сейчас, чтобы заставить замолчать шутов, которые своими глупыми выходками оскорбляют не только меня, но и вас, я надеюсь, что заслужу этим ваше одобрение. Вы всегда были со мной добры и терпеливы». Теперь Галлу пришлось вести игру в одиночку.
Хотя Тиберий ненавидел мать еще сильнее, чем прежде, он по-прежнему позволял ей руководить собой. Все назначения на должности — будь то консул или губернатор провинции — делались не им, а Ливией; это были весьма разумные назначения, так как она выбирала людей по заслугам, а не по семейным связям или за то, что они льстили ей или оказывали какое-либо личное одолжение. Я должен сказать ясно и недвусмысленно, если еще не сделал этого, что как бы преступны ни были средства, к которым Ливия прибегала, чтобы властвовать над Римом сперва через Августа, затем через Тиберия, она была исключительно способной и справедливой правительницей и созданная ею система управления разладилась лишь тогда, когда Ливия перестала ее возглавлять.
Я уже упоминал о Сеяне, сыне командующего гвардией. Он унаследовал пост отца и был одним из трех человек, которые пользовались сравнительным доверием Тиберия. Вторым был Фрасилл; он приехал в Рим вместе с Тиберием и по-прежнему имел на него большое влияние. Третьим был сенатор по имени Нерва. Фрасилл никогда не обсуждал с Тиберием вопросы государственной политики и не просил для себя никаких официальных постов, а когда Тиберий давал ему деньги, принимал их небрежно, словно они не представляли для него никакого интереса. У него была большая обсерватория в одной из сводчатых комнат дворца, где в окнах были такие прозрачные стекла, что их просто не замечали. Тиберий проводил у Фрасилла немало времени, тот учил его начаткам астрологии и многим другим тайнам магии, в том числе искусству толкования снов, заимствованному у халдеев.[86] Сеяна и Нерву Тиберий избрал, по-видимому, за противоположность их характеров. Нерва не терял друзей и не приобретал врагов. Единственный его недостаток, если это можно назвать недостатком, заключался в том, что он молчал, когда видел зло, которое нельзя было исправить словами. Он был благородный, великодушный, отважный и вместе с тем мягкий человек, абсолютно правдивый и не способный ни на какой обман, даже если это могло принести ему выгоду. Если бы он, например, оказался на месте Германика, он бы ни за что не подделал письма, хотя от этого зависела бы его собственная безопасность и безопасность империи. Тиберий назначил Нерву надзирателем за городскими акведуками и постоянно держал при себе, чтобы всегда иметь перед глазами, как я полагаю, мерило добродетели. Точно так же Сеян служил ему мерилом порока. В юности Сеян был другом Гая и уехал вместе с ним на Восток; у него хватило ума предвидеть, что Тиберий выйдет из-под опалы, и даже способствовать этому; он убедил Гая, что Тиберий не обманывает его, утверждая, будто не стремится к власти, и посоветовал ходатайствовать за него перед Августом. Сеян тогда же сообщил об этом Тиберию, и Тиберий написал ему письмо, с которым тот не расставался, обещая, что никогда не забудет об его услуге. Сеян был лжец, мало того — лжец-стратег; он искусно распоряжался своими лживыми измышлениями, знал, как привести их в готовность и построить в такой боевой порядок, чтобы они одержали победу при любой схватке с подозрениями и даже в генеральном сражении с истиной — это остроумное сравнение принадлежит Галлу, я тут ни при чем. Тиберий завидовал этому таланту Сеяна, точно так же, как завидовал честности Нервы, — хотя он уже далеко ушел по пути зла, необъяснимые для него самого порывы, толкающие его к добру, подчас заставляли Тиберия приостановиться.
Не кто иной, как Сеян, начал настраивать Тиберия против Германика; он говорил, что человеку, который подделал письмо отца, не важно, при каких обстоятельствах, нельзя доверять, что Германик стремится к власти, но ведет себе осторожно — сперва он завоевал любовь солдат подачками, затем затеял эту ненужную кампанию за Рейном, чтобы удостовериться в их боеспособности и безоговорочном подчинении. Что до Агриппины, говорил Сеян, то она на редкость честолюбива, только посмотри, как она вела себя на мосту — назвалась командиром и приветствовала возвращавшиеся полки, словно она невесть кто! А то, что мост хотели разрушить, она, возможно, просто придумала. Ему известно со слов вольноотпущенника, который рабом был в числе домашней прислуги Германика, что Агриппина почему-то верит, будто Ливия и Тиберий ответственны за смерть ее трех братьев и изгнание сестры, и поклялась отомстить за них. Сеян стал один за другим раскрывать заговоры против Тиберия и держал его в постоянном страхе перед убийцами, в то же самое время уверяя его, что пока он, Сеян, на страже, нет ни малейших причин для тревоги. Он подстрекал Тиберия противоречить Ливии по пустякам, чтобы показать, что она переоценила свои силы. Не кто иной, как Сеян, несколько лет спустя собрал гвардию воедино и навел в ней дисциплину. До тех пор три гвардейских батальона, размещенные в Риме, были расквартированы по подразделениям в разных частях города — в постоялых домах и подобных местах, и их с трудом могли собрать на плац; они были неопрятны в одежде, расхлябаны в движениях. Сеян сказал Тиберию, что, если построить для гвардейцев общий постоянный лагерь за пределами Рима, это их объединит, помешает воздействию слухов, не даст погрузиться в волны политических страстей, бушующих в городе, и крепче привяжет их к своему императору. Тиберий пошел еще дальше: он отозвал остальные шесть гвардейских батальонов, размещенные в других частях Италии, и построил лагерь, вместивший их всех — девять тысяч пехотинцев и две тысячи кавалеристов. Помимо четырех городских батальонов, один из которых он отослал в Лион, и поселений отставных ветеранов, это были единственные солдаты в Италии. Германские телохранители не шли в счет, так как считались рабами. При всем том это были отборные воины, более преданные императору, чем любой свободнорожденный римлянин. Среди них не нашлось бы ни одного человека, который действительно хотел бы вернуться в свою холодную, невежественную, варварскую страну; хотя они без конца распевали хором печальные песни о родине, германцы прекрасно проводили время и здесь.
Что касается уголовных досье, к которым Тиберию из-за страха перед покушениями на его жизнь так горячо хотелось получить доступ, то Ливия по-прежнему делала вид, будто ключ шифра утерян. Тиберий по совету Сеяна сказал ей, что, поскольку от них никому нет никакого прока, он их сожжет. Ливия ответила, что он может поступать, как хочет, но все же разумнее их не трогать — вдруг ключ найдется. Возможно, она сама его вспомнит.
«Прекрасно, матушка, — сказал Тиберий, — а пока ты не вспомнишь, я возьму эти бумаги на сохранение и попробую вечерами сам их расшифровать». И вот Тиберий взял досье к себе в комнату и запер в шкаф. Он очень старался найти ключ к шифру, но это оказалось ему не по силам. В простом шифре писалось латинское «Е» вместо греческой «альфы», латинское «F» — вместо греческой «беты», «G» — вместо «гаммы», «Н» — вместо «дельты» и так далее. Ключ сложного шифра разгадать было почти невозможно. Для него были использованы первые сто строк первой книги «Илиады», которые надо было читать одновременно с написанием текста; при этом каждая буква заменялась цифрой, равной числу букв алфавита между нею и соответствующей ей буквой у Гомера. Так, первая буква первого слова первой строки первой книги «Илиады» — «мю». Предположим, первая буква первого слова в некоем досье — «ипсилон». В греческом алфавите между «мю» и «ипсилоном» находится семь букв, поэтому вместо «ипсилона» будет написана цифра «7». При этом алфавит представляется в виде круга, где «омега» — последняя буква — следует за «альфой», первой, так что расстояние между «ипсилоном» и «альфой» будет «4», а между «альфой» и «ипсилоном» — «18». Эта система была придумана Августом, и, должно быть, требовалось немало времени, чтобы при ее помощи писать и расшифровывать, но я думаю, Август и Ливия постепенно набили руку и помнили, не считая, расстояние между любыми двумя буквами алфавита, что экономило не один час. Как я об этом узнал? Много-много лет спустя, когда эти досье перешли в мое владение, я сам нашел ключ. Мне случайно попался на глаза среди прочих свиток первой книги «Илиады». Было ясно, что изучались здесь только первые сто строк, потому что в начале пергамент был замусолен и покрыт пятнами, а в конце совершенно чист. Когда я присмотрелся внимательнее, я увидел крошечные цифры — «6», «23», «21», — еле заметно нацарапанные под буквами первой строки, и сразу догадался, что здесь и есть ключ к шифру. Меня удивило, что Тиберий не обратил внимания на эту путеводную нить.
Кстати, об алфавите. Я в то время как раз раздумывал о том, как самым простым образом сделать латынь по-настоящему фонетическим языком. Я считал, что в латинском алфавите не хватает трех букв. А именно: буквы для обозначения согласного «U», которая отличала бы этот звук от гласного «U»; буквы, соответствующей греческому «ипсилону» (гласный звук, средний между латинскими «I» и «U»), которой бы можно было пользоваться в латинизированных греческих словах, и буквы, обозначающей двойной согласный звук, который мы передаем на письме при помощи сочетания «BS», но произносим, как греческое «пси». Важно, писал я, чтобы жители провинций, изучающие латинский язык, учили его правильно; если буквы не будут соответствовать звукам, как им избежать ошибок в произношении? Поэтому я предложил для передачи согласного «U» использовать перевернутое «F» (которое используется с этой целью в этрусском языке), то есть писать LAFINIA вместо LAUINIA; половинку «Н» — для обозначения греческого «ипсилона», то есть B-IBLIOTHECA вместо BIBLIOTHECA, и перевернутое «С» — для обозначения «BS», то есть A3QUE вместо ABSQUE. Последняя буква не была так уж важна, но первые две, на мой взгляд, были весьма существенны. Я предложил взять половинку «Н» и перевернутые «F» и «С» потому, что это облегчило бы дело для всех тех, кто пользуется штампованными буквами из металла или глины — им не пришлось бы заказывать новые литеры. Я обнародовал свою книжицу, и человека два сказали, что в моих предложениях есть свой смысл, но, естественно, все это ни к чему не привело. Мать заявила, что может назвать три вещи, которые не осуществятся ни за что на свете: никогда через залив между Байями и Путеолами не протянется улица с лавками, никогда я не покорю остров британцев, и никогда ни одна из моих нелепых букв не появится в публичных надписях в Риме.[87] Я не забыл ее слов, так как они имели свое продолжение.
Я сильнее обычного раздражал мать в эти дни потому, что наш дом все никак не могли достроить, а мебель, которую я купил, была хуже старой, и потому, что состояние матери сильно уменьшилось, ведь ей пришлось взять на себя часть расходов — даже отдай я все, что имел, моих денег все равно не хватило бы. В течение двух лет мы жили в императорском дворце (наши покои оставляли желать лучшего), и мать так часто срывала на мне дурное настроение, что под конец я не выдержал и уехал из Рима в свое поместье под Капуей; я приезжал в город лишь тогда, когда этого требовали мои обязанности жреца, что бывало не часто. Вы спросите меня про Ургуланиллу. Она никогда не появлялась в Капуе, да и в Риме мы почти не общались друг с другом. Она едва здоровалась со мной, когда мы встречались, и не обращала на меня никакого внимания, разве что при гостях, чтобы соблюсти приличия; спали мы порознь. Она, по-видимому, любила нашего сына Друзилла, но это ни в чем практически не выражалось: его растила моя мать, которая вела все хозяйство и никогда не прибегала к помощи Ургуланиллы. Мать относилась к Друзиллу как к собственному сыну, казалось, она постепенно забыла, кто на самом деле его родители. Я так и не смог заставить себя полюбить Друзилла; это был угрюмый, вялый, грубый ребенок, а мать так часто ругала меня при нем, что он стал относиться ко мне без всякого уважения.
Я не знаю, как Ургуланилла проводила свои дни, но не похоже было, что ей скучно, ела она с превеликим аппетитом и. насколько мне известно, не имела тайных любовных связей. У этого странного существа все же была одна страсть — Нумантина, миниатюрное белокурое воздушное создание, жена моего шурина Сильвана, которая когда-то сказала или сделала что-то (я ничего об этом не знаю), что проняло мою толстокожую жену и коснулось того, что служило ей сердцем. В будуаре Ургуланиллы висел портрет Нумантины в натуральную величину, и если у нее не было возможности любоваться самой Нумантиной, она, по-моему, сидела часами перед портретом, любуясь ее изображением. Когда я переехал в Капую, Ургуланилла осталась в Риме с моей матерью и Друзиллом.
Единственным недостатком Капуи для меня было отсутствие хорошей библиотеки. Правда, для книги, над которой я начал работать — «История Этрурии», — библиотека была не нужна. Я к этому времени сделал уже неплохие успехи в этрусском языке, и Арунт, у которого я каждый день проводил по нескольку часов, очень мне помог, разрешив пользоваться архивами своего полуразрушенного храма. Он рассказал мне, что он родился в тот самый день, когда на небе появилась комета, предвещавшая начало десятого — и последнего — цикла развития этрусской расы. Цикл для этрусков — это период, исчисляемый самой долгой жизнью, другими словами, цикл не кончается до смерти последнего человека, который был жив во время празднества по поводу окончания предыдущего цикла. Обычно цикл равняется ста годам с небольшим. Так вот, сейчас шел последний цикл, и когда он кончится, этрусский перестанет существовать как живой язык. Предсказание это, можно сказать, уже осуществилось, так как у Арунта не было преемника, а крестьяне-этруски даже дома говорили по-латински. Поэтому Арунт с радостью помогал мне писать «Историю этрусков», ведь я, как он сказал, воздвигал мавзолей традициям некогда великой нации. Я начал эту работу на второй год царствования Тиберия и закончил двадцать один год спустя. Я считаю ее своей лучшей работой, во всяком случае, трудился я над ней более чем усердно. Насколько мне известно, об этрусках не написано больше ни одной книги, а они были, поверьте мне, весьма интересным народом, так что, я думаю, будущие историки скажут мне спасибо.
Я взял с собой Каллона и Палланта и вел спокойную, размеренную жизнь. Меня занимало хозяйство на примыкавшей к вилле ферме, и я с удовольствием принимал у себя друзей, время от времени приезжавших ко мне отдохнуть. Со мной жила женщина, по имени Акте, профессиональная проститутка, честная и порядочная женщина. У нас не было ни одной размолвки за все пятнадцать лет, что мы прожили вместе. Мы заключили чисто деловой союз. Акте сознательно выбрала проституцию своей профессией, я хорошо ей платил, и она не позволяла себе никаких глупостей. В известном смысле мы даже питали нежность друг к другу. Наконец Акте сказала, что скопила достаточно денег и хочет оставить свою работу. Она выйдет за приличного человека, старого солдата, который был у нее на примете, поселится в одной из провинций и народит детей, пока еще не поздно. Ей всегда хотелось иметь полный дом детей. Поэтому я поцеловал ее на прощание и дал ей в приданое достаточно денег, чтобы она не испытывала никаких затруднений. Однако прежде чем уехать, Акте нашла себе преемницу, за которую могла поручиться, что та будет относиться ко мне хорошо. Она привела ко мне Кальпурнию, настолько на нее похожую, что, наверное, та была ее дочерью. Акте однажды упомянула, что у нее есть дочь, которую ей пришлось отдать на попечение чужих людей, потому что нельзя быть проституткой и матерью одновременно. Так вот, Акте вышла замуж за бывшего гвардейца, который прекрасно с ней обращался, и родила ему пятерых детей. Я до сих пор слежу за их семьей. Я упомянул об этом только потому, что мои читатели могли задать себе вопрос, какова была моя личная жизнь, если я жил врозь с Ургуланиллой. По-моему, для нормального человека долго обходиться без женщины неестественно, и поскольку Ургуланилла никак не годилась для роли жены, меня, я думаю, нельзя винить за то, что я жил с Акте. Между мной и Акте было своего рода соглашение, что пока мы вместе, ни один из нас не будет иметь дело ни с кем другим. Вызвано оно было не сентиментальными чувствами, а медицинской предосторожностью: в Риме было много венерических болезней — между прочим, еще одно роковое наследство Пунических войн.
Хочу, кстати, заявить, что я никогда, ни в один период жизни, не занимался гомосексуализмом. И не из выдвинутых Августом соображений, будто это мешает иметь детей, столь необходимых государству. Просто мне всегда было стыдно и противно смотреть, как взрослый мужчина, возможно судья и отец семейства, нежно сюсюкает с пухленьким размалеванным мальчиком в браслетах на руках и ногах или какой-нибудь убеленный сединами сенатор изображает Венеру перед высоченным Адонисом из гвардейцев-кавалеристов, который терпит старого дурака только потому, что у того есть деньги.
Когда я был вынужден бывать в Риме, я оставался там как можно меньше времени. Мне было не по себе в атмосфере Палатинского холма; вполне возможно, я чувствовал все растущий разлад между Тиберием и Ливией. Тиберий начал строить для себя огромный дворец на северо-западном склоне и еще до того, как закончили верхний этаж, переселился в нижние апартаменты, оставив дворец Августа в единоличное владение матери. Словно желая показать, что новый дворец Тиберия, хоть и в три раза больше старого, никогда не будет иметь такого же веса в глазах римлян, Ливия поместила в парадном зале великолепную статую Августа и хотела было — как верховная жрица его культа — пригласить всех сенаторов с женами на ритуальный пир. Но Тиберий сказал ей, что ему надо испросить согласие сената, это дело государственное, а не просто светское развлечение. Он так направил дебаты, что сенат постановил проводить празднество одновременно в двух местах: сенаторы во главе с Тиберием пировали в парадном зале, а их жены во главе с Ливией — в соседней большой комнате. Ливия проглотила обиду, сделав вид, что вовсе не обижается и все устроено разумно, согласно с тем, чего пожелал бы и сам Август, но приказала дворцовому повару сперва подавать кушанья женщинам, поэтому им достались лучшие куски и лучшие вина. Кроме того, она забрала для своего стола самые ценные золотые блюда и кубки. Так что Ливии удалось на этом пиру взять верх, и сенаторские жены хорошо позабавились за счет Тиберия и своих мужей.
Была и еще одна причина, по которой мне бывало не по себе, когда я приезжал в Рим, — я постоянно встречался с Сеяном. Мне было крайне неприятно общаться с ним, хотя он всегда бывал подчеркнуто любезен и ни разу не причинил мне явного зла. Меня удивляло, как человек с его лицом и манерами, низкорожденный, не прославленный воинской доблестью и даже не особенно богатый, мог добиться такого огромного успеха в Риме — он был сейчас второй по значению персоной после Тиберия — и такой популярности в гвардии. Его лицо — хитрое, жестокое, с неправильными чертами, на котором, правда, была написана своего рода животная храбрость и твердость характера, — не вызывало никакого доверия. Что удивляло меня еще больше: по слухам, несколько высокорожденных римлянок оспаривали друг у друга его любовь. Сеян плохо ладил с Кастором, что было вполне естественно, так как поговаривали, будто Сеян и Ливилла нашли между собой общий язык. Но Тиберий, по-видимому, полностью ему доверял.
Я уже упоминал о Брисеиде, старой вольноотпущеннице моей матери. Когда я сообщил ей, что уезжаю из Рима и поселяюсь в Капуе, она сказала, что будет сильно по мне скучать, но поступаю я разумно.
— Мне приснился про тебя странный сон, господин Клавдий, прошу прощения за дерзость. Ты был маленьким хромым мальчиком; в ваш дом залезли грабители и убили твоего отца, его родных и друзей, но маленький хромоножка вылез через окно в кладовой и заковылял в ближний лес. Он залез на дерево и стал ждать. Грабители вышли из дома и, усевшись под деревом, где он прятался, начали делить добычу. Вскоре они принялись ссориться из-за того, кому что достанется, один из них был убит, затем еще двое; оставшиеся стали пить вино, словно они снова друзья, но вино было отравлено одним из убитых грабителей, так что все они умерли в страшных мучениях. Хромоножка слез с дерева и собрал все сокровища; он нашел среди них много золота и драгоценных камней, украденных в других домах, но он все забрал себе и стал очень богат.
Я улыбнулся:
— Странный сон, Брисеида. Но мальчик остался хромым, и все это богатство не могло вернуть к жизни его отца и родных.
— Нет, голубок, но, возможно, он женился, и у него появилась своя семья. Так что выбери себе хорошее дерево, господин Клавдий, и не слезай с него, пока последний грабитель не умрет. Вот о чем мой сон.
— Я не слезу вниз даже тогда, когда ни одного из них не останется в живых, если мне это удастся, Брисеида. Мне не по вкусу ворованные вещи.
— Ты всегда можешь вернуть их владельцам, господин Клавдий.
В свете того, что случилось в дальнейшем, все это звучит весьма знаменательно, впрочем, я не очень верю снам. Афинодору однажды приснилось, что в лесу возле Рима в норе барсука лежит сокровище. Он нашел это место, хотя никогда раньше там не был, и в склоне холма действительно был ход, ведущий в нору. Афинодор нанял двух местных жителей, чтобы они разрыли землю и добрались до норы, но что, вы думаете, они нашли там? Сгнивший от времени кошелек, где лежало шесть позеленевших медных монеток — недостаточно даже, чтобы заплатить крестьянам за работу. А одному из моих арендаторов, хозяину лавки, однажды приснилось, будто над его головой кружится стая орлов, а затем один садится ему на плечо. Лавочник счел это предзнаменованием того, что он когда-нибудь станет императором, но случилось совсем другое — на следующий день к нему явился наряд гвардейцев (у них были орлы на щитах) и арестовал его за какое-то преступление, подлежащее рассмотрению военного суда.
Глава XVIII
16 г. н. э.
Однажды в летний полдень я сидел на каменной скамье позади конюшни у себя на вилле, обдумывая какую-то проблему этрусской истории и кидая кости — правая рука против левой — на грубом деревянном столе. Ко мне подошел какой-то человек в отрепьях и спросил, не я ли Тиберий Клавдий Друз Нерон Германик, сын Германика и племянник императора Тиберия; его направили сюда из Рима, сказал он.
— Мне поручили тебе кое-что передать. Я не знаю, насколько это важно, но я — старый солдат, служил еще у твоего отца, брожу с места на место, ищу работу, и, знаешь, как это бывает, я рад, когда у меня есть предлог пойти куда-то, а не просто куда глаза глядят.
— Кто дал тебе это поручение?
— Человек, которого я встретил в лесу возле мыса Коза. Странный малый. Одет он был, как раб, а говорил, как император. Высокий, крепко скроенный, молодой, но полумертвый от истощения.
— Как он себя назвал?
— Никак. Он сказал, когда я все тебе передам, ты и сам догадаешься, кто он, и очень удивишься, получив от него весть. Он заставил меня два раза повторить его слова — хотел убедиться, что я все правильно запомнил. Он велел сказать тебе, что он по-прежнему удит рыбу, но на одной рыбе долго не проживешь, и что ты должен передать это его шурину, и что если ему и посылали молоко, он его не получил, и что он хочет почитать книжечку, хотя бы в семь страниц. И чтобы ты ничего не делал, пока он снова не пришлет тебе весточку. Есть ли в этом смысл или этот парень не в своем уме?
Я не мог поверить своим ушам. Постум! Но ведь Постум мертв.
— У него выступающий подбородок, голубые глаза, и когда он задает вопрос, он склоняет голову набок, да?
— Точно так.
Я налил ему вина; руки у меня так тряслись, что половина пролилась. Затем, сделав знак подождать, вернулся в дом. Я нашел две простые, но крепкие тоги, нижнее белье, сандалии, две бритвы и мыло, потом взял первую попавшуюся под руку книгу — то оказался экземпляр последних речей Тиберия, обращенных к сенату, — и на седьмой странице написал молоком: «Какая радость! Я сразу же сообщу Г. Будь осторожен. Пришли за всем, что тебе нужно. Где я могу тебя увидеть? Приветствую тебя от всего сердца. Посылаю двадцать золотых — все, что у меня сейчас есть, но тот, кто спешит подарить, дары дарует двойные».
Когда бумага просохла, я дал солдату узел, куда завернул одежду, книгу и кошелек.
— Возьми эти тридцать золотых, — сказал я, — десять — тебе, двадцать — для человека в лесу. Принеси от него ответ, и ты получишь еще десять золотых. Но держи язык за зубами и возвращайся как можно быстрее.
— Не сомневайся, — сказал он. — Я тебя не подведу. Но что может помешать мне уйти совсем с этим узлом и всеми деньгами?
— Если бы ты был мошенником, ты не задал бы этот вопрос. Так что давай выпьем с тобой еще, и отправляйся.
Короче говоря, солдат ушел с деньгами и узлом и через несколько дней принес мне устный ответ от Постума: он благодарил меня за деньги и одежду, говорил, что не надо искать его, — где он, знает мать Крокодила, а зовут его теперь Пантер, и что он с нетерпением ждет, когда я передам ему ответ шурина. Я заплатил старому солдату десять золотых, которые обещал, и еще десять — за верность. Я понял, что Постум хотел сказать словами «мать Крокодила». Крокодил был старый вольноотпущенник Агриппы, которого мы звали так за его вялость, жадность и огромный рот. Его мать жила в Перузии, держала там гостиницу. Я хорошо знал это место. Я тут же написал Германику письмо, где сообщил ему свою новость: я отправил его с Паллантом в Рим и велел с ближайшей почтой переслать в Германию. В письме я сказал лишь, что Постум жив и прячется — я не сказал где, — и умолял Германика сразу же ответить мне, как только он получит письмо. Я ждал и ждал, но ответ не пришел. Я написал снова, подробнее, — по-прежнему никакого ответа. Я передал матери Крокодила, что Постуму от шурина пока ничего нет.
Больше я от Постума не получал никаких вестей. Он не хотел подвергать меня дальнейшей опасности, а имея деньги и возможность передвигаться с места на место без риска, что его арестуют, как беглого раба, он мог обойтись и без моей помощи. Кто-то в гостинице узнал его, и ему пришлось уехать оттуда, чтобы не искушать судьбу. Вскоре слух о том, что Постум жив, распространился по всей Италии. В Риме только об этом и говорили. Человек десять, не меньше, в том числе три сенатора, приехали ко мне из Рима, чтобы конфиденциально спросить, действительно ли это так. Я сказал, что сам я Постума не видел, но разговаривал с тем, кто с ним встречался, и у меня не осталось сомнений в том, о ком у нас шла речь. Я, в свою очередь, спросил их, что они намерены делать, если Постум придет в Рим и получит поддержку римских граждан. Но прямота моего вопроса смутила и испугала их, и ответа я не дождался.
Сообщали, что Постум побывал в нескольких небольших городках в окрестностях Рима, но, по-видимому, он остерегался появляться там до наступления темноты и всегда покидал их, переодетый, до рассвета. Его ни разу не видели в публичном месте, он ночевал в какой-нибудь гостинице и оставлял записку с благодарностью за приют, подписанную его настоящим именем. Наконец однажды Постум высадился с небольшого каботажного судна в Остии. В порту за несколько часов уже было известно об его прибытии, и когда он ступил на берег, его ждала торжественная встреча. Постум избрал Остию, потому что летом там стоял римский флот, которым в свое время командовал его отец Агриппа. На мачте его суденышка развевался зеленый вымпел — Август дал Агриппе (и его сыновьям после его смерти) право поднимать на море этот вымпел в честь победы Агриппы при Акции. Память Агриппы чтили в Остии чуть ли не больше, чем память Августа.
Жизнь Постума была в опасности, поскольку изгнания ему никто не отменял, и открытое появление в Италии ставило его вне закона. Теперь он коротко поблагодарил толпу за радушный прием. Он сказал, что если судьба будет милостива к нему и он снова завоюет уважение римского сената и народа, уважение, которого он лишился из-за лживых обвинений, выдвинутых против него врагами, — его дед, божественный Август, слишком поздно понял, насколько они лживы, — он сторицей воздаст гражданам Остии за их верность. До Ливии и Тиберия каким-то образом дошли слухи обо всем этом, и они послали в Остию роту гвардейцев с приказом арестовать Постума. Но у солдат не было никаких шансов справиться с толпой моряков. Ротный благоразумно даже и не пытался исполнить распоряжение; он велел двум своим людям переодеться моряками и не сыскать с Постума глаз. Но к тому времени, как они переоделись, Постум исчез, и они не смогли напасть на его след.
На следующий день в Риме было полно моряков; они пикетировали главные улицы и, когда встречали всадника, сенатора или какое-нибудь официальное лицо, спрашивали у них пароль. Пароль был «Нептун», и, если те его не знали, их заставляли под угрозой побоев три раза его повторить. Побоев никто не хотел, и вскоре всеобщие симпатии стали склоняться на сторону Постума. Если бы Германик произнес хоть одно поощрительное слово, весь город, включая гвардию и городские батальоны, тут же поднялся бы против Тиберия и Ливии. Но без одобрения Германика помощь Постуму означала бы гражданскую войну. А мало кто верил, что у Постума будут шансы победить, если ему придется сражаться с Германиком.
Положение было критическим, и тут тот самый Крисп, который за два года до этого возбудил недовольство Тиберия (но был прощен), убив на острове Клемента, вызвался искупить свою вину, захватив на этот раз Постума. Тиберий предоставил ему свободу действий. Крисп каким-то образом обнаружил, где находится штаб-квартира Постума, и, отправившись к нему с большой суммой денег якобы для того, чтобы Постум мог заплатить морякам, потерявшим два дня на пикетирование улиц, пообещал переманить на его сторону германских телохранителей, как только Постум подаст сигнал. Он уже хорошо «подмазал» их, сказал Крисп. Постум ему поверил. Они договорились о встрече в два часа после полуночи на углу определенной улицы, куда должны были сойтись также и моряки. Все вместе они пойдут ко дворцу Тиберия. Крисп прикажет телохранителям пропустить Постума. Тиберия, Кастора и Ливию арестуют, а Сеян, сказал Крисп, хотя и не участвует активно в заговоре, берется склонить гвардию к поддержке новой власти, как только будет нанесен первый успешный удар, — при условии, что он сохранит свой пост.
Моряки точно пришли к месту встречи, но Постум не появился. Улицы в это время были пустынны, и когда объединенные отряды германских телохранителей и отборных гвардейцев Сеяна внезапно напали на моряков — в большинстве своем пьяных и не построившихся в боевой порядок, — пароль «Нептун» потерял свою силу. Многие моряки были убиты на месте, еще больше — в то время, как они бежали с поля боя; говорят, спаслись лишь те, кто ни разу не остановился, пока не добрался до Остии. Крисп и двое солдат подстерегли Постума в узком переулке между его штаб-квартирой и местом встречи, оглушили, стукнув мешком с песком по голове, засунули в рот кляп, связали, положили на закрытые носилки и отнесли во дворец. На следующий день Тиберий сделал заявление сенату. Некий раб Постума Агриппы по имени Клемент, сказал он, вызвал в Риме напрасную тревогу, выдав себя за своего бывшего, ныне покойного, хозяина. Этот дерзкий субъект сбежал от всадника, купившего его при продаже имущества Постума, и прятался в лесу на побережье Тоскании, пока не отрастил бороду, скрывшую его срезанный подбородок — основное различие между ним и Постумом. Некоторые буяны моряки сделали вид, что поверили ему, но это был лишь предлог, чтобы отправиться в Рим и устроить там беспорядки. Сегодня они собрались перед рассветом на окраинах Рима, чтобы идти под предводительством Клемента в центр города, грабить там лавки и частные дома. Встретив сопротивление городской стражи, моряки разбежались, бросив своего вожака; тот уже казнен, так что сенаторам не о чем больше беспокоиться.
Позднее я слышал, что Тиберий сделал вид, будто не узнает Постума, когда того привели во дворец, и с усмешкой спросил его:
— Как это тебе повезло стать цезарем?
На что Постум отвечал:
— Так же, как и тебе, и в тот же самый день. Ты забыл?
Тиберий велел рабу ударить Постума по губам за дерзость, а затем его вздернули на дыбу и велели назвать своих сообщников. Но он лишь рассказывал скандальные истории из личной жизни Тиберия, настолько отвратительные и с такой массой подробностей, что Тиберий вышел из себя и своими огромными костлявыми кулаками превратил его лицо в лепешку. Солдаты закончили кровавую работу в подвалах дворца, обезглавив Постума и разрубив его тело на куски.
Что может быть печальнее, чем оплакивать убитого друга, причем убитого в конце долгого и незаслуженного изгнания, а затем, с радостью и изумлением услышав, что ему каким-то неведомым образом удалось перехитрить своих палачей, оплакивать его во второй раз — теперь уже без надежды на ошибку, так и не повидавшись с ним, предательски схваченным, подвергнутым пыткам и столь же позорно умерщвленным. Меня утешала лишь мысль, что, как только Германик обо всем этом услышит — а я сразу же ему напишу, — он прервет кампанию в Германии и, сняв с Рейна часть войск, пойдет маршем на Рим, чтобы отомстить Ливии и Тиберию за смерть Постума. Я написал, но не получил ответа; я снова написал, ответа по-прежнему не было. Но вскоре от Германика пришло длинное нежное письмо, где между прочим он с удивлением спрашивал, как Клементу удалось с таким успехом сыграть роль Постума — он просто не может себе это представить. Мне стало ясно, что ни то, ни другое из этих писем до него не дошло; в единственном, которое он получил, отосланном вместе со вторым из них, я писал о деталях одного дела, которым Германик просил меня заняться, и теперь он благодарил меня за сведения — это было именно то, что ему нужно. Меня охватил ужас: я понял, что Ливия или Тиберий перехватили остальные письма.
У меня всегда был слабый желудок, а страх перед ядом в каждом кушаний не делал его крепче. Я снова стал заикаться, и у меня начались приступы афазии — внезапной потери речи, что ставило меня в смешное положение: если приступ начинался в то время, как я говорил, я не мог закончить фразы. Самым неприятным в этом было то, что это мешало мне как следует исполнять обязанности жреца Августа, а до сих пор я ни у кого не вызывал нареканий. По заведенному с давних пор обычаю, если при жертвоприношении или другой службе в обряде допускается ошибка, все начинают с самого начала. А теперь часто случалось, что во время богослужения я сбивался, читая молитву, и, сам того не замечая, повторял несколько фраз два-три раза или брал в руки каменный нож для жертвоприношения, не посыпав голову жертвы ритуальной мукой и солью, — а это значило, что все надо было проделать заново. Было утомительно вновь и вновь возвращаться к началу церемонии, прежде чем доберешься без ошибки до конца, и верующие начинали беспокоиться. Наконец я написал Тиберию, бывшему великим понтификом, и попросил освободить меня на год от моих религиозных обязанностей по причине плохого здоровья. Он удовлетворил просьбу без всяких комментариев.
Глава XIX
16 г. н. э.
Третий год войны против германцев принес Германику еще больший успех, чем первые два. Он разработал новый план кампании, который позволял ему захватить противника врасплох и избавлял солдат от опасных и изнурительных переходов. Заключался он в следующем: построить на Рейне флот чуть не в тысячу транспортных судов, погрузить на них большую часть солдат и поплыть сначала по реке, затем через канал, который некогда прорыл наш отец, по голландским озерам и по морю до устья Эмса. Здесь Германик предполагал поставить суда на якорь у ближайшей отмели — все, за исключением нескольких, которые должны были служить в качестве наводного моста. Он собирался атаковать племена, жившие за Везером, речкой, текущей параллельно Эмсу, в пятидесяти милях за ним, на которой кое-где были броды. План этот осуществился до мельчайших подробностей.
Когда авангард достиг Везера, римляне обнаружили, что на противоположном берегу их поджидает Германн и несколько союзных вождей. Германн крикнул: «Кто вами командует — Германик?». Когда ему ответили «да», он спросил, не передадут ли Германику от него несколько слов, а именно: «Германн от всей души приветствует Германика и просит разрешения поговорить со своим братом». Речь шла о брате Германна, которого звали по-германски Голдкопф или наподобие этого; во всяком случае, имя его звучало так варварски, что его невозможно было передать латинскими буквами, — вроде того, как «Германна» мы превратили в «Арминия», а «Зигмира» — в «Сегимера», — поэтому его перевели на латынь, и Голдкопф стал зваться Флавием, что тоже значит «золотоголовый». Флавий много лет служил в римской армии и, еще находясь в Лионе во время разгрома Вара, заявил, что по-прежнему верен Риму, и отрекся от своего брата-предателя, оборвав с ним все семейные связи. На следующий год он храбро сражался в войсках Тиберия и Германика и потерял во время этой кампании глаз.
Германик спросил Флавия, хочет ли он побеседовать с братом. Флавий ответил, что особого желания он не имеет, но вдруг тот заявит о капитуляции. И вот братья принялись перекрикиваться через реку. Германн начал разговор по-германски, но Флавий сказал, что если он не станет говорить по-латыни, разговора не будет совсем. Германн не хотел говорить по-латыни, боясь, как бы другие вожди, не знавшие этого языка, не обвинили его в предательстве, а Флавий опасался того же со стороны римлян, не понимавших по-германски. Вместе с тем Германн хотел произвести впечатление на римлян, а Флавий — на германцев. Германн старался придерживаться родного, а Флавий — латинского языка, но по мере того, как они входили в раж, из обоих этих языков получилась такая чудовищная мешанина, что слушать братьев, писал мне Германик, было все равно что смотреть комедию. Цитирую по полученному от него письму.
Германн: «Привет, брат. Что с твоим лицом? Как тебя изуродовал этот шрам! Потерял глаз?»
Флавий: «Да, брат. Ты его случайно не подобрал? Я потерял его в тот день, когда ты стремглав ускакал из леса, заляпав щит грязью, чтобы Германик тебя не узнал».
Германн: «Ты ошибаешься, брат. Спутал меня с кем-то другим. Ты, верно, тогда опять напился. Ты вечно трясся от страха перед битвой, пока не вливал в себя хоть один галлон пива, и когда звучал боевой сигнал, тебя надо было привязывать к седлу».
Флавий: «Это, понятно, враки. Но уж если об этом зашла речь, что за мерзкое варварское пойло, это ваше германское пиво. Я никогда теперь его не пью, даже если в лагерь привозят груды бочек из захваченных деревень. Наши солдаты пьют его, только когда у них нет другого выхода; они говорят, оно все же лучше, чем болотная вода, отравленная трупами германцев».
Германн: «Да, мне тоже нравится римское вино. У меня еще осталось несколько сотен кувшинов из тех, что я захватил у Вара. Этим летом я пополню свои запасы, если Германик не будет начеку. Между прочим, какую ты получил награду за то, что лишился глаза?»
Флавий (важно): «Личную благодарность главнокомандующего и три награды, в том числе венец и цепь».
Германн: «Ха-ха! Цепь! Ты носишь се на лодыжках, ты — римский раб?»
Флавий: «Лучше быть рабом римлян, чем предателем по отношению к ним. Да, кстати, твоя милая Труснельда живет хорошо и твой мальчуган тоже. Когда ты придешь в Рим повидаться с ними?»
Германн: «В конце этой кампании, брат. Ха-ха!»
Флавий: «Ты хочешь сказать, когда тебя поведут во время триумфа за колесницей Германика и толпа станет забрасывать тебя тухлыми яйцами? Ну и посмеюсь же я!»
Германн: «Ты лучше посмейся заранее, потому что, не будь я Германн, если через три дня ты уже не сможешь смеяться! Но хватит болтать. У меня к тебе поручение от матери».
Флавий (тут же становясь серьезным и глубоко вздыхая): «Ах, моя милая, милая матушка! Что она поручила мне передать? Со мной ли все еще ее священное благословение, брат?»
Германы: «Брат, ты ранил нашу благородную, мудрую и плодовитую мать до глубины души. Ведь ты предал семью, племя и германскую расу. Она говорит, что если ты не одумаешься и не перейдешь немедленно на нашу сторону, чтобы командовать войском вместе со мной, она лишит тебя своего благословения и проклянет на веки веков».
Флавий (по-германски, разражаясь слезами ярости): «О, она не говорила этого. Германн! Она не могла этого сказать. Ты все придумал, чтобы сделать мне больно. Признайся, что это — ложь, Германн!»
Германн: «Она дает тебе два дня на размышление».
Флавий (своему конюху): «Эй, ты, образина, ты, свинья, где мой конь и оружие? Я плыву на тот берег, буду сражаться с братом. Германн, подлый негодяй! Готовься к бою!»
Германн: «Что ж, я готов, ты, одноглазый пожиратель бобов, ты, раб!»
Флавий вскочил на коня и уже собирался войти в реку, как римский полковник схватил его за ногу и стащил с седла: он понимал по-германски и знал, с каким нелепым почтением германцы относятся к матерям и женам. А вдруг Флавий на самом деле дезертирует? Поэтому он стал уговаривать Флавия не обращать внимания на Гepманна и его враки. Но Флавий, хоть умри, хотел оставить за собой последнее слово. Он вытер глаз и крикнул: «Я видел твоего тестя на прошлой неделе. У него славное поместье возле Лиона. Он сказал мне, что Труснельда приехала к нему потому, что посчитала позорным быть женой человека, который нарушил торжественную клятву Риму и предал друга, за чьим столом он ел. Она сказала, что единственный способ вернуть ее уважение — не пускать в ход оружие, которое она дала тебе на свадьбе, против своих закадычных друзей. До сих пор она оставалась верна тебе, но если ты не образумишься, этому придет конец».
Наступил черед Германца рыдать, и бушевать, и обвинять Флавия во лжи. Германик назначил офицера, чтобы тот не спускал с Флавия глаз во время следующей битвы и при малейшем намеке на измену заколол бы его.
Германик писал редко, но если писал, письма его были длинные и он сообщал в них обо всех интересных и занимательных вещах, которые находил не совсем уместными для своих официальных отчетов Тиберию. Я жил этими письмами. Я ничуть не волновался за брата, когда он сражался с германцами: он вел себя с уверенностью опытного пасечника, который смело подходит к улью и вынимает соты, и пчелы почему-то его не жалят, как ужалили бы меня или вас. Через два дня после того, как римляне перешли вброд Везер, произошла решающая битва с Германном. Меня всегда интересовали речи перед битвой — ничто не проливает такой свет на характер военачальника. Германик не обращался к солдатам с горячими призывами, как опытный оратор, не развлекал их непристойными шутками, как Юлий Цезарь. Говорил он всегда очень серьезно, точно и по-деловому. В этот раз он повел речь о том, что он думает о германцах. Он сказал, что они не солдаты. У них есть показная храбрость, и они неплохо воюют всем скопом, как дикие быки, у них есть своего рода животная хитрость, поэтому не следует, сражаясь с ними, пренебрегать обычными мерами предосторожности. Но после первой яростной атаки они устают, они не знакомы с дисциплиной в истинном, военном значении этого слова, им известно лишь чувство соперничества. Вожди не могут рассчитывать на то, что воины сделают то, чего от них требуют: они делают или слишком много, или недостаточно. «Германцы, — сказал он, — самая наглая и хвастливая нация в мире, когда все идет хорошо, но стоит им потерпеть поражение, как они становятся трусливыми и жалкими. Остерегайтесь показывать германцу спину, но не бойтесь его, пока стоите с ним лицом к лицу. И это все, что о них стоит сказать, за исключением последнего: завтра сражаться нам придется вон в том лесу; судя по всему, врагов будет так много, что у них не хватит места для маневрирования. Нападайте, не обращая внимания на ассагаи, старайтесь драться врукопашную. Метьте им в лицо, они этого не любят больше всего».
Германн тщательно выбрал поле боя: сужающуюся лощину между Везером и грядой лесистых гор. Он хотел драться в узком конце лощины, где за спиной у него был большой лес из берез и дубов, справа — река, слева — горы. Германцы разделились на три отряда. Первый из них — молодые воины из местных племен, вооруженные ассагаями, — должен был выступить против передовых римских полков, которые, возможно, будут состоять из французов, и отбросить их. Затем, когда подойдут римские подкрепления, первый отряд выйдет из боя и сделает вид, будто они в панике спасаются бегством. Римляне будут преследовать их до гор, и тут второй отряд, состоящий из соплеменников Германца, кинется на них из засады на склоне и атакует их фланги. Это вызовет среди римлян переполох, и тогда на поле боя вернется первый отряд, а следом за ним — третий, опытные взрослые воины из местных племен, и они загонят римлян в реку. Тем временем из-за гор примчатся германские конники и добьют противника с тыла.
Это был бы хороший план, если бы Германн командовал дисциплинированной армией. Но все расстроилось самым смехотворным образом. Германик приказал войскам идти в следящем порядке: сперва два полка французской тяжелой пехоты со стороны реки и два вспомогательных германских полка со стороны гор, затем пешие лучники, затем четыре регулярных полка, затем Германик с двумя гвардейскими батальонами и регулярная кавалерия, затем еще четыре регулярных полка, затем французские конные лучники и французская легкая пехота. Когда у горных отрогов показались германские вспомогательные отряды, Германн, наблюдавший за тем, как разворачиваются события, с верхушки сосны, вскричал, обращаясь к племяннику, который стоял внизу, дожидаясь приказаний: «Вон идет мой брат-предатель! Он не должен выйти живым из этой битвы!» Глупый племянник выскочил вперед и с криком «Германн приказал немедленно начать атаку!» кинулся вниз, в лощину, с половиной племени. Германну с трудом удалось задержать остальных. Германик тут же выслал навстречу им регулярную кавалерию с приказом напасть на дурней с фланга прежде, чем они доберутся до солдат Флавия, и французских конных лучников, чтобы те отрезали им путь к отступлению.
Тем временем от леса наступал первый отряд германцев, но на их пути оказались соплеменники Германца под предводительством его племянника, отброшенные назад атакой римской кавалерии; поддавшись панике, местные воины тоже обратились в бегство. Третий отряд германцев, где были сосредоточены главные силы, вышел из леса, ожидая, что те остановятся и подернут на врага, согласно первоначальному плану. Но отступающие думали об одном: как уберечься от кавалерии — и продолжали бежать навстречу своим. И тут у римлян взыграло сердце — восемь орлов, вспугнутые вылазкой германцев, с громкими криками поднявшись над лощиной, все вместе устремились к лесу. Какое еще нужно было предзнаменование?! «За орлами! За римскими орлами!» — вскричал Германик. И вся армия подхватила его крик. Между тем Германн пошел в наступление и, захватив пеших лучников врасплох, нанес им довольно большой урон, но замыкающий полк французской пехоты развернулся и пришел лучникам на помощь. Армия Германна, состоявшая из пятнадцати тысяч человек, могла бы еще выиграть битву, разгромив французскую пехоту и тем самым вбив грозный клин между римским авангардом и основными силами. Но германцев слепило солнце, отражавшееся от оружия, нагрудников, шлемов и щитов наступавшей ряд за рядом регулярной римской пехоты, и они дрогнули. Большинство бросилось обратно к горам. Германн собрал тысячи две воинов, но этого было недостаточно, а тут как раз подоспели два эскадрона регулярной кавалерии и, атаковав бегущих германцев, помешали Германну отвести их в горы. Как он сам выбрался оттуда — никто не знает, но говорили, будто он поскакал к лесу и нагнал вспомогательный германский отряд, который шел в атаку. Тогда он закричал: «Посторонитесь, вы, быдло! Я — Германн!» Никто не осмелился его убить, ведь он был братом Флавия, а Флавий будет обязан во имя фамильной чести отомстить за его смерть.
Битва превратилась в резню. Основные силы германцев были охвачены с флангов и оттеснены к Везеру; многие сумели его переплыть, но далеко не все. Германик направил второй ряд регулярной пехоты развернутым строем в лес, и те прикончили местных воинов, скрывавшихся там в слабой надежде, что ход битвы внезапно переломится в их пользу. (Лучники хорошо поразвлекались, сбивая вниз германцев, которые забрались на самые верхушки деревьев и прятались в их листве). Всякое сопротивление прекратилось. Бойня продолжалась с девяти часов утра до семи вечера, когда уже начало темнеть. На десять миль вокруг поля битвы по лесам и лощинам валялись трупы германцев. Среди пленных была мать Германна и Флавия. Она молила оставить ей жизнь, говоря, что всегда пыталась убедить Германна прекратить тщетное сопротивление римским завоевателям. Так что верность Флавия Риму была гарантирована.
Месяц спустя произошла еще одна битва в густом лесу на берегах Эльбы. Германн выбрал место для засады и расположил свои силы в определенном боевом порядке, что вполне могло привести его к успеху, если бы Германик не узнал обо всем этом от перебежчиков за несколько часов до боя. Теперь же не римлян прижали к реке, а германцев вытеснили из леса, где их было так много, что они не могли применить свою обычную тактику: напасть из-за угла, а затем спастись бегством. Их загнали в окружавшее лес болото, и там тысячи из них утонули, воя от ярости и отчаяния. Германн, который был ранен стрелой в предыдущей битве, не мог на этот раз быть в первых рядах. Но он продолжал упорно сражаться и, встретив случайно в лесу Флавия, пронзил его ассагаем. Германну повезло, и он благополучно пересек болото, на удивление ловко прыгая с кочки на кочку.
Германик велел свалить в одну огромно груду все захваченное у врага оружие и поместил на трофей следующую надпись: «Покорив племена между Рейном и Эльбой, армия Тиберия Цезаря посвящает этот памятник их победы Марсу, Юпитеру и Августу». Ни слова о себе. В этих двух битвах потери Германика не превышали двух с половиной тысяч человек убитыми и серьезно раненными. Германцы потеряли, должно быть, не меньше двадцати пяти тысяч.
Германик решил, что за этот год сделано достаточно, и отправил солдат обратно на Рейн, часть — сушей, часть — на транспортных судах. И тут произошло несчастье: не успели суда сняться с якоря, как внезапно с юго-запада налетел шторм и разбросал суда по всем направлениям. Многие из них пошли ко дну, устья Везера достиг лишь тот корабль, на котором был сам Германик. Брат жестоко упрекал себя за потерю целой римской армии, называл себя вторым Варом и хотел прыгнуть в море, чтобы присоединиться к мертвецам. Друзья с трудом удержали его. Однако спустя несколько дней ветер переменился, и суда стали возвращаться одно за другим, почти все без весел, некоторые с парусами из плащей; менее пострадавшие суда по очереди тащили на буксире те, которые с трудом держались на плаву.
Германик немедленно приказал чинить поврежденные суда, а из тех, что были в лучшем состоянии, отправил, сколько мог, к близлежащим необитаемым островам на поиски уцелевших солдат. Их нашли не так мало, но все они были полумертвые от голода и выжили лишь благодаря моллюскам и мясу выкинутых волнами на берег дохлых лошадей. Многие сами пришли вдоль берега Рейна из более отдаленных мест, где заключившие не так давно союз с Римом местные жители отнеслись к ним с большим почтением. Около двадцати судов было прислано обратно царьками Кента и Сассекса — со времени завоевания Британии Юлием Цезарем за семьдесят лет до того она платила Риму номинальную дань. В результате Германик не досчитался всего четверти своих людей; около двухсот из них попали в рабство — их обнаружили годы спустя в юго-западной части Британии и освободили из оловянных рудников, где их принудили работать.
Когда германцы впервые услышали о гибели римского флота, они решили, что их боги отомстили за них. Они опрокинули трофейную пирамиду и даже начали толковать о походе на Рейн. Но Германик нанес им неожиданный удар: он отправил шестьдесят пехотных батальонов и сто кавалерийских эскадронов против племен в верховьях Везера, а сам с восемьюдесятью батальонами и второй сотней кавалерийских эскадронов пошел походом против племен, живущих между нижним Рейном и Эмсом. Обе операции увенчались успехом и, что было важнее, чем уничтожение многих тысяч германцев, — в подземном храме в лесу был найден орел Двадцать шестого полка и с триумфом оттуда унесен. Теперь лишь один орел — Двадцать пятого полка — оставался в руках германцев, и Германик обещал солдатам, что на следующий год, если он по-прежнему будет командующим, они вызволят и его. А пока что он отправил войска обратно на зимние квартиры.
И тут Тиберий прислал письмо, настоятельно предлагая Германику возвратиться домой и отпраздновать назначенный ему триумф — он сделал вполне достаточно. Германик ответил, что не успокоится, пока не сломит полностью сопротивление германцев, для чего теперь нужно всего несколько сражений, и не вернет третьего орла. Тиберий написал ему, что для Рима такое количество убитых и тяжелораненых слишком велико, даже если это является ценой блестящих побед; он не подвергает сомнению полководческий талант Германика, в битвах Германик потерял совсем немного людей, но потери между битвами и во время шторма равняются двум полкам, а это больше, чем Рим может допустить. Тиберий напомнил Германику, что его самого Август девять раз отправлял в Германию и он знает, о чем говорит. А его мнение таково: смерть десяти германцев не стоит жизни одного римлянина. Германия похожа на гидру: чем больше голов отрубишь, тем больше новых вырастет. Лучший способ управлять германцами — играть на межплеменных междоусобицах и раздувать войну между вождями соседних племен, пусть убивают друг друга без посторонней помощи. Германик написал еще одно письмо, умоляя дать ему всего лишь год для окончательного разгрома германцев, но Тиберии отвечал, что Германик нужен в Риме в качестве консула, к тому же — здесь Тиберий затронул его самую чувствительную струну — Германик не должен забывать о своем названом брате Касторе. Германия сейчас единственная страна, где ведутся серьезные боевые действия, и если Германик обязательно хочет сам закончить германскую войну, у Кастора не останется никаких шансов получить триумф или звание главнокомандующего. Больше Германик не настаивал; желание Тиберия — для него закон, ответил брат, как только ему будет обеспечена смена, он вернется. Германик прибыл в Рим ранней весной и отпраздновал свой триумф. Все население вышло за пределы города, чтобы приветствовать его.
17 г. н. э.
В ознаменование возвращения орлов возле храма Сатурну была воздвигнута огромная арка, и триумфальное шествие прошло под ней. Ехали повозки, доверху груженные добром из германских храмов, вражескими щитами и оружием; на других были яркие изображения боевых схваток или германских речных и горных богов, повергнутых римскими солдатами. В одной повозке везли Труснельду с сыном, на шеях у них была узда; за повозкой следовала длинная вереница германских пленных в путах. Германик в лавровом венке ехал на колеснице, рядом с ним сидела Агриппина, позади все пятеро детей — Нерон, Друз, Калигула, Агриппинилла и Друзилла. Со времени триумфа Августа после победы при Акции ни одного полководца не приветствовали с таким пылом.
Но меня там не было. А был я — можете себе представить? — в Карфагене. За месяц до возвращения Германика я получил от Ливии записку, где мне предписывалось подготовиться к поездке в Африку. В Карфагене нужен член императорской фамилии, чтобы освятить новый храм, посвященный Августу, и я единственный, кто может выполнить этот долг и без кого здесь, в Риме, могут обойтись. Меня научат, как держать себя и как провести всю церемонию, и она надеется, что я не выставлю себя в глупом свете, пусть даже перед африканцами. Я сразу догадался, почему меня отсылают из Рима. Ехать сейчас не было никакой надобности, так как храм будет достроен не раньше чем месяца через три. Меня убирали с дороги. Пока Германик будет в Риме, мне не разрешат вернуться, а все письма домой будут просматриваться. Поэтому мне так и не удалось передать Германику все, что я так долго для него копил. Германик же сразу поговорил с Тиберием, как и намеревался. Он сказал, что, по имеющимся у него сведениям, изгнание Постума явилось следствием жестокого заговора, организованного Ливией, — у него есть тому неопровержимые доказательств. Ливию необходимо удалить от государственных дел. Как бы дурно ни вел себя впоследствии Постум, это не оправдывает ее поступков. Вполне естественно, что Постум пытался избавиться от незаслуженной ссылки. Тиберий сделал вид, будто поражен его обличениями, но сказал, что не может пойти на публичный скандал, выставив на позор родную мать; лучше он предъявит ей обвинения с глазу на глаз, а затем постепенно лишит власти.
На самом деле он пошел к Ливии и передал ей слово в слово все, услышанное от Германика, добавив, что Германик — легковерный дурачок, но принимает все это так близко к сердцу и так популярен в Риме и армии, что, пожалуй, Ливии есть смысл убедить его в своей невиновности, если только она не сочтет это ниже собственного достоинства. Тиберий добавил, что отправит Германика куда-нибудь, как только сможет, скорее всего — на Восток, и снова поднимет в сенате вопрос о присуждении ей титула «Мать отчизны», которого она, бесспорно, заслуживает. Ливия, довольная тем, что он по-прежнему боится ее, раз все ей рассказал, назвала его послушным сыном. Она поклялась, что не возводила напраслины на Постума: вероятно, эта история — выдумка Агриппины, которой Германик слепо верит и которая подбивает его узурпировать единоличную власть. Агриппина, без сомнения, задалась целью, сказала Ливия, поссорить Тиберия с его любящей матерью. Тиберий, обняв ее, отвечал, что, хотя между ними и могут быть случайные размолвки, ничто не разорвет связующих их уз. Ливия ответила вздохом: она постарела — ей было далеко за семьдесят — и стала понемногу уставать от своих трудов; может быть, он освободит ее от самой утомительной части работы и будет лишь советоваться по таким важным вопросам, как назначения на должность и декреты? Она даже не обидится, если он перестанет ставить ее имя перед своим на официальных документах; она не хочет, чтобы в Риме говорили, будто она им командует. Однако чем скорее он убедит сенат дать ей титул «Мать отчизны», тем большую радость ей доставит. Внешне они пришли к полному согласию, но ни один не доверял другому.
Тиберий, бывший в то время консулом, назначил Германика вторым консулом и сказал, что уговорил Ливию удалиться от государственных дел, хотя для проформы он по-прежнему будет с ней советоваться. По-видимому, это удовлетворило Германика. Но Тиберию было не по себе. Агриппина с ним почти не разговаривала, и, зная, что они с Германиком во всем единодушны, Тиберий не верил в их преданность. К тому же то, что происходило в Риме, человеку с таким характером, как у Германика, вряд ли могло прийтись по вкусу. Прежде всего — доносы. Поскольку Ливия не давала Тиберию доступа к секретным уголовным досье и не желала делиться с ним контролем над весьма действенной системой тайных агентов (у Ливии был платный агент почти в каждой влиятельной семье и почти в каждом важном учреждении), ему пришлось прибегнуть к иному методу. Тиберий издал указ, что в том случае, если кто-либо будет найден виновным в заговоре против империи или богохульстве по отношению к божественному Августу, его имущество будет конфисковано и разделено между обвинителями. Участие в заговоре против государства было доказать труднее, чем богохульство по отношению к Августу. Первое дело о богохульстве было возбуждено против шутника, молодого лавочника, который случайно оказался рядом с Тиберием на рыночной площади, когда там проходила похоронная процессия. Лавочник выскочил вперед и шепнул что-то на ухо покойнику. Тиберий пожелал узнать, что он сказал. Лавочник объяснил: он просил мертвеца передать Августу, когда встретит его на том свете, что деньги, отказанные римлянам по завещанию, до сих пор не выплачены. Тиберий приказал арестовать и казнить лавочника за то, что тот говорил об Августе как о простом духе, а не о бессмертном божестве, и добавил, что отправляет его на тот свет, чтобы он убедился в своей ошибке. (Месяц или два спустя, между прочим, он полностью выплатил оставленные Августом деньги). В данном случае у Тиберия было какое-то оправдание, но позднее людей привлекали к суду и выносили смертный приговор за самые безобидные замечания, якобы оскверняющие имя Августа.
16 г. н. э.
Возник целый класс профессиональных доносителей, на которых можно было рассчитывать, что они возбудят дело против любого человека, вызвавшего недовольство Тиберия, — стоило лишь указать. Благодаря этому уголовные досье, где речь шла о настоящем преступнике, оказались ненужными. Посредником между Тиберием и этими негодяями был Сеян. За год до возвращения Германика Тиберий напустил доносителей на юношу по имени Либон, который был правнуком Помпея и двоюродным братом Агриппины через их бабку Скрибонию. Сеян предупредил Тиберия, что Либон для него опасен — он не раз непочтительно отзывался о нем. Но в то время Тиберий был еще осторожен и не решался включать непочтительность к своей особе в число государственных преступлений, поэтому ему пришлось придумать другую вину. Так вот, чтобы скрыть собственную связь с Фрасиллом, Тиберий изгнал из Рима почти всех астрологов, магов, предсказателей и толкователей снов и запретил обращаться к тем из них, которые под шумок остались (кое-кто — с молчаливого согласия Тиберия, при условии, что они будут принимать своих клиентов в присутствии императорского агента, спрятанного в комнате). Один сенатор, оказавшийся профессиональным доносителем, убедил Либона посетить одну из этих ловушек, чтобы узнать, какая его ждет судьба. Сидевший в засаде агент записал все его вопросы. Сами по себе они были вполне невинны, только глупы: Либон хотел знать, насколько он разбогатеет и будет ли когда-нибудь занимать в Риме руководящий пост и тому подобное. Но на суде был предъявлен подложный документ, якобы найденный рабами у него в спальне и написанный его собственной рукой — список имен всех членов императорской фамилии и ведущих сенаторов, где против каждого имени стояли халдейские и египетские литеры. За посещение мага полагалось изгнание, но за занятие магией полагалась смерть. Либон отрицал, что документы эти написаны им, а показаний рабов, даже под пытками, было недостаточно, чтобы его осудить (свидетельство рабов принималось в расчет лишь в том случае, если кто-то обвинялся в кровосмешении). Показаний вольноотпущенников Либона вообще не было, так как ни уговорами, ни угрозами их не смогли заставить свидетельствовать против него, а ни одного вольноотпущенника нельзя подвергать пыткам, чтобы вырвать у него признание. Однако Тиберий по совету Сеяна провел через сенат постановление, что в случае, если кого-либо обвиняют в преступлении, караемом смертной казнью, его рабы могут быть куплены за соответствующую цену городским казначеем и тем самым получат право давать показания. Либон, не найдя себе адвоката, у которого хватило бы смелости его защищать, понял, что попал в западню, и попросил отложить суд до следующего дня. Когда просьба его была удовлетворена, он пошел домой и покончил с собой. Несмотря на это, сенат разбирал его дело по всей форме, словно Либон был жив, и признал его виновным во всех приписанных ему преступлениях. Тиберии посетовал, что глупый юноша наложил на себя руки, — он собирался ходатайствовать о том, чтобы ему даровали жизнь. Имущество Либона разделили между его обвинителями, в числе которых было четыре сенатора. Такой позорный фарс был невозможен в правление Августа, но при Тиберии его разыгрывали с вариациями вновь и вновь. Лишь один сенатор выразил публичный протест: это был некий Кальпурний Пизон. Он встал во время заседания сената и сказал, что ему так претит атмосфера политических интриг в городе, коррупция правосудия и позорные спектакли, где его собратья-сенаторы играют роль платных доносителей, что он навсегда покидает Рим и поселяется в деревне в отдаленной части Италии. Сказав это, он вышел из зала заседаний. Речь его произвела на сенат большой эффект. Тиберий послал за ним и, когда тот вернулся, сказал ему, что, если в сенате в том или ином случае нарушается правосудие, любой сенатор волен указать на это в отведенное на то время. Тиберий добавил, что политические интриги — вещь неизбежная в столице величайшей империи, когда-либо известной миру. Неужели Кальпурний хочет сказать, что сенаторы не стали бы выдвигать свои обвинения, если бы не надеялись на награду? Он, Тиберий, восхищается искренностью и независимостью Кальпурния и завидует его талантам, но не лучше ли будет употребить эти благородные качества для исправления общественной и политической морали в Риме, чем погребать их в какой-нибудь жалкой деревушке в Апеннинах среди пастухов и бандитов? Так что Кальпурнию пришлось остаться. Вскоре он проявил на деле свою искренность и независимость, вызвав старую Ургуланию в суд за неуплату большой суммы денег, которую она была ему должна за картины и статуи, — у Кальпурния умерла сестра, и ее имущество пошло в распродажу. Ургулания прочитала бумагу, где ей предписывалось немедленно явиться в суд должников, и велела нести себя во дворец Ливии. Кальпурний отправился следом за ней; в вестибюле его встретила Ливия и приказала удалиться. Кальпурний вежливо и твердо отказался, сказав, что Ургулания обязана явиться на разбор дела, если только она не больна, а она, и это всем ясно, совершенно здорова. Даже весталки не освобождены от явки в суд, если их туда вызывают. Ливия заявила, что его поведение оскорбительно для нее и что ее сын, император, сумеет за нее отомстить. Послали за Тиберием; он попытался восстановить мир, сказав Кальпурнию, что Ургулания, конечно же, намеревалась прийти, как только успокоится после потрясения, которое вызвано вызовом в суд, и сказав Ливии, что она ошибается — Кальпурний вовсе не хочет выказывать ей неуважение; он, Тиберий, сам будет присутствовать на слушании дела и проследит, чтобы у Ургулании был хороший адвокат и разбирательство шло по всем правилам. Тиберий ушел из дворца вместе с Кальпурнием, направившимся в суд, болтая о всяких мелочах. Друзья Кальпурния пытались уговорить его отказаться от обвинения, но он отвечал, что он — человек старомодный и любит, чтобы ему отдавали то, что должны. Суд так и не состоялся. Ливия отправила вслед Кальпурнию и Тиберию верхового, в переметных сумах которого была вся сумма в золотых монетах; он нагнал их до того, как они подошли к дверям суда.
Но, возвращаясь к доносителям и к тому развращающему воздействию, которое они оказывали на жизнь в Риме, а также к коррупции суда, я как раз хотел написать, что, пока Германик был в Риме, не слушалось ни одного дела о богохульстве по отношению к Августу или о заговоре против государства; доносчикам было велено помалкивать. Тиберий вел себя безукоризненно, его речи в сенате были образцами чистосердечия. Сеян ушел на задний план. Фрасилла переселили из Рима под кров виллы Тиберия на Капри, казалось, что у Тиберия есть лишь один близкий друг — Нерва, к которому он все время обращается за советом.
Кастора я так и не смог полюбить. Это был жестокий, распутный, необузданный человек, к тому же сквернослов. Его натура яснее всего проявлялась во время гладиаторских боев: ему доставлял удовольствие вид крови, а не ловкость участников. Но я должен сказать, что с Германиком он вел себя благородно и, казалось, делался совсем другим в его обществе. Городские фракции пытались выставить их обоих в весьма неприятной роли соперников, оспаривающих друг у друга престол, но ни Германик, ни Кастор ничем не подтвердили, что такой взгляд на них имеет какие-то основания. Кастор относился к Германику с той же братской симпатией и уважением, что и Германик к нему. Кастор не то чтобы был труслив, но я бы назвал его скорее политиком, чем воином. Когда Кастора послали за Дунай по просьбе племен восточной Германии, ведущих кровавую оборонительную войну с союзом западных племен, возглавляемых Германном, он сумел, благодаря умным, хотя и неблаговидным действиям, вовлечь в войну богемские и баварские племена. Он проводил в жизнь политику Тиберия, способствуя тому, чтобы германцы истребляли друг друга. Маробод[88] («тот, кто ходит по дну озера»), царь-жрец восточных германцев, убегая от врагов, попросил убежища в лагере Кастора. Ему предоставили приют в Италии, и, так как восточные германцы поклялись в верности Риму на вечные времена, Маробод в течение восемнадцати лет оставался заложником, гарантирующим их хорошее поведение. Эти восточные германцы были куда более свирепыми и сильными, чем западные, и Германику повезло, что ему не пришлось с ними воевать. Но Маробод завидовал Германцу, ставшему после победы над Варом в Тевтобургском лесу национальным героем, и, чтобы сорвать его планы и не дать ему осуществить честолюбивую цель сделаться верховным вождем всех германцев, отказался помочь ему в кампании против Германика хотя бы отвлекающим ударом на другом фронте.
Я часто думал о Германне. Он был в своем роде выдающийся человек, и хотя трудно забыть о его предательстве по отношению к Вару, Вар сделал немало, чтобы спровоцировать мятеж, а Германн и его соратники, безусловно, сражались за свободу. Германцы искренне презирали римлян. Они не понимали, чем положение солдат при жесткой дисциплине, которая была в римской армии под началом Вара, Тиберия да и любого другого военачальника, кроме моего отца и брата, отличается от обыкновенного рабства. Они были поражены, узнав о дисциплинарных порках, и считали позорным платить солдатам за каждый день службы, вместо того, чтобы привлекать их в армию, обещая добычу и славу. Германцы всегда отличались целомудрием, а римские офицеры открыто предавались таким порокам, за которые в Германии, будь это обнаружено, что случалось крайне редко, обоих преступников утопили бы в болоте — узаконенное обычаем наказание. Что касается их трусости, то все варвары трусы. Вот когда германцы сделаются цивилизованными людьми, мы сможем судить, трусливы они или нет. Однако они кажутся мне на редкость невыдержанными и задиристыми, и я пока не могу решить, есть ли у них какой-нибудь шанс стать действительно цивилизованными в ближайшем будущем. Германик считал, что ни малейшего. Оправдана ли его политика уничтожения (обычно Рим не придерживался такой политики, имея дело с пограничными племенами) или нет, зависит от ответа на этот вопрос. Конечно, захваченных орлов надо было вернуть, и Германн, опустошая провинцию после победы над Варом, не проявлял милосердия, а Германик, самый мягкий и гуманный человек, какого я знал, так ненавидел всеобщую резню, что, должно быть, имел достаточные основания, если пошел на нее.
Германн погиб в бою. Когда Маробод был вынужден бежать из страны, Германн решил, что теперь ничто не помешает его единовластному владычеству над германскими племенами. Но он ошибся, он не сумел единолично властвовать даже в своем племени. Это было свободное племя, и вождь не имел права командовать соплеменниками — в его власти было лишь руководить, советовать и убеждать. Однажды, год или два спустя, Германн попробовал издать «царские» указы. Его родичи, до тех пор всецело преданные ему, были так возмущены, что, даже не сговариваясь, накинулись на него с оружием в руках и разрубили на куски. Когда он умер, Германну было тридцать семь лет; он родился за год до Германика, своего смертельного врага.
Глава XX
18 г. н. э.
Я провел в Карфагене около года. (Это был тот самый год, когда умер Ливий; умер он в Падуе, столь милой его сердцу). Старый Карфаген был стерт с лица земли, и на юго-востоке полуострова Август построил новый город, которому было суждено стать главным городом Африки. Я впервые с детских лет покинул пределы Италии. Климат здесь показался мне очень тяжелым, местные жители — дикими, больными и измученными работой, живущие тут римляне — скучными, сварливыми, корыстными и отставшими от времени, тучи неизвестных мне насекомых — устрашающими. Больше всего меня угнетало отсутствие лесов. В Триполи вы видите или ровные ряды посадок — фиг и оливок — и пшеничные поля, или голую, каменистую, поросшую колючими кустарниками пустыню. Я остановился в доме губернатора, того самого Фурия Камилла, дяди моей дорогой Камиллы, о котором я уже писал. Он был очень мил со мной. Чуть ли не при первой нашей встрече он сказал мне, как ему пригодилась во время балканской кампании моя «Балканская сводка», — я так удачно подобрал материал, меня, конечно же, наградили за нее. Фурий сделал все возможное, чтобы церемония посвящения прошла с успехом и чтобы жители провинции относились ко мне так, как того требовал мой ранг. Не щадя сил и времени, он показывал мне достопримечательности. Город успешно торговал с Римом, экспортируя не только огромное количество зерна и оливкового масла, но и рабов, пурпур, губки, золото, слоновую кость, черное дерево и диких зверей для травли в цирках. Однако мне почти нечем было занять свой досуг, и Фурий предложил мне, пока я там нахожусь, собрать материал для книги по истории Карфагена — это может представить для меня интерес. В библиотеках Рима не найдешь такой книги. К нему в руки недавно попали архивы старого Карфагена — их нашли местные жители в развалинах здания, где они рылись в поисках спрятанных сокровищ, — если я захочу ими воспользоваться, они мои. Я сказал Фурию, что совсем не владею финикийским, но он пообещал, если меня эта работа заинтересует, приказать одному из его вольноотпущенников перевести наиболее важные документы на греческий язык.
Мысль написать историю Карфагена пришлась мне по душе, я чувствовал, что историки не отдали должного карфагенянам. В свободные часы я стал с помощью современных методов изучать руины старого города, а также знакомиться с географией всей страны. Я получил достаточное представление об основах языка, чтобы быть в состоянии прочитать простые надписи и понять те немногие финикийские слова, которые встречались у римских авторов в трактатах о Пунических войнах. Когда я вернулся в Италию, я начал писать «Историю Карфагена» одновременно с «Историей этрусков». Я люблю работать над двумя темами сразу — когда мне надоедает одна, я обращаюсь к другой. Но, возможно, я слишком старателен. Мне недостаточно просто переписывать страницы из древних авторов, если есть хоть какая-то возможность проверить их утверждения, обратившись к другим источникам, в особенности к тому, что сказано по этому вопросу людьми, принадлежавшими к соперничающей политической партии. Поэтому на эти две «Истории», каждая из которых заняла бы у меня год или два, если бы я менее добросовестно относился к своей работе, я потратил целых двадцать пять лет. За каждым написанным словом были сотни прочитанных; под конец я в совершенстве овладел этрусским и финикийским и получил практическое знание нескольких других языков и диалектов, таких, как нумидийский, египетский, осский и фалисский. «Историю Карфагена» я кончил раньше.
Вскоре после посвящения храма, которое прошло вполне гладко, Фурию неожиданно пришлось выступить против Такфарината с немногими военными силами, бывшими в его распоряжении: один Третий полк регулярной пехоты, несколько вспомогательных батальонов и два кавалерийских эскадрона. Такфаринат, нумидийский вождь, в свое время дезертировавший из рядов римских вспомогательных войск, был на редкость удачливым разбойником. Он создал во внутренних районах своей территории нечто вроде армии, построенной по римскому образцу, и вступил в союз с маврами, чтобы вторгнуться в провинцию с запада. Их армии, вместе взятые, были по меньшей мере в пять раз больше воинских сил Фурия. Противники встретились в открытом поле в пятидесяти милях от Карфагена; Фурию надо было решить, кого ему атаковать: два полудисциплинированных полка Такфарината, бывших в центре, или совсем недисциплинированных мавров на флангах. Он послал кавалерию и вспомогательные войска, состоявшие в основном из лучников, против мавров, приказав не давать им передышки, а сам с регулярным полком пошел прямо на нумидийцев Такфарината. Я наблюдал за битвой с холма в пятистах шагах от поля боя — я приехал на муле — и никогда еще раньше, да, думаю, и потом, не был так горд тем, что я — римлянин. Третий полк ни разу не нарушил боевого порядка, можно было подумать, что это парад на Марсовом поле. Они наступали развернутым строем тремя шеренгами с интервалом в пятьдесят шагов. В каждой шеренге было по сто пятьдесят колонн, каждая — по восемь человек в глубину. Нумидийцы остановились и приготовились к обороне. Они стояли в шесть шеренг, с такой же шириной фронта, как у нас. Третий полк, не задержавшись ни на секунду, тем же походным маршем двинулся на врага; лишь когда они приблизились к нумидийцам на десять шагов, первая шеренга метнула в них дротики. Затем солдаты обнажили мечи и, сомкнув щиты, кинулись в атаку. Они отбросили первую шеренгу противника, вооруженную копьями, до второй. Эта шеренга рассыпалась под новым дождем дротиков — у каждого римского солдата их было по два. Затем их сменила вторая шеренга, дав возможность солдатам первой перестроиться. Вскоре еще один сверкающий ливень одновременно пущенных дротиков обрушился на третью шеренгу нумидийцев. Мавры на флангах, которым сильно досаждали стрелы вспомогательных войск, увидели, что римляне глубоко вклиниваются в центр их построения. С воплями, словно уже проиграли битву, они разбежались во все стороны. Такфаринату пришлось с большими потерями пробиваться обратно к своему лагерю. Единственное неприятное воспоминание, связанное с этой победой, относится к праздничному пиру, во время которого сын Фурия Скрибониан отпускал шутки насчет моральной поддержки, оказанной мной войскам. Делал он это главным образом, чтобы подчеркнуть собственную храбрость, которую, по его мнению, недостаточно оценили. После пира Фурий заставил его попросить у меня прощения. Сенат назначил Фурию триумфальные украшения. Он был первым членом своего рода, завоевавшим военную награду с тех пор, как за четыреста лет до того его предок Камилл спас Рим.
Когда меня в конце концов отозвали, Германик уже отбыл на Восток — сенат назначил его верховным правителем всех восточных провинций. С ним поехали Агриппина и Калигула, которому исполнилось восемь лет. Старшие дети остались в Риме с моей матерью. Хотя Германик был сильно разочарован тем, что ему не удалось закончить войну с германцами, он решил воспользоваться предоставившейся ему возможностью пополнить свое образование, посетив места, прославленные в истории и литературе. Он побывал на Актийском заливе, где осмотрел мемориальную молельню, посвященную Августом Аполлону, и лагерь Антония.
Для Германика, внука Антония, это место обладало печальным очарованием. Он принялся объяснять план битвы Калигуле, но тот неожиданно прервал его глупым смехом: «Да, отец, мой дед Агриппа и мой прадед Август задали хорошую трепку твоему деду Антонию. Я удивляюсь, как тебе только не стыдно рассказывать мне об этом». Это был далеко не первый случай, когда Калигула дерзко разговаривал с отцом, и Германик решил, что бесполезно обращаться с ним мягко и дружески, как он обращаются с другими детьми, и единственная линия, которой следует держаться с мальчиком, — жесткая дисциплина и суровые наказания.
Германик посетил Фивы, чтобы увидеть место, где родился Пиндар, и остров Лесбос, чтобы увидеть гробницу Сафо.[89] Там появилась на свет еще одна из моих племянниц, получившая несчастливое имя Юлия, однако все мы звали ее Лесбия. Затем он побывал в Византии, Трое и знаменитых греческих городах, расположенных в Малой Азии. Из Милета Германик прислал мне длинное письмо, описывая свое путешествие в самых восторженных выражениях, и я понял, что он уже не так сожалеет об отъезде из Германии.
Тем временем в Риме все вошло в прежнюю колею, словно и не было консульства Германика, и Сеян возродил старые страхи Тиберия относительно названного сына. Он передал слова Германика, сказанные на обеде в частном доме, где был также один из его агентов, смысл которых сводился к тому, что восточные войска нуждаются в такой же ревизии, какую он провел на Рейне. Слова эти действительно были сказаны, но значили они лишь то, что в этой армии, как и в германской, есть плохие офицеры, которые дурно обращаются с солдатами, и при первой возможности он проверит все назначения. А Сеян внушил Тиберию, будто слова эти объясняют, почему Германик так медлит с захватом власти, — он-де не мог раньше надеяться на любовь восточных полков, которую теперь намерен завоевать, позволив солдатам самим выбирать себе командиров, даря им подарки и ослабив дисциплину, — в точности, как он сделал это на Рейне.
Тиберий был напуган и решил посоветоваться с Ливией, уповая на ее помощь. Ливия сразу сообразила, что надо сделать. Они назначили губернатором Сирии человека по имени Гней Пизон — назначение это отдавало под его начало большую часть восточных полков, пусть даже под верховной счастью Германика, — и сказали ему в личной беседе, что он может рассчитывать на их поддержку, если Германик начнет вмешиваться в его политические или военные распоряжения. Это был умный выбор. Гней Пизон, дядя того Луция Пизона, который оскорбил Ливию, был высокомерный старик, за двадцать пять лет до того заслуживший всеобщую ненависть в Испании, куда Август назначил его губернатором, своей жестокостью и жадностью. Он был по уши в долгах, и намек на то, что он может поступать, как ему вздумается, лишь бы досадить Германику, воспринял как приглашение сколотить в Сирии новое состояние вместо того, которое он некогда приобрел в Испании и давно спустил. Пизон невзлюбил Германика за его серьезность и благочестие, называл его за глаза суеверной старухой, к тому же страшно завидовал ему.
Посещая Афины, Германик выказал уважение к их славному прошлому тем, что подошел к городским воротам лишь с одним телохранителем. А на празднике, устроенном в его честь, произнес длинный торжественный панегирик афинским поэтам, воинам и философам. Пизон также проехал через Афины, направляясь в Сирию, и, поскольку они не входили в его провинцию, не потрудился быть любезным с афинянами; те также не сочли нужным быть любезными с ним. Человек по имени Теофил, брат одного из кредиторов Пизона, был незадолго до того признан виновным в подлоге. Пизон обратился к городскому собранию с просьбой, чтобы Теофила помиловали — в виде личного одолжения ему, Пизону, но получил отказ, что очень его рассердило: если бы Теофила простили, брат его, без сомнения, не стал бы требовать с Пизона долг. Пизон произнес возмущенную речь, где сказал, что теперешние афиняне не имеют права ставить себя в один ряд с великими афинянами времен Перикла, Демосфена, Эсхила и Платона.[90] Древние афиняне были истреблены в бесконечных войнах, и теперешние жители Афин — обыкновенные ублюдки, дегенераты и потомки рабов. Он сказал, что любой римлянин, который восхваляет их, словно они — законные потомки древних греков, унижает этим свое достоинство; со своей стороны, он не может забыть, что во время последней гражданской войны афиняне поддерживали этого труса и предателя Антония против великого Августа.
Затем Пизон покинул Афины и по пути в Сирию завернул на Родос. Германик в то время тоже был на Родосе, где посетил родосский университет, и слухи о речи губернатора, явно направленной против него, достигли Германика незадолго до того, как на горизонте показались корабли Пизона. Внезапно поднялась буря, и стало видно, что им приходится туго. Два небольших суденышка на глазах Германика пошли ко дну, третье, на котором находился сам Пизон, потеряло мачту, и его относило к скалам северного мыса. Кто, кроме Германика, не предоставил бы Пизона его судьбе?! Но Германик послал в море две шлюпки, гребцы которых, гребя из последних сил, сумели достичь корабля в последнюю минуту перед крушением и благополучно привели его на буксире в порт. Кто, кроме такого порочного человека, как Пизон, не сохранил бы на всю жизнь благодарность и любовь к своему спасителю? Куда там! Пизон с возмущением заявил, будто Германик откладывал спасательную экспедицию до последней минуты, надеясь, что посылать ее станет слишком поздно, и, не задержавшись на Родосе и дня, хотя море еще не успокоилось, отплыл в Сирию, чтобы оказаться там раньше Германика.
Как только Пизон прибыл в Антиохию,[91] он начал перестановки в полках, но как раз обратные тем, какие задумал Германик. Вместо того чтобы снять нерадивых и грубых ротных, он разжаловал в рядовые каждого офицера с хорошей репутацией среди солдат и назначил на их место своих фаворитов-негодяев — с негласной договоренностью, что половина добра, которое перепадет им на их новом посту, будет отдаваться ему, Пизону, зато у них будут развязаны руки. Для сирийцев настал тяжелый год. Лавочники и крестьяне должны были платить местным ротным «отступные деньги»; если они отказывались, ночью люди в масках устраивали на них налет, дом их сжигали дотла, семью убивали. Сперва городские корпорации, крестьянские союзы и прочие объединения обращались с просьбой прекратить террор к самому Пизону. Он всегда обещал немедленно начать расследование, но никогда этого не делал, а тех, кто жаловался, обычно находили забитыми насмерть по дороге домой. В Рим была послана делегация, чтобы узнать потихоньку у Сеяна, известно ли Тиберию о том, что происходит в Сирии, и если да, то одобряет ли он это. Сеян сказал сирийцам, что официально Тиберий ничего не знает. Он, конечно, пообещает назначить расследование, но ведь Пизон тоже им это обещал, разве не так? Пожалуй, самое лучшее, сказал Сеян, это платить отступные, сколько бы ни спрашивали, и не поднимать шума. Тем временем дисциплина в сирийских полках настолько расшаталась, что разбойничья армия Такфарината по сравнению с ними казалась образцом сноровки и преданности долгу.
Посланцы приехали также на Родос к Германику; он был поражен и возмущен тем, что от них услышал. Во время путешествия по Малой Азии он лично расследовал все жалобы на плохое управление и снимал с должностей всех судей, которые нарушали закон или каким-либо образом угнетали население. Германик написал Тиберию и сообщил ему о том, что ему стало известно относительно Пизона; он немедленно отплывает в Сирию, добавил Германик, и просит разрешения сместить Пизона с должности и заменить его более подходящим человеком, если окажется, что хоть некоторые из жалоб справедливы. Тиберий ответил ему, что он тоже слышал кое-какие нарекания, но они оказались необоснованными — чистый поклеп; он доверяет Пизону и считает его способным и справедливым губернатором. Германик не подозревал Тиберия в бесчестности и лишь утвердился в своем мнении о нем как о простаке, которого легко обмануть. Зачем только он просил позволения сделать то, что должен был сразу же сделать на свой страх и риск! До Германика дошло еще одно серьезное обвинение против Пизона, а именно: что тот вошел в сговор с Вононом, свергнутым царем Армении, нашедшим убежище в Сирии, и обещал снова посадить его на трон. Вонон был баснословно богат, так как, спасаясь бегством в Сирию, он прихватил с собой почти все содержимое государственной казны, и Пизон надеялся извлечь из этой сделки выгоду. Германик сразу поехал в Армению, созвал совещание знатных людей страны и собственными руками, но от имени Тиберия, возложил венец на голову человека, которого они избрали царем.[92] Затем приказал Пизону отправиться в Армению во главе двух полков, чтобы засвидетельствовать почтение новому монарху от лица соседней страны; если его удерживают более важные дела, он может послать сына. Пизон не выполнил ни того, ни другого. Посетив другие дальние провинции и союзные царства и уладив там все, к своему удовлетворению, Германик прибыл в Сирию и встретил Пизона на зимних квартирах Десятого полка.
На этой встрече присутствовали в качестве свидетелей несколько полковых офицеров, так как Германик не желал, чтобы Тиберию передали их беседу в искаженном виде. Он начал так мягко, как только мог, вопросом, почему Пизон не выполняет приказы. Германик сказал, что, если единственным объяснением этому служит та личная неприязнь и невоспитанность, которые Пизон проявил в своей речи в Афинах, в неблагодарных замечаниях на Родосе и в ряде других случаев, ему, Германику, придется отправить императору официальное донесение. Затем выразил недовольство тем, каким разболтанным и грязным он нашел Десятый полк. И это в мирное время, в здоровом, прекрасно расположенном месте.
— Да, они и верно грязная публика, — ответил, ухмыляясь, Пизон. — Что бы подумали в Армении, если бы я послал их туда в качестве представителей могущественного и великого Рима? («Могущество и величие Рима» — было любимой фразой моего брата).
Германик, с трудом сдерживая гнев, сказал, что, судя по всему, разложение армии началось только после приезда Пизона в провинцию, о чем он и напишет в письме к Тиберию.
Пизон «смиренно» просил простить его, но тут же отпустил оскорбительное замечание о молокососах, чьим высоким идеалам в этом жестоком мире часто приходится уступать место менее возвышенной, но более практичной политике.
Сверкая глазами, Германик его прервал:
— Часто, Пизон, но не всегда. Завтра, например, мы будем сидеть с тобой на трибунале и увидим, может ли что-нибудь стать помехой высоким идеалам молодых и удастся ли жадному, жестокому старому распутнику, который ничего не смыслит в своем деле, отказать жителям провинции в справедливости.
Тем и закончилась встреча. Пизон сразу же написал Тиберию и Ливии о том, что произошло. Последнюю фразу Германика он процитировал таким образом, что Тиберий подумал, будто слова «жадный, жестокий старый распутник» относятся лично к нему. Тиберий ответил, что полностью доверяет Пизону и, если некое влиятельное лицо будет высказываться и поступать подобным нелояльным образом, любые меры, даже самые крайние, принятые его подчиненными, чтобы пресечь такое поведение, будут приветствоваться сенатом и римским народом. А Германик тем временем сидел на трибунале и выслушивал жалобы жителей на несправедливые приговоры судов. Пизон сперва пытался помешать ему, затягивал и даже срывал слушание каждого дела, но, увидев, что Германик сохраняет спокойствие и продолжает заседание без перерыва на отдых и еду, отказался от этого и перестал ходить на разбирательства, якобы по причине недомогания.
Жена Пизона, Планцина, завидовала Агриппине, которая, будучи женой Германика, занимала более высокое место на всех торжественных церемониях. Планцина измышляла разные мелкие оскорбления, чтобы досадить Агриппине, в основном подстрекала нижестоящих лиц на грубые выходки и замечания, которые всегда можно было объяснить случайностью или невежеством. Когда Агриппина отплатила ей, публично ее осадив, Планцина зашла еще дальше. Однажды утром в отсутствие Германика и Пизона она появилась на плацу одновременно с кавалерией и заставила солдат проделать ряд шутовских упражнений перед окнами Агриппины. Она послала их в галоп по полю, дала команду атаковать пустые палатки, которые они изрубили в лапшу, велела трубачам играть все сигналы — от отбоя до пожарной тревоги — и устроила столкновение эскадронов. Под конец пустила конников по все сужающемуся кругу, а когда пространство внутри круга стало равняться лишь нескольким шагам, дала команду «кругом!», якобы для того, чтобы солдаты проделали тот же маневр в обратную сторону. Многие лошади упали, скинув седоков. Ни разу за всю историю кавалерии во время маневров не было такого хаоса. Кое-кто из озорников усилил его, принявшись колоть кинжалом соседних лошадей, чтобы те сбрасывали седока, или бороться, сидя в седле. Нескольких человек лошади сильно полягали, нескольких, падая, подмяли под себя и переломали им ноги. Одного солдата подобрали мертвым. Агриппина послала молодого штаб-офицера попросить Планцину, чтобы она перестала выставлять на посмешище себя и армию. Планцина ответила, парадируя отважные слова Агриппины на рейнском мосту: «Пока мой муж не вернется, я командую кавалерией. Я готовлю их к ожидаемому нападению парфян». Действительно, как раз в это время прибыли парфянские послы и, подняв брови, с презрением наблюдали за этим спектаклем.
Вонон, прежде чем стать царем Армении, был царем парфян, но те быстро выгнали его из страны. Его преемник послал к Германику послов с предложением возобновить союз между Римом и Парфянским царством, сказав, что в честь Германика он приедет к Евфрату (река, по которой шла граница между Сирией и Парфией), чтобы лично приветствовать его. А пока что он просил, чтобы Вонона выслали из Сирии, откуда ему удобно вести изменническую переписку с некоторыми парфянскими аристократами. Германик отвечал, что он как представитель своего отца, императора, будет очень рад встретиться с царем парфян и возобновить их союз и что он переселит Вонона в какую-нибудь другую провинцию. Вонона отправили в Киликию, и надежды Пизона разбогатеть исчезли. Планцина ярилась не меньше мужа, так как Вонон чуть не каждый день дарил ей по драгоценному камню.
19 г. н. э.
В начале следующего года до Германика дошла весть о сильном голоде в Египте. Последний урожай был плохим, но в амбарах хранилось достаточно зерна, ссыпанного туда два года назад. Перекупщики поддерживали высокие цены, поставляя в продажу зерно в очень маленьких количествах. Германик сразу же отправился в Александрию и заставил перекупщиков продать по разумной цене все зерно, какое было нужно. Он обрадовался этой возможности посетить Египет, интересовавший его даже больше, чем Греция. Александрия в то время, как и сейчас, была культурным центром мира, точно так же, как Рим был и есть его политический центр, и Германик выказал уважение к ее традициям, вступив в город в простой греческой одежде, босиком и без охраны. Из Александрии он поплыл по Нилу, осмотрел пирамиды, Сфинкса, развалины египетских Фив, бывшей столицы Египта, и огромную статую Мемнона, грудь которого сделана полой и который вскоре после восхода солнца начинает петь, потому что воздух внутри груди нагреваются, поднимается потоком вверх и выходит через трубку горла. Германик добрался даже до развалин Элефантины.[93] Во время своего путешествия он вел подробный дневник. В Мемфисе он посетил луг великого бога Аписа, воплощенного в виде быка с особыми отметинами, но Апис, только увидев его, повернул в другую сторону и вошел в «злое стойло», что считалось дурным предзнаменованием. Агриппина повсюду сопровождала Германика, но Калигулу в наказание за постоянное непослушание оставили в Антиохии на попечение наставника.
Что бы теперь ни делал Германик, это вызывало подозрения Тиберия, но поездка в Египет была его самой большой ошибкой. Сейчас объясню почему. Август, поняв еще в самом начале царствования, что Египет является главной житницей Рима и что, попади провинция в руки авантюриста, она сумеет с успехом обороняться даже при небольшой армии, издал правительственный указ, согласно которому ни один сенатор или всадник не могли посетить Египет без специального на то разрешения. Предполагалось, что это правило остается в силе и при Тиберии. Но Германик, встревоженный слухами о голоде, не стал тратить времени и ожидать разрешения Тиберия. И теперь тот был абсолютно уверен, что Германик наконец-то нанесет ему удар, от которого так долго воздерживался: конечно же, он отправился в Египет, чтобы переманить на свою сторону стоявшие там войска; осмотр достопримечательностей на Ниле — просто предлог посетить пограничные части: было большой ошибкой вообще посылать Германика на Восток. Тиберий публично заявил в сенате о своем недовольстве тем, что предписание Августа было так дерзко нарушено.
Когда Германик, весьма обиженный выговором Тиберия, вернулся в Сирию, он обнаружил, что все его приказы полкам и городам или просто не были выполнены, или были заменены противоположными им по смыслу приказами Пизона. Германик вновь издал приказы, где говорилось, что все приказы Пизона, отданные во время его, Германика, отсутствия, с настоящего момента отменены и что впредь, до особого распоряжения, ни один, подписанный Пизоном, приказ не будет считаться в провинции действительным, если под ним не будет стоять также его, Германика, имя. Не успел брат выпустить эту декларацию, как заболел. У него расстроился желудок, начались понос и рвота. Он подозревал, что в пищу ему подсыпают яд, и принимал все возможные меры предосторожности. Агриппина сама готовила ему еду, и никто из слуг не имел к ней доступа ни до, ни после приготовления. Но прошло немало времени, прежде чем Германик настолько поправился, что смог встать с постели и сидеть в кресле. Голод невероятно изощрил его чувство обоняния, и он сказал, что в доме пахнет смертью. Никто никакого запаха не ощущал, и сперва Агриппина отмахнулась от его слов, считая это болезненной фантазией. Но Германик настаивал на своем. Он говорил, что запах делается с каждым днем все сильнее. Наконец и Агриппина заметила его. Казалось, каждая комната пропитана тленом. Агриппина курила благовониями, чтобы перебить смрад, но все было напрасно. Слуги перетрусили и шептались между собой, что это — дело рук ведьм.
Германик всегда был очень суеверен, как все члены нашей семьи, кроме меня; я тоже суеверен, но не настолько. Мало того, что он верил в счастливые и несчастливые дни и предзнаменования, Германик опутал себя сетью примет, выдуманных им самим. В самый большой ужас его повергало число двадцать пять и кукарекание петуха в полночь. Он считал очень дурным знаком то, что, вернув орлов Девятнадцатого и Двадцать шестого полков, он был вынужден, по приказанию Тиберия, уехать из Германии, не вернув орла Двадцать пятого полка. Он боялся черной магии, которой славились фессалийские ведьмы, и всегда спал с талисманом под подушкой, служащим против нее защитой, — сделанной из зеленой яшмы фигуркой богини Гекаты (лишь Геката обладала властью над ведьмами и призраками), держащей факел в одной руке и ключи от подземного мира — в другой.
Подозревая, что Планцина насылает на него злые чары — ходили слухи, будто она ведьма, — Германик, чтобы умилостивить Гекату, принес ей в жертву, согласно обычаю, девять черных щенят. На следующий день дрожащий от страха раб доложил Германику, что, когда он мыл в вестибюле пол, ему показалось, будто одна плитка лежит свободно; он поднял ее и нашел внизу разлагающийся труп голого младенца с выкрашенным красной краской животом и привязанными ко лбу рогами. Немедленно во всех комнатах начались поиски, и то под плитками пола, то в нишах, выдолбленных в стенах и прикрытых занавесями, было сделано не менее дюжины столь же отвратительных и страшных находок, в том числе труп кошки с рудиментарными крыльями, растущими из спины, и голова негра, изо рта которого торчала детская рука. На всех этих ужасных останках была свинцовая табличка с именем Германика. В доме провели ритуальное очищение, и Германик повеселел, хотя живот по-прежнему его беспокоил.
Вскоре после этого дом стали посещать призраки. Среди подушек находили выпачканные в крови петушиные перья, на стенах появлялись — иногда почти у самого пола, точно их написал карлик, иногда у потолка, словно написанные великаном, — начертанные углем зловещие знаки: фигурка повешенного, слово «Рим» вверх ногами, горностай и вновь и вновь повторяющиеся цифры «25», хотя никто, кроме Агриппины, не знал о предубеждении Германика против этого числа. Затем появилось перевернутое имя брата; с каждым днем оно становилось короче на одну букву. Планцина могла спрятать в доме во время его отсутствия магические заклинания, но объяснить появление надписей и рисунков было нельзя. Слуги были вне подозрения, так как все эти потусторонние знаки возникали в тех комнатах, куда они не допускались. В одной комнате, с таким крошечным оконцем, что в него никак не смог бы пролезть человек, стены были покрыты предвещающими беду символами от пола до потолка. Единственным утешением Германику было мужество, с каким держались Агриппина и Калигула. Агриппина прилагала все силы, чтобы пролить свет на происходящее, а Калигула заявил, что он не боится, ведьмы ничего не могут сделать правнуку божественного Августа, и если он встретит хоть одну ведьму, он проткнет ее мечом. Но Германик снова слег в постель. Посреди ночи после того дня, когда от его имени остались только три буквы, Германика разбудил крик петуха. Как он ни был слаб, он соскочил с постели, схватил меч и кинулся в соседнюю комнату, где спали Калигула и малютка Лесбия. Он увидел там большого черного петуха с золотым ободком на шее, который кукарекал так, словно хотел поднять на ноги мертвецов. Германик попытался отрубить ему голову, но петух вылетел в окно. Германик упал, потеряв сознание. Агриппине удалось кое-как уложить его снова в постель, но когда он пришел в себя, то сказал ей, что обречен. «Нет, пока с тобой твоя Геката», — возразила она. Германик дотронутся под подушкой до талисмана, и к нему вернулось мужество.
Когда настало утро, Германик написал письмо Пизону в староримском духе, где объявлял ему войну не на жизнь, а на смерть и приказывал немедленно покинуть провинцию. Однако Пизон уже отплыл из Сирии и теперь находился в Хиосе, ожидая известий о смерти Германика, после чего он намеревался тут же вернуться и управлять провинцией по своему усмотрению. Мой бедный брат слабел с каждым часом. Назавтра, когда Агриппина куда-то отлучилась, а Германик лежал в полузабытьи, он вдруг почувствовал, ненадолго придя в себя, какое-то движение под подушкой. Германик повернулся на бок и в ужасе стал нащупывать амулет. Он исчез, а в комнате никого не было.
На следующий день Германик созвал своих друзей и сказал, что он умирает, а убийцы его — Пизон и Планцина. Он поручил друзьям рассказать Тиберию и Кастору, как его погубили, и умолял отомстить за его жестокую смерть. «И скажите гражданам Рима, — добавил Германик — что я вверяю мою возлюбленную жену и шестерых детей их попечению; пусть они не верят Пизону и Планцине, если те станут говорить, будто получили приказ убить меня, и даже если поверят, пусть не прощают им их злодеяния». Германик умер девятого октября, в тот самый день, когда на стене напротив его кровати осталась одна-единственная буква «Г», ровно на двадцать пятый день своей болезни. Его высохшее тело было выставлено на рыночной площади Антиохии, чтобы все могли видеть красную сыпь у него на животе и посиневшие ногти. Рабов Германика подвергли пыткам. Вольноотпущенников также подвергли допросу, каждого — притом что люди, ведущие дознание, сменяли один другого — в течение двадцати четырех часов, и под конец они были настолько сломлены телом и духом, что, знай они хоть что-нибудь, признались бы, лишь бы положить своим мучениям конец. Как от рабов, так и от вольноотпущенников, узнали немногое, а именно: что известную ведьму, некую Мартину, неоднократно видели вместе с Планциной, и обе они один раз побывали в доме Германика, когда там не было никого, кроме Калигулы. И что как-то днем, перед самым возвращением Германика, в доме оставался один глухой старый привратник, так как все остальные слуги пошли смотреть бой гладиаторов, который по приказанию Пизона устроили в местном амфитеатре. Однако черного петуха, знаки на стенах и пропажу талисмана нельзя было объяснить ничем, кроме вмешательства сверхъестественных сил. Командиры полков и все прочие римляне высокого ранга, находившиеся в провинции, собрались вместе, чтобы выбрать временного губернатора. Избрали командира Шестого полка. Он немедленно арестовал Мартину и отправил под стражей в Рим. Если над Пизоном назначат суд, она будет одним из главных свидетелей.
Когда Пизон услышал, что Германик умер, он не только не скрыл своей радости, но принес в храмах благодарственные жертвоприношения. Планцина, недавно потерявшая сестру, скинула траур и надела свой самый яркий наряд. Пизон написал Тиберию, что был смещен с поста губернатора, куда его назначил сам Тиберий, из-за храброго противодействия предательским замыслам Германика, направленным против государства; сейчас он возвращается в Сирию, чтобы вновь взяться за дела. Пизон писал о «роскошной жизни и наглости» Германика. Он действительно попытался вернуться в Сирию и даже получил поддержку некоторых полков, но новый губернатор осадил крепость в Киликии, где укрылся Пизон, вынудил его сдаться и отправил в Рим отвечать на все обвинения, которые, несомненно, будут ему там предъявлены.
Тем временем Агриппина отплыла в Италию с двумя детьми и урной с прахом мужа. В Риме известие о смерти Германика вызвало такое горе, что казалось, будто каждая римская семья потеряла самого любимого из своих близких. Хотя по этому поводу не было указа сената или приказа судей, целых три дня лавки были закрыты, суды безлюдны, не совершалось никаких сделок — все ходили в трауре, народ скорбел. Я слышал, как какой-то человек на улице сказал, что у всех такое чувство, будто солнце закатилось и никогда больше не взойдет. Свое отчаяние я и описать не могу.
Глава XXI
20 г. н. э.
Тиберий и Ливия заперлись каждый в своем дворце, делая вид, будто они настолько убиты горем, что не могут показаться на людях. Агриппина должна была прибыть в Рим по суше, так как наступила зима и плыть морем было опасно. Но она все же решилась на это, несмотря на штормы, и через несколько дней достигла Корфу, откуда при попутном ветре был всего один день пути до порта Брундизий. Там, отправив вперед гонцов с поручением сказать, что она возвращается, чтобы искать защиты и покровительства у сограждан, она немного передохнула. Кастор, уже вернувшийся в Рим, четверо детей Агриппины и я выехали из города ей навстречу. Тиберий тотчас отправил в порт два гвардейских батальона с распоряжением, чтобы судьи тех сельских районов, через которые будут проносить урну с прахом Германика, оказывали его покойному сыну положенные почести. Когда встреченная почтительным молчанием огромной толпы Агриппина ступила на берег, урну возложили на погребальные носилки и понесли к Риму на плечах гвардейских офицеров. С батальонных знамен в знак всеобщей скорби были сняты украшения, топорики и пучки розог держали опущенными вниз.[94] В то время как многотысячная процессия пересекала Калабрию, Апулию и Кампанию, к ней со всех сторон стекалось множество людей: селяне в черных одеждах, всадники в пурпурных тогах; со слезами, громко сетуя, они возжигали благовония духу умершего героя.
Мы встретили процессию в Террацине, в шестидесяти милях к юго-востоку от Рима; здесь Агриппина, прошедшая весь путь от Брундизия не размыкая губ, с сухими глазами и каменным лицом, при виде своих четверых осиротевших детей вновь дала волю горю. Она вскричала, обращаясь к Кастору: «Во имя любви, которую ты питал к моему дорогому мужу, поклянись, что будешь защищать жизнь его детей своей собственной грудью и отомстишь за его смерть! Это его последняя просьба к тебе». Кастор, рыдая, наверно, впервые с детства, поклялся, что выполнит его завет.
Если вы спросите, почему вместе с нами не поехала Ливилла, я отвечу: она только что родила мальчиков-близнецов, отцом которых, судя по всему, был Сеян. Если вы спросите, почему не поехала моя мать, я отвечу: Тиберий и Ливия не позволили ей присутствовать даже на похоронах. Раз всепоглощающая скорбь помешала их собственному участию в этой церемонии, им, бабке и приемному отцу усопшего, как же могла участвовать в ней его родная матъ?! И они поступили разумно, не показавшись на глаза людям. Если бы они на это решились, пусть даже притворившись опечаленными, жители Рима, конечно, ополчились бы на них, и я думаю, что гвардейцы стояли бы в стороне и не шевельнули бы и пальцем, чтобы их защитить. Тиберий не удосужился сделать даже такие приготовления к похоронам, которые были обязательными, когда хоронили куда менее именитого человека: не было ни изображений Клавдиев и Юлиев, ни посмертной маски самого усопшего, выставляемой у носилок с покойным, не произносилось надгробное слово с ростральной трибуны, не было плакальщиков и причитаний. Тиберий оправдывался тем, что похороны уже были в Сирии, боги-де могли разгневаться, если бы здесь повторились все обряды. Но никогда еще в Риме не выказывалась такая искренняя и единодушная печаль, как в ту ночь. Марсово поле сверкало факелами, и толпа возле усыпальницы Августа, куда Кастор благоговейно поместил урну с прахом Германика, была такой плотной, что многих задавили до смерти. Повсюду люди повторяли, что Рим пропал, теперь не осталось никакой надежды; Германик был последним оплотом против тирании, и вот его подло убили. Повсюду жалели и восхваляли Агриппину и молились за безопасность ее детей.
Несколько дней спустя Тиберий опубликовал официальное заявление, где говорилось, что, хотя многие выдающиеся римляне умерли ради блага своей страны, ни одного из них так повсеместно и так горячо не оплакивали, как его дорогого сына. Однако теперь настала пора успокоиться и вернуться к своим обычным делам: правители смертны, благо страны — извечно. Несмотря на это, сатурналии в конце декабря прошли без обычных шуток и веселья, и только после праздника Великой Матери траур наконец кончился и жизнь вступила в свои права.[95] Теперь подозрения Тиберия обратились на Агриппину. Утром на следующий день после похорон она пришла к нему во дворец и бесстрашно заявила, что будет считать его в ответе за смерть мужа, пока он не докажет своей непричастности и не отомстит Пизону и Планцине. Тиберий сразу же прервал разговор, прочитав ей по-гречески две строчки:
Не тем ли ты оскорблена, Что не царица ты?[96]Пизон пока воздерживался от возвращения в Рим. Он послал вперед сына молить Тиберия о снисхождении, сам же отправился к Кастору, который вернулся на Дунай. Пизон думал, будто Кастор благодарен ему за то, что он убрал с его дороги соперника, также претендующего на единовластие, и охотно поверит басне об измене Германика. Но Кастор отказался его принять и во всеуслышание сказал посланцу Пизона, что, если ходящие повсюду слухи соответствуют истине, именно Пизону он и должен отомстить за смерть своего дорогого брата, как он поклялся это сделать, — пусть Пизон держится от него подальше, пока не приведет доказательств своей невиновности. Тиберий принял сына Пизона не особенно тепло, но и не особенно холодно, словно хотел показать, что не будет держать ничью сторону до тех пор, пока публичное следствие не установит причин смерти Германика.
Наконец Пизон и Планцина явились в Рим. Они спустились на корабле по Тибру и высадились вместе со своими сторонниками у гробницы Августа: вызывающе улыбаясь, они прошествовали через собравшуюся негодующую толпу, которая чуть не набросилась на них с кулаками, и уселись в разукрашенный экипаж с двумя белыми французскими лошадьми, ожидавший их на Фламиниевой дороге. У Пизона был в Риме дом, выходивший фасадом на рыночную площадь, он тоже был разукрашен. Пизон пригласил всех друзей и родственников на пир по поводу своего возвращения и поднял пыль столбом, чтобы показать римлянам, что он их не боится и рассчитывает на поддержку Тиберия и Ливии. Тиберий намеревался поручить дело Пизона некоему сенатору, который стал бы вести его так бестолково, противореча сам себе и не трудясь представить свидетелей для подтверждения обвинений, что судебное разбирательство неминуемо кончилось бы оправданием. Слушаться дело должно было в обычном уголовном суде. Но друзья Германика, особенно три сенатора, сопровождавшие его в Сирию и вернувшиеся с Агриппиной, возражали против выбора Тиберия. В конце концов ему пришлось самому рассматривать дело, причем в сенате, где друзья Германика могли рассчитывать на необходимую поддержку. Сенат принял решение о ряде особых почестей в знак памяти о Германике — кенотафах,[97] мемориальных арках, церемониях, положенных полубогам, на которые Тиберий не осмелился наложить вето.
Кастор снова вернулся с Дуная, и хотя сенат назначил ему овацию (малый триумф) за успех в сношениях с Марободом, он вышел в город пешком, как обыкновенный гражданин, а не въехал на боевой колеснице с венком на голове.[98] Посетив отца, он тут же отправился к Агриппине и поклялся, что она может на него положиться: он добьется торжества справедливости.
Пизон попросил четырех сенаторов защищать его; трое из них отказались, сославшись на болезнь или неумение, четвертый, Галл, сказал, что он только тогда берется защищать человека, обвиняемого, и, похоже, справедливо, в убийстве, если может заслужить этим хотя бы благосклонность императорской семьи. Наконец Кальпурний Пизон, хотя он не был на пиру у дяди, взялся защищать его во имя чести семьи, затем к нему присоединилось еще три сенатора, уверенных, что Тиберий оправдает Пизона, какие бы ни были против него показания, а они впоследствии получат награду за свое участие. Пизон обрадовался — раз судить станет сам Тиберий, все, по заверению Сеяна, будет разыграно как по нотам: Тиберий притворится, будто он очень сердит, но под конец отложит рассмотрение дела sine die,[99] пока суду не представят новые улики. Главную свидетельницу, Мартину, уже убрали с дороги — агенты Сеяна задушили ее, и обвинителям почти не на что будет опереться.
На слушание дела было отведено всего два дня, и человек, которого Тиберий первоначально прочил на роль судьи в расчете на то, что он все запутает, взял слово и принялся тянуть канитель, выдвигая против Пизона старые обвинения в плохом управлении и коррупции в Испании, где он был губернатором при Августе. Тиберий в течение нескольких часов слушал его болтовню, пока сенаторы, шаркая ногами, кашляя и хлопая табличками для письма, не дали ему понять, что, если он не вызовет главных свидетелей, будут неприятности. Четверо друзей Германика хорошо подготовили свои речи; каждый из них по очереди вставал и свидетельствовал о том, что Пизон довел армию в Сирии до морального разложения, оскорбительно держался с Германиком и с ними самими, не подчинялся приказам, о его сговоре с Вононом, о притеснениях, которым он подверг жителей провинции. Они обвинили Пизона в том, что он умертвил Германика при помощи яда и ведовства, в принесении благодарственных жертв при известии о его смерти и, последнее, в вооруженном нападении на провинцию во главе незаконно набранного частного войска.
Пизон не возражал против обвинения в подрыве воинской дисциплины, в оскорблении Германика и неподчинении его приказам, о притеснении жителей провинции он только сказал, что слухи об этом преувеличены. Но он возмущенно отрицал, что когда-либо прибегал к яду или к ведовству. Обвинители умолчали о сверхъестественных явлениях в Антиохии, боясь вызвать скептические улыбки, они не могли также вменить Пизону в вину сговор с домашними слугами Германика и его рабами, так как уже было доказано, что те не имели никакого отношения к убийству. Поэтому Пизона обвинили в том, что он подсыпал яд в еду Германика, когда сидел рядом с ним на пиру у Германика в доме. Пизон поднял на смех это обвинение: как он мог незаметно проделать такую вещь, когда весь стол, не говоря о прислужниках, следил за каждым его движением? Наверно, при помощи магии?
У Пизона в руках была пачка писем, которые, как все знали, по их размеру, цвету и тому, как они были перевязаны, он получил от Тиберия. Друзья Германика потребовали, чтобы все инструкции, которые ему давались из Рима, были зачитаны суду. Пизон отказался это сделать на том основании, что письма были запечатаны печатью с головой сфинкса (принадлежавшей ранее Августу) — это делало их «секретными и конфиденциальными», читать их вслух равнялось измене. Тиберий поддержал его, сказав, что слушать эти письма — попусту тратить время, в них нет ничего важного. Сенат не посмел настаивать. Пизон передал письма Тиберию в знак того, что он вверяет ему свою жизнь.
Снаружи, в толпе, которой сообщали о ходе следствия, стали раздаваться сердитые крики, и какой-то человек с громким резким голосом гаркнул в окно: «Может, он избежит вашей кары, достопочтенные, но от нашей ему не уйти!». Появился посыльный и сообщил Тиберию, что толпа скинула с пьедесталов несколько статуй Пизона и тащит их, чтобы разбить, на Ступени слез — так называлась лестница у подножья Капитолийского холма, где выставлялись на обозрение трупы преступников перед тем, как, зацепив крюком за горло, их сбрасывали в Тибр. Тиберий приказал, чтобы статуи отобрали и поставили на место. Он с неудовольствием сказал, что не может при таких условиях заниматься разбирательством дела, и отложил заседание до вечера. Пизона вывели из здания сената под охраной.
Планцина, похвалявшаяся до сих пор, что разделит судьбу мужа, какая бы доля ему ни выпала, и, если надо, умрет вместе с ним, теперь перепугалась. Она решила защищаться отдельно и рассчитывала, что Ливия, с которой она была в тесной дружбе, вызволит ее из беды. Пизон ничего не знал об отступничестве жены. Когда слушание дела возобновилось, Тиберий никак не проявил к нему сочувствия и симпатии и, хотя потребовал от обвинителей представить более неопровержимые улики отравления Германика, предупредил Пизона, что его попытка силой оружия отбить обратно провинцию прощена быть не может. В тот вечер дома Пизон заперся у себя в комнате, и утром его нашли мертвым — он был заколот собственным мечом, лежавшим рядом с ним. Но это не было самоубийством.
Дело в том, что Пизон оставил у себя самое компрометирующее письмо; написанное ему Ливией от своего имени и от имени Тиберия и запечатанное простой печатью (печатью со сфинксом Тиберий пользовался сам). Пизон велел Планцине вступить с ними в сделку и купить ценой письма его и свою жизнь. Планцина отправилась к Ливии. Ливия велела ей подождать, пока она посоветуется с Тиберием. И тут между Тиберием и Ливией произошла их первая ссора. Тиберий страшно рассердился на мать — зачем она написала это письмо? А Ливия сказала, что он сам во во всем виноват, раз не дает ей пользоваться печатью со сфинксом, и выразила недовольство тем, как непочтительно последнее время он ведет себя по отношению к ней. Тиберий спросил, кто из них император — он или она? Ливия ответила, что если и он, так только благодаря ей, и с его стороны неумно так себя с ней держать — если она сумела возвести его на трон, она сумеет и скинуть его оттуда. Ливия вынула какое-то письмо и принялась громко читать его; это было старое письмо, написанное ей Августом, когда Тиберий жил на Родосе, в котором Август обвинял его в предательстве, жестокости, скотоложестве и говорил, что, не будь Тиберий ее сыном, он не прожил бы и дня.
— Это только копия, — сказала Ливия. — Оригинал спрятан в надежном месте. И оно не одно, таких писем много. Тебе вряд ли понравится, если их станут передавать из рук в руки в сенате, верно?
Тиберий пересилил себя и попросил прощения за то, что дал волю гневу; спору нет, сказал он, они оба могут погубить друг друга, поэтому ссориться им просто глупо. Но каким образом сохранить Пизону жизнь, особенно после того, как он сказал, что если обвинение в вооруженном нападении на Сирию, с целью вернуть себе губернаторский пост, будет доказано, это означает смертный приговор без обжалования?
— Планцина не набирала войска, не так ли?
— Не вижу, где тут связь. Мне не получить от Пизона письмо, если я скажу, что пощажу одну Планцину.
— Если ты обещаешь пощадить Планцину, письмо от Пизона получу я. Предоставь это мне. Смерть Пизона удовлетворит общественное мнение. А если ты боишься взять это на свою ответственность, заяви, что за Планцину ходатайствовала я. Это будет только справедливо, ведь письмо, из-за которого нам грозят неприятности, действительно написано мной.
И вот Ливия отправилась к Планцине и сказала, что Тиберий ничего не желает слышать и скорее подвергнет родную мать всеобщей ненависти, чем рискнет собственной шкурой, защищая друзей. Единственное, чего она от него добилась, и то с трудом, это обещания простить ее Планцину, если письмо будет возвращено. Планцина пошла к Пизону с подделанным Ливией посланием, якобы от Тиберия, и сказала, что все устроилось как нельзя лучше, вот обещание помиловать их. Когда Пизон протянул ей письмо Ливии, Планцина неожиданно вонзила ему в горло кинжал. Затем окунула кончик меча в кровь, сунула рукоять в правую руку Пизона и вышла. Письмо и обещание о помиловании она, как условились, вернула Ливии.
На следующий день в сенате Тиберий прочитал вслух записку, которую, по его словам, Пизон написал перед самоубийством, где тот заявлял о своей невиновности в тех преступлениях, в которых его обвиняли, торжественно заверял Ливию и его самого в своей преданности и умолял их взять под защиту его сыновей, так как они не участвовали в действиях, за которые его привлекали к суду. Затем начался суд над Планциной. Было доказано, что ее видели вместе с Мартиной, а то, что Мартина — отравительница, было подтверждено под присягой. Выяснилось, что, когда Мартину обряжали перед похоронами, у нее в волосах нашли флакончик с ядом. Старый Помпоний, денщик Германика, дал показания относительно жутких зловонных останков, спрятанных в доме, и относительно посещения дома Планциной и Мартиной в отсутствие хозяев; когда Тиберий задал ему вопрос, не являлись ли в доме злые духи, он описал во всех подробностях то, что там творилось. Никто из сенаторов не вызвался защищать Планцину. Она со слезами и клятвами утверждала, что ни в чем не виновна, говорила, будто не знала о том, что Мартину считают отравительницей, и только покупала у нее благовония, уверяла, будто женщина, приходившая с ней в дом Германика, была не Мартина, а жена одного из полковников. Разве это преступление — зайти к кому-нибудь в гости, когда там никого нет, кроме маленького мальчика? Что касается оскорблений по адресу Агриппины, то она всем сердцем сожалеет о них и покорно просит Агриппину ее простить, но она выполняла приказ мужа, Как и положено жене, и делала это тем охотнее, что муж сказал ей, будто Агриппина с Германиком замышляют государственный переворот.
Тиберий подвел итоги. Он сказал, что в виновности Планцины есть некоторые сомнения. Ее связь с Мартиной, по-видимому, доказана так же, как и то, что сама Мартина имеет репутацию отравительницы. Но то, что эта связь криминальна, остается под вопросом. Со стороны обвинения не был предъявлен в суде ни флакон, найденный в волосах Мартины, ни доказательство того, что в нем содержался яд; это вполне могло быть снотворным или любовным зельем. Его мать Ливия очень высокого мнения о Планцине и хотела бы, чтобы сенат принял на веру ее показания ввиду отсутствия неопровержимых доказательств ее вины, ибо ночью Ливии явился дух ее любимого внука и просил ее не дозволять, чтобы невинные страдали за преступления, совершенные мужем или отцом.
Итак, Пландину оправдали, а что до сыновей Пизона, то одному было разрешено унаследовать имущество отца, а другой, тот, который участвовал в битве при Киликии, был всего лишь отправлен в изгнание на несколько лет. Один из сенаторов предложил, чтобы семье покойного героя — Тиберию, Ливии, моей матери Антонии, Агриппине и Кастору — была выражена общественная благодарность за то, что они отомстили за его смерть. Но не успели сенаторы проголосовать за это предложение, как один из моих друзей, экс-консул, который был губернатором Африки до Фурия, поднялся, чтобы внести поправку. Здесь упущено одно важное имя, сказал он, а именно: имя брата усопшего героя — Клавдия, который сделал больше, чем кто-либо другой, чтобы подготовить материалы обвинения и уберечь свидетелей от назойливого любопытства. Тиберий пожал плечами и сказал, что ему странно слышать, будто кто-то прибег к моей помощи; возможно, если бы обошлись без нее, обвинения против Пизона выглядели бы более убедительными. (Я действительно председательствовал на встрече друзей моего брата и решал, с каким показанием кто из них выступит; не скрою, я не советовал обвинять Пизона в том, что он подсыпал Германику яд собственной рукой, но они переспорили меня. И я надежно спрятал Помпония и троих вольноотпущенников Германика на ферме возле моей виллы в Капуе до дня суда. Я пытался спрятать Мартину в доме знакомого купца в Брундизии, но Сеян выследил ее). Тиберий разрешил, чтобы мое имя вписали в благодарственный список, но это было для меня ничто по сравнению с благодарностью Агриппины. Она понимает теперь, сказала Агриппина, что имел ввиду Германик, когда говорил ей перед смертью, будто самый верный друг, какой у него был, это его бедный брат Клавдий.
Всеобщее возмущение Ливией было так велико, что, сославшись на это, Тиберии опять не обратился к сенату с просьбой даровать ей титул, который так часто ей обещал. Все хотели знать, что это значит, когда бабка удостаивает милостивой беседой убийцу внука и избавляет ее от мести сената. Ответ может быть один: бабка сама подстроила убийство и ничуть этого не стыдится; вряд ли жене и детям ее жертвы осталось долго жить после него.
Глава XXII
Германик был мертв, но Тиберий все равно не чувствовал себя в безопасности. Сеян без конца пересказывал ему, что тот или иной известный человек шепнул насчет него во время процесса Пизона. Перефразируя слова, некогда сказанные им же о своих солдатах: «Пусть боятся меня, лишь бы повиновались», Тиберий теперь говорил Сеяну: «Пусть ненавидят меня, лишь бы боялись». Трех всадников и двух сенаторов, которые откровеннее других критиковали его, Тиберий приговорил к смерти по нелепому обвинению в том, что, услышав о гибели Германика, они якобы выразили удовольствие. Доносители разделили между собой их имущество.
Примерно в это время старший сын Германика Нерон[100] достиг совершеннолетия. Он был похож на отца внешностью и чудесным характером, и, хотя не обещал быть таким умелым воином или талантливым управителем, как Германик, Рим многого от него ждал. Все радовались, когда он женился на дочери Кастора и Юлиллы, которую мы сперва называли Еленой из-за ее поразительной красоты (настоящее ее имя было Юлия), а потом Хэлуон, что значит «обжора», потому что она испортила свою красоту чревоугодием. Нерон был любимцем Агриппины. Все дети Германика, будучи из рода Клавдиев, делились на хороших и плохих, по словам баллады: на сладкие яблоки и кислицу. Кислицы было больше. Из девяти детей, которых Агриппина родила Германику, трое умерли в детстве — две девочки и мальчик, — и, судя по тому, что я видел, этот мальчик и старшая из девочек были лучшими из девяти. Август так любил этого мальчика, умершего, когда ему исполнилось восемь лет, что держал у себя в спальне его портрет в виде купидона и имел обыкновение, встав утром с постели, целовать его. Но из оставшихся в живых только Нерон мог похвалиться хорошим нравом. Друз был угрюмый, нервозный, с дурными наклонностями. Друзилла была похожа на него. Калигула, Агриппинилла и последняя девочка, которую мы звали Лесбия, были так же, как и младшая из умерших дочерей, скверными во всех отношениях. Но Рим судил о всей семье по Нерону, потому что пока он единственный достиг того возраста, когда на тебя обращают внимание. Калигуле тогда было всего девять лет.
Однажды, во время моего приезда в Рим, ко мне пришла очень встревоженная Агриппина, чтобы посоветоваться со мной. Куда бы она ни пошла, сказала Агриппина, она чувствует, что за ней кто-то следит, она от этого просто больна. Знаю ли я кого-нибудь, кроме Сеяна, кто может воздействовать на Тиберия? Она уверена, что он решил убить ее или отправить в изгнание, если только ему удастся найти хоть малейший предлог. Я сказал, что знаю только двух людей, оказывающих на Тиберия благотворное влияние. Один из них — Кокцей Нерва, другой — Випсания. Тиберий так и не смог вырвать из сердца любовь к ней. Когда у нее с Галлом подросла внучка, которая в пятнадцать лет очень напоминала Випсанию такой, какой она была до развода с Тиберием, Тиберий даже думать не мог о том, чтобы отдать девушку кому-нибудь в жены, и не женился на ней сам лишь потому, что она была племянницей Кастора и брак мог считаться кровосмесительным. Поэтому Тиберий назначил ее главной весталкой, преемницей старой Окции, которая недавно умерла. Я сказал Агриппине, что, если она подружится с Кокцеем и Випсанией (которая, будучи матерью Кастора, сделает все, чтобы ей помочь), она и ее дети будут в безопасности. Агриппина послушалась моего совета. Випсания и Галл, очень жалевшие ее, разрешили ей пользоваться своим городским домом и тремя виллами как ее собственными и много возились с ее детьми. Галл, например, выбрал для них новых наставников, так как Агриппина подозревала, что старые — агенты Сеяна. От Нервы помощи было меньше. Он являлся знатоком законов, величайшим авторитетом по части контрактов, о которых он написал несколько юридических трудов, но во всем остальном был таким рассеянным и ненаблюдательным, что казался чуть ли не дурачком. Он был добр к Агриппине, как и ко всем, но не понимал, чего она от него ждет.
К сожалению, Випсания вскоре умерла, и это сразу сказалось на Тиберии. Он больше и не пытался скрыть свои порочные наклонности, слухам о которых люди просто отказывались верить. Некоторые из его пороков были ужасны и противоестественны, что никак не вязались с представлением о достоинстве императора Рима, избранного Августом. Ни женщины, ни юноши не могли теперь чувствовать себя при нем в безопасности, даже жены и дети сенаторов, — если им дорога была собственная жизнь и жизнь их мужей и отцов, они, не противясь, делали то, что он от них требовал. Но одна жена консула потом покончила с собой в присутствии друзей, сказав им, что была вынуждена ради спасения юной дочери от похоти Тиберия предложить вместо нее себя, но этого ему показалось мало: воспользовавшись ее уступчивостью, старый козел принудил ее к таким чудовищным и грязным действиям, что лучше умереть, чем жить с воспоминаниями о них.
В это время повсюду распевали популярную песенку, начинавшуюся словами «О почему, о почему старый козел?..». Я бы сгорел от стыда, если бы привел ее всю целиком, но она была столь же остроумна, сколь неприлична; написала ее, по слухам, сама Ливия. Это была не единственная сатира на Тиберия, вышедшая из-под ее пера и пущенная анонимно в оборот при помощи Ургулании. Ливия знала, что рано или поздно они попадутся Тиберию на глаза, знала, что эти стишки очень его задевают, и думала, что, пока он считает, будто положение его из-за них неустойчиво, Тиберий не осмелится с ней порвать. Ливия из кожи лезла вон, стараясь привлечь к себе Агриппину, и даже рассказала ей по секрету, что Тиберий без ее ведома дал Пизону указание всячески донимать Германика. Агриппина не доверяла ей, но из всего этого было ясно, что между Ливией и Тиберием — вражда, а как сказала мне Агриппина, если уж ей придется выбирать между ними, она предпочтет прибегнуть к покровительству Ливии. Я был склонен с ней согласиться. По моим наблюдениям никто из фаворитов Ливии еще не стал жертвой доносителей Тиберия. Но страшно было подумать, что может случиться, если Ливия умрет.
Особенно тревожили меня, хотя я и не мог толком объяснить почему, тесные узы, которые обязывали Ливию и Калигулу. Калигула вел себя с людьми, как правило, или нагло, или подобострастно, иного поведения он не знал. С Агриппиной, моей матерью со мной, с Кастором и своими братьями, например, он вел себя нагло. Перед Сеяном, Тиберием и Ливиллой пресмыкался. Но с Ливией он был другим, не знаю, как яснее выразить свою мысль, — казалось, он в нее влюблен. Это было не похоже на обычную привязанность маленького мальчика к балующей его бабушке, вернее прабабушке, хотя действительно, Калигула как-то раз приложил много усилий, чтобы переписать нежные стишки в подарок Ливии на ее семидесятипятилетие, а она задаривала его подарками. У меня создалось впечатление, что они делят друг с другом какую-то неблаговидную тайну, хотя я вовсе не хочу сказать, будто между ними были предосудительные отношения. Агриппина, по ее словам, это тоже чувствовала, но не могла обнаружить ничего определенного.
Я наконец понял, почему Сеян так вежлив со мной: он предложил, чтобы мой сын Друзилл помолвился с его дочерью. Мне это не очень пришлось по душе, но лишь потому, что было жаль девочку, судя по всему, славную малышку. Каким мужем ей будет Друзилл, который каждый раз, когда я видел его, казался мне все более неуклюжим и глупым? Но сказать о своих чувствах я не мог. Тем более я не мог сказать, что сама мысль хоть о каком-то родстве с этим негодяем Сеяном мне глубоко противна. Он заметил, что я медлю с ответом, и спросил, не считаю ли я этот союз ниже достоинства своей семьи. Я, заикаясь, пробормотал: нет, конечно же, не считаю, его ветвь рода Элиев весьма почтенна. Сеян, хотя по рождению сын простого сельского всадника, был в юности усыновлен богатым сенатором из рода Элиев, консулом, оставившим ему все свои деньги; с этим усыновлением был связан какой-то скандал, но факт оставался фактом — Сеян был из Элиев. Он настаивал, чтобы я объяснил свою нерешительность: если этот брак мне не по нутру, он сожалеет, что заговорил о нем, но, понятно, сделал он это по совету Тиберия. Поэтому я сказал, что раз предложил этот союз сам Тиберий, я буду рад дать на него согласие, смущает меня одно: не рано ли четырехлетней девочке быть помолвленной с мальчиком тринадцати лет, который лишь в двадцать один год сможет формально вступить в брак, а до этого, возможно, окажется вовлечен в другие связи. Сеян улыбнулся и сказал, что он уверен — я прослежу, чтобы мой сын держался подальше от греха.
23 г. н. э.
В городе поднялось большое смятение, когда узнали, что Сеян породнится с императорской фамилией, но все спешили поздравить его, да и меня. Через несколько дней Друзилл умер. Его нашли на земле за кустом в саду каких-то друзей Ургуланиллы, пригласивших его из Геркуланума в Помпею. В горле его застряла небольшая груша.
На дознании было сказано, что он подкидывал грушу в воздух и пытался поймать ее ртом. Нет сомнений, это несчастный случай. Но никто в это не верил. Было ясно, что Ливия, с которой не посоветовались относительно женитьбы одного из ее правнуков, устроила так, чтобы мальчика задушили, а затем сунули грушу ему в рот. Как было принято в таких случаях, дерево обвинили в убийстве, а потом, согласно приговору, вырыли из земли с корнем и сожгли.
Тиберий попросил сенат утвердить за Кастором звание трибуна. Это было равносильно тому, что назвать его своим преемником. Просьба его у всех вызвала облегчение. Она свидетельствовала о том, что Тиберию известны честолюбивые притязания Сеяна и он намерен их пресечь. Когда декрет был принят, кто-то из сенаторов предложил, чтобы его высекли на стене сената золотыми буквами. Никому было невдомек, что честь эта была оказана Кастору по совету самого Сеяна; он намекнул Тиберию, будто Кастор, Агриппина, Ливия и Галл объединили свои силы, и, отметив высоким званием Кастора, можно будет выяснить, кто еще входит в их партию. Сделать надпись золотыми буквами предложил один из друзей Сеяна, и имена сенаторов, поддержавших это нелепое предложение, были тут же записаны. Кастор стал куда более популярен среди лучших граждан Рима, чем в былые дни. Он перестал пить — смерть Германика отрезвила его — и хотя по-прежнему чрезмерно увлекался кровавыми гладиаторскими боями, чрезвычайно роскошно одевался и делал огромные ставки на бегах, он был добросовестный судья и верный друг. Я редко имел с ним дело, но когда мы встречались, он обращался со мной гораздо уважительнее, чем до смерти Германика.
Их с Сеяном жестокая ненависть друг к другу всегда угрожала вспыхнуть ярким пламенем, но Сеян старался не вызывать Кастора на ссору до тех пор, пока ее нельзя было использовать в своих интересах. Теперь это время пришло. Сеян отправился во дворец, чтобы поздравить Кастора со званием трибуна и нашел его в комнате вместе с Ливиллой.
Там не было ни вольноотпущенников, ни рабов, поэтому Сеян мог не стесняться в выражениях. К этому времени Ливилла по уши была в него влюблена, и он мог рассчитывать, что она предаст Кастора точно так, как некогда предала Постума, — Сеян каким-то образом узнал об этой истории. Однажды в какой-то беседе они даже посетовали, что они не императорская чета, — вот когда можно было бы делать все, что вздумается.
— Ну, Кастор, — сказал Сеян, — я хорошо обстряпал для тебя это дельце. Мои поздравления.
Кастор нахмурился. Кастором его называли только немногие, самые близкие друзья. Он получил это прозвище, как я, по-моему, уже объяснял, благодаря сходству с известным гладиатором, но закрепилось оно за ним из-за ссоры на пиру с каким-то всадником. Всадник сказал ему в глаза, что он пьян и ни на что не способен, и Кастор, выйдя из себя, с криком «Пьян и ни на что не способен, да? Я покажу тебе, пьян ли я, и на что я способен!» слез, шатаясь, с ложа и нанес всаднику такой страшный удар в живот, что тот изрыгнул все, что съел. Теперь Кастор сказал Сеяну:
— Я не позволяю называть меня Кастором никому, кроме друзей и равных мне. А ты — ни первое, ни второе. Для тебя я — Тиберий Друз Цезарь. И я не понимаю, на что ты намекаешь, говоря, будто что-то для меня «обстряпал». И мне не нужны твои поздравления, о чем бы ни шла речь. Так что убирайся отсюда!
Ливилла:
— Что касается меня, я считаю трусостью с твоей стороны оскорблять Сеяна, не говоря уж о том, что ты неблагодарно выгоняешь его прочь, как собаку, когда он пришел поздравить тебя с почетным назначением. Ты сам знаешь, что твой отец никогда не дал бы тебе это звание, если бы не рекомендация Сеяна.
Кастор:
— Ты болтаешь глупости, Ливилла. Подлый доноситель имеет к этому такое же отношение, как мой евнух Лигд. У него раздутое самомнение. И скажи мне, Сеян, при чем тут трусость?
Сеян:
— Твоя жена права. Ты — трус. Ты не осмеливался разговаривать со мной подобным образом до того, как я сделал тебя трибуном и твоя личность стала неприкосновенной. Ты прекрасно знаешь, что иначе я бы тебя вздул.
— И поделом, — добавила Ливилла.
Кастор переводил взгляд с одного лица на другое, затем медленно сказал:
— Значит, между вами двумя что-то есть, да?
Ливилла презрительно улыбнулась:
— Предположим, что есть. Кто из вас лучше?
— Ладно, моя милая, — вскричал Кастор, — сейчас мы это увидим! Забудь на минуту, что я трибун, Сеян, и пусти в ход кулаки.
Сеян сложил руки на груди.
— Что, боишься?!
Сеян ничего не сказал, и Кастор с силой ударил его ладонью по щеке.
— А теперь убирайся!
Сеян вышел, раскланиваясь с преувеличенной почтительностью. Ливилла последовала за ним.
Этот удар решил судьбу Кастора. Сеян явился к Тиберию, пока след от пощечины еще не пропал, и заявил, будто, придя к Кастору поздравить его со званием трибуна, нашел его пьяным и тот хлестнул его по лицу, сказав: «Да, приятно ударить человека, зная, что он не ударит в ответ. И можешь передать моему отцу, что я сделаю то же самое с каждым из его вонючих доносчиков». На следующий день Ливилла пришла пожаловаться, что Кастор ее избил, и подтвердила слова Сеяна. Кастор, мол, избил ее потому, что она не скрыла, как ей противно видеть, когда бьют человека, который не может ответить тем же, и слышать, когда оскорбляют своего отца. Тиберий поверил им обоим. Он ничего не сказал Кастору, но поставил бронзовую статью Сеяна в театре Помпея — необычайно высокая честь, если ее оказывают человеку при жизни.[101] Люди сделали вывод, что Кастор, несмотря на звание трибуна, попал в опалу (Сеян и Ливилла распространяли повсюду свою версию ссоры) и Сеян — единственный человек, чьей милости стоит добиваться. Поэтому было отлито много копии этой статуи и приверженцы Сеяна ставили их на почетное место в парадных залах своих домов по правую руку от статуи самого Тиберия, а статуи Кастора редко где можно было увидеть. Всякий раз, когда Кастор встречал отца, на его лице ясно читались обида и возмущение, и это сделало задачу Сеяна совсем легкой. Он сказал Тиберию, будто Кастор прощупывал различных сенаторов насчет того, поддержат ли они его, если он захватит верховную власть, и кое-кто уже обещал ему свою помощь. Те из них, которые казались Тиберию наиболее опасными, были арестованы все по тому же привычному обвинению в богохульстве по отношению к Августу. Одного приговорили к смерти за то, что он зашел в уборную, держа в руке золотую монету, где был высечен профиль Августа. Другому вменили в вину то, что он включил статую Августа в список дачной мебели, предназначенной для продажи. Его тоже приговорили бы к смерти, если бы консул, разбиравший это дело, не попросил Тиберия голосовать первым. Тиберию было неудобно голосовать за смертный приговор, и сенатора оправдали, но вскоре осудили по другому обвинению.
Кастор перепугался и обратился к Ливии за помощью против Сеяна. Ливия сказала, чтобы он успокоился, она скоро образумит Тиберия. Но она не доверяла Кастору и боялась брать его в союзники. Она пошла к Тиберию и сказала ему, будто Кастор обвиняет Сеяна в том, что он совратил Ливиллу, злоупотребляя своим положением доверенного лица, шантажирует богатых людей и от имени Тиберия вымогает у них деньги и сам зарится на единовластие; Кастор сказал, добавила она, что, если Тиберий в ближайшем будущем не прогонит этого негодяя, он возьмет это в свои руки, и просил ее содействия. Представив дело таким образом, Ливия надеялась, что Тиберий станет так же мало доверять Сеяну, как Кастору, и по старой привычке будет полагаться только на нее. На какое-то время она преуспела в этом. Но затем произошел случай, показавший Тиберию, что Сеян действительно предан ему, о чем свидетельствовали и все его прошлые поступки. Однажды Сеян, Тиберий и несколько друзей отправились на пикник в грот на берегу моря; вдруг раздался грохот, и часть естественной кровли обвалилась, убив несколько слуг и похоронив под обломками остальных; вход в пещеру оказался завален. Сеян, встав над Тиберием на четвереньки — ни тот ни другой не были ранены, — прикрыл его от продолжавших падать обломков своей спиной. Когда час спустя солдаты их откопали, Сеян стоял все в той же позе. Между прочим, Фрасилл в тот день тоже упрочил свое положение: он сказал утром Тиберию, что незадолго до полудня будет час тьмы, равно как заверил Тиберия, что он на много лет переживет Сеяна и Сеян ему не опасен. Я думаю, Сеян договорился об этом с Фрасиллом, но доказательств тому у меня нет; Фрасилл не был таким уж бессребренником, но когда он предсказывал что-то согласно желанию своих клиентов, его пророчества исполнялись так же, как обычные предсказания. Тиберий и правда пережил Сеяна на несколько лет.
Тиберий дал еще одно публичное подтверждение того, что Кастор в немилости, сделав ему в сенате выговор за присланное туда письмо. Кастор просил извинить его за отсутствие на жертвоприношениях при открытии сената после летнего роспуска, объясняя, что его задерживает другое общественное дело и он не сумеет вернуться в город вовремя. Тиберий сказал с насмешкой, что можно подумать, будто малый воюет в Германии или отправился с дипломатическим поручением в Армению, когда задержавшее его «общественное дело» — всего лишь ловля рыбы и купание в Террацине. Тиберий добавил, что ему самому простительно на склоне лет иногда покидать город; он вправе сослаться на то, что силы его иссякли в результате долгой государственной службы мечом и пером. Но что, кроме наглости, могло задержать его сына? Это было очень несправедливо: Кастору поручили за время летнего отпуска подготовить отчет о береговых оборонительных сооружениях, а он не успел собрать к сроку все сведения и предпочел закончить работу, вместо того чтобы ездить попусту в Рим, а затем обратно в Террацину.
Не успел Кастор вернуться, как тут же заболел. По симптомам это была скоротечная чахотка. Он побледнел, похудел и харкал кровью. Кастор написал Тиберию и просил прийти к нему — они жили в разных концах дворца, — он умирает и хочет получить прощение отца за те обиды, которые он, сам того не желая, когда-нибудь ему нанес. Сеян отговорил Тиберия идти туда: возможно. Кастор на самом деле болен, но, с другой стороны, возможно, это просто уловка, чтобы заманить Тиберия к себе и убить. Поэтому Тиберий не пошел к сыну, а спустя несколько дней тот умер.
23 г. н. э.
О смерти Кастора не очень сожалели. Его необузданный, жестокий нрав и дурная слава заставляли горожан со страхом думать о том, что случится, если он станет преемником отца. Мало кто верил в его исправление. Большинство людей считало это просто хитростью, чтобы завоевать народную любовь, и он будет так же плох, как Тиберий, стоит ему занять его пост. А тут подрастают сыновья Германика — Друз тоже как раз достиг совершеннолетия, — они, бесспорно, наследники Тиберия. Но сенат из почтения к Тиберию оплакивал смерть Кастора так громко, как мог, и присудил ему такие же посмертные почести, как Германику. Сам Тиберий не делал вида, будто он очень скорбит о сыне, и произнес приготовленное им надгробное слово твердым, звучным голосом. Когда Тиберий увидел, что по лицам некоторых сенаторов катятся слезы, он сказал достаточно внятно «в сторону», обращаясь к стоявшему рядом Сеяну: «Фу, здесь пахнет луком!». Затем поднялся Галл и выразил свое восхищение тем, как хорошо Тиберий справился со своим горем. Он напомнил всем, что даже божественный Август, будучи среди них в смертном обличии, не смог совладать с чувствами, вызванными смертью Марцелла, его приемного сына (даже не родного), и когда он благодарил сенат за участие, ему пришлось прервать свою речь на середине, так обуревала его печаль. А та речь, которую мы только что слышали, является блестящим образцом самообладания. (Здесь будет уместным заметить, что когда четыре или пять месяцев спустя из Трои прибыли представители греков, чтобы выразить свое соболезнование Тиберию по поводу смерти его единственного сына, Тиберий поблагодарил их так: «А я соболезную вам, уважаемые, по поводу смерти Гектора»).[102] Затем Тиберий послал за Нероном и Друзом и, когда они прибыли, взял каждого из них за руку и представил их сенату:
— Господа сенат, три года назад я вверил этих оставшихся без отца детей попечению их дяди, моего дорогого сына, которого мы горячо оплакиваем сегодня, желая, чтобы он их усыновил, хотя у него уже были родные сыновья, и воспитал достойными наследниками семейной традиции. («Правильно! Правильно!» — с места Галла, и всеобщие аплодисменты.) Но теперь, когда жестокая судьба похитила его у нас (стоны и сетования), я обращаюсь с подобной просьбой к вам. В присутствии богов, перед лицом нашей любимой родины, я молю вас взять под свое покровительство, под свою опеку этих благородных праправнуков Августа, чьи предки прославили свои имена в римской истории: постарайтесь, чтобы вы и я честно выполнили свои обязанности по отношению к ним. Внуки, эти сенаторы заняли теперь место вашего отца; ваше происхождение столь высоко, что какая бы, хорошая или злая, вас ни постигла участь, это тут же отразится на судьбе государств. (Оглушительные аплодисменты, слезы, благословения, заверения в верности).
Но вместо того, чтобы поставить здесь точку, Тиберий испортил все впечатление, закончив в своем обычном духе приевшимися всем фразами о том, что он скоро уйдет в отставку и восстановит республику, когда «консулы или кто-нибудь другой снимут бремя правления» с его «согбенных плеч». Если он не хотел, чтобы Нерон и Друз (или один из них) стали его преемниками, что он имел в виду, отождествляя их судьбу с судьбой Рима?
Похороны Кастора не были столь волнующими, как похороны Германика, — мало кто искренне о нем горевал, — но зато куда более великолепными. В похоронной процессии можно было увидеть все фамильные изображения Цезарей и Клавдиев, начиная с Энея, родоначальника Юлиев, и Ромула, основателя Рима, и кончая Гаем, Луцием и Германиком.[103] Было здесь также изображение Юлия Цезаря — он, как и Ромул, считался только полубогом, но Августа не было, ведь он был богом поважнее.
Сеяну и Ливилле пришлось призадуматься над тем, как осуществить свою честолюбивую мечту стать императором и императрицей. На пути у них стояли Нерон, Друз и Калигула — их предстояло устранить. Избавиться от троих без шума было трудновато, но, как заметила Ливилла, сумела же бабка избавиться от Гая, Луция и Постума, когда захотела передать власть Тиберию. А Сеян, тут и спору нет, был в куда более благоприятном положении, чтобы выполнить их план, чем была тогда Ливия. Желая показать Ливилле, что он действительно, как и обещал, намерен на ней жениться, Сеян развелся со своей женой Апикатой, от которой у него было трое детей. Он обвинил ее в прелюбодеянии и заявил, что она собирается стать матерью ребенка, зачатого не от него. Он не назвал во всеуслышание имени ее любовника, но сказал Тиберию, когда они были наедине, что подозревает Нерона. У Нерона, добавил он, плохая репутация из-за его интрижек с женами известных людей; он, видимо, воображает, будто может вести себя как ему вздумается, раз его прочат в наследники престола. Тем временем Ливилла делала все возможное, чтобы лишить Агриппину покровительства Ливии: она предупредила Агриппину, что Ливия лишь использует ее как орудие в своей ссоре с Тиберием — это случайно соответствовало истине, — и предупредила Ливию через одну из ее прислужниц, что Агриппина использует ее как орудие в своей ссоре с Тиберием — что также соответствовало истине. Ливилла заставила их обеих поверить, будто каждая из них поклялась убить другую, как только надобность в ней отпадет.
Двенадцать понтификов начали включать имена Нерона и Друза в молитвы о здоровье и благоденствии императора, и другие жрецы последовали их примеру. Тиберий, будучи великим понтификом, направил им письмо, где выразил свое недовольство тем, что они не делают разницы между этими мальчишками и им самим, человеком, который с честью занимал все важнейшие государственные посты за двадцать лет до того, как они родились, и занимает их до настоящего времени; это просто неприлично. Тиберий вызвал понтификов к себе и поинтересовался, уговорила ли их Агриппина сделать это дополнение к обычной молитве или заставила угрозами. Они, естественно, отрицали и то и другое, но не убедили его; четверо из двенадцати понтификов, в том числе Галл, были так или иначе связаны с Агриппиной семейными узами, пятеро были с ней и се сыновьями в дружеских отношениях. Тиберий сделал им суровый выговор. В своей следующей речи он предупредил сенат «не давать никаких преждевременных отличий, от которых у молодых людей может закружиться голова и они станут предаваться самонадеянным мечтам».
Агриппина нашла неожиданного союзника в Кальпурнии Пизоне. Он сказал ей, что вступился за своего дядю Гнея Пизона просто ради чести семьи, и она не должна считать его врагом, он приложит все старания для защиты ее самой и ее детей. Но после этого разговора Кальпурний недолго прожил. Его обвинили в «изменнических словах, произнесенных в частной беседе», в том, что он держит дома яд, и в том, что он явился в сенат, вооруженный кинжалом. Последние два обвинения были настолько нелепы, что сенат их отвел, но назначили день для разбирательства по поводу «изменнических слов». Не дожидаясь суда, Кальпурний покончил жизнь самоубийством.
Тиберий поверил Сеяну, будто в Риме существует организованная Агриппиной тайная партия «зеленых», членов которой можно узнать по их горячей поддержке «зеленого» возницы на бегах. Возницы каждой из четырех участвующих в бегах колесниц различались шестом своей одежды: красным, синим, зеленым и белым. В это время самым большим успехом пользовался возница в зеленом, а красный был самым непопулярным. И вот, когда, отправившись в праздники на бега, к чему его обязывало положение — сам он никогда не интересовался бегами и всегда обрывал пустые разговоры о них во дворце или на пирах, — Тиберий начал впервые обращать внимание на то, какую поддержку получает та или иная колесница, он с большим беспокойством обнаружил, что громче всех приветствуют возницу в зеленом. Сеян также сказал ему, что для «зеленых» красный цвет — символ императора и его сторонников, и теперь Тиберий заметил, что, когда побеждает возница в красном — хотя случалось это редко, — в цирке раздается шиканье и свист. Сеян был хитер: он знал, что Германик всегда поддерживал «зеленого» возницу и что Агриппина, Нерон и Друз в память о нем тоже предпочитают этот цвет.
В течение многих лет командующим войсками на Рейне был некий Силий. Я, кажется, уже упоминал о нем. Да, тот самый военачальник, чьи четыре полка не приняли участия в большом мятеже в Верхней Германии. Он был самый способный из заместителей брата и получил триумфальные украшения за победы над Германном. Незадолго до описываемых событий он, возглавив объединенные войска Верхней и Нижней провинций, подавил опасный бунт французских племен неподалеку от Лиона — места, где я родился. Он не отличался особой скромностью, но и хвастуном его нельзя было назвать, и если он действительно, как говорили, заявил во всеуслышание, будто, не сумей он найти подход к тем четырем полкам, они присоединились бы к мятежникам, а значит, не будь его, у Тиберия не было бы и империи, — он недалеко ушел от истины. Но Тиберию это, естественно, не понравилось, хотя бы потому, что, как я уже объяснил, мятежные полки были раньше под его командой. Жена Силия — Созия — была лучшей подругой Агриппины. Случилось так, что во время Больших Римских игр, которые были в начале сентября, Силий делал крупные ставки на возницу в зеленом. Сеян крикнул ему с противоположной стороны цирка:
— Я ставлю на красного! Бьюсь с тобой об заклад на любую сумму!
Силий крикнул в ответ:
— Ты ставишь не на тот цвет, мой друг! Красный возница понятия не имеет о том, как держать в руках вожжи. Он пытается достичь успеха хлыстом. Ставлю тысячу золотых, что выиграет зеленый. Молодой Нерон говорит, что готов поставить полторы тысячи: он горячий поклонник зеленого.
Сеян многозначительно посмотрел на Тиберия, который слышал весь этот обмен репликами и был поражен дерзостью Силия. Он счел хорошим предзнаменованием то, что во время предпоследнего заезда, пересекая линию финиша, возница и зеленом упал и красному досталась легкая победа.
Через десять дней Силий предстал перед сенатом по обвинению в государственной измене. Ему вменялось в вину то, что он не принял должных мер на ранних стадиях бунта во Франции и брал себе в уплату за невмешательство треть добычи, в том, что он воспользовался своей победой для дальнейшего грабежа верных жителей Франции, а затем обложил провинцию чрезвычайными налогами для возмещения военных издержек. Созия была обвинена в соучастии в тех же преступлениях. Со времени этого бунта Силий был непопулярен во дворце. Тиберия тогда сильно порицали за то, что он сам не возглавил кампанию против бунтовщиков и проявлял больше интереса к делам о государственной измене, чем к подавлению бунта. В качестве оправдания Тиберий сослался в сенате на свой возраст — а Кастор был занят другими важными делами — и объяснил, что он находится в тесной связи со штабом Силия и даст ему необходимые указания. Все, что касалось французского бунта, задевало Тиберия за живое. Когда французов разбили, один сенатор-острослов, по примеру Галла, выставил Тиберия на посмешище, предложив назначить ему триумф, ведь за победу на самом деле надо благодарить его. Тиберий в ответ высказался в том духе, что победа эта незначительна, и не стоит о ней говорить: он был так недоволен, что никто не решился предложить, чтобы Силию назначили триумфальные украшения, которые он, безусловно, заслужил. Силий был разочарован, и слова насчет германского мятежа были сказаны им от обиды на неблагодарность Тиберия.
Силий счел ниже своего достоинства отвечать на обвинения в государственной измене. Он ни о чем не договаривался с восставшими, а если его солдаты в некоторых случаях не видели разницы между имуществом мятежников и верных империи граждан, этого можно было ожидать: многие так называемые верные подданные Рима тайком финансировали бунт. Что до обложения налогом, то факты таковы: Тиберий обещал ему специальную сумму из государственной казны, чтобы покрыть издержки кампании и возместить римским гражданам, живущим в провинции, ущерб, нанесенный их домам, урожаю и скоту. В ожидании выплаты этих ассигнований Силий обложил налогом часть северных племен, обещая вернуть деньги, когда они будут выданы ему Тиберием, чего так до сих пор и не сделано. В результате бунта Силий лишился двадцати тысяч золотых, так как сформировал эскадрон добровольцев, который он вооружил за свой счет и которому платил из собственного кармана. Главный обвинитель Силия, один из консулов того года, со злобой стал говорить о его вымогательстве. Он был другом Сеяна и сыном военного губернатора Нижней провинции, который хотел получить верховное командование всеми римскими военными силами, посланными против французов, но должен был уступить место Силию. Силий не мог даже привести в качестве свидетельства обещание Тиберия относительно денег, так как письмо, где об этом шла речь, было запечатано печатью со сфинксом. Ну а разговоры о вымогательстве не имели отношения к делу — обвиняли-то его в государственной измене.
Под конец Силий воскликнул:
— Сиятельные отцы, я многое мог бы сказать в свою защиту, но не скажу ничего, потому что это разбирательство ведется незаконным образом и приговор вынесен давным-давно. Я прекрасно понимаю, что настоящее мое преступление заключается в словах относительно того, что, не найди я подход к полкам в Верхней Германии, они бы присоединились к мятежу. Сейчас вы окончательно убедитесь в моей виновности — я вам вот что скажу: если бы не «подход» Тиберия к войскам в Нижней Германии, там вообще не было бы мятежа. Друзья, я — жертва алчного, завистливого, жестокого, деспотичного…
Конец его речи потонул в гуле протестов со стороны перепуганных сенаторов. Силий отдал честь Тиберию и вышел, высоко подняв голову. Придя домой, он обнял Созию и детей, передал нежный прощальный привет Агриппине, Нерону, Галлу и остальным друзьям и, зайдя в спальню, вонзил меч себе в горло.
Оскорбления по адресу Тиберия сочли свидетельством его вины. Все имущество Силия было конфисковано с обещанием, что оно пойдет на возмещение несправедливо назначенного налога, а обвинители получат четверть оставшейся собственности, как того требует закон; деньги же, отказанные ему за верность Августом, должны быть возвращены в государственную казну, поскольку они были выплачены по недоразумению. Жители провинции не отважились настаивать на своих правах, и Тиберию достались три четверти имущества Силия — к этому времени уже не было разницы между военной, государственной и императорской казной. Впервые Тиберий получил прямую выгоду от конфискации имущества и позволил оскорбление своей личности считать доказательством государственной измены.
У Созии было личное достояние, и, чтобы спасти ей жизнь и избавить ее детей от нищеты, Галл потребовал отправить ее в изгнание, а собственность разделить пополам между обвинителями и детьми. Но один свойственник Агриппины, союзник Галла, предложил, чтобы обвинители получили только четверть всего имущества — законный минимум, — добавив, что Галл — верный приверженец Тиберия, но несправедлив к Созии, ведь всем известно: когда Силий лежал на смертном одре, она упрекала его за его вероломные и неблагодарные высказывания. Поэтому Созию всего лишь отправили в изгнание. Она уехала жить в Марсель, и поскольку, узнав, что ему грозит смертная казнь, Силий тут же потихоньку передал Галлу и другим друзьям большую часть своего достояния в звонкой монете, чтобы они сохранили эти деньги для его детей, семья его отнюдь не бедствовала. Старший сын Силия, когда вырос, доставил мне немало неприятностей.
С тех пор Тиберий, раньше обвинявший людей в измене под предлогом того, что они богохульствовали по адресу Августа, стал все чаще проводить в жизнь указ, принятый в первый год его правления, о том, что любые высказывания, направленные против него самого и порочащие его доброе имя, должны считаться государственным преступлением. Он обвинил одного сенатора, которого подозревал в принадлежности к партии Агриппины, в том, что тот читал вслух бранную эпиграмму, сочиненную на него. А дело было так: однажды утром жена сенатора заметила, что высоко на воротах дома прикреплен какой-то листок. Она попросила мужа прочитать, что там написано, — он был выше нее. Сенатор медленно прочитал, разбирая по буквам:
Хоть пить вино он перестал, Но выпивает вновь. Он просто взял другой бокал — В нем убиенных кровь.Жена наивно спросила, что это значит, и он ответил: «Опасно объяснять это на людях, дорогая». Возле ворот болтался профессиональный доносчик в надежде, что, когда сенатор прочитает эпиграмму — работу Ливии, он скажет что-нибудь компрометирующее его. Доносчик тут же отправился к Сеяну. Тиберий лично подверг сенатора допросу, спрашивая, что он имел в виду под «опасно» и на кого, по его мнению, написана эпиграмма. Сенатор ходил вокруг да около и не давал прямого ответа. Тогда Тиберий сказал, что, когда он был молод, по Риму циркулировало много пасквилей, обвиняющих его в пьянстве, но впоследствии доктора предписали ему воздерживаться от вина из-за предрасположенности к подагре, и вот в последнее время опять появились клеветнические стишки, на этот раз обвиняющие его в кровожадности. Тиберий спросил обвиняемого, не были ли ему известны эти факты и не думает ли он, что в эпиграмме как раз говорится об императоре? Несчастный человек ответил, что до него доходили слухи о пьянстве императора, но он им не верил, так как они не имели под собой оснований, и никак не связывал эти поклепы с эпиграммой у себя на воротах. Тогда его спросили, почему он не доложил о прежних пасквилях сенату, как ему предписывал это долг. Сенатор ответил, что тогда, когда он их слышал, произносить или повторять какую угодно эпиграмму, сколь бы бранной она ни была, написанную против любого, пусть самого добродетельного, человека, еще не считалось преступлением; даже если грубые и оскорбительные стишки были направлены против самого Августа, вас не обвиняли в государственной измене, лишь бы вы их не печатали. Тиберий спросил, о каком времени он говорит, ведь в конце жизни Август издал закон против таких стихов. Сенатор ответил:
— Это было на третий год твоего пребывания на Родосе.
— Сиятельные, — воскликнул Тиберий, — почему вы позволяете этому субъекту оскорблять меня?
И сенатора присудили к наказанию, которому обычно подвергали самых злостных предателей: полководцев, которые за плату проигрывали битву неприятелю, и им подобных, — его сбросили с Тарпейской скалы.[104]
Другого человека, всадника, казнили за то, что он сочинил трагедию о царе Агамемноне, в которой царица, убившая его в ванне, вскричала, замахиваясь топором:[105]
Тиран, я мщу тебе за все — Здесь преступленья нет!Тиберий сказал, что под Агамемноном подразумевался он сам и приведенные строки подстрекали к его убийству. Что придало трагедии, над которой все раньше посмеивались, так нескладно и скверно она была написана, своего рода величие, ведь все ее экземпляры были изъяты и сожжены, а автор казнен.
25 г. н. э.
За этим судебным делом последовало два года спустя другое — я пишу об этом здесь, так как история с Агамемноном напомнила мне о нем — дело Кремуция Корда, который вступил в столкновение с Сеяном из-за сущего пустяка. Однажды дождливым днем, войдя в здание сената, Сеян повесил свой плащ на крючок, куда обычно вешал плащ Кремуций, и тот, придя позже него и не зная, что плащ принадлежит Сеяну, перевесил его на другой крючок. Плащ Сеяна упал на пол, и кто-то наступил на него грязными сандалиями. Сеян принялся зло мстить за это Кремуцию, и тому стало настолько противно видеть его лицо и слышать его имя, что, когда статую Сеяна установили в театре Помпея, он воскликнул: «Это погубит театр!». Поэтому Сеян указал на него Тиберию как на главного сторонника Агриппины. Но так как Кремуций был почтенный кроткий старик, у которого не было ни одного врага на свете, кроме Сеяна, и который открывал рот только в случае крайней необходимости, обвинение против него было трудно подкрепить уликами, которые мог бы, не стыдясь, принять даже наш запуганный сенат. В конце концов Кремуция обвинили в том, что он в письменном виде восхвалял Брута и Кассия, убийц Юлия Цезаря. В качестве улики был предъявлен исторический труд, написанный Кремуцием за тридцать лет до того, который сам Август, приемный сын Юлия, включил, как было известно, в свою личную библиотеку и время от времени им пользовался.
Кремуций горячо защищался против этого нелепого обвинения. Он сказал, что Брут и Кассий так давно умерли и с тех пор их поступок так часто восхвалялся историками, что, по-видимому, весь этот процесс — розыгрыш, подобный тому, которому недавно подвергся молодой путешественник в Лариссе.[106] Этого юношу публично обвинили в убийстве трех человек, хотя жертвами его были три бурдюка с вином, висевшие у дверей лавки, которые он исполосовал мечом, приняв за грабителей. Но это судебное разбирательство происходило во время ежегодного Праздника смеха, что оправдывало все происходящее, и юноша любил выпить и уж очень был склонен пускать в ход свой меч — возможно, его и следовало проучить. Но он, Кремуций Корд, слишком стар, чтобы его выставляли подобным образом на посмешище, и сейчас не Праздник смеха, а, напротив, четыреста семьдесят шестая годовщина обнародования закона Двенадцати Таблиц, этого славного памятника законодательного гения и незыблемых моральных устоев наших предков.[107] После чего старик ушел домой и уморил себя голодом. Все экземпляры его книги, кроме двух или трех, которые его дочь спрятала и переиздала много лет спустя, уже после смерти Тиберия, были изъяты и сожжены. Книга эта не отличалась особенными достоинствами и пользовалась незаслуженной славой.
До тех пор я говорил себе: «Клавдий, ты ничем не блещешь, и толку от тебя на этом свете мало, и жизнь твоя не очень-то счастливая — не одно, так другое, но ей, во всяком случае, ничто не грозит». Поэтому, когда старый Кремуций, которого я очень хорошо знал — мы часто встречались и болтали в библиотеке, — лишился из-за такого обвинения жизни, я был до смерти напуган. Я чувствовал себя как человек, находящийся на склоне вулкана, когда тот внезапно начинает извергать пепел и раскаленные камни. Это было мне предостережением. В свое время я писал куда более крамольные вещи, чем Кремуций. В моей «Истории религиозных реформ» было несколько фраз, которые вполне могли послужить основой для обвинения. И хотя мое имущество было очень незначительно и доносителям не имело смысла ставить мне что-нибудь в вину, чтобы получить его четвертую часть, я отдавал себе отчет в том, что все жертвы последних процессов о государственной измене были друзьями Агриппины, а я продолжал посещать ее всякий раз, когда приезжал в Рим. Я не был уверен в том, насколько мое родство с Сеяном послужит мне защитой.
Да, в то самое время я породнился с Сеяном и сейчас расскажу, как это произошло.
Глава XXIII
Как-то раз Сеян сказал, что мне следовало бы снова жениться, похоже, я не очень-то лажу со своей теперешней женой. Я ответил, что Ургуланиллу выбрала мне бабка Ливия и я не могу развестись с ней, пока Ливия мне этого не разрешит.
— Конечно, нет, — сказал он, — я вполне это понимаю, но тебе, должно быть, трудно приходится без жены.
— Спасибо, — сказал я, — я вполне управляюсь.
Он сделал вид, будто это великолепная шутка, и, громко рассмеявшись, заметил, что я далеко не дурак, но затем добавил, чтобы я непременно пришел к нему, если у меня возникнет возможность развестись. У него есть для меня на примете подходящая женщина — хорошего происхождения, молодая и неглупая. Я поблагодарил Сеяна, но мне стало не по себе. Когда я выходил из комнаты, он сказал:
— Друг Клавдий, я хочу дать тебе совет. Ставь на красных завтра в каждом заезде и не огорчайся, если ты потеряешь немного денег, в конечном счете ты все равно выиграешь. И не ставь на зеленых, в наши дни этот цвет приносит несчастье. Не говори никому о моих словах, это только между нами.
Я почувствовал облегчение: видно, Сеян все же думает, будто следует искать со мной дружбы, но что крылось за его словами, я понять не мог. На следующий день во время бегов — был праздник, посвященный Августу, — Тиберий увидел меня в цирке и, будучи в хорошем расположении духа, послал за мной.
Тиберий:
— Что ты поделываешь сейчас, племянник?
Я ответил, заикаясь, что пишу «Историю древних этрусков», если он ничего не имеет против.
Он:
— Правда? Это говорит о твоем здравом смысле. На свете не осталось ни одного древнего этруска, чтобы возражать против этого, и вряд ли есть хоть один живой этруск, которого бы это заботило, так что ты можешь писать все, что вздумается. А еще чем ты занят?
— П-пи-ишу «Историю древних к-к-к-кар-карфагенян», с твоего разрешения.
— Великолепно! А что еще? И не трать время на заикание. Я человек занятой.
— В данный м-м-мо-момент я с-с-с-с…
— Сочиняешь «Историю с-с-страны идиотов»?
— Нет, если позволишь, с-с-с-ставлю на красных.
Он пристально посмотрел на меня и сказал:
— Вижу, племянник, что ты не так уж глуп. А почему ты ставишь на красных?
Я был в затруднении, так как не мог признаться, что делаю это по совету Сеяна. Поэтому я сказал:
— Мне приснилось, будто зеленого лишили права участвовать в играх, потому что он поднял хлыст на других в-в-в-возниц, и красный п-п-п-пришел первым; с-с-с-си-ний и б-б-б-белый остались далеко позади.
Тиберий дал мне кошелек с деньгами и пробормотал на ухо:
— Никому не говори, что деньги от меня, просто поставь их на красных, посмотрим, что из этого выйдет.
Это был счастливый для красных день, и, держа пари с молодым Нероном при каждом заезде, я выиграл около двух тысяч золотых. Я счел разумным посетить в тот же день Тиберия.
— Вот твой счастливый кошелек, государь, с целым выводком кошелечков, которые расплодились от него за этот день.
— Все мои? — воскликнул он. — Да, мне повезло. Красный — самый хороший цвет, верно?
Типично для моего дяди Тиберия. Он не оговорил точно, кому пойдет выигрыш, и я думал, что мне. Но если бы я проиграл, он бы сказал что-нибудь, чтобы я почувствовал себя его должником. Мог бы по крайней мере отдать мне комиссионные.
Когда я в следующий раз приехал в Рим, мать была в таком возбужденном состоянии, что я не решался раскрыть при ней рот, боясь, как бы она не вспылила и не дала мне затрещину. Насколько я понял, причиной ее расстройства были Калигула, которому недавно стукнуло двенадцать, и Друзилла — на год его старше, жившие тогда у нее. Друзилла была заперта в комнате без пищи, а Калигула, хоть и не был наказан, казался всерьез напуганным. Он пришел ко мне вечером и сказал:
— Дядя Клавдий, попроси бабушку не говорить про нас императору. Мы не делали ничего плохого, клянусь. Мы просто играли. Ты же не веришь этому про нас. Скажи, что не веришь.
Он объяснил, что именно не надо было говорить императору, и поклялся честью отца, что они с Друзиллой ни в чем не виноваты. Я почувствовал себя обязанным по мере моих сил им помочь и, отправившись к матери, сказал:
— Калигула клянется, что ты ошибаешься. Он клянется честью отца, и если у тебя есть хоть крупица сомнения в его вине, не отмахивайся от клятвы. Что до меня, я не могу поверить, чтобы двенадцатилетний мальчик…
— Калигула — чудовище, и Друзилла тоже, а ты — болван; я верю собственным глазам больше, чем их клятвам или твоей дурацкой болтовне. Завтра я прямо с утра пойду к Тиберию.
— Мать, если ты расскажешь обо всем императору, пострадают не только эти двое. Давай хоть раз поговорим откровенно. Может быть, я и болван, но ты знаешь не хуже меня, что Тиберий подозревает, будто Агриппина отравила Кастора, чтобы ее старшие сыновья унаследовали империю, и что он живет в страхе перед внезапным переворотом в их пользу. Если ты, бабка этих детей, обвинишь их в кровосмешении, думаешь, он не найдет способа привлечь за это к ответу старших членов семьи?
— Ты был и есть болван, говорю я. Видеть не могу, как у тебя трясется голова и дергается кадык.
Но я понял, что мои слова произвели на нее впечатление, и решил, что, если я не буду попадаться ей на глаза до отъезда из Рима, чтобы своим видом не напоминать о моем совете, возможно, Тиберий и не услышит от нее ничего об этом деле. Я уложил вещи и отправился в дом моего шурина Плавтия, чтобы попросить его приютить меня на несколько дней. (К этому времени Плавтий сделал хорошую карьеру, и через четыре года его ждала должность консула.) Я пришел к нему поздно вечером; он читал у себя в кабинете какие-то судебные бумаги. Жена уже легла, сказал он. Я спросил, как она поживает.
— Последний раз, что я ее видел, у нее был расстроенный вид.
Плавтий рассмеялся:
— Ах ты, сельский житель, ты разве не слышал? Я уже больше месяца как разошелся с Нумантиной. Когда я сказал «жена», я имел в виду свою новую жену, Апронию, дочь того самого человека, который не так давно задал взбучку Такфаринату.
Я извинился и сказал, что, видимо, должен поздравить его.
— Но почему ты развелся с Нумантиной? Мне казалось, вы жили в добром согласии.
— Прекрасно жили. Но, сказать по правде, я в последнее время оказался в трудном положении из-за долгов. Мне сильно не повезло несколько лет тому назад, когда я был младшим судьей. Ты сам знаешь, что, когда оказываешься в такой должности, тебе приходится во время игр платить из собственного кармана. Начать с того, что я потратил больше, чем мог себе позволить, к тому же, как ты помнишь, мне на редкость не везло. Два раза во время игр была допущена ошибка в ритуале, и я был вынужден назавтра все начинать сначала. В первый раз был виноват я сам — я произнес молитву по устаревшей форме, ее изменили правительственным указом за два года до того. А во второй раз трубачу не хватило дыхания, и пришлось прервать сигнал; этого оказалось достаточно, чтобы снова все прекратить, не доведя до конца. Вот мне и пришлось трижды платить гладиаторам и возницам. С тех пор я не вылезал из долгов. Мне надо было что-то предпринять, кредиторы стали переходить к угрозам. Приданое Нумантины было истрачено много лет назад, но мне удалось договориться с се дядей. Он согласился принять ее обратно без денег при условии, что я разрешу ему усыновить нашего младшего сына. Он хочет иметь наследника, а наш мальчик ему по сердцу. Апрония очень богата, так что все мои дела теперь уладились. Конечно, Нумантина вовсе не хотела меня покидать. Мне пришлось сказать ей, будто я пошел на это лишь потому, что, если я не женюсь на Апронии, которая в меня влюблена и к которой благоволят во дворце, меня обвинят, как мне намекнул некий друг некоего важного лица, в богохульстве по отношению к Августу. Понимаешь, не так давно один из рабов споткнулся и уронил алебастровую вазу с вином посередине зала. У меня в руках был хлыст, и, когда я услышал грохот, я накинулся на парня и принялся его хлестать. Я ничего не видел от ярости. Он сказал: «Остановись, хозяин, погляди, где мы». Одна нога этого негодяя была на священном квадрате белого мрамора, на котором стоит статуя Августа. Я тут же бросил хлыст, но меня видели не менее полудюжины вольноотпущенников. Я не сомневаюсь, что могу им доверять и никто из них не пойдет на меня доносить, но Нумантину этот случай встревожил, вот я и воспользовался им, чтобы примирить ее с разводом. Между прочим, все это — только между нами. Я надеюсь, ты не передашь ничего Ургуланилле. Не хочу от тебя скрывать, ее наш развод сильно рассердил.
— Я никогда с ней теперь не вижусь.
— Ну, если увидишься, не говори ей того, что я сказал тебе. Поклянись, что не скажешь.
— Клянусь именем божественного Августа.
— Вот и хорошо. Ты помнишь комнату, где ты спал в прошлый раз?
— Да, благодарю. Если ты занят, я лягу сейчас. Я проделал сегодня долгий путь из Капуи, а дома меня задали неприятности. Мать буквально выгнала меня за дверь.
Мы пожелали друг другу спокойной ночи, и я поднялся наверх. Вольноотпущенник, как-то странно на меня поглядев, дал мне лампу; я вошел в спальню, расположенную почти напротив спальни Плавтия, и, запершись, принялся раздеваться. Постель была под пологом. Я снял одежду и вымыл руки и ноги в тазике для умывания, стоявшем в другом конце комнаты. Вдруг позади меня раздались тяжелые шаги, и мою лампу задули. «Тебе крышка, Клавдий, — подумал я, — у него, конечно, есть кинжал». Но вслух я сказал как можно спокойнее:
— Зажги, пожалуйста, лампу, кто бы ты ни был, и мирно обо всем поговорим. А если ты хочешь убить меня, при свете тебе будет виднее.
— Оставайся на месте, — ответил мне низкий голос.
Послышалось шарканье, ворчанье, шелест надеваемой одежды, затем удар кремнем по стали, и наконец лампа зажглась. Передо мной была Ургуланилла. Я не видел ее с похорон Друзилла, и за эти пять лет она не стала привлекательнее. Она была толще, чем раньше, невероятно толста, с обрюзглым лицом; этот Геркулес в женском облике мог одолеть тысячу Клавдиев. У меня довольно сильные руки, но ей достаточно было навалиться на меня, и она задавила бы меня насмерть.
Ургуланилла подошла ко мне и спросила:
— Что ты делаешь в моей спальне?
Я постарался все ей объяснить и сказал, что это глупая шутка Плавтия — послать меня в спальню, не сказав, что она там. Я чрезвычайно уважаю ее, сказал я, и искренне прошу извинить меня за вторжение; я немедленно уйду и буду спать в общественных банях.
— Нет, голубчик, раз уж ты здесь, оставайся. Я не часто имею удовольствие быть в обществе своего супруга. Не обманывай себя — убежать тебе не удастся. Ложись и спи, я присоединюсь к тебе позднее. Я почитаю, пока меня не сморит сон. Я уже много ночей почти не сплю.
— Мне очень жаль, если я тебя разбудил…
— Ложись в постель.
— Я очень сожалею, что Плавтий развелся с Нумантиной. Я ничего об этом не знал, пока несколько минут назад мне не сказал об этом вольноотпущенник.
— Ложись и перестань болтать.
— Спокойной ночи, Ургуланилла. Я, право, очень…
— Ты замолчишь? — Она подошла и задернула полог.
Хотя я смертельно устал и у меня слипалось глаза, я изо всех сил старался не спать. Я был уверен, что Ургуланилла подождет, когда я усну, и затем задушит меня. А пока она читала вслух скучную книгу, греческую любовную повесть самого идиотского толка, шурша страницами и медленно, хриплым шепотом произнося по слогам каждое слово:
— «О, муд-рец, — ска-за-ла она, — ты вку-сил сей-час и меда, и желчи. Смот-ри, что-бы сла-дость тво-е-го удо-воль-ствия не об-ра-ти-лась завт-ра в го-речь рас-ка-я-ния!» «Че-пу-ха, — от-ве-тил я, — моя лю-би-мая, ее-ли ты ода-ришь ме-ня еще од-ним та-ким по-це-лу-ем, я го-тов под-жа-ри-вать-ся на мед-лен-ном ог-не, как ку-ри-ца или ут-ка!»
Ургуланилла хмыкнула и сказала громко:
— Засыпай, муженек, я жду, когда ты захрапишь.
— Тогда не читай таких волнующих историй, — запротестовал я.
Спустя некоторое время я услышал, что Плавтий идет к себе в спальню. «О, небеса, — подумал я, — еще несколько минут, и он уснет и не услышит через две двери моих криков, когда Ургуланилла будет меня душить». Ургуланилла перестала шептать, ее бормотание и шелест страниц больше не помогали мне бороться со сном. Я чувствовал, что засыпаю. Я спал. Я знал, что я сплю и должен проснуться. Я яростно боролся со сном. Наконец я очнулся. Послышался тихий стук и шорох бумаги — книга слетела со стола на пол, лампа погасла, в комнате был сильный сквозняк. Должно быть, открылась дверь. Минуты три я внимательно вслушивался. Тишина. Ургуланиллы в комнате не было.
Я раздумывал, что предпринять, как вдруг раздался истошный крик… казалось, кричат совсем рядом. «Пощади! Пощади! — кричал женский голос. — Это дело рук Нумантины! О! О!» Затем донесся грохот от падения какого-то тяжелого металлического предмета, звон бьющегося стекла, снова крик, мягкий удар где-то далеко, затем торопливые шаги по коридору. Кто-то вошел в комнату. Дверь тихо прикрылась, щелкнула задвижка. Я узнал тяжелое дыхание Ургуланиллы. Я слышал, как она раздевается и кидает одежду на стул, и вскоре она уже лежала рядом со мной. Я притворился, что сплю. Ургуланилла принялась нащупывать в темноте мое горло. Я сказал, словно не совсем еще проснулся:
— Перестань, детка, мне щекотно. Надо завтра поехать в Рим, привезти тебе благовония.
Затем более осмысленным голосом добавил:
— О, Ургуланилла! Это ты? Что за шум? Который час? Мы уже давно спим?
— Не знаю, — сказала она, — я проспала, должно быть, часа три. Скоро рассветет. Похоже, случилось что-то ужасное. Пойдем посмотрим.
Мы встали, второпях накинули одежду и вышли из комнаты. Плавтий, голый, лишь закутанный в покрывало, стоял посреди взволнованной толпы людей, держащих факелы. Он был вне себя и только повторял:
— Это не я. Я спал. Я почувствовал, что ее вырвали из моих объятий, и слышал ее крики о помощи откуда-то сверху, словно ее несли по воздуху, а затем грохот, будто что-то рухнуло, и удар — когда она упала из окна. Было темно, хоть глаза выколи. Она кричала: «Пощади! Это дело рук Нумантины!»
— Расскажи это судьям, — сказал брат Апронии, делая шаг к нему, — увидишь, поверят ли они тебе. Ты убил ее, не отпирайся. У нее проломлен череп.
— Это не я, — повторил Плавтий. — Как я мог это сделать? Я спал. Это колдовство. Нумантина — ведьма.
Рано утром отец Апронии отвел Плавтия к Тиберию. Тот допросил его с пристрастием. Плавтий сказал теперь, что, пока он спал крепким сном, Апрония вырвалась из его объятий, с криком помчалась по комнате и выпрыгнула в окно. Тиберий велел тут же пронести его на место преступления. Первое, что он заметил в спальне — его собственный свадебный подарок: прекрасный бронзовый с золотом светильник из царской гробницы, лежавший разбитым на полу. Тиберий взглянул наверх и увидел, что он был выдран из потолка.
— Она цеплялась за светильник, и он упал, — сказал Тиберий. — Кто-то нес ее к окну на плечах. И взгляните, как высоко в окне пробита дыра. Апрония не сама выпрыгнула, ее выбросили.
— Это колдовство, — сказал Плавтий, — ее несла по воздуху какая-то невидимая сила. Апрония кричала и обвиняла мою прежнюю жену Нумантину.
Тиберий презрительно усмехнулся. Друзья Плавтия поняли, что его обвинят в убийстве, присудят к смертной казни, а имущество конфискуют. Поэтому его бабка Ургулания послала Плавтию кинжал, сказав, что он должен подумать о детях: если он предвосхитит приговор, немедля покончив с собой, им оставят имущество. Плавтий был трус и не решался сам наложить на себя руки. Наконец он лег в ванну с горячей водой, велел врачу вскрыть ему вены и медленно и безболезненно истек кровью. Мне все это было крайне неприятно. В первый момент я не обвинил Ургуланиллу в убийстве, ведь меня спросили бы, почему, услышав крики о помощи, я не вскочил с постели и не спас Апронию. Я решил подождать суда и выступить со своим заявлением, только если Плавтию будет грозить смертный приговор. О кинжале я узнал, когда было уже слишком поздно. Я утешал себя мыслью, что Плавтий жестоко обошелся с Нумантиной, и к тому же всегда был мне плохим другом. Чтобы смыть пятно позора с имени Плавтия и оставить по нему хорошую память, его брат обвинил Нумантину в том, что она помрачила его рассудок колдовством. Но Тиберий вмешался в это дело, сказав, что, на его взгляд, Плавтий в то время, бесспорно, находился в здравом уме. И обвинение с Нумантины было снято.
С Ургуланиллой я после той ночи не обменялся ни словом. Но месяц спустя Сеян неожиданно зашел ко мне, когда проезжал через Капую. Он сопровождал Тиберия на Капри, остров неподалеку от Неаполя, где у Тиберия было двенадцать вилл и куда он частенько ездил развлекаться.
— Теперь ты сможешь развестись с Ургуланиллой, — сказал Сеян. — Она ждет через пять месяцев ребенка, так сообщили мне мои агенты. Можешь поблагодарить за это меня. Мне было известно о безумной любви Ургуланиллы к Нумантине. Я случайно увидел молодого раба, грека, который мог сойти за близнеца Нумантины. Я послал его в подарок Ургуланилле, и она тут же влюбилась в него. Его зовут Ботер.
Что мне оставалось? Только сказать ему спасибо. Затем я спросил:
— А кто же будет моей новой женой?
— Значит, ты не забыл о нашем разговоре? Та, кого я имею в виду, моя сводная сестра Элия. Ты, разумеется, знаешь ее?
Еще бы! Но я скрыл свое разочарование и только спросил, какой интерес молодой прекрасной и умной девушке выходить за такого старого, хворого, глупого хромого заику, как я?
— О, — ответил Сеян, не щадя меня, — все это ей безразлично. Она выйдет замуж за племянника Тиберия и дядю Нерона, только это ее и интересует. Ты же не думаешь, что она воспылала к тебе любовью. Возможно, она заставит себя родить от тебя ребенка ради продолжения рода, но что касается чувств…
— Другими словами, помимо чести стать твоим зятем, я мог бы с таким же успехом не разводиться с Ургуланиллой — жизнь моя не станет от этого лучше.
— Ну, ты управишься, — рассмеялся он. — Судя по тому, как выглядит эта комната, ты не томишься от одиночества. Я вижу, в доме есть хорошая женщина. Перчатки, ручное зеркальце, пяльцы, коробка конфет, красиво подобранные цветы… Элия не будет ревнивой женой. Возможно, у нее тоже есть свои друзья, не знаю, я не сую нос в ее дела.
— Хорошо, — сказал я, — согласен.
— Не похоже, что ты очень признателен за это!
— Не в том дело. Ты порядком потрудился из-за меня, и я не знаю, как тебя и благодарить. Просто я побаиваюсь. Насколько мне известно, Элия — женщина требовательная, если ты понимаешь, что я хочу сказать.
Сеян расхохотался:
— У нее язык, как бритва. Но я не сомневаюсь, что за эти годы ты закалился и простой бранью тебя не проймешь. Мать хорошо выдубила тебе шкуру, не так ли?
— Не совсем, — ответил я, — я все еще уязвим.
— Ну, мне пора идти, дорогой Клавдий. Тиберий удивится, куда это я пропал. Значит, по рукам?
— Да, и я очень тебе благодарен.
— Между прочим, бедняжку Апронию убила Ургуланилла, верно? Я ожидал такой трагической развязки. Ургуланилла получила от Нумантины письмо, где та просила за нее отомстить. Как ты понимаешь, Нумантина его не писала.
— Я ничего об этом не знаю. Я тогда крепко спал.
— Как Плавтий?
— Гораздо крепче.
— Разумный ты человек. Что ж, до свидания, Клавдий.
— До свидания, Элий Сеян.
И он уехал.
Я развелся с Ургуланиллой, сперва испросив на то разрешения бабки. Ливия писала, что ребенок должен быть умерщвлен сразу после рождения: таково ее желание и желание Ургулании.
Я послал в Геркуланум к Ургуланилле верного человека, чтобы он сказал ей о том, какое я получил приказание, и посоветовал, если она хочет спасти ребенка, обменять его, как только он родится, на мертвое дитя. Я должен был предъявить мертвого младенца, а чьего, не имело значения, лишь бы он не очень давно умер. Ургуланилла так и сделала, а затем забрала его у приемных родителей, давших ей раньше своего умершего ребенка. Я не знаю, что случилось потом с Ботером, но дитя, девочка, когда выросла, стала, по слухам, как две капли воды похожа на Нумантину. Ургуланилла уже много лет как умерла. Когда это случилось, пришлось сломать стену дома, чтобы вынести ее колоссальную тушу — мясо и жир, чистый вес, водянки у нее не было. В своем завещании она публично отдала мне дань следующими любопытными словами: «Что бы там ни говорили. Клавдий — не дурак». Она оставила мне коллекцию греческих гемм, несколько персидских вышивок и портрет Нумантины.
Глава XXIV
25 г. н. э.
Тиберий и Ливия больше не встречались. Ливия оскорбила Тиберия, поставив в надписи на статуе Августа, посвященной ему совместно с Тиберием, первым именем свое. Тиберий отомстил ей, сделав единственную вещь, которую она не могла простить: когда из Испании прибыли посланцы с просьбой разрешить им построить храм ему и его матери, он отказался от имени обоих. Тиберий сказал сенаторам, что, возможно, в минуту слабости он позволил посвятить храм в Азии сенату и его главе (то есть себе самому) в знак отеческой заботы Рима о своих провинциях. В посвятительной надписи там упоминается также имя Ливии Августы, верховной жрицы культа Августа. Но согласиться на обожествление себя и матери значило бы зайти в своей терпимости слишком далеко.
— Что до меня, господа сенат, даю вам торжественную клятву, что мне совершенно достаточно быть простым смертным, связанным путами человеческой природы, и занимать среди вас ведущее место к вашему удовлетворению — если вы действительно мною довольны. Пусть таким меня и запомнят потомки. Если они будут считать меня достойным моих предков, блюдущим ваши интересы, равнодушным к опасности, не боящимся личных врагов, от которых я защищаю благо нашей империи, мне этого достаточно. Любовь и благодарность сената, римского народа и наших союзников — самый прекрасный храм, какой я могу себе воздвигнуть; не из мрамора, но из куда более стойкого материала, чем мрамор, — храм в сердцах людей. Когда те, в чью честь были построены мраморные храмы и кого раньше свято чтили, теряют былую славу, святилища их становятся всего лишь простыми гробницами. А посему я молю небо даровать мне до конца жизни спокойствие духа и способность с ясной головой разбираться во всех делах, человеческих и священных; посему я заклинаю граждан Рима и его союзников, чтобы, когда это смертное тело погрузится в вечный покой, они восславили мою жизнь и деяния (если я заслужившую того) благодарностью в душе, а не внешней пышностью, возведением храмов и ежегодными жертвоприношениями. Истинная любовь, которую Рим испытывал к моему отцу Августу в то время, когда он жил среди нас в человеческом обличии, теперь омрачена как благоговейным страхом, питаемым по отношению к нему людьми верующими, так и богохульным употреблением его имени в качестве рыночной клятвы. Кстати, господа, раз уж об этом зашла речь, я предлагаю, чтобы с сегодняшнего дня произнесение священного имени Августа в любых случаях, кроме самых торжественных, считалось преступлением и чтобы этот закон проводился в жизнь самым решительным образом.
Ни слова о чувствах Ливии. А за день до того Тиберий отказался назначить на должность судьи одного из ее ставленников, если она не согласится на то, чтобы он предварил назначение следующими словами: «Этот субъект — избранник моей матери Ливии Августы, чьим докучливым просьбам я был вынужден уступить, вопреки имеющимся у меня сведениям о его характере и способностях».
Вскоре после этого Ливия пригласила к себе на целый день всех высокорожденных римлянок. Гостей ждали всевозможные увеселения: фокусники, жонглеры, акробаты, декламация стихов, а также всевозможные сласти, засахаренные фрукты, вино и прекрасный алмаз для каждой гостьи в качестве памятного подарка. Чтобы увенчать прием, Ливия прочитала несколько писем Августа. Ей было уже восемьдесят три года, голос ее ослаб, и она шепелявила, но в течение полутора часов ее слушали, как завороженные. В первых прочитанных ею письмах содержались высказывания о государственной политике: казалось, Август писал специально, чтобы предостеречь против существующего теперь в Риме положения вещей. Там было несколько весьма уместных замечаний по поводу судебных дел о государственной измене, в частности следующий абзац:
«Хотя я имею законное право защищаться от всех видов клеветы, я приложу все старания, дорогая Ливия, чтобы не разыгрывать такой гнусный спектакль, как судебный процесс, и не обвинять в государственной измене какого-нибудь глупого историка, карикатуриста или coчинителя эпиграмм, сделавшего меня мишенью своего остроумия или красноречия. Мой отец Юлий Цезарь прощал поэту Катуллу самые язвительные сатиры, какие можно себе представить; он написал Катуллу, что если тот хочет доказать, будто он не подобострастный льстец; как большинство его собратьев-поэтов, то он уже добился своего и может вернуться к другим, более поэтическим темам, чем сексуальные отклонения пожилого государственного деятеля; и не придет ли Катулл на следующий день к обеду вместе с тем, с кем захочет? Катулл пришел, и с тех пор они с Юлием Цезарем стали верными друзьями. Использовать величие закона, чтобы мстить за мелочные проявления личной злобы, значит публично признаваться в слабости, трусости и низости духа».
Был там и достойный внимания абзац о доносителях:
«В том случае, если я подозреваю, что доноситель выдвигает свои обвинения не из чувства истинного патриотизма и гражданской порядочности, а желает прямо или косвенно извлечь из них пользу для себя, я не только не принимаю в расчет его показаний, но ставлю черную отметку против его имени и никогда впоследствии не поручаю ему ответственный пост…»
Под конец Ливия прочитала несколько весьма поучительных писем. У нее были десятки тысяч сшитых в виде книг и пронумерованных писем Августа, написанных на протяжении пятидесяти двух лет. Из этих тысяч она выбрала пятнадцать, которые сильнее всего могли опозорить Тиберия. В первых письмах выражалось недовольство его безобразным поведением в раннем детстве, его непопулярностью среди соучеников в отрочестве, его скупостью и высокомерием в юности и так далее. Раздражение писавшего все росло, и все чаще повторялась фраза: «И если бы он не был твой сын, дорогая Ливия, я бы сказал…» Затем пришел черед сетования на жестокость Тиберия по отношению к войскам («словно он нарочно подстрекает их к мятежу…») и на его медлительность, когда надо наступать на врага, с нелестным для Тиберия сравнением между его методами ведения войны и методами его брата, моего отца. Дальше следовал гневный отказ взять Тиберия в зятья и подробный перечень его пороков. Затем шли письма, относящиеся к печальной истории с Юлией; выражения, в которых они были написаны, говорили о крайнем отвращении и даже ненависти Августа к Тиберию. Ливия прочитала также письмо, касающееся отзыва Тиберия с Родоса:
«Дражайшая Ливия.
Я хочу воспользоваться этой сорок второй годовщиной нашего брака, чтобы поблагодарить тебя от всего сердца за те исключительные услуги, которые ты оказала государству с тех пор, как мы объединили свои силы. Если меня величают Отцом отчизны, мне кажется нелепым, что тебя не величают Матерью отчизны; клянусь, ты сделала в два раза больше, чем я, для государственного переустройства. Почему ты просишь меня подождать еще несколько лет, прежде чем обратиться к сенату с ходатайством оказать тебе эту честь? Мне остается единственный способ выказать уверенность в твоей бескорыстной верности и глубине твоих суждений — уступить твоим беспрерывным просьбам отозвать в Рим Тиберия, человека, к которому, признаюсь, я продолжаю испытывать величайшую антипатию, и молю богов, чтобы, уступая тебе, я не причинил непоправимого вреда государству».
Последним Ливия прочитала письмо, написанное Августом примерно за год до смерти:
«Вчера, когда я обсуждал государственную политику с Тиберием, дорогая жена, меня внезапно охватило чувство глубочайшего отчаяния и сожаления при мысли о том, что придет время и эти глаза навыкате станут грозно сверкать на римский народ, этот костлявый кулак станет стучать на него, зубы — скрежетать, огромные ноги — топать. Но я на минуту забыл о тебе и нашем милом Германике. Если бы я не верил, что, когда я умру, Тиберий будет следовать твоим указаниям во всех государственных делах и, устыдившись Германика, станет по его примеру вести, хотя бы с виду, пристойную жизнь, я бы даже сейчас, клянусь, лишил его наследства и попросил сенат взять обратно все его почетные титулы. Это не человек, а зверь, за ним нужен глаз да глаз».
Когда Ливия кончила читать, она поднялась и сказала:
— Пожалуй, уважаемые дамы, лучше не говорить мужьям об этих своеобразных письмах. Сказать по правде, я не осознавала, пока не начала читать, насколько… насколько они своеобразны. Я прошу вас хранить молчание — не столько ради себя, сколько ради империи.
Тиберий услышал обо всем этом от Сеяна, как раз когда собирался занять свое место в сенате, и его охватили стыд, ярость и страх. Как назло в тот самый день он должен был рассматривать дело о государственной измене, возбужденное против одного из понтификов, Лентулла, который вызвал подозрения Тиберия, включив в молитву имена Нерона и Друза, а также голосуя за смягчение приговора Созии. Когда Лентулл, простодушный старик, известный равно своим высоким рождением, победами в Африке при Августе и своей скромностью и незлобивостью, услышал, что его обвиняют в заговоре против государства, он громко расхохотался. Тиберий, и так расстроенный и смущенный, потерял голову и, чуть не плача, сказал:
— Если Лентулл тоже меня ненавидит, мне лучше умереть.
Галл ответил ему:
— Подбодритесь, ваше величество… прошу прощения, я забыл, что ты не любишь этого титула… мне следовало сказать: подбодрись, Тиберий Цезарь! Лентулл смеялся не над тобой, он смеялся с тобой вместе. Он радовался, что в кои веки в сенат поступило обвинение в измене, не имеющее под собой никаких оснований.
И обвинение против Лентулла было снято. Правда, Тиберий уже успел к тому времени свести в могилу его отца. Тот был невероятно богат и так напуган подозрениями Тиберия, что покончил с собой, а в доказательство своей преданности оставил ему все свое состояние; Тиберий не мог поверить, что обездоленный им Лентулл не затаил на него зла.
Целых два месяца Тиберий не появлялся в сенате; он не мог глядеть сенаторам в глаза, зная, что их жены слышали письма Августа. Сеян предложил Тиберию на время покинуть Рим и пожить на вилле в нескольких милях от города; он отдохнет от посетителей, каждый день толпящихся во дворце, от шума и суеты города — это пойдет на пользу его здоровью. Тиберий последовал совету Сеяна. Он также принял свои меры против Ливии: отстранил ее «по возрасту» от участия в государственных делах, перестал ставить ее имя на официальных документах, запретил оказывать ей впредь почести в день рождения и прозрачно намекнул, что тот, кто станет соединять их имена или восхвалять Ливию в сенате, будет считаться чуть ли не государственным преступником. Более активно сводить с ней счеты он опасался. Тиберий знал, что у Ливии по-прежнему в руках письмо, написанное им на Родосе, где он обещал повиноваться ей во всем до конца жизни, и что Ливия вполне способна во всеуслышание его прочитать, пусть даже тем самым она изобличит себя как убийцу Луция и Гая.
Но эта поразительная старуха, как вы увидите, еще не была побеждена. Однажды я получил от нее записку: «Госпожа Ливия Августа ожидает своего дорогого внука Тиберия Клавдия к обеду по поводу ее дня рождения: она надеется, что он пребывает в добром здравии». Я ничего не мог понять. Я — ее дорогой внук! Нежные расспросы о здоровье! Я не знал, смеяться мне или пугаться. Ни разу в жизни меня не приглашали к ней на день рождения. Я даже ни разу не обедал с ней за одним столом. Я не общался с ней — разве во время церемонии на празднике Августа — по крайней мере десять лет. Какая тут подоплека? Ну, через три дня я все узнаю, а пока надо купить ей поистине великолепный подарок. После долгих поисков я приобрел вещь, которую Ливия, без сомнения, должна была оценить, — изящную бронзовую чашу с ручками в виде змеиных голов, украшенную сложным узором из золота и серебра. По моему мнению — куда более тонкая работа, чем коринфские сосуды, за которые в наши дни коллекционеры дают бешеные деньги. Ее привезли из Китая. В центре чаши был вделан золотой медальон с головой Августа, каким-то образом попавший в эту чудесную далекую страну. Чаша обошлась мне в пять сотен золотых, хотя была совсем небольшой.
Но прежде чем рассказать о своем визите и долгой беседе с Ливией, я должен внести ясность в один вопрос, насчет которого я, возможно, ввел вас в заблуждение. Из моего рассказа о судебных процессах и прочих чудовищных вещах вы, вероятно, сделали вывод, что при Тиберии империя управлялась из рук вон плохо. Это было далеко не так. Хотя Тиберий и не предпринял никаких новых общественных работ, удовлетворившись завершением начатых Августом, он держал армию и флот в состоянии боевой готовности, регулярно платил должностным лицам и четыре раза в год требовал от них подробные отчеты, поощрял торговлю, обеспечивал регулярное снабжение Италии зерном, следил за исправностью дорог и акведуков, теми или иными способами ограничивал расточительство, заботился о твердых ценах на продукты, расправился с пиратами и разбойниками и постепенно создал в государственной казне значительный резервный фонд на случай крайней необходимости. Он подолгу не смещал с должности губернаторов провинций, если от них была хоть какая-то польза, чтобы не выбивать жизнь из привычной колеи, однако держал их под неусыпным надзором. Один губернатор, желая показать Тиберию свою преданность и расторопность, отправил ему дань в большем количестве, чем следовало. Тиберий отчитал его: «Я хочу, чтобы моих овец стригли, а не брили». В результате, после того как Германн умер, а Маробода пригласили в Рим и волнения среди германцев улеглись, почти не было стычек с пограничными племенами. Главным врагом оставался Такфаринат. В течение долгого времени его называли «Приносящий лавры», так как три военачальника подряд — мой друг Фурий, отец Апронии Апроний и третий, дядя Сеяна по материнской линии, Блез — одерживали над ним победы и получали триумфальные украшения. Блез, разгромивший армию Такфарината и взявший в плен его брата, был назначен главнокомандующим — редкая честь, обычно оказываемая только членам императорской фамилии. Тиберий сказал сенату, что он рад вознаградить Блеза таким образом, потому что тот — родич его верного друга Сеяна. И когда три года спустя четвертый полководец Долабелла положил конец африканской войне, вспыхнувшей с удвоенной силой, не только разгромив Такфарината, но и убив его, ему были дарованы только триумфальные украшения, «чтобы лавры Блеза, дяди моего верного друга Сеяна, не утеряли своего блеска».
26 г. н. э.
Однако я говорил о хороших деяниях Тиберия, а не о его слабостях, и действительно, для империи в целом он был уже двенадцать лет мудрым и справедливым правителем. Никто не стал бы этого отрицать. Червоточина в сердцевине яблока — если здесь простительна метафора — не доходила до кожицы и не причиняла ущерба мякоти.
Из шести миллионов римских жителей какие-то две или три сотни страдали от ревнивых страхов Тиберия. А сколько миллионов рабов, жителей провинций и союзников, которые только номинально считались свободными, извлекали солидную выгоду из имперского строя, усовершенствованного Августом и Ливией и поддерживаемого в их традициях Тиберием! Но я жил, так сказать, в сердцевине яблока, и меня можно понять, если я уделяю больше места изъевшей его нутро червоточине, чем все еще чистой и ароматной наружной части.
Стоит тебе проявить слабость, Клавдий, и употребить метафору, что, правда, бывает редко, как ты заходишь слишком далеко. Ты ведь не забыл предостережений Афинодора? Ну ладно, назови Сеяна червем и на этом кончай — пора вернуться к твоему обычному непритязательному стилю.
Сеян решил сильней разжечь обуревавший Тиберия стыд, чтобы удержать его за пределами города дольше чем два месяца. Он подговорил одного гвардейского офицера обвинить известного остряка по имени Монтан в том, что он очернил доброе имя императора. Если до тех пор обвинители остерегались пересказывать какие-либо оскорбления по адресу Тиберия, кроме самых общих — жестокий, высокомерный, властный, то этот вояка приписал Монтану наговор весьма своеобразного, но реального толка. Сеян постарался, чтобы мерзкая «клевета» соответствовала действительности, хотя Монтан, не знакомый, подобно Сеяну, с тем, что происходило во дворце, не был в ней повинен. Свидетель, лучший инструктор по стрельбе в гвардии, во все горло выкрикивал приписываемые им Монтану непристойности, не обходя молчанием даже самые неприличные слова и фразы и не давая заглушить себя протестами возмущенных сенаторов.
— Клянусь, что говорю одну правду, — орал он, — и, ради чести Тиберия Цезаря, я не опущу ни одного пункта из мерзкого разговора обвиняемого, случайно услышанного мной в вышеназванный день при вышеназванных обстоятельствах… Обвиняемый заявил затем, что наш милостивый император в результате всех этих оргий и чрезмерного употребления возбуждающих средств скоро станет импотентом, и для того, чтобы восстановить его иссякающие силы, примерно каждые три дня в специально убранной комнате в подвалах дворца для него устраиваются особые зрелища. Обвиняемый утверждал, будто их участники, так называемые спинтрии, выплясывают по трое в чем мать родила, задирая ноги до потолка, и…
Он продолжал в таком духе не менее получаса, и Тиберий не осмеливался его прервать — а возможно, хотел выяснить, сколько людям известно, — пока свидетель не перегнул палку (не важно, что он сказал). Тиберий вскочил на ноги, красный от стыда и гнева, и потребовал, чтобы ему дали возможность немедленно очистить себя от этих чудовищных обвинений или назначили судебное разбирательство. Сеян пытался успокоить его, но Тиберий продолжал стоять, сердито сверкая глазами, пока Галл не поднялся с места и не напомнил Тиберию, что обвиняют не его, а Монтана, — его доброе имя вне подозрений, и если известие о таком расследовании дойдет до пограничных провинций и союзных государств, это будет понято превратно.
Вскоре после того Фрасилл предупредил Тиберия — по наущению Сеяна или нет, не знаю, — что ему надо как можно скорее покинуть Рим и что возвращение в город грозит ему смертью. Тиберий сказал Сеяну, что переезжает на Капри и оставляет Рим на его попечение. Он присутствовал еще на одном судебном разбирательстве; на этот раз в государственной измене была обвинена моя родственница, Клавдия Пульхра, вдова Вара и, после того как Созию отправили в изгнание, ближайшая подруга Агриппины. Ей вменили в вину прелюбодеяние, торговлю дочерьми и колдовство против Тиберия. Насколько я знаю, она не была виновна ни в одном из этих преступлений. Как только Агриппина услышала о том, что грозит Клавдии, она поспешила во дворец и случайно застала Тиберия во время жертвоприношений Августу. Не успела церемония закончиться, как она подошла к нему и сказала:
— Тиберий, в твоих поступках нет никакой логики. Ты приносишь в жертву Августу фламинго и павлинов и преследуешь его внуков.
Тиберий медленно проговорил:
— Я не понимаю тебя. Кого из внуков Августа я преследовал вопреки его воле?
— Я не говорю о Постуме и Юлилле. Я говорю о себе. Ты сослал Созию, потому что она моя подруга. И Кальпурния — потому что он был мой друг. Ты заставил Силия покончить с собой, потому что он был мой друг. А теперь моя дорогая Пульхра тоже обречена, хотя ее единственное преступление — глупая привязанность ко мне. Люди начали меня чураться, они говорят, что я приношу несчастье.
Тиберий взял ее за плечи и снова сказал:
Не тем ли ты оскорблена, Что не царица ты?Пульхру признали виновной и подвергли смертной казни. Процесс вел человек по имени Афр, которого выбрали из-за его красноречия. Несколько дней спустя Агриппина неожиданно встретила Афра у театра. У него был пристыженный вид, и он избегал смотреть ей в глаза. Агриппина подошла к нему и сказала:
— У тебя нет причин прятаться от меня, Афр.
Затем процитировала, кое-что изменив, чтобы строки Гомера отвечали контексту, успокаивающий ответ Ахиллеса смущенным вестникам Агамемнона, принесшим от него унизительное послание:
Ближе предстань, ведь ни в чем ты не винен, но царь Агамемнон![108]Об этом было доложено Тиберию (но не Афром), имя «Агамемнон» вновь вызвало у него тревогу.
Агриппина заболела: она подумала, что ее отравили. Она отправилась на носилках во дворец, чтобы в последний раз воззвать к Тиберию о милосердии. Агриппина стала такой худой и бледной, что Тиберий пришел в восторг: пожалуй, она скоро умрет. Он сказал:
— Агриппина, бедняжка, ты, кажется, серьезно больна. Что с тобой?
Она ответила слабым голосом:
— Возможно, я была к тебе несправедлива, когда думала, что ты преследуешь моих друзей за то, что они мои друзья. Возможно, я неудачно их выбираю или ошибочно о них сужу. Но, клянусь, ты не менее несправедлив ко мне, подозревая меня в вероломстве и думая, будто я питаю честолюбивые замыслы прямо или косвенно править Римом. Я прошу об одном — чтобы меня оставили в покое и ты даровал мне прощение за те обиды, которые я тебе нечаянно причинила, и… и…
Она разразилась рыданиями.
— И что еще?
— О, Тиберий, будь добр к моим детям! И будь добр ко мне! Разреши мне снова выйти замуж. Я так одинока! Со дня смерти Германика я не могу забыть о своих невзгодах. Ночью я не сплю. Если ты позволишь мне выйти замуж, я успокоюсь, не буду больше терзаться, ты и не узнаешь меня и тогда, может быть, перестанешь подозревать меня в заговорах. Я уверена, ты потому только думаешь, будто я затаила против тебя зло, что у меня такой подавленный вид.
— За кого ты хочешь выйти?
— За доброго, великодушного, скромного человека, не первой молодости, одного из твоих самых верных приверженцев.
— Как его зовут?
— Галл. Он говорит, что готов жениться на мне в любую минуту.
Тиберий круто повернулся и вышел из комнаты, не сказав больше ни слова.
Через несколько дней он пригласил Агриппину к себе. Тиберий имел обыкновение звать к обеду людей, которым особенно не доверял, и пристально глядеть на них во время трапезы, словно желая прочитать их тайные мысли. Это почти всех приводило в замешательство. Если гость казался напуганным, Тиберий считал это доказательством его вины. Если он не опускал перед ним глаз, Тиберий считал это еще большим доказательством вины, которая к тому же усугублялась наглым поведением. Агриппина, все еще больная, с трудом могла проглотить самую легкую пищу, не испытывая тошноты, и теперь, под пристальным взглядом Тиберия, ей пришлось тяжело. Она не отличалась разговорчивостью, а беседа о сравнительных достоинствах музыки и философии не интересовала ее, ей нечего было по этому поводу сказать. Агриппина делала вид, будто ест, но Тиберий, внимательно следивший за ней, видел, что она отправляет обратно блюдо за блюдом, не притронувшись к еде. Он подумал, что Агриппина подозревает его в намерении ее отравить, и, чтобы проверить это, он выбрал яблоко в стоявшей перед ним вазе и, протянув ей, сказал:
— Дорогая Агриппина, ты почти ничего не ела. Съешь хотя бы это яблоко. Это очень хороший сорт. Три года назад царь парфян прислал мне в подарок молодые яблони, и сейчас они в первый раз принесли плоды.
Почти каждый из нас имеет своего «природного врага», если можно так выразиться. Для некоторых людей мед — страшный яд. Другие заболевают, если дотронутся до лошади, войдут в конюшню, просто полежат на тюфяке, набитом конским волосом. На третьих плохо действуют кошки, заглянув в комнату, они могут сказать: «Здесь была кошка, простите, но я ухожу». Лично я совершенно не переношу запаха цветущего боярышника. Природным врагом Агриппины были яблоки. Она взяла преподнесенный Тиберием плод, поблагодарила с плохо скрытым содроганием и сказала, что съест его, если можно, когда вернется домой.
— Ну хоть один кусочек, чтобы убедиться, какое оно вкусное.
— Прости меня, но я не могу.
Агриппина протянула яблоко слуге и велела аккуратно завернуть его в салфетку.
Почему Тиберий тут же не привлек ее к суду за государственную измену, как настаивал Сеян? Потому что Агриппина все еще была под покровительством Ливии.
Глава XXV
Вот я и подошел к рассказу об обеде у Ливии. Приветствовала она меня очень любезно и, по всей видимости, пришла в искреннее восхищение от моего подарка. Во время обеда, за которым, кроме меня, были только Ургулания и Калигула — высокий бледный мальчик четырнадцати лет, с прыщавым лицом и запавшими глазами, — она поразила меня остротой ума и ясной памятью. Ливия задала мне вопрос о моей работе, и, когда я, говоря о первой Пунической войне, подверг сомнению некоторые подробности, приведенные поэтом Невием (он тогда служил в армии), Ливия согласилась со мной, но поймала меня на неверной цитате.[109] Затем сказала:
— Теперь ты благодарен мне, внук, за то, что я не разрешила тебе писать биографию отца, не правда ли? Думаешь, ты обедал бы здесь сегодня, если бы я не вмешалась?
Каждый раз, что раб наливал мне вино, я выпивал кубок до дна и теперь, после десятого или двенадцатого кубка, чувствовал себя храбрым, как лев.
— Весьма благодарен, бабушка. Общество этрусков и карфагенян куда безопасней. Но скажи мне, почему я обедаю сегодня здесь?
Ливия улыбнулась.
— Что ж, признаюсь, твое присутствие за столом до сих пор причиняет мне некоторое… Но неважно. Если я и нарушила одно из своих старейших правил, это мое дело, а не твое. Ты недолюбливаешь меня, Клавдий? Будь откровенен.
— Возможно, так же сильно, как ты меня, бабушка.
(Неужели это мой голос?)
Калигула фыркнул. Ургулания хихикнула. Ливия рассмеялась.
— Достаточно откровенно. Между прочим, ты обратил внимание на это чудовище? Он вел себя непривычно тихо за едой.
— Кто, бабушка?
— Твой племянник.
— Разве он чудовище?
— Не притворяйся, будто тебе это не известно. Ты ведь и правда чудовище, Калигула?
— Как тебе будет угодно, прабабушка, — сказал Калигула, не поднимая глаз.
— Так вот, Клавдий, слушай, что я о нем скажу: это чудовище, этот твой племянник станет следующим императором.
Я думал, она шутит, и проговорил с улыбкой:
— Раз ты это говоришь, бабушка, значит, так и будет. Но почему именно он? Калигула — самый младший в семье и, хотя он выказывает большие природные таланты…
— Ты хочешь сказать, что все шансы на стороне Сеяна и твоей сестрицы Ливиллы?
Я был поражен свободой беседы.
— Ничего подобного я не хотел сказать. Меня не интересует государственная политика. Я просто имел в виду, что Калигула еще молод, слишком молод, чтобы быть императором. Это довольно смелое предположение.
— Отнюдь. Тиберий назначит его своим преемником. Можешь не сомневаться. Почему? Да потому, что такова его природа. Тиберий, как и бедный Август, тщеславен и не может вынести мысли о преемнике, который будет популярнее его самого. Но в то же время делает все, чтобы его ненавидели и боялись. Поэтому, когда он почувствует, что жить ему осталось недолго, он поищет кого-нибудь, кто хоть немного хуже него. И найдет Калигулу. У Калигулы на счету уже есть преступление такого высокого класса, какого Тиберию никогда не достичь.
— Пожалуйста, прабабушка… — умоляюще произнес Калигула.
— Ладно, чудовище, успокойся: пока ты примерно себя ведешь, я буду хранить твой секрет.
— А Ургулания его знает? — спросил я.
— Нет. Только чудовище и я.
— Он добровольно тебе признался?
— Конечно, нет. Калигула не из тех, кто признается. Я как-то раз обыскивала его спальню, хотела посмотреть, не замышляет ли он каких-нибудь фокусов — не занимается ли, например, любительски черной магией, не дистиллирует ли яды, ну и прочее в таком духе. И мне попался в руки…
— Пожалуйста, прабабушка…
— …зеленый предмет, который рассказал мне весьма примечательную историю. Но я отдала его обратно.
Ургулания сказала, ухмыляясь:
— Фрасилл предсказал мне смерть в этом году, так что я буду лишена удовольствия жить в твое царствование, Калигула, если только ты не поторопишься и не убьешь Тиберия.
Я обернулся к Ливии:
— Он собирается это сделать, бабушка?
Калигула сказал:
— А это безопасно — говорить такие вещи при дяде Клавдии? Или ты собираешься его отравить? Отправить на тот свет?
Ливия ответила:
— О, вполне безопасно и когда он на этом свете. Я хочу, чтобы вы двое получше узнали друг друга. Это одна из причин сегодняшнего обеда. Послушай, Калигула. Твой дядя Клавдий — единственный в своем роде. Он настолько старомоден, что, поклявшись любить и защищать детей своего брата, он всегда — пока ты жив — будет тебе помогать. Слушай, Клавдий. Твой племянник Калигула — тоже единственный в своем роде. Он труслив, вероломен, похотлив, тщеславен и лжив, и он сыграет с тобой не одну злую шутку в жизни, но помни одно: он никогда тебя не убьет.
— Почему бы это? — спросил я, снова осушая кубок. Такие разговоры бывают только во сне: интересный, но бредовый.
— Потому что ты — тот человек, который отомстит за его смерть.
— Я? Кто это сказал?
— Фрасилл.
— А Фрасилл никогда не ошибается?
— Нет. Никогда. Калигулу убьют, и ты отомстишь за его смерть.
Наступило мрачное молчание; оно длилось, пока не подали десерт. Тут Ливия сказала:
— А теперь, Клавдий, мы поговорим с тобой наедине.
Остальные двое поднялись и вышли.
Я сказал:
— Странный какой-то у нас был разговор, бабушка. Кто в этом виноват — я? Может быть, я слишком много выпил? Я имею в виду, что некоторые шутки в наше время опасны. Забавляться так довольно рискованно. Надеюсь, слуги…
— О, они глухонемые. Нет, вино тут ни при чем. В вине скрыта истина, и разговор наш был вполне серьезным. Во всяком случае, с моей стороны.
— Но… если ты действительно считаешь его чудовищем, зачем ты поощряешь его? Почему не поддержать Нерона? Он — прекрасный юноша.
— Потому что не Нерон, а Калигула будет следующим императором.
— Но из него выйдет на редкость плохой император, если он таков, как ты говоришь. И ты, посвятившая всю жизнь служению Риму…
— Да, но против судьбы не пойдешь. А теперь, когда Рим оказался настолько безумен и неблагодарен, что разрешил моему негодяю сыну отстранить меня от дел, оскорблять меня — меня, можешь ты это себе представить! — величайшую правительницу, какую знал мир, и к тому же его мать…
Голос Ливии стал пронзительным. Я поспешил переменить тему. Я сказал:
— Успокойся, бабушка, пожалуйста, успокойся. Ты сама говоришь: против судьбы не пойдешь. Но нет ли в связи с этим чего-нибудь, что ты хотела бы сказать именно мне?
— Да, насчет Фрасилла. Я то и дело советуюсь с ним. Тиберий не знает об этом, но Фрасилл часто здесь бывает. Несколько лет назад он предрек ссору между Тиберием и мной — сказал, что под конец Тиберий восстанет против меня и возьмет всю власть в свои руки. Я тогда не поверила ему. Фрасилл сказал мне еще одно: что хотя я уйду из жизни изверившейся во всем старухой, после смерти меня в течение многих лет будут считать богиней. А еще раньше он предвещал, что тот, кто умрет в том году, когда, как я знаю теперь, суждено умереть мне, станет величайшим Божеством мира и что с течением времени все храмы в Риме и во всей империи буду посвящены только ему.[110] Даже не Августу.
— А когда ты умрешь?
— Через три года. Весной. Я точно знаю день.
— Неужели тебе так хочется стать богиней? Мой дядя Тиберий, похоже, вовсе к этому не стремится.
— А я теперь, когда труды мои закончены, только об этом и думаю. И почему нет? Если Август — бог, Ливии смешно быть всего лишь его жрицей. Работала-то я, верно? Он был такой же никудышный правитель, как Тиберий.
— Да, бабушка. Но разве тебе недостаточно знать, что ты сделала, неужели для тебя так важно поклонение невежественной толпы?
— Дай мне объяснить, Клавдий. Я вполне с тобой согласна насчет невежественной толпы. Но я думаю не столько о славе на земле, сколько о том, что меня ждет в другом мире. Я совершила много дурных поступков — без этого великому правителю не обойтись. Для меня благо империи было превыше любых личных соображений. Чтобы спасти ее от раскола, мне пришлось пойти не на одно злодеяние. Август чуть было не погубил Рим своим дурацким фаворитизмом: Марцелл против Агриппы, Гай против Тиберия. Кто спас империю от новых гражданских войн? Я. Неприятная и трудная задача убрать с дороги Марцелла и Гая выпала мне. И не притворяйся, будто ты никогда не подозревал меня в том, что я их отравила. А что может быть достойной наградой для правителя, который совершает подобные преступления на благо своим подданным? Достойной наградой — и это само собой очевидно — может быть только одно: обожествление. Ты веришь, что души преступников обречены на вечные муки?
— Меня всегда учили, что это так.
— А бессмертные боги могут не бояться наказания, сколько бы преступлений они ни совершили?
— Да. Юпитер избавился от своего отца, убил одного из внуков, женился на собственной сестре и… да, я согласен… у них у всех подмоченная репутация. И, спору нет, они неподвластны преисподнему трибуналу, который судит простых смертных.
— Вот именно. Ты видишь теперь, почему для меня так важно быть богиней. Потому-то, если уж ты хочешь знать, я терпимо отношусь к Калигуле. Он поклялся, что, если я никому не выдам его тайну, он сделает меня богиней, как только станет императором. Поклянись, что и ты приложишь все силы, чтобы меня как можно скорее обожествили, ведь… о, неужели ты не понимаешь? Ведь пока я не стану богиней, я буду в преисподней, где меня ждут самые ужасные и изощренные муки. Ничто не сможет их отвратить.
В голосе Ливии, потерявшем царственное высокомерие, зазвучала испуганная мольба; этот внезапный переход удивил меня больше, чем все, что я от нее услышал. Надо было как-то ответить ей, и я сказал:
— Не вижу только, какое влияние бедный дядя Клавдий может оказать на императора или на сенат.
— Какая разница, видишь ты или нет, идиот! Ты поклянешься выполнить мою просьбу? Поклянешься собственной головой?
Я сказал:
— Бабушка, я поклянусь головой — хотя чего она сейчас стоит? — но только при одном условии.
— Ты осмеливаешься ставить условия мне?
— Да, — сказал я, — осмеливаюсь… после двадцатого кубка, и это очень скромное условие. Ты тридцать шесть лет гнушалась мной и не скрывала своего отвращения; не ожидаешь же ты теперь, что я хоть что-нибудь сделаю для тебя, не поставив своих условий.
Ливия улыбнулась.
— И в чем заключается твое скромное условие?
— Существует множество вещей, о которых я хотел бы узнать. Прежде всего я хочу узнать, кто убил моего отца, кто убил Агриппу, кто убил моего брата Германика и моего сына Друзилла…
— Зачем тебе это? Надеешься, как последний дурак, отомстить мне за их смерть?
— Нет, даже если ты в ней и повинна. Я никогда не мщу, если не вынужден к этому клятвой или необходимостью защищаться. Я верю, что зло наказывает само себя. Я хочу одного: знать истину. Я — профессиональный историк, и единственное, что меня по-настоящему интересует, это как происходит то или иное и почему. Я пишу историю, скорее чтобы самому получить сведения, нежели сообщать их читателям.
— Я вижу, старый Афинодор оказал на тебя большое влияние.
— Он был добр со мной, и я был ему благодарен. Вот я и стал стоиком. Я никогда не вступаю в философские споры — меня это не привлекает, — но мировоззрение стоиков я принял. Ты можешь быть спокойна, я никому не повторю ни слова из того, что ты мне расскажешь.
Я убедил Ливию в искренности своих слов и в течение четырех часов с лишним я задавал ей самые обстоятельные вопросы, и она спокойно, без уверток отвечала на них: так управляющий имением мог бы рассказывать приехавшему ненадолго хозяину о мелких потерях в хлеву или в птичнике. Да, она отравила моего деда, нет, отца моего она не отравляла, несмотря на подозрения Тиберия, — он умер от гангрены, да, она отравила Августа, намазывая ядом фиги, когда они еще были на дереве. Она рассказала мне всю историю с Юлией так, как я уже ее вам изложил, и историю Постума — подробности которой я имел возможность проверить; да, она отравила Агриппу и Луция так же, как Марцелла и Гая, да, она перехватила мои письма Германику, но нет, его она не отравляла — Планцина сделала это по собственному почину. Правда, она собиралась его убить, так же как моего отца и по той же самой причине.
— По какой, бабушка?
— Он хотел восстановить республику. Не пойми меня превратно: Германик не собирался нарушать клятву верности, данную Тиберию, хотя и стремился отстранить меня от государственных дел. Он надеялся заставить Тиберия сделать этот шаг по доброй воле и поставить это ему в заслугу, а самому остаться в тени. Он чуть не уговорил Тиберия, ты же знаешь, какой Тиберий трус. Мне пришлось работать не покладая рук, подделать кучу документов и лгать на каждом шагу, чтобы не дать Тиберию свалять дурака. Я даже была вынуждена войти в сговор с Сеяном. Этот республиканизм — какая-то наследственная болезнь, нет-нет да и проявится. У твоего деда она тоже была.
— И у меня.
— До сих пор? Забавно. Насколько я знаю, молодой Нерон тоже ею болен. Это не принесет ему удачи. Но с вами, республиканцами, спорить бесполезно. Вы не желаете видеть, что в наше время так же мало шансов учредить республиканское правление, как заставить современных мужей и жен стать, подобно их предкам, чистыми и целомудренными. Все равно что стараться вернуть назад тень на солнечных часах — это просто невозможно.
Ливия призналась, что велела задушить Друзилла. И в том, как близок я был к смерти, когда написал о Постуме Германику. Пощадила она меня лишь потому, что ждала, не сообщу ли я Германику, где находится Постум. Больше всего меня заинтересовал рассказ бабки о способах, которыми она действовала. Я повторил вопрос Постума, какие яды она предпочитает — быстрые или медленные, и она ответила без малейшего смущения, что предпочитает применять повторные дозы медленных безвкусных ядов, дающих те же симптомы, что и скоротечная чахотка. Я спросил, как ей удавалось так хорошо заметать следы и наносить удар на таких далеких расстояниях: Гай был убит в Малой Азии, Луций — в Марселе.
Ливия напомнила мне, что ни одно замышленное ею убийство не приносило ей прямой и непосредственной выгоды. Например, она убила моего деда только после развода, и то не сразу, и не отравляла своих соперниц — Октавию, или Юлию, или Скрибонию. Жертвами ее были главным образом люди, устранив которых, она подвигала собственных сыновей и внуков ближе к престолу. Ургулания — единственная, кому она поверяла почти все свои тайны, но старая наперсница настолько осторожна и ловка и так к ней привязана, что вряд ли задуманные ими вместе преступления когда-нибудь будут раскрыты, но даже в этом случае ее, Ливию, в них никогда не уличат. Убрать несколько человек, стоявших у нее на пути и мешавших ее планам, ей очень помогли ежегодные исповеди знатных римлянок Ургулании, которые та выслушивала накануне праздника Доброй богини. Ливия подробно объяснила мне почему. Случалось, что Ургулании признавались не просто в прелюбодеянии, но в кровосмесительных сношениях с братом или сыном. Ургулания заявляла, что искупить это может лишь смерть соучастника. Женщина молила найти какой-нибудь другой способ загладить вину. Ургулания говорила, что, пожалуй, есть еще один, угодный Богине, путь. Виновная может очистить себя тем, что с помощью человека, навлекшего на нее позор, поспособствует отмщению Богини. Не так давно, говорила Ургулания, ей пришлось выслушать столь же отвратительную исповедь от другой римлянки, которая, однако, уклонилась от убийства своего соблазнителя, и потому негодяй все еще жив, хотя сама женщина и пострадала. «Негодяем» поочередно были Агриппа, Луций и Гай. Агриппу Ургулания обвинила в кровосмесительных сношениях с его дочерью Марцеллиной, чье неожиданное самоубийство подкрепило ее слова. Гая и Луция — в кровосмесительных сношениях с матерью, до ее изгнания, а репутация Юлии известна. В каждом случае женщина была только рада разработать план убийства, а мужчина — осуществить его. Ургулания помогала советом и подходящим ядом. Безопасность Ливии обеспечивалась тем, что она никак не была связана с убийцей, который, даже если на него упало бы подозрение, даже если бы его поймали с поличным, не мог бы объяснить мотивов убийства, не изобличив самого себя. Я спросил, не терзают ли ее угрызения совести из-за того, что она убила Августа и отправила в изгнание или уничтожила столько его потомков. Ливия сказала:
— Я никогда не забывала, чья я дочь!
И это многое объясняет. Отец Ливии, Клавдиан, после битвы при Филиппах был объявлен Августом вне закона и покончил с собой, чтобы не оказаться в его руках.
Короче говоря, Ливия рассказала мне обо всем, что я хотел узнать, кроме причины странных явлений в доме Германика в Антиохии. Она повторила, что сама она тут ни при чем. Пизон и Планцина ничего ей не говорили, и она так же не в состоянии прояснить эту тайну, как и я сам. Я увидел, что дольше настаивать бесполезно, поэтому я поблагодарил бабку за терпенье и, наконец, поклялся головой, что приложу все старания, чтобы сделать ее богиней.
Перед самым моим уходом Ливия протянула мне небольшой томик и сказала, чтобы я прочитал его, когда вернусь в Капую. Это было собрание сивиллиных пророчеств, исключенных из канона, о которых я писал на первых страницах этой книги, и когда я подошел к прорицанию, которое называлось «Череда лохматых», я понял, почему Ливия пригласила меня на обед и заставила поклясться страшной клятвой. Если это было на самом деле. Все происшедшее казалось мне пьяным сном.
Глава XXVI
Сеян отправил Тиберию послание, где просил вспомнить о нем, если Ливилле будут искать мужа; он, конечно, всего-навсего всадник, но был случай, когда Август хотел отдать за всадника свою единственную дочь, и, если на то пошло, у Тиберия нет более преданного слуги, чем он. Он вовсе не стремится стать сенатором, его вполне устраивает теперешний пост бдительного стража, охраняющего жизнь своего благородного господина — императора. Сеян добавил, что этот брак был бы серьезным ударом по партии Агриппины, где его считают самым злейшим врагом. Они побоятся применить насилие к оставшемуся в живых сыну Ливиллы от Кастора — молодому Тиберию Гемеллу. Недавняя смерть его брата-близнеца, писал Сеян, лежит на совести Агриппины.
Тиберий милостиво ему отписал, что не может пока дать положительного ответа на его просьбу, хотя и чувствует себя многим обязанным ему. Он не думает, что Ливилла, оба мужа которой были из самых знатных родов Рима, будет довольна, если Сеян останется всадником, но если одновременно повысить его в ранге и принять в императорскую семью, это у многих вызовет зависть и тем укрепит партию Агриппины. Тиберий добавил, что, как раз желая избежать зависти, Август и думал выдать свою дочь за простого всадника, человека, удалившегося от дел и никак не связанного с политикой.
Но кончил он более обнадеживающе: «Я пока воздержусь и не открою тебе, как именно я намерен упрочить нашу близость. Одно я могу сказать — никакое вознаграждение за твою преданность не может быть слишком высоко, и когда возникнет возможность, я с большим удовольствием сделаю то, что намерен сделать».
Сеян достаточно хорошо знал Тиберия и понял, что обратился с просьбой преждевременно — он написал свое послание под нажимом Ливиллы — и нанес тем немалую обиду. Он решил, что Тиберия надо убедить немедленно уехать из Рима, назначив его самого бессрочным правителем города, решения которого могут быть обжалованы только перед императором. Будучи командующим гвардией, он имел под своим началом корпус связных — императорских гонцов, так что в его руках окажется вся переписка Тиберия. Он будет также решать, кого допускать к императору, и чем меньше у Тиберия будет посетителей, тем лучше. Мало-помалу вся власть окажется в руках правителя города, и он сможет делать все, что вздумает, не опасаясь вмешательства императора.
Наконец Тиберий покинул Рим. Предлогом было освящение храма Юпитера в Капуе и храма Августа в Ноле. Но возвращаться он не намеревался. Было известно, что он решился на это из-за предупреждения Фрасилла, а то, что предсказывал Фрасилл, считалось неизбежным и свято принималось на веру. Предполагали, что Тиберий, которому минуло шестьдесят семь лет, скоро умрет. (Ну и страшный он был: тощий, сутулый, лысый, с негнущимися суставами, с заклеенными пластырем язвами на лице.) Никто не думал, что ему было суждено жить еще одиннадцать лет. Возможно, потому, что он никогда больше не приезжал в Рим, разве что на пригородную виллу. Но так или иначе, прожил он еще, как оказалось, долго.
Тиберий взял с собой на Капри несколько греческих философов, и отряд отборных солдат, в том числе своих германских телохранителей, и Фрасилла, и кучу странных размалеванных созданий неопределенного пола, и, что самое любопытное, Кокцея Нерву. Капри — остров в Неаполитанском заливе, милях в трех от берега. Климат там мягкий — не холодно зимой, прохладно летом. Высадиться на остров можно только в одном месте, со всех сторон его защищают круглые утесы и непроходимые заросли. Как Тиберий проводил свободное время — когда не обсуждал с философами поэзию и мифологию или политику и юриспруденцию с Нервой, — лучше умолчать, даже исторический труд не выдержит этой мерзости. Достаточно сказать, что он привез с собой полное собрание книг Элефантиды — самую богатую на свете порнографическую энциклопедию. На Капри Тиберий мог делать то, чего не имел возможности делать в Риме — заниматься блудом на открытом воздухе среди деревьев и цветов или на берегу моря, не опасаясь чужих ушей. Так как некоторые из его развлечений на природе были крайне жестоки — ведь страдания его товарищей по играм больше всего доставляли ему наслаждение, — Тиберий считал, что достоинство Капри — удаленность от Рима — превосходит его недостатки. Он не все время жил на острове, иногда ездил в гости в Капую, Байи и Акцию. Но Капри был его штаб-квартирой.
28 г. н. э.
Через некоторое время Тиберий дал Сеяну полномочия убирать главарей партии Агриппины любыми удобными ему средствами. Он поддерживал каждодневную связь с Сеяном и одобрял его действия в письмах сенату. Однажды, во время новогоднего праздника в Капуе, Тиберий, читавший в качестве великого понтифика положенную по ритуалу молитву, вдруг обернулся к стоявшему неподалеку всаднику по имени Сабин и стал обвинять его в том, что он пытался толкнуть на измену его вольноотпущенников. Один из людей Сеяна туг же задрал тогу Сабина ему на голову, затем накинул на шею петлю и потащил прочь. Сабин крикнул сдавленным голосом: «Помогите, друзья, помогите!» — но никто не двинулся с места, и Сабин, чья единственная вина заключалась в том, что он был в свое время другом Германика и, попавшись в ловушку одного из агентов Сеяна, выразил в частной беседе сочувствие Агриппине, был по совокупности улик казнен. На следующий день в сенате прочитали письмо Тиберия, где он писал о казни Сабина и о том, что Сеян раскрыл опасный заговор. «Отцы сенаторы, пожалейте несчастного старика, живущего в постоянном страхе, ведь даже члены его собственной семьи зломышляют против него». Всем было ясно, что он имеет в виду Нерона и Агриппину. Поднялся Галл и внес предложение, чтобы император изложил свои страхи перед сенатом и позволил их рассеять, что, без сомнения, будет нетрудно сделать. Но Тиберий все еще не чувствовал себя достаточно сильным, чтобы отомстить Галлу.
Летом того же года на главной улице Неаполя произошла случайная встреча между Ливией, которую несли в носилках, и Тиберием, ехавшим верхом. Тиберий только что прибыл с Капри, а Ливия возвращалась из Геркуланума, где была в гостях. Тиберий предпочел бы, не здороваясь, проехать мимо, но многолетняя привычка взяла свое — он натянул поводья и сухо справился, как себя чувствует мать. Ливия сказала:
— Прекрасно, тем более что тебя это интересует, мой мальчик. Хочу дать тебе материнский совет: будь осторожен, когда ешь усача на этом твоем острове. Некоторые из тех, что там ловят, очень ядовиты.
— Спасибо, матушка, — сказал Тиберий, — так как предупредила меня ты, я буду свято следовать твоему совету и есть только тунца и кефаль.
Ливия фыркнула и, обернувшись к бывшему с ней Калигуле, громко произнесла:
— Да, как я уже тебе говорила, мой муж (твой прадедушка, милый) и я бежали по этой самой улице однажды ночью шестьдесят пять лет назад (кажется, так), пробираясь к пристани, где нас ждал корабль. В любой момент нас могли арестовать и убить солдаты Августа — теперь это кажется странным! Мой старший сын — тогда у нас был всего один ребенок — сидел на плечах у отца. И что же сделал этот маленький негодяй? Поднял страшный рев: «О, отец, я хочу обратно в Перу-у-узию!» И выдал нас с головой. Из таверны вышли два солдата и окликнули нас. Мы юркнули в темный подъезд, надеясь, что они пройдут мимо. Но Тиберий продолжал вопить: «Хочу обратно в Перузию!» Я сказала: «Убей его! Убей щенка! Это наша единственная надежда!» Но мой муж был мягкосердечный болван и не пошел на это. Мы спаслись по чистой случайности.
Тиберий, оставшийся было, чтобы дослушать историю до конца, вонзил шпоры в бока лошади и в ярости ускакал. Больше они не встречались.
Предупреждение Ливии насчет рыбы имело одну-единственную цель — досадить Тиберию, заставить его думать, будто его рыбаки или повара ею подкуплены. Ливия знала, что Тиберий очень любит усача и теперь вечно будет разрываться между желанием полакомиться и страхом смерти. Эта история имела печальное продолжение. Однажды Тиберий сидел под деревом на западном склоне острова, наслаждаясь легким ветерком, и сочинял стихотворный диалог на греческом языке между зайцем и фазаном, где каждый из них по очереди доказывал свое право на первое место среди яств. Идея эта принадлежала не ему, совсем недавно Тиберий наградил одного из своих придворных поэтов двумястами золотых за подобное сочинение, где первенство оспаривали гриб, конек, устрица и дрозд. Во вступительной части к своей поэме Тиберий отвергал их притязания, говоря, что только заяц и фазан могут претендовать на корону из петрушки, лишь их достоинства не вызывают сомнений, лишь у них нет никаких изъянов.
Тиберий как раз подыскал уничижительный эпитет для устрицы, когда внезапно услышал шорох в терновнике на склоне утеса, и перед ним появился какой-то человек дикого вида, с взъерошенными волосами. Его мокрая одежда была разорвана в клочья, лицо окровавлено, в руке раскрытый нож. Человек продирался сквозь колючий кустарник с криком: «Взгляни, цезарь, ну разве не красавец?» Из мешка на плече он вытащил огромного усача и бросил его, все еще трепыхающегося, на траву у ног Тиберия. Это был простой рыбак; поймав такую необыкновенную добычу и увидев Тиберия на вершине утеса, он решил преподнести рыбу императору. Он привязал лодку к скале, доплыл до утеса, с трудом поднялся по обрывистой тропинке над пропастью до опоясывающих утес колючих кустов и прорубил себе проход через них ножом.
У Тиберия душа ушла в пятки. Он засвистел в свисток и крикнул:
— Помогите, помогите! Скорей! Вольфганг! Зигфрид! Адельстан! Убийца! Schnell![111]
— Идем, благороднейший, высокорожденный, дарующий блага вождь! — тут же отвечали германцы. Они стояли на страже справа, слева и позади Тиберия — спереди, естественно, сторожевого поста не было — и бросились к нему, размахивая ассагаями.
Рыбак не понимал их языка и, закрыв складной нож, весело сказал:
— Я поймал его вон у того грота. Как думаешь, сколько он весит? Форменный кит, да? Чуть не вытащил меня из лодки.
Тиберий несколько успокоился, но, подумав, что вдруг рыба отравлена, крикнул германцам:
— Не трогайте его! Разрубите эту рыбину пополам и потрите ему ею лицо.
Дюжий Вольфганг обхватил рыбака сзади так, что тот не мог шевельнуться, а остальные двое стали тереть ему лицо сырой рыбой. Незадачливый малый закричал:
— Эй, перестаньте! Что за шутки! Хорошо еще, что я не предложил императору сперва то, другое, что лежит у меня в мешке.
— Посмотрите, что там у него, — приказал Тиберий.
Адельстан раскрыл мешок и обнаружил там огромнейшего омара.
— Потри ему лицо и этим, — сказал Тиберий, — да посильнее.
Несчастный потерял оба глаза. Наконец Тиберий сказал:
— Хватит. Можете его отпустить.
Рыбак сделал несколько неверных шагов, крича от боли; что еще оставалось, как не скинуть его в море с ближайшей скалы?
Я рад сообщить, что Тиберий никогда не приглашал меня на остров; я и в дальнейшем воздерживался от поездок туда, хотя все, свидетельствующее о мерзостных развлечениях Тиберия, давно убрано, а его двенадцать вилл, как говорят, очень красивы.
Я попросил у Ливии разрешения жениться на Элии, и она дала его, с усмешкой пожелав мне счастья. Она даже присутствовала на бракосочетании. Свадьба была роскошная — об этом позаботился Сеян, — и одним из ее последствий было охлаждение между мной и Агриппиной с Нероном, а также их друзьями. Они думали, будто я не смогу ничего держать в секрете от Элии, а Элия станет рассказывать Сеяну все, что ей удастся узнать. Это очень меня огорчило, но я видел, что переубеждать Агриппину бесполезно. (В это время она была в трауре по своей сестре Юлилле, умершей после двадцатилетнего изгнания на этом жалком островке Тремерии.) Поэтому я постепенно перестал навещать ее, чтобы не ставить нас обоих в неловкое положение. Мы с Элией лишь номинально были мужем и женой. Когда мы вошли в брачную опочивальню, она мне первым делом сказала:
— Имей в виду, Клавдий, я не желаю, чтобы ты касался меня, и если нам когда-нибудь придется спать вместе, как сегодня, между нами будет одеяло; только шевельнешься — вылетишь вон. И еще одно: ты не вмешиваешься в мои дела, я — в твои…
Я сказал:
— Спасибо, ты сняла тяжкий камень с моей души.
Элия была ужасная женщина. У нее был громкий, напористый голос, как у аукциониста на невольничьем рынке, и такое же, как у него, красноречие. Вскоре я даже не пытался ей отвечать. Само собой, я по-прежнему жил в Капуе. Элия никогда не приезжала туда ко мне, но Сеян настаивал, чтобы, бывая в Риме, я как можно чаще показывался вместе с ней на людях.
У Нерона не было никаких шансов устоять против Сеяна и Ливиллы. Хотя Агриппина постоянно предупреждала его, чтобы он взвешивал каждое свое слово, у него была на редкость открытая натура, и скрывать мысли он не умел. Среди молодых патрициев, которых Нерон считал друзьями, было несколько тайных агентов Сеяна, и они записывали все, что Нерон говорил по поводу общественных событий. Что еще хуже, его жена, которую мы звали Елена или Хэлуон, была дочерью Ливиллы и передавала ей все, сказанное Нероном по секрету. Но самую большую опасность представлял его брат Друз, с которым Нерон делился своими мыслями еще чаще, чем с женой, и который завидовал ему, так как Нерон был старший сын и любимец Агриппины. Друз отправился к Сеяну и сказал, что Нерон предложил ему в ближайшую темную ночь вместе отплыть в Германию, где они попросят защиты у полков — ведь они сыновья Германика — и призовут их к походу на Рим; конечно, он с негодованием отказался. Сеян посоветовал Друзу немного обождать — его попросят пересказать все это Тиберию в более подходящий момент.
Тем временем Сеян распустил слух, будто Тиберий намерен обвинить Нерона в государственной измене. Друзья Нерона стали отворачиваться от него. Стоило двоим-троим из них отказаться от приглашений к обеду и холодно ответить на приветствие, когда они встречались в публичных местах, как все прочие последовали их примеру. Прошло несколько месяцев, и рядом с Нероном остались только истинные его друзья. Среди них был Галл, который, после того как Тиберий перестал посещать сенат, перенес свои насмешки на Сеяна. С ним он избрал следующую тактику: постоянно вносил предложения о том, чтобы сенат выражал Сеяну благодарность за его услуги государству и оказывал особые почести — воздвигал статуи и арки, даровал титулы, назначал богослужения и публичное празднование его дня рождения. Сенат не осмеливался возражать, сам Сеян, не будучи сенатором, не имел права голоса, а Тиберий не хотел идти против сената и накладывать вето на его решения, боясь, как бы Сеян не подумал, будто он потерял к нему доверие, и не желая восстанавливать его против себя. Теперь, когда сенату что-нибудь было нужно, к Сеяну посылался один из сенаторов с просьбой разрешить им обратиться к Тиберию, и если Сеян был против, вопрос об этом больше не поднимался. Как-то раз, сославшись на то, что потомкам Торквата в ознаменование услуг, оказанных их предком государству, сенат пожаловал в качестве семейного отличия золотое ожерелье, а потомкам Цинцинната — золотой завиток, Галл предложил, чтобы Сеян и его потомки были награждены золотым ключом — знаком его верной службы императору в должности привратника.[112] Сенат единогласно принял это предложение, и Сеян, не на шутку встревожившись, написал Тиберию и посетовал, что Галл все последнее время злонамеренно предлагает воздать ему почести, чтобы восстановить против него сенат и даже, возможно, чтобы вызвать у императора подозрения, будто у него хватает дерзости питать чересчур честолюбивые замыслы. На этот раз предложение Галла еще более коварно — это намек на то, что доступ к императору якобы зависит от человека, использующего свою власть в целях личного обогащения. Сеян умолял, чтобы Тиберий изыскал какую-нибудь возможность наложить вето на это предложение и заставил Галла замолчать. Тиберий ответил, что не может наложить вето на декрет, не нанося вреда доброму имени Сеяна, но скоро предпримет шаги, которые утихомирят Галла. Пусть Сеян не волнуется, его письмо говорит об истинной преданности и глубине суждений. Но намек Галла попал в цель. Тиберий внезапно осознал, что, в то время как все происходящее на Капри известно Сеяну и даже в большой степени контролируется им, сам он знает о делах Сеяна лишь то, что тот соизволит ему сообщить.
29 г. н. э.
Я подошел теперь к поворотному пункту моей истории — смерти бабки Ливии, когда ей было восемьдесят шесть лет. Она могла бы прожить еще не один год, так как полностью сохранила слух и зрение и способность двигаться, не говоря об уме и памяти. Но в последнее время она стала страдать от простуд, вызванных воспалением носа, и когда зараза перекинулась на легкие, она слегла в постель. Ливия призвала меня во дворец — я случайно оказался в Риме. Было ясно, что конец ее близок. Она напомнила о клятве.
— Я не успокоюсь, пока не исполню ее, — сказал я.
Когда умирает очень старая женщина, причем не кто-нибудь, а твоя бабка, скажешь что угодно, лишь бы ей угодить.
— Но я думал, Калигула все для тебя устроит.
Несколько минут Ливия молчала. Затем проговорила с бессильной яростью:
— Он был здесь десять минут назад. Он стоял и смеялся надо мной. Он сказал, пусть я провалюсь в преисподнюю и буду гореть там синим пламенем — ему наплевать. Он сказал, что, раз дни мои сочтены, ему нет нужды держаться за меня, а клятва ничего не значит, ведь она была дана поневоле. Он сказал, что не я, а он будет всемогущим божеством, о котором говорится в предсказаниях. Он сказал…
— Не волнуйся, бабушка. Ты еще над ним посмеешься. Когда ты станешь царственной небожительницей, а ему в преисподней миносовы подручные будут ломать на колесе кости до скончания времен…[113]
— Подумать только, что я называла тебя дурачком, — сказала Ливия. — Я умираю, Клавдий. Закрой мне глаза и положи в рот монету, которую найдешь у меня под подушкой. Перевозчик ее узнает. Он отнесется ко мне с должным уважением…[114]
И она умерла. Я закрыл ей глаза и положил в рот монету. Я никогда еще не видел таких монет. На лицевой ее стороне Август и Ливия в профиль смотрели друг на друга, на обратной была триумфальная колесница.
Мы не говорили с Ливией о Тиберии. Я вскоре узнал, что его загодя предупредили об ее состоянии, чтобы он успел отдать свой последний долг. Тиберий написал сенату, прося прощения за то, что не навестил ее, но он был крайне занят, и во всяком случае на похороны он приедет. Тем временем сенат присудил Ливии самые редкие почести, в том числе титул Матери отчизны, и даже предложил сделать ее полубогиней. Но Тиберий отклонил почти все их декреты, объяснив в письме, что Ливия, как исключительно скромная женщина, была не склонна искать общественного признания своих заслуг и особенно ненавистна была для нее мысль о религиозном поклонении ей после смерти. Письмо кончалось размышлениями о неуместности вмешательства женщин в политику, «для которой они не подходят и которая пробуждает в них самые дурные качества, такие, как самонадеянность и раздражительность, вообще свойственные женскому полу».
Конечно, Тиберий не приехал в Рим на похороны, хотя, единственно с целью ограничить их великолепие, участвовал во всех приготовлениях. Он занимался этим так долго, что, как ни высохло от старости и болезни тело Ливии, оно дошло до крайней степени распада, пока его возложили на погребальный костер. Ко всеобщему удивлению, хвалебную речь произнес Калигула, хотя это следовало сделать Тиберию, а в случае его отсутствия — его наследнику, Нерону. Сенат постановил построить в память Ливии арку — впервые в истории Рима женщине была оказана подобная честь. Тиберий разрешил оставить этот декрет в силе и сказал, что построит арку за свой счет, а затеям «забыл» об этом. Что до завещания Ливии, то большую часть имущества унаследовал, естественно, Тиберий, но столько, сколько было разрешено по закону, она оставила членам своей семьи и другим, пользующимся ее доверием лицам. Тиберий не отдал ни одному человеку то, что она отказала. Сам я должен был получить после смерти Ливии двадцать тысяч золотых.
Глава XXVII
Мне бы никогда и в голову не пришло, что я буду жалеть о Ливии. В детстве я вечер за вечером молился властителям преисподней, чтобы они забрали ее к себе. А сейчас я принес бы самые роскошные жертвы — белых быков, антилоп пустыни, дюжины ибисов и фламинго, — чтобы вернуть ее. Стало ясно, что лишь страх перед матерью все это время удерживал Тиберия в каких-то границах. Прошло всего несколько дней после ее смерти, и он нанес удар по Агриппине и Нерону. Агриппина к этому времени уже оправилась от болезни. Тиберий не обвинял их в государственной измене. Он написал сенату, жалуясь на крайнюю испорченность Нерона и «высокомерие и интриги» Агриппины, и предложил принять жесткие меры, чтобы призвать их к порядку.
Когда письмо было прочитано, в сенате надолго воцарилась тишина. Каждый задавал себе вопрос, какую поддержку окажут граждане Рима семье Германика, которую Тиберий избрал очередной жертвой, и не безопаснее ли пойти против Тиберия, чем против всего населения города. Наконец поднялся один из друзей Сеяна и сказал, что они должны считаться с пожеланиями императора и издать тот или иной декрет против упомянутых им лиц. В сенате был официальный протоколист, который вел протоколы заседаний, и его слово имело большой вес. До сих пор он безропотно голосовал за предложения Тиберия, и, по словам Сеяна, на него можно было положиться — как ему скажут, так он и сделает. Однако на этот раз протоколист выразил протест. Он сказал, что сейчас не стоит поднимать вопрос о том, как держится Агриппина и ведет себя Нерон. Он считает, что император был введен в заблуждение и написал свое письмо слишком поспешно; им не следует утверждать никакого декрета, чтобы император мог на досуге еще раз все обдумать, прежде чем выдвигать такие серьезные обвинения против членов своей семьи. Это будет отвечать не только их, но и его собственным интересам. Тем временем известие о письме распространилось по всему городу, хотя все, что происходит в сенате, считается секретным, пока не появятся официальные указы императора, и у здания сената собралась огромная толпа, всячески выражавшая свою приверженность Агриппине и Нерону. «Да здравствует Тиберий! Письмо поддельное! Да здравствует Тиберий! Это работа Сеяна!» — кричали они.
Сеян срочно отправил посланца к Тиберию, который переехал на виллу в нескольких милях от Рима на случай, если возникнут беспорядки. Сеян доложил, что сенат отказался удовлетворить требование, выраженное в письме, что народ на грани бунта, называет Агриппину истинной Матерью отчизны, а Нерона — спасителем, и если Тиберий не будет действовать твердо и решительно, то еще до наступления ночи произойдет кровопролитие.
Тиберий, хотя и был напуган, последовал совету Сеяна и написал сенату угрожающее письмо, обвиняя протоколиста в не имеющем себе равных оскорблении императора и попрании его достоинства и требуя, чтобы все это дело было отдано целиком и полностью в его руки, раз самим им его интересы безразличны. Сенат уступил. После того как гвардия под звуки труб прошла через город с мечами наголо, Тиберий объявил, что, если бунтарские демонстрации не прекратятся, он урежет вдвое количество дарового зерна. Затем сослал Агриппину на Пандатерию, тот самый островок, где когда-то томилась в заключении ее мать Юлия, а Нерона — на Понцу, другой крошечный скалистый островок на полпути между Капри и Римом, но вдали от побережья. Тиберий сказал сенату, что оба пленника чуть было не ускользнули из Рима в надежде толкнуть на измену верные рейнские войска.
Прежде чем отправить Агриппину в изгнание, Тиберий велел привести ее к нему и глумливо спросил, как она намерена править своим могущественным царством, унаследованным от матери (его добродетельной покойной жены), и будет ли она посылать послов к своему сыну Нерону в его царство, чтобы вступить с ним в военный союз. Агриппина не отвечала. Тиберий разозлился и заорал, что ждет ответа, и когда она и тут продолжала молчать, велел капитану гвардейцев ударить ее по спине. Тогда она наконец заговорила:
— Кровавый пакостник — вот твое имя. Я слышала, так тебя называл Теодор из Гадары, твой учитель риторики на Родосе.
Тиберий выхватил у капитана виноградную лозу и хлестал Агриппину до тех пор, пока она не лишилась чувств.[115] В результате этого ужасного избиения Агриппина ослепла на один глаз.
Вскоре Друз тоже был обвинен в происках среди рейнских полков. Для подтверждения этого Сеян предъявил письма, по его словам, перехваченные, а в действительности подложные, а также письменное свидетельство Лепиды, жены Друза (с которой у Сеяна была интрижка), показавшей, будто Друз просил ее войти в контакт с моряками Остии, которые, как он надеялся, еще помнят, что они с Нероном внуки Агриппины. Сенат передал дело Друза на усмотрение Тиберия, и тот заточил юношу в отдаленной мансарде дворца под надзор Сеяна.
Следующей жертвой стал Галл. Тиберий написал сенату, что Галл завидует Сеяну и делает все возможное, чтобы иронической хвалой и другими злонамеренными способами вызвать к нему немилость императора. Сенаторы были так встревожены полученным в тот день известием о самоубийстве протоколиста, что немедленно послали к Галлу чиновника, чтобы тот его арестовал. В доме Галла чиновнику сказали, что Галла нет в Риме, он в Байях. В Байях его направили на виллу императора, и действительно Галл был там на обеде у Тиберия. Тиберий пил за здоровье Галла, и тот отвечал, как положено верному подданному; в пиршественном зале была такая дружеская и веселая атмосфера, что чиновник пришел в смущение и не знал, что сказать. Тиберий спросил, зачем он явился.
— Арестовать одного из твоих гостей, цезарь, по повелению сената.
— Которого? — спросил Тиберий.
— Азиния Галла, — отвечал чиновник, — но это, должно быть, ошибка.
Тиберий принял серьезный вид.
— Если сенат имеет что-то против тебя, Галл, и прислал этого чиновника тебя арестовать, боюсь, придется кончать наш приятный вечер. Я не могу идти против сената. Но я скажу тебе, как я сделаю — ведь мы пришли с тобой к полному согласию, — я напишу сенату и попрошу в виде личного одолжения не предпринимать по отношению к тебе никаких шагов, пока они не получат от меня известия. А это значит, что ты будешь под простым арестом, на попечении консулов, — без кандалов и тому подобного. Я добьюсь твоего оправдания, как только смогу.
Галл был вынужден поблагодарить Тиберия за великодушие, но не сомневался, что его ждет ловушка и Тиберий отплачивает за издевку издевкой; он не ошибся. Галла отвезли в Рим и поместили в подвальном помещении здания сената. Ему не разрешали никого видеть, даже слугу, и посылать письма друзьям и домашним. Пищу ему давали через решетку в двери. В подвале было темно — свет проникал через ту же решетку — и пусто, на полу лежал один тюфяк. Галлу сказали, что он находится здесь временно, что скоро приедет Тиберий и решит его дело. Но дни переходили в месяцы, месяцы в годы, а Галл по-прежнему оставался в подвале. Пища была скудная; Тиберий назначил такой рацион, чтобы Галл страдал от голода, но не мог от него умереть. Ему не дали ножа или другого острого предмета, так как опасались, как бы он не воспользовался им, чтобы покончить с собой, не дали ничего, чем бы он мог занять себя — ни письменных принадлежностей, ни книг, ни игральных костей. Он получал очень мало воды для питья, для мытья ему не давали воды совсем. Если о Галле заговаривали в присутствии Тиберия, старик отвечал, ухмыляясь: «Я еще не помирился с Галлом».
Услышав об аресте Галла, я пожалел, что только что поссорился с ним. Это была литературная ссора. Галл сочинил абсурдную книгу под названием «Сравнение моего отца Азиния Поллиона и его друга Марка Туллия Цицерона как ораторов». Если бы он сравнивал их по моральным качествам, или по политическим талантам, или даже по учености, первенство Поллиона было бы неоспоримо. Но Галл пытался доказать, что его отец обладал более отточенным слогом и превзошел Цицерона в ораторском искусстве. Это было нелепо, и я написал небольшую книжицу, где так и утверждал. Книжка эта вышла вскоре после моего критического разбора заметок самого Поллиона о Цицероне и сильно рассердила Галла. Я бы охотно воздержался от опубликования этой книги, если бы мог этим хоть немного облегчить жизнь несчастного Галла в тюрьме. С моей стороны, было глупо, я полагаю, так думать.
Наконец Сеян мог доложить Тиберию, что партия «зеленых» разгромлена, и ему больше не о чем беспокоиться. Тиберий сказал Сеяну, что решил в награду женить его на своей внучке Елене (чей брак с Нероном он расторг), и намекнул на дальнейшие милости. И тут моя мать, которая, не забывайте, была также матерью Ливиллы, вмешалась в это дело. После смерти Кастора Ливилла стала жить у нее и постепенно настолько потеряла осторожность, что мать узнала о ее тайной переписке с Сеяном. Мать всегда была очень бережлива, а в старости ей доставляло особое удовольствие копить огарки, чтобы выплавлять из них новые свечи, продавать помои крестьянам, откармливавшим свиней, и, смешивая угольную пыль с какой-то жидкостью, делать из нее лепешки, которые, высохнув, горели не хуже угля. Ливилла же была весьма расточительна, и мать все время бранила ее. Однажды, проходя мимо комнаты Ливиллы, мать увидела, что раб выходит из нее с мусорной корзиной, полной бумаги.
— Куда ты идешь, мальчик? — спросила она.
— К топке, хозяйка, приказ госпожи Ливиллы.
Мать сказала:
— Что за безрассудство — набивать топку совершенно хорошей бумагой! Ты знаешь, сколько она стоит? В три раза больше пергамента. На некоторых из этих листков почти ничего не написано.
— Госпожа Ливилла строго-настрого приказала мне…
— Госпожа Ливилла была, видимо, очень занята своими мыслями, когда приказывала тебе уничтожить такую ценную вещь. Дай мне корзинку. Чистые куски можно использовать для хозяйственных списков. Мотовство до добра не доведет.
Мать взяла бумагу к себе в комнату и только собралась отрезать исписанные куски, как ей пришло в голову вообще вывести чернила с листов. До сих пор она честно старалась не читать написанное, но когда она принялась соскребать чернила, глаза ее невольно побежали по строчкам, и она вдруг поняла, что перед ней черновики или неудачные начала письма к Сеяну. Начав читать, мать не могла остановиться, и, еще не закончив, она уже все знала. Ливилла была вне себя от ревности, ведь Сеян согласился жениться на ком-то другом, мало того — на ее собственной дочери! Но Ливилла пыталась скрыть свои чувства — каждый следующий черновик письма был тоном ниже. Сеян должен действовать без промедления, писала она, пока Тиберий не заподозрил, что он не намерен жениться на Елене, а если он еще не готов убить Тиберия и захватить власть, не отравить ли ей самой свою дочь?
Мать послала за Паллантом, который выискивал для меня в библиотеке кое-какие исторические сведения об этрусках, и велела ему пойти к Сеяну и от моего имени попросить разрешения поехать на Капри, чтобы преподнести Тиберию мою «Историю Карфагена». (Я только что окончил эту работу и послал матери рукописный экземпляр, прежде чем ее публиковать). На Капри Паллант должен был просить императора, опять от моего имени, принять посвященный ему труд. Сеян охотно дал свое разрешение, так как знал, что Паллант — один из наших семейных рабов, и ничего не заподозрил. Но в двенадцатый том мать вклеила письма Ливиллы и свое письмо с объяснениями; она велела Палланту следить, чтобы никто не прикасался к книгам (все они были запечатаны), и отдать их Тиберию в собственные руки. Паллант должен был добавить к моим приветствиям и просьбе разрешить мне посвятить мой труд императору следующие слова: «Госпожа Антония также преданно приветствует императора: по ее мнению, книга ее сына не представляет для императора интереса; исключение составляет двенадцатый том, где содержится очень любопытное отступление, которое, как она полагает, покажется ему занимательным».
Паллант заехал в Капую, чтобы сообщить мне, куда он направляется. Он сказал, что нарушает этим строжайший приказ моей матери, но, в конце концов, его настоящий хозяин — я, а не она, хоть она и считает себя его госпожой; он боится невольно вовлечь меня в беду и уверен, что я вовсе не собирался посвящать свою книгу императору. Я был озадачен, в особенности когда он упомянул о двенадцатом томе, поэтому, пока он умывался и менял одежду, я сломал печать. Когда я увидел, что туда было вложено, я ужасно перепугался и даже подумал, уж не сжечь ли мне книгу вместе с письмами. Но это было не менее опасно, чем оставить все как есть, и я снова скрепил печатью. Мать пользовалась дубликатом моей печати, который я дал ей для деловых бумаг, никто бы не догадался, что я открывал книгу, даже Паллант. Затем Паллант поспешил на Капри и на обратном пути сказал мне, что Тиберий взял двенадцатый том и удалился с ним в лес. Он разрешает мне посвятить ему свой труд, сказал император, но я должен воздержаться от преувеличенных восхвалений. Это меня немного успокоило, но Тиберию нельзя было доверять, особенно когда он казался к тебе расположенным. Естественно, я очень тревожился насчет того, что может произойти, и сердился на мать — ведь, впутав меня в ссору между Сеяном и Тиберием, она подвергала мою жизнь страшной опасности. Я даже подумал, не скрыться ли мне куда-нибудь? Но куда? Скрыться было некуда.
31 г. н. э.
Первое, что случилось после того, — заболела Елена. Теперь-то мы знаем, что она была совершенно здорова, но Ливилла предложила ей на выбор — лечь в постель, притворившись, будто она больна, или слечь в постель, заболев на самом деле. Ее перевезли из Рима в Неаполь, где климат считается лучше. Тиберий разрешил отложить свадьбу на неопределенное время, но называл Сеяна своим зятем, точно она состоялась. Тиберий возвел Сеяна в ранг сенатора, назначил, одновременно с собой, вторым консулом и понтификом. Но то, что он сделал потом, перечеркнуло все эти милости: он пригласил Калигулу на несколько дней на Капри, а потом отправил его в сенат с весьма важным письмом. В письме говорилось, что он беседовал с молодым человеком, его наследником, и нашел, что тот ничем не схож со своими братьями по характеру и темпераменту, поэтому он не поверит никаким обвинениям в безнравственности или в отсутствии преданности, если их станут на него возводить. Он вверяет Калигулу заботам Элия Сеяна, своего сотоварища по консульству, и просит оградить его от всякого зла. Тиберий также назначил Калигулу понтификом и жрецом Августа.
Когда в Риме услышали про это письмо, там поднялось ликование. Поручая Калигулу попечению Сеяна, решили все, Тиберий предупреждал его, что вражда с семьей Германика зашла слишком далеко. То, что Сеян получил звание консула, сочли плохим для него предзнаменованием. Сам Тиберий сейчас был консулом в пятый раз, и все предшественники Сеяна, разделявшие с императором это звание — Вар, Гней Пизон, Германик, Кастор — умерли при печальных обстоятельствах. Вновь возникли надежды, что скоро все беды нации окажутся позади: ими будет править сын Германика. Возможно, Тиберий убьет Нерона и Друза, но он явно решил пощадить Калигулу. Сеян не станет императором. Все, кого Тиберий прощупывал по поводу своего выбора, явно одобряли то, что его преемником будет Калигула, — убедив самих себя, будто он унаследовал все добродетели отца; и Тиберия, всегда распознававшего реальное зло и сказавшего в глаза Калигуле, что он ядовитый змееныш, и по этой самой причине пощадившего его, это немало позабавило и очень обрадовало. Он мог воспользоваться растущей популярностью Калигулы, чтобы держать в узде Сеяна и Ливиллу.
Тиберий до известной степени доверился Калигуле и дал ему поручение узнать в дружеской беседе с гвардейцами, кто из их командиров имеет в лагере самое большое влияние после Сеяна, а затем удостовериться, так ли он жесток и бесстрашен, как тот. Калигула нарядился в женское платье, надел парик и, взяв для компании двух проституток помоложе, стал заходить в пригородные таверны, где по вечерам пили солдаты. С густо накрашенным лицом и накладным бюстом Калигула сходил за женщину: высокую и не очень привлекательную, но все же женщину. В тавернах он говорил, будто живет на содержании у богатого лавочника, который дает ему кучу денег, и потому угощал всех вокруг. Щедрость сделала его популярным. Вскоре Калигула уже знал обо всем, что творилось в лагере; чаще всего в разговорах всплывало имя ротного капитана Макрона. Макрон был сыном одного из вольноотпущенников Тиберия и, судя по всему, самым жестоким человеком в Риме. Солдаты с восхищением говорили о его кутежах и распутстве, о том, как он верховодит остальными офицерами, как никогда не теряется в трудном положении. Даже Сеян побаивается его, Макрон — единственный человек, который осмеливается ему возражать. Поэтому однажды вечером Калигула познакомился с Макроном и потихоньку назвал ему свое имя; затем они вышли вдвоем из таверны, и между ними был долгий разговор.
Тиберий стал одно за другим писать сенату странные письма: то он говорил, что болен, чуть ли не умирает, то — что он внезапно поправился и срочно собирается в Рим. Не менее странно он писал о Сеяне, перемежая непомерные похвалы раздраженными упреками, и у всех создалось впечатление, что он впадает в детство. Сеяна эти письма поставили в тупик, он не знал, устраивать ли переворот немедленно или оставить все по-старому — положение его было все еще прочным, — пока Тиберий не умрет или не появится возможность лишить его участи по причине слабоумия. Сеян хотел поехать на Капри и собственными глазами увидеть, как обстоят дела. Он написал Тиберию, испрашивая разрешения его посетить. Тиберий ответил, что, будучи консулом, Сеян обязан оставаться в Риме, достаточно и того, что сам он постоянно отсутствует. Тогда Сеян написал, что Елена серьезно больна и умоляет его навестить ее в Неаполе — может ли он приехать к ней, хотя бы на один день? А из Неаполя лишь час на веслах до Капри. Тиберий ответил, что Елену лечат лучшие доктора, надо набраться терпения; он сам собирается в Рим в ближайшие дни и хочет, чтобы Сеян его там, как положено, встретил. Примерно в это же время Тиберий не разрешил начать дело против бывшего губернатора Испании, которого Сеян обвинял в вымогательстве, на том основании, что показания свидетелей противоречивы. Никогда раньше в подобных случаях Тиберий не отказывал Сеяну в поддержке. Сеян перепугался. А тут и его консульский год закончился.
В день, назначенный Тиберием для прибытия в Рим, Сеян ждал во главе батальона гвардейцев перед храмом Аполлона, где заседал сенат, так как здание сената было тогда на ремонте. Неожиданно к нему подъехал Макрон и приветствовал его. Сеян спросил, почему он покинул лагерь. Макрон ответил, что Тиберий прислал ему письмо, которое он должен передать сенату.
— Почему тебе? — подозрительно спросил Сеян.
— Почему бы и нет?
— Но почему не мне?
— Потому что в письме говорится о тебе.
Затем Макрон шепнул ему на ухо:
— Сердечно поздравляю, командир. В письме для тебя есть сюрприз. Тебя сделают народным трибуном. Это значит, что ты станешь следующим императором.
Сеян не думал, что Тиберий на самом деле появится в Риме, но его молчание в последнее время сильно тревожило Сеяна. Сейчас, не помня себя от радости, он бросился в храм
Макрон скомандовал гвардейцам «смирно!» и сказал:
— Ребята, император назначил меня командующим вместо Сеяна. Вот мои полномочия. Возвращайтесь обратно в лагерь, вы свободны. А в лагере скажите всем остальным, что теперь за главного Макрон, и каждому, кто умеет выполнять приказы, перепадет по тридцать золотых. Кто здесь старший офицер? Ты? Уведи отсюда людей. И не подымайте лишнего шума.
Гвардейцы ушли, а Макрон вызвал начальника городской стражи, который уже был предупрежден, чтобы тот дал взамен них охрану. Затем Макрон зашел в зал заседаний следом за Сеяном, вручил консулам письмо и тут же вышел, не дожидаясь, пока его начнут читать. Он убедился, что стражники расставлены как надо, и поспешил вслед за гвардейцами в лагерь, чтобы не допустить там беспорядков.
Тем временем известие о том, что Сеяна назначают трибуном, разнеслось по всему залу, и сенаторы принялись наперебой его поздравлять. Один из консулов призвал всех к порядку и принялся читать письмо. Начиналось оно, как обычно, с извинений Тиберия по поводу его отсутствия на заседании (неожиданные дела и плохое здоровье), затем он перешел к общим вопросам, от них — к упрекам Сеяну за то, что он поспешил предъявить экс-губернатору обвинение, не имея твердых улик. Здесь Сеян улыбнулся, так как обычно, выразив свое недовольство, Тиберии оказывал ему какую-нибудь новую милость. Но письмо продолжалось в том же духе, упрек следовал за упреком, каждый новый абзац был резче, чем предыдущий, и улыбка сползла с лица Сеяна. Сенаторы, поздравлявшие его, в растерянности замолчали, один или двое, сидевшие рядом с ним, под каким-то предлогом перешли на другую сторону зала. В конце письма говорилось, что Сеян виновен в грубых нарушениях законности, что двое его друзей — его дядя Юний Блез, одержавший победу над Такфаринатом, и еще один — должны быть наказаны, а сам Сеян должен быть арестован. Консул, предупрежденный накануне Макроном, чего желает от него Тиберий, громко сказал:
— Сеян, подойди сюда.
Сеян не поверил своим ушам. Он ждал конца письма, где говорилось бы о назначении его трибуном. Консулу пришлось дважды его позвать, прежде чем он понял.
— Кто? Я? Ты имеешь в виду меня?
Как только враги Сеяна осознали, что он наконец повержен, они принялись громко свистеть и шикать; его друзья и родственники, опасаясь за собственную жизнь, присоединились к ним. Сеян внезапно оказался один. Консул задал вопрос, последует ли сенат совету императора.
— Да, да! — хором закричали сенаторы.
Вызвали начальника охраны, и когда Сеян увидел, что его гвардейцы исчезли, а на их месте городская стража, он понял, что проиграл. Сеяна повели под конвоем в тюрьму. Его окружила толпа горожан, узнавших о том, что происходит; с криками и улюлюканием они забрасывали его грязью. Сеян закутал голову тогой, но его пригрозили убить, если он не откроет лица, а когда он подчинился, комьев грязи стало еще больше. В тот же день сенат, видя, что гвардейцы не появляются, а толпа вот-вот ворвется в тюрьму и устроит над Сеяном самосуд, решил, чтобы оставить заслугу за собой, приговорить Сеяна к смертной казни.
Калигула тотчас известил об этом Тиберия при помощи сигнального огня. У Тиберия уже стояла наготове флотилия, чтобы отвезти его в Египет, если что-нибудь пойдет не так. Сеяна казнили, тело его бросили на Ступени слез, где толпа глумилась над ним три дня подряд. Когда пришло время скинуть тело в Тибр, оказалось, что голову уже отрубили и унесли в общественные бани, где играют ею в мяч, а от туловища осталась одна половина. Улицы Рима были буквально засыпаны осколками его бесчисленных статуй, стоявших во всех общественных местах.
Дети Сеяна от Апикаты также были присуждены к смерти декретом сената. У него был один совершеннолетний сын, другой — еще мальчик и девочка, которую в свое время помолвили с моим сыном Друзиллом, — ей только минуло четырнадцать. Младшего мальчика по закону нельзя было казнить, поэтому, опираясь на прецедент гражданской войны, его перед казнью заставили надеть взрослое платье; девочка, будучи девственницей, тем более находилась под защитой закона. Для казни девочки, единственная вина которой заключалась в том, что она была дочь своего отца, не нашлось прецедента. Когда ее вели в тюрьму, она, не понимая, что происходит, кричала: «Не надо в тюрьму, выпорите меня, если хотите, и я не буду больше». Видимо, на ее совести был какой-то детский проступок. Чтобы избежать несчастья, которое постигнет Рим, если казнят девственницу, Макрон приказал главному палачу изнасиловать ее. Узнав об этом, я сказал про себя: «Рим, ты погиб. Столь ужасное злодеяние нельзя искупить», — и призвал богов в свидетели, что, пусть я и родственник императора, я стоял в стороне от государственных дел и ненавижу преступления не меньше, чем они, хотя и бессилен за них отомстить.
Когда Апиката услышала, что сделали с ее детьми, и увидела, как надругаются над их телами на Ступенях слез, она покончила с собой. Но сперва написала Тиберию письмо, говоря, что Кастора отравила Ливилла и что Ливилла с Сеяном хотели узурпировать власть. Она винила во всем Ливиллу. Моя мать не знала, что смерть Кастора — дело рук Ливиллы. Тиберий призвал мою мать на Капри, поблагодарил за огромные услуги, оказанные государству, и показал письмо Апикаты. Он сказал, что даст матери любую награду — ей стоит только попросить, — конечно, в разумных пределах. Мать ответила, что ей не надо никаких наград, она просит одного — чтобы имя их рода не было покрыто позором, чтобы ее дочь не казнили и не кидали тело на Ступени слез.
— Как же иначе тогда ее наказать? — резко спросил Тиберий.
— Предоставь ее мне, — ответила мать. — Я накажу ее сама.
Поэтому против Ливиллы не было возбуждено судебное дело. Мать заперла ее в комнате рядом со своей и уморила голодной смертью. День за днем, ночь за ночью она слышала отчаянные крики и проклятия дочери, становившиеся постепенно слабее, но держала ее там, а не в каком-нибудь отдаленном подвале, пока Ливилла не умерла. Сделала она так не из любви к мучительству — страдания Ливиллы причиняли ей жестокую боль, — но чтобы наказать себя за то, что она воспитала такую чудовищную дочь.
За смертью Сеяна последовал целый ряд казней, пострадали все его друзья, не успевшие вовремя переметнуться на другую сторону, и многие из тех, кто это сделал. Те, кто не опередил события, покончив с собой до казни, были сброшены с Тарпейской скалы на Капитолийском холме. Имущество их конфисковали. Обвинителям почти ничего не перепадало — Тиберий делался все более расчетливым. По совету Калигулы он выдвигал ложные обвинения против тех свидетелей, которые должны были извлечь из дела наибольшую выгоду, и таким образом получал возможность конфисковать и их достояние. Было казнено около шестидесяти сенаторов, двухсот всадников и более тысячи простолюдинов. Моя связь через брак с семьей Сеяна могла стоить мне жизни, не будь я сыном своей матери. Мне было разрешено развестись с Элией и удержать восьмую часть ее приданого, но я вернул ей все полностью. Она, наверно, сочла меня дураком. Я сделал это в качестве, так сказать, компенсации за то, что забрал у нее нашу дочку Антонию сразу, когда она родилась. Элия решила исполнить свой долг жены, как только почувствовала, что положение Сеяна становится шатким. Она думала, что это послужит ей защитой, если Сеян потеряет власть: вряд ли Тиберий велит казнить ее с ребенком от своего племянника во чреве. Я рад был развестись с Элией, но не стал бы отбирать у нее ребенка, если бы не мать, которая хотела иметь внучку в своем единоличном владении.
Единственным из родственников Сеяна, избежавшим казни, был его брат, и произошло это по той странной причине, что он осмеял лысину Тиберия. На последнем ежегодном празднике в честь Флоры,[116] который он возглавлял, все церемонии исполнялись только лысыми людьми, а вечером гостей провожали из театра пять тысяч обритых наголо детей с факелами в руках. Прибывший на Капри сенатор доложил об этом Тиберию в присутствии Нервы, и, чтобы произвести на того хорошее впечатление, Тиберий сказал:
— Я прощаю его. Если Юлий Цезарь не обижался на шутки по поводу своей лысины, кто я, чтобы это делать?
Я полагаю, что, когда Сеян пал, Тиберий решил всем на удивление вновь проявить великодушие к его брату.
Но Елену, только за то, что она притворилась больной, наказали, выдав ее за Бланда, выскочку, дед которого, провинциальный всадник, приехал в Рим в качестве учителя риторики. Все сочли это низким поступком со стороны Тиберия, потому что Елена была его внучка и этим браком он обесчестил собственный род. Говорили, что не надо далеко ходить, чтобы встретить рабов среди предков Бланда.
Тиберий понял, что гвардейцы, которым он щедро заплатил по пятьдесят золотых монет на каждого вместо обещанных Макроном тридцати, его единственная надежная защита против народа и сената. Он сказал Калигуле:
— В Риме нет человека, который не сожрал бы меня с потрохами.
Гвардейцы, чтобы выказать преданность Тиберию, заявили, что их обидели, поручив не им, а городской страже вести Сеяна в тюрьму, и в знак протеста вышли из лагеря и принялись грабить пригороды Рима. Макрон дал им потешиться одну ночь, но тех, кто не вернулся в лагерь через два часа после того, как на рассвете протрубили сбор, пороли чуть не до смерти.
32 г. н. э.
Через некоторое время Тиберий объявил амнистию. Никого больше не станут судить за прежние политические связи с Сеяном, и если теперь, когда причиненное им зло полностью отомщено, кто-нибудь в память о его хороших деяниях вздумает надеть по нему траур, возражений против этого не будет. Многие так и сделали, думая, что угодят этим Тиберию, но они ошибались. Вскоре все они были привлечены к суду по самым бездоказательным обвинениям — чаще всего в кровосмешении — и казнены. Вы можете спросить, как случилось, что после этой резни вообще остался хоть один сенатор или всадник, — я отвечу: Тиберий поддерживал численный состав обоих сословий постоянным приемом новых членов. Чтобы попасть в сословие всадников, было достаточно родиться свободным, иметь хорошую репутацию и столько-то тысяч золотых; желающих было хоть отбавляй, несмотря на огромный вступительный взнос. Алчность Тиберия все росла: он требовал, чтобы богатые люди оставляли ему в наследство по крайней мере половину своей собственности; в случае, если они этого не делали, он объявлял завещание недействительным из-за какой-нибудь юридической ошибки и забирал себе все имущество; наследники не получали ничего. Он больше не тратил денег на общественные работы — даже не завершил постройку храма Августа — и урезал бесплатную раздачу зерна и суммы, выдаваемые из казны на устройство зрелищ. Он регулярно платил армии, и только. Что касается провинций, то Тиберий вообще больше ничего для них не делал, — раз налоги и дань поступали без перебоев, он даже не брал на себя труд назначить нового губернатора, когда старый умирал. Однажды к нему приехала депутация из Испании с жалобой на то, что у них уже четыре года нет губернатора, а штат старого губернатора бессовестно грабит страну, Тиберий сказал:
— Надеюсь, вы не просите у меня нового губернатора? Новый губернатор привезет с собой новый штат чиновников, и ваше положение станет еще хуже. Я расскажу вам одну историю. Однажды на поле боя лежал тяжело раненный воин и ждал, когда врач перевяжет ему рану, которую облепили мухи. Его товарищ, раненный не так тяжело, увидел мух и хотел их согнать. «Не надо! — вскричал первый. — Не тронь их. Эти мухи уже напились моей крови, и мне не так больно, как было сперва; если ты их сгонишь, их место займут те, что еще голодны, и мне придет конец».
Тиберий позволил парфянам опустошить Армению, задунайские племена вторглись на Балканы, а германцы пересекали Рейн и устраивали набеги на Францию. Под самыми необоснованными предлогами он конфисковал имущество ряда союзных вождей и царьков во Франции, Испании, Сирии и Греции. Он отнял у Вонона его сокровища (вы помните Вонона, того самого бывшего царя Армении, из-за которого Германик поссорился с Гнеем Пизоном?), отправив к нему своих агентов: те сперва помогли ему бежать из Киликии, куда его сослал Германик, а затем, нагнав в пути, убили.
Примерно в это время доносители стали обвинять богатых людей в том, что, давая ссуды, они запрашивают больше, чем им причитается, — по закону можно было брать лишь полтора процента с общей суммы. Правило это давно вышло из употребления, и вряд ли нашелся бы хоть один сенатор, который его не преступал. Но Тиберий подтвердил, что оно остается в силе. К нему отправилась депутация с просьбой дать полтора года, чтобы люди привели свои финансовые дела в соответствие с буквой закона, и Тиберии милостиво удовлетворил эту просьбу. В результате все сразу потребовали уплаты долгов, и это повлекло за собой большую нехватку ходячей монеты. А ведь вызвано повышение ссудного процента было прежде всего тем, что в императорской казне лежали мертвым грузом огромные запасы золота и серебра. Началась финансовая паника, цены на землю страшно упали. Надо было как-то облегчить положение. В конце концов Тиберий был вынужден ссудить банкирам без процентов миллион золотых из государственной казны, чтобы было что давать под земельные закладные. Тиберий и этого бы не сделал, если бы не Кокцей Нерва, у которого он все еще время от времени спрашивал совета; Нерва, живя на Капри, где от него тщательно скрывались оргии Тиберия и куда почти не доходили новости из Рима, был, пожалуй, единственным человеком в мире, верящим в великодушие и добродетель императора. Тот, например, объяснил Нерве (как рассказывал мне через несколько лет Калигула), что его размалеванные любимцы — бедные сиротки, которых он пожалел, и большинство из них не совсем нормальны, что объясняло их странный вид и поведение. Но неужели Нерва действительно был так наивен, чтобы этому поверить, или так близорук?
Глава XXVIII
Чем меньше будет сказано о последних пяти годах правления Тиберия, тем лучше. Я не могу заставить себя писать в подробностях о Нероне, которого уморили голодом; или об Агриппине, сперва обрадовавшейся падению Сеяна, но затем увидевшей, что участь ее от этого не стала легче, и переставшей принимать пищу: какое-то время ее кормили насильно, но в конце концов дали умереть; или о Галле, который погиб от чахотки; или о Друзе, переведенном с дворцовой мансарды в темный подвал и однажды найденном мертвым — горло его было забито шерстью из матраса, который он грыз, не в силах стерпеть голодные муки. После их смерти Тиберий писал сенату радостные письма — об этом я не могу умолчать, — где обвинял Агриппину в государственной измене и в прелюбодеянии с Галлом и сожалел, что «под давлением государственных дел он все время откладывал суд над Галлом и тот умер до того, как его вина была доказана». Что до Друза, то Тиберий называл юношу самым распутным и коварным негодяем, какого он когда-либо знал. Тиберий велел гвардейскому офицеру, сторожившему Друза, прочитать во всеуслышание запись того, что Друз говорил в тюрьме. Никогда раньше в сенате не читали ничего вызывающего столь же тягостное чувство. Было ясно, что Друза били, мучили и оскорбляли не только сам этот офицер, но простые солдаты и рабы, что каждый день, отбирая крошку за крошкой, каплю за каплей, ему давали все меньше еды и питья. Тиберий даже велел огласить проклятия Друза, который исступленно, хотя и вполне связно, поносил его перед смертью. Друз обвинял Тиберия в алчности, вероломстве, бесстыдной порочности, в том, что он испытывал наслаждение, истязая людей, в убийстве Германика и Постума и целом ряде других преступлений (большую часть которых Тиберий действительно совершил, хотя ни об одном из них до сих пор не упоминалось публично); Друз молил богов, чтобы все неизмеримые страдания, которые Тиберий причинил другим, тяжким грузом давили на него день и ночь, наяву и во сне, чтобы он пал под их бременем в свой смертный час, а после смерти был приговорен к вечным мукам преисподним трибуналом. Сенаторы прерывали чтение восклицаниями, делая вид, будто они в ужасе от вероломства Друза, но за всеми их ахами и охами скрывалось удивление тем, что Тиберий по собственному почину обнажает перед всеми свои пороки и злодеяния. В то время Тиберий (как мне рассказал потом Калигула), терзаемый суеверными страхами и бессонницей, очень жалел сам себя и рассчитывал на искреннее сочувствие сенаторов. Он со слезами на глазах сказал Калигуле, что вынужден был убить его родных из-за их непомерного честолюбия и из-за того, что, по примеру Августа (он так и сказал: Августа, а не Ливии), он ставит спокойствие империи выше личных чувств. Калигула, не проявлявший никаких признаков горя или гнева из-за жестокого обращения Тиберия с его матерью и братьями, выразил старику свое соболезнование и тут же принялся рассказывать о новой форме разврата, о которой узнал недавно от каких-то сирийцев. Это был единственный способ подбодрить Тиберия, когда его начинала мучить совесть. Лепида, предавшая Друза, ненадолго его пережила. Ее обвинили в прелюбодеянии с рабом, и, не имея возможности отрицать свою вину (ее застали с ним в постели), она покончила жизнь самоубийством.
Калигула большую часть времени проводил на Капри, но изредка по поручению Тиберия ездил в Рим, чтобы приглядеть за Макроном. Макрон исполнял теперь все обязанности Сеяна и делал это очень хорошо, но у него хватило ума довести до сведения сената, что ему не надо никаких почестей и что любой сенатор, вздумавший их предложить, вскоре окажется на скамье подсудимых по обвинению в государственной измене, кровосмешении или подлоге. Тиберий назначит Калигулу своим преемником по нескольким причинам. Во-первых, будучи сыном Германика, он пользовался популярностью у народа, который вел теперь себя тихо и мирно, боясь, как бы беспорядки не повлекли за собой смерти их любимца. Во-вторых, Калигула великолепно умел прислуживаться и был одним из немногих людей, достаточно порочных, чтобы Тиберий чувствовал себя рядом с ним добродетельным. А в-третьих, Тиберий не думал, что Калигула на самом деле когда-нибудь станет императором. Фрасилл, которому Тиберий по-прежнему полностью доверял (так как еще не было ни одного события, противоречащего его предсказаниям), уже давно сказал ему: «Калигула с таким же успехом может стать императором, как проскакать верхом на коне через пролив между Байями и Путеолами».
Фрасилл сказал также: «Через десять лет Тиберий Цезарь все еще будет императором».
Так оно и оказалось, только речь шла о другом Тиберии Цезаре.[117]
Тиберий узнал от Фрасилла многое, хотя кое-что тот от него скрывал. Тиберий знал, например, какая судьба ждет Гемелла, который только считался его внуком, так как в действительности отцом мальчика был Сеян, а не Кастор. Тиберии сказал однажды Калигуле:
— Я делаю тебя главным наследником. Гемелла я делаю наследником второй степени на случай, если ты умрешь, но это только формальность. Я знаю, что ты убьешь Гемелла, но потом другие убьют тебя.
Он сказал это, рассчитывая пережить их обоих. Затем добавил, цитируя какого-то греческого трагика:
— «Когда я буду мертв, пусть огонь поглотит землю».
Но Тиберий еще не был мертв. Доносители по-прежнему занимались своим делом, и с каждым годом все большее число людей подвергалось казни. Не осталось почти ни одного сенатора, занимавшего свое место в сенате при Августе. Макрон был куда более жесток, чем Сеян, и проливал кровь без сожаления. Сеян был хотя бы сыном всадника, отец Макрона родился рабом. Среди новых жертв оказалась и Планцина, у которой после смерти Ливии не осталось защиты. Она была очень богата, и ее вновь обвинили в отравлении Германика. Пока была жива Агриппина, Тиберий не позволял привлекать Планцину к суду, ведь известие об этом доставило бы Агриппине радость. Я не огорчился, услышав, что тело Планцины бросили на Ступени слез, хотя она, не дожидаясь казни, покончила с собой.
Однажды, обедая с Тиберием, Нерва отказался от предложенных ему блюд, сказав, что он не голоден, у него пропал аппетит. До тех пор Нерва прекрасно себя чувствовал и был в хорошем настроении: судя по всему, он ничуть не тяготился отшельнической жизнью на Капри. Сперва Тиберий подумал, что Нерва накануне принял слабительное и дает отдых желудку, но когда на второй и третий день повторилось то же самое, Тиберий испугался, уж не решил ли Нерва уморить себя голодом. Он сел рядом с Нервой и стал умолять его, чтобы тот объяснил, почему он не ест. Но Нерва лишь попросил прощения и повторил, что не голоден. Возможно, Нерва сердится на него за то, что он не сразу последовал его совету устранить финансовый кризис, подумал Тиберий и спросил:
— У тебя появится аппетит, если я отменю все законы, ограничивающие процент на ссуды, и назначу определенную цифру, которую ты сочтешь достаточно низкой?
— Дело не в этом, — сказал Нерва, — я просто не хочу есть.
На следующий день Тиберий сказал Нерве:
— Я написал сенату. Мне рассказали, что два или три человека зарабатывают себе на жизнь доносами на правонарушителей. Мне никогда и в голову не приходило, что, награждая за верность государству, я побуждаю людей подстрекать своих друзей на преступления, а потом выдавать их, но, по-видимому, так происходило не раз. Я приказал сенату немедленно казнить любого, кто добывает деньги таким позорным способом, если это будет доказано. Может быть, ты теперь поешь?
Когда Нерва поблагодарил его и похвалил его решение, но сказал, что аппетит совершенно покинул его, Тиберии впал в отчаяние.
— Ты умрешь, если не станешь есть, Нерва. Что я тогда буду делать? Ты знаешь, как я ценю твою дружбу и советы. Пожалуйста, пожалуйста, поешь, Нерва, я тебя умоляю. Если ты умрешь, весь мир будет думать, что это дело моих рук, и уж во всяком случае, что ты уморил себя голодом из ненависти ко мне. О, не умирай, Нерва! Ты — мой единственный настоящий друг!
Нерва сказал:
— Просить меня есть бесполезно, цезарь. Мой желудок не принимает пищу. И, конечно, никто не станет возводить на тебя такую напраслину. Все знают, какой ты мудрый правитель и добрый человек, а меня, я уверен, ни у кого нет оснований считать неблагодарным, не так ли? Если я должен умереть, я умру, вот и все. Смерть — наш общий удел, а мне к тому же послужит утешением мысль, что я не пережил тебя.
Это не убедило Тиберия, но вскоре Нерва так ослабел, что не мог отвечать на вопросы, и на девятый день умер.
36 г. н. э.
Умер и Фрасилл. Его смерть возвестила ящерица. Пробежав по каменному столу, за которым Фрасилл и Тиберий завтракали на солнцепеке, ящерица уселась на указательном пальце старика.
— Ты пришла позвать меня, сестричка? — спросил Фрасилл. — Я ждал тебя.
Затем обернувшись к Тиберию, добавил:
— Моя жизнь подошла к концу, цезарь. Прощай! Я ни разу не солгал тебе, ты лгал мне многократно. Не прозевай свою ящерицу.
Фрасилл закрыл глаза, и через несколько минут его не стало.
Еще до смерти Фрасилла Тиберий завел у себя самое диковинное животное, какое видели в Риме. Когда там впервые появились жирафы и носороги, они вызвали всеобщее восхищение, но это, хоть и меньше размером, поражало куда сильней. Его привезли с острова за Индией, который называется Ява, оно было похоже на ящерицу размером с теленка, с уродливой головой и зубцами на спине, как пила. Впервые увидев его, Тиберий заметил, что больше не будет сомневаться в существовании чудовищ, которых, по преданию, убили Геркулес и Тезей. Называлось оно бескрылый дракон, и Тиберий каждый день кормил его из собственных рук тараканами, дохлыми мышами и подобной гадостью. От чудища отвратительно пахло, у него были мерзкие повадки и злобный нрав. Дракон и Тиберий прекрасно понимали друг друга. Услышав слова Фрасилла, Тиберий решил, будто тот хотел сказать, что дракон его укусит, поэтому велел поместить его в клетку с частой решеткой, чтобы чудище не могло просунуть между прутьями свою уродливую голову.
37 г. н. э.
Тиберию уже шел семьдесят девятый год, от постоянного употребления мирриса и прочих возбуждающих средств он стал совсем немощным, но одевался щеголевато и старался казаться моложе своих лет. Теперь, когда Нерва и Фрасилл умерли, ему стало скучно на Капри, и в начале марта следующего года он решил бросить вызов судьбе и поехать в Рим. Он двинулся туда не спеша, с частыми остановками; последнее место, где он заночевал, была вилла на Аппиевой дороге, откуда уже виднелись городские стены. Но на следующий день после того, как он туда прибыл, дракон подал ему предсказанное Фрасиллом предупреждение. Днем, когда Тиберий пошел покормить его, он увидел, что тот лежит в клетке мертвый, а по нему во множестве бегают большие черные муравьи, стараясь отщипнуть кусочки мягкой плоти. Тиберий счел это предвестием того, что если он поедет дальше, то умрет и толпа разорвет на куски его тело. Поэтому Тиберий сразу же повернул обратно. По пути он схватил простуду из-за восточного ветра и еще усугубил ее на играх, устроенных солдатами гарнизона в одном из городков, которые он проезжал. На арену выпустили дикого кабана и попросили Тиберия метнуть в него со своего места дротик. Он кинул, не попал, рассердился на себя и велел подать другой. Тиберий всегда гордился своим умением метать копье и не хотел, чтобы солдаты считали, будто его одолела старость. Пытаясь попасть в кабана, он метал дротик за дротиком, хотя поразить свою цель на таком расстоянии явно не мог, разгорячился и наконец, обессилев, был вынужден остановиться. Кабан остался цел и невредим, и Тиберий приказал выпустить его на волю в награду за то, как ловко он увертывался от его ударов.
Болезнь перекинулась на печень, но Тиберий продолжал путь. Он добрался до Мизена, находящегося у противоположного Капри конца Неаполитанского залива; там расположена база Западного флота. Штормило, и, к неудовольствию Тиберия, пересечь залив было нельзя. Однако на мизенском мысу у него была великолепная вилла — когда-то она принадлежала известному эпикурейцу Лукуллу.[118] Тиберий со всей свитой остановился там. Его сопровождали Калигула и Макрон. Чтобы показать, что с ним все в порядке, Тиберий устроил большой пир для местных властей. Они пировали уже несколько часов, когда личный врач Тиберия попросил разрешения покинуть застолье и заняться кое-какими делами, связанными с врачеванием, — некоторые травы лучше действуют, если их собирать в полночь или когда луна находится в той или иной фазе. Поэтому Тиберий привык, что по этой причине его врач уходит иногда во время трапезы из-за стола. Врач взял руку Тиберия, чтобы ее поцеловать, но держал куда дольше, чем следовало, и Тиберий вполне справедливо подумал, что врач щупает ему пульс, желая увидеть, насколько он ослабел. В наказание он велел тому снова сесть на место и не отпускал пирующих до утра, чтобы доказать, что он совершенно здоров. На следующий день Тиберий был в полном изнеможении, и по Мизену поползли перекинувшиеся затем в Рим слухи, что он умирает.
Еще раньше Тиберий сказал Макрону, что желает привлечь к суду несколько наиболее уважаемых сенаторов, которых он невзлюбил, и приказал любыми средствами добиться смертного приговора. Макрон записал их как соучастников преступления в обвинительный акт, который он готовил против жены одного из бывших агентов Сеяна, отвергшей его авансы, за что Макрон затаил на нее зло. Всех этих сенаторов обвинили в прелюбодеянии с ней и в употреблении имени Тиберия всуе. Запугав вольноотпущенников и подвергнув пытке рабов, Макрон добыл нужные ему показания — вольноотпущенники и рабы к этому времени уже забыли, что такое верность по отношению к хозяевам. Начался судебный процесс. Но хотя Макрон сам проводил допрос свидетелей и пытал рабов, на столе, как заметили друзья обвиняемых, не лежало, как обычно, императорское письмо, санкционирующее его действия, из чего они заключили, что в список, данный ему Тиберием, Макрон добавил одного или двух своих личных врагов. Главной жертвой этих, явно нелепых, обвинений был Аррунций, самый старый и почтенный член сената. За год до смерти Август сказал, что, если не Тиберий, императором может быть только он. Тиберий уже однажды пытался обвинить Аррунция в государственной измене, но безуспешно. Старый сенатор был единственным связующим звеном с веком Августа. В прошлый раз доносители вызвали такую бурю негодования — хотя никто не сомневался, что они действуют по наущению Тиберия, — что их самих судили, обвинили в лжесвидетельстве и приговорили к смерти. Все знали, что недавно у Макрона был с Аррунцием спор из-за денег, и разбирательство дела было отложено до тех пор, пока Тиберий не подтвердит полномочий Макрона. Тиберий не потрудился ответить на запрос сената, поэтому Аррунций и все остальные некоторое время находились в тюрьме. Наконец Тиберий прислал необходимое подтверждение и был назначен день суда. Аррунций решил покончить с собой еще до окончания дела, чтобы спасти свое имущество от конфискации и внуков — от нищеты. Он прощался со старыми друзьями, когда пришло известие о том, что Тиберий серьезно заболел. Друзья стали умолять Аррунция отложить самоубийство до последнего момента, потому что, если известие это верное, у него есть все шансы пережить Тиберия и получить прощение у его преемника. Аррунций сказал:
— Нет, я живу слишком долго. Моя жизнь была нелегка, когда Тиберий делил власть с Ливией. Она стала почти невыносимой, когда он делил власть с Сеяном. Макрон оказался большим негодяем, чем Сеян, и, попомните мои слова, Калигула, получив воспитание на Капри, будет еще худшим императором, чем Тиберий. Я не могу на старости лет делаться рабом нового хозяина, да еще такого, как он.
Аррунций взял перочинный нож и вскрыл на запястье вену. Его слова всех поразили, ведь Калигула пользовался огромной любовью народа, люди ждали, что он станет вторым Августом и даже превзойдет его. Никто не винил Калигулу за то, что он притворяется верным Тиберию, напротив, все восхищались тем, как ловко ему удалось пережить братьев и скрывать свои истинные — так полагали — чувства.
Тем временем у Тиберия почти остановился пульс, и он впал в кому. Врач сказал Макрону, что жить императору осталось самое большее два дня. Среди приближенных поднялась суматоха. Макрон и Калигула были в полном согласии. Калигула уважал Макрона за его популярность у гвардейцев, а Макрон уважал Калигулу за его популярность у всего народа; каждый рассчитывал на поддержку другого. К тому же Макрон был обязан Калигуле своим возвышением, а Калигула завел интрижку с женой Макрона, на что тот смотрел сквозь пальцы. Тиберий уже один раз кисло заметил по поводу того, что Макрон ищет дружбы Калигулы:
— Что ж, ты правильно делаешь, поворачиваясь спиной к заходящему солнцу и лицом — к восходящему.
Макрон и Калигула принялись рассылать послания командирам разных полков, где говорилось, что император быстро теряет силы и назначил Калигулу своим преемником, в знак чего дал ему перстень с печатью. Действительно, Тиберии, придя ненадолго в себя. велел позвать Калигулу и стащил с пальца перстень. Но тут же передумал, опять надел перстень, а затем крепко сжал руки, словно боялся, что его отберут. Когда он вновь впал в забытье и не выказывал больше признаков жизни, Калигула спокойно снял перстень и теперь, с гордым видом расхаживая по комнатам, хвастливо совал перстень под нос всем, кого он встречал, и выслушивал их почтительные поздравления.
Но Тиберий все еще был жив. Он застонал, пошевелился, сел на постели и позвал слуг. Он ослаб, так как давно ничего не ел, но в остальном был самим собой. Он уже не раз так развлекался: делал вид, будто умер, а потом оживал. Тиберии снова позвал. Никто его не услышал, слуги были в кладовой, пили за здоровье Калигулы. Но вскоре в комнату умирающего шмыгнул предприимчивый раб, чтобы посмотреть, нельзя ли там что-нибудь стянуть. В комнате было темно, и он страшно перепугался, когда Тиберий закричал:
— Проклятие! Куда подевались все слуги? не слышат разве, что я их зову? Я хочу хлеба с сыром, омлет, парочку говяжьих котлет и бокал хиосского вина. Немедленно! Тысяча фурий! Кто украл мой перстень?
Раб вылетел из комнаты и чуть не столкнулся с проходившим мимо Макроном.
— Император жив, господин, он требует еду и свой перстень.
Новость разнеслась по дворцу, последовала смехотворная сцена. Толпившиеся вокруг Калигулы люди бросились врассыпную. Послышались крики: «Благодарение богам, известие было ложным! Да здравствует Тиберий!» Калигула не знал, куда деваться от стыда и страха. Он сдернул перстень с пальца и оглядывался по сторонам, ища, где бы его спрятать.
Один Макрон не потерял головы:
— Вздор! — вскричал он. — Раб сошел с ума. Вели распять его, цезарь! Старый император был мертв уже час тому назад!
Он шепнул что-то Калигуле, и тот с благодарностью и облегчением кивнул. Затем Макрон поспешил в комнату Тиберия. Тиберий уже поднялся на ноги и теперь со стонами и проклятиями ковылял к дверям. Макрон подхватил его обеими руками, бросил на кровать и задушил подушкой. Калигула стоял рядом.
Сенаторы, разделявшие с Аррунцием заточение, были освобождены, но большинство из них потом жалело, что они не последовали его примеру. Кроме сенаторов, в тюрьме находилось около пятидесяти мужчин и женщин, которым тоже было предъявлено обвинение в государственной измене. Люди эти не имели никакого отношения к сенату, это были в основном лавочники, которые уклонялись от уплаты «отступных денег» — офицеры Макрона теперь взимали их со всех городских корпораций. Дела этих людей уже были закончены, всех присудили к смертной казни, и приговор должны были привести в исполнение в тот самый день, когда пришло известие о смерти Тиберия. Узники обезумели от радости при мысли, что теперь они спасены. Но Калигула был в Мизене, вовремя обратиться к нему не успели, а начальник тюрьмы боялся потерять свое место, если по собственному почину отложит казнь. Поэтому их всех до одного казнили, а тела, как водится, бросили на Ступени слез.
Это вызвало вспышку народного гнева.
— Тиберий жалит, как дохлая оса! — закричал кто-то.
На перекрестках стали сходиться горожане во главе со старшинами корпораций; они молили Матерь-Землю и преисподний трибунал не давать телу и душе этого чудовища Тиберия никакого покоя до скончания времен. Погребальная процессия двигалась в Рим под эскортом гвардейцев; Калигула, как подобает ближайшему родственнику, шел пешком. Со всех сторон ему навстречу стекались люди, но не в трауре, а в праздничном платье; со слезами на глазах они благодарили небо за то, что оно сохранило хоть одного сына Германика, чтобы править ими. Старые крестьянки кричали:
— О, наш ненаглядный Калигула! Наш птенчик! Наше дитятко! Наша звездочка!
За несколько миль до Рима Калигула поскакал вперед, чтобы подготовить все для торжественного въезда погребальной колесницы в город. Как только он уехал, собралась большая толпа и загородила Аппиеву дорогу досками и глыбами строительного камня. Когда появились первые верховые из эскорта, их встретили улюлюканьем, свистом и криками:
— В Тибр Тиберия!
— Скиньте его со Ступеней слез!
— Вечное проклятие Тиберию!
Главарь толпы закричал:
— Солдаты! Мы, римляне, не разрешаем везти в город этот смрадный труп! Он навлечет на нас несчастье! Везите его в Ателлу и поджарьте его там в амфитеатре!
Я должен объяснить, что «поджаривали», вернее, сжигали наполовину, а не полностью, тела нищих и прочих горемык; Ателла же был городок, известный тем, что с самых давних пор во время праздника урожая ряженые разыгрывали там соленый сельский фарс. У Тиберия была в Ателле вилла, и он почти каждый год присутствовал на этом празднике. Он обратил невинные, хоть и грубоватые, народные шутки в изощренное непотребство и заставил жителей Ателлы построить амфитеатр, чтобы показывать там фарсы, переработанные и поставленные им самим.
Макрон приказал гвардейцам прорвать преграду; несколько горожан было убито и ранено, два-три солдата упали, сбитые с ног булыжниками. Калигула предотвратил дальнейшие беспорядки, и тело Тиберия, как и положено, сожгли на Марсовом поле. Калигула произнес надгробное слово. Оно было сухим и ироничным и очень всем понравилось, потому что в нем много говорилось об Августе и Германике и очень мало — о Тиберии.
На пиру в тот же самый вечер Калигула рассказал историю, которая заставила всех прослезиться и упрочила его репутацию. Однажды утром в Мизене, сказал Калигула, как всегда, не в силах заснуть от мыслей о судьбе матери и братьев, он решил, будь что будет, наконец отомстить их убийце. Он схватил кинжал, принадлежавший отцу, и смело направился в комнату Тиберия. Император, мучимый кошмаром, со стонами метался на постели. Калигула медленно занес кинжал, чтобы его поразить, но тут в ушах у него зазвучал божий глас: «Правнук, остановись. Грех убивать его». «О божественный Август, — возразил ему Калигула, — он убил мою мать и братьев, твоих потомков. Разве мне не следует за них отомстить, даже если все отвернутся от меня за отцеубийство?» Август ответил: «Благородный юноша, коему суждено стать императором, нет нужды совершать то, что ты задумал. По моему приказанию фурии еженощно мстят ему во сне за дорогих тебе людей».[119] Калигула положил кинжал на стол рядом с кроватью и вышел. Он не объяснил, что произошло на следующее утро, когда Тиберий проснулся и увидел кинжал; все предположили, что Тиберий не осмелился об этом упомянуть.
Глава XXIX
Калигула стал императором; было ему тогда двадцать пять лет от роду. Редко когда в мировой истории — а возможно, и никогда — нового правителя приветствовали с таким энтузиазмом, редко когда было так легко удовлетворить скромные чаяния народа, который мечтал лишь о мире и безопасности. Полная казна, превосходно обученная армия, великолепная административная система, которую ничего не стоило привести в абсолютный порядок, — несмотря на небрежение Тиберия, империя все еще без задержки двигалась вперед под воздействием толчка, данного Ливией, — при всех этих преимуществах, не говоря уж о любви и доверии, которые достались ему в наследство как сыну Германика, и огромном облегчении, которое принесла всем смерть Тиберия, какой прекрасный был у него шанс войти в историю под именем «Калигула Добрый», или «Калигула Мудрый», или «Калигула-Спаситель»! Но писать так — пустое дело. Ведь будь Калигула тем, за кого его принимали, он бы никогда не пережил своих братьев и не был бы избран Тиберием в преемники. Вспомни, Клавдий, с каким презрением относился к подобным недопустимым допущениям Афинодор; он обычно говорил: «Если бы троянский конь ожеребился, нам было бы сейчас куда легче прокормить лошадей».
Сперва Калигуле казалось забавным поддерживать то несообразное с действительностью представление о своем характере, какое было у всех, кроме меня, моей матери, Макрона и еще одного-двух человек; он даже совершил несколько соответствующих своей славе поступков. К тому же Калигула хотел упрочить свое положение. У него было два препятствия на пути к полной свободе действий. Одним был Макрон, опасный своей властью над гвардией. Другим — Гемелл. Когда огласили завещание Тиберия (засвидетельствованное для большей секретности несколькими вольноотпущенниками и безграмотным рыбаком), оказалось, что старик, просто из вредности, вместо того, чтобы назначить Калигулу наследником первой степени, а Гемелла — второй, на случай, если с Калигулой что-нибудь случится, сделал их сонаследниками, которые должны были попеременно управлять империей. Однако Гемелл еще не достиг совершеннолетия и поэтому не являлся даже членом сената, а Калигула уже был понтификом и младшим магистратом, получив это звание на несколько лет раньше установленного законом срока. Поэтому сенат охотно разделил точку зрения Калигулы, заявившего, что, когда Тиберий писал завещание, он вряд ли был в здравом уме, и без всяких возражений отдал власть в руки Калигулы. Если не говорить о Гемелле, которого Калигула лишил также его доли в императорской казне на том основании, что императорская казна может принадлежать лишь императору, Калигула выполнил все пункты завещания Тиберия и без промедления выплатил всем оставленные им деньги.
Гвардейцы должны были получить по пятьдесят золотых на человека; чтобы обеспечить себе их поддержку, когда придет время избавиться от Макрона, Калигула удвоил эту сумму. Он отдал жителям Рима отказанные им четыреста пятьдесят тысяч золотых, прибавить по три золотых на каждого; он сказал, что хотел сделать это, когда достиг совершеннолетия, но старый император ему запретил. Армии получили такую же сумму, как завещанная им ранее Августом, причем без проволочки. Более того, Калигула выплатил деньги по завещанию Ливии, давно списанные как безнадежный долг всеми, кому они были оставлены. Для меня самыми интересными в завещании оказались два пункта: по одному из них я получил исторические труды, обещанные мне в свое время Поллионом, но не отданные, и ряд других ценных книг, а также двадцать тысяч золотых, другой касался старшей весталки, правнучки Випсании, — ей было отказано сто тысяч золотых, которые она вольна была тратить по своему усмотрению — на себя или на коллегию весталок. Старшая весталка, будучи также правнучкой Галла, расплавила все золотые и сделала из них большой ларец для его праха.
Получив солидные суммы по завещаниям Ливии и Тиберия, я стал вполне обеспеченным человеком. Калигула еще сильнее удивил меня, вернув мне пятьдесят тысяч золотых, которые я добыл для Германика во время мятежа, — он слышал об этом от своей матери. Он не пожелал принять моих отказов и сказал, что делает это в память об отце, и если я буду и дальше упрямиться, он настоит на том, чтобы мне были выплачены также и накопившиеся за эти годы проценты. Когда я рассказал Кальпурнии о том, как я разбогател, на лице у нес отразилась скорее печаль, чем радость.
— Это не принесет тебе счастья, — сказала она. — Куда лучше жить скромно, как это было до сих пор, чем рисковать, что доносители отберут все твое состояние, обвинив тебя в государственной измене.
Кальпурния, как вы помните, была преемницей Акте и отличалась редкой для своих семнадцати лет рассудительностью.
Я:
— Что ты имеешь в виду, Кальпурния, какие доносители? Доносителей в Риме больше нет и судебных процессов по обвинению в государственной измене тоже.
Она:
— Я что-то не слышала, чтобы доносителей выпроводили вместе со спинтриями.
(Раскрашенные «сиротки» Тиберия были изгнаны из Рима. Чтобы доказать свою неиспорченность, Калигула выслал всю эту компанию на Сардинию, остров с нездоровым климатом, и велел честно трудиться, чтобы заработать себе на хлеб. Когда им сунули в руки кирки и лопаты и велели строить дороги, часть из них просто легли на землю и умерли, но остальных, даже самых изнеженных и утонченных, хлыстом заставили работать. Вскоре им повезло: на остров неожиданно напали пираты, захватили их, отвезли в Тир и продали в рабство богатым восточным распутникам.)
— Они не осмелятся вновь взяться за свои старые штучки, Кальпурния.
Она отложила вышивание.
— Клавдий, я не политик и не ученый, но у меня, хоть я и проститутка, есть голова на плечах, и простые цифры я складывать умею. Сколько денег оставил старый император?
— Около двадцати семи миллионов золотых. Это огромная сумма.
— А сколько новый император выплатил по завещаниям и дарственным?
— Около трех с половиной миллионов. Да, не меньше.
— А сколько за то время, что он правит, было завезено пантер, медведей, львов и тигров, и диких быков, и другого зверья для травли в цирке и в амфитеатрах?
— Тысяч двадцать. Возможно, больше.
— А сколько других животных было принесено в жертву в храмах?
— Не знаю. Приблизительно между одной и двумя сотнями тысяч.
— Все эти фламинго и антилопы из пустынь, и зебры, и бобры из Британии, наверно, недешево ему обошлись. А тут еще надо покупать диких зверей и платить «охотникам», которые убивают их на арене, и гладиаторам — я слышала, что гладиаторы сейчас получают в четыре раза больше, чем при Августе, — и устраивать публичные пиры и театральные представления — говорят, когда он вернул в Рим актеров, сосланных старым императором, он рассчитался с ними за все те годы, что они не играли. Неплохо, да? А сколько он потратил на скаковых лошадей, знают одни боги! Туда да сюда — немного, верно, у него осталось от тех двадцати семи миллионов.
— Боюсь, ты права, Кальпурния.
— Считай, миллионов семь за три месяца как не бывало! Надолго ли ему хватит денег при таких темпах, даже если все богачи завещают ему целиком свое достояние? Императорские доходы стали меньше, чем в те времена, когда делами заправляла твоя бабка и просматривала все счета.
— Надо полагать, когда у него улягутся первые восторги из-за того, что он может неограниченно тратить деньги, он станет более бережливым. У Калигулы есть хороший предлог для всех этих трат; он говорит, что при Тиберии деньги лежали в казне мертвым грузом, и это оказало самое губительное воздействие на торговлю. Он хочет снова пустить несколько миллионов в оборот.
— Что ж, ты лучше знаешь его, чем я. Возможно, он и остановится вовремя. Но если он будет сорить деньгами с такой скоростью, через год-два у него не уцелеет и медной монетки. Как ему пополнить казну? Вот почему я говорю о доносителях и судебных процессах.
Я:
— Кальпурния, пока у меня еще есть чем заплатить, я куплю тебе жемчужное ожерелье. Ты не менее умна, чем красива. Надеюсь, что ты столь же осторожна.
— Предпочитаю наличные, — сказала она, — если тебе все равно.
И на следующий же день я дал ей пятьсот золотых. Кальпурния, проститутка и дочь проститутки, была более умной, верной мне, доброй и честной, чем любая из тех четырех патрицианок, на которых я был женат. Вскоре я начал советоваться с ней о всех своих делах и могу сказать, что ни разу не пожалел об этом.
Не успели закончиться похороны Тиберия, как Калигула сел на корабль и, несмотря на штормовую погоду, отплыл на острова, где были похоронены его мать и Нерон; он собрал их полусожженные останки, привез в Рим, сжег их до конца и благоговейно захоронил в гробнице Августа. Он учредил новый ежегодный праздник с гладиаторскими играми и гонками колесниц в память матери и ежегодные жертвоприношения ее духу и духам братьев. Он переименовал сентябрь в германик — по примеру того, как предшествующий месяц был назван в честь его прадеда. Он осыпал мою мать таким количеством почестей, перечислив их в едином декрете, какие не были оказаны Ливии за всю ее жизнь, и назначил ее верховной жрицей Августа. Затем Калигула объявил всеобщую амнистию, вернул всех отправленных в изгнание и выпустил из тюрем политических заключенных. Он даже собрал множество судебных материалов, относящихся к процессам его матери и братьев, и публично сжег их на рыночной площади, поклявшись, что он их не читал и тем, кто выступал доносителем или каким-либо иным путем усугубил печальную участь дорогих его сердцу людей, нечего бояться, так как все свидетельства тех ужасных дней уничтожены. На самом деле Калигула сжег копии, оригиналы он оставил себе. По примеру Августа он строжайшим образом пересмотрел состав обоих сословий и вывел из них тех, кого он счел недостойными там быть, а по примеру Тиберия — отказался от всех почетных титулов, кроме титула императора и народного трибуна, и запретил воздвигать себе статуи. Я спрашивал себя, долго ли продлится такое его настроение и долго ли он сможет выполнять обещание, данное сенату, когда тот облекал Калигулу императорской властью, делить ее с сенаторами и быть их верным слугой.
Через шесть месяцев после начала его правления, в сентябре, истек срок консульства тогдашних консулов, и Калигула на некоторое время взял себе консульские полномочия. Кто, по-вашему, был назначен им вторым консулом? Не кто иной, как я! И я, кто двадцать три года назад молил Тиберия о настоящем посте, а не мишурных почестях, сейчас охотно отказался бы от этого назначения. И не потому, что я хотел вернуться к работе (я лишь недавно закончил и пересмотрел «Историю этрусков» и еще не начал ничего нового), просто я совершенно забыл все процессуальные правила, юридические формулы и прецеденты, которые с таким трудом зубрил много лет назад, и всегда чувствовал себя в сенате неловко. К тому же, редко бывая в Риме, я не знал, на какие пружины нужно нажимать, чтобы быстро добиться тех или иных результатов, не знал и того, в чьих руках находится реальная власть. Почти сразу же у меня начались неприятности с Калигулой. Он поручил мне заказать статуи Нерона и Друза, которые должны были быть воздвигнуты и освящены на рыночной площади; в греческой мастерской, с которой я об этом договорился, поклялись, что статуи будут готовы в начале декабря. За три дня до срока я поехал посмотреть на работу. Негодяи еще и не начинали ничего делать под предлогом, что они только сейчас получили мрамор подходящего цвета. Я вышел из себя (как со мной нередко бывает в подобных случаях, но я обычно быстро остываю) и сказал им, что, если они немедленно не возьмутся за дело и не будут работать день и ночь, я выкину их всех — хозяина, управляющего и работников — за пределы Рима. Возможно, это заставило их нервничать; хотя статую Нерона закончили накануне церемонии и он был похож как две капли воды, у статуи Друза неосторожный скульптор сломал руку в запястье. Существуют способы починить поломку такого рода, но шва не скрыть, и я не мог представить Калигуле испорченную работу, да еще при таком важном событии. Поэтому я туг же отправился к Калигуле и сказал ему, что статуя Друза вовремя готова не будет. Ну и разбушевался же он! Он угрожал, что опозорит меня, лишит звания консула, и не желал слушать никаких объяснений. К счастью, на следующий день Калигула решил сложить с себя консульские полномочия и попросил меня последовать его примеру в пользу людей, которые еще до нас были выдвинуты на этот пост; так что угроза его оказалась пустой, а через четыре года я вновь был избран консулом с ним в паре.
Мне полагались апартаменты во дворце, и из-за суровых речей Калигулы, ополчившегося (по примеру Августа) на безнравственность, в каких бы формах она ни проявлялась, я не мог взять туда Кальпурнию, хотя и не был женат. Ей, к моему большому неудовольствию, пришлось остаться в Капуе, где я лишь изредка ее навещал. Нравственность самого Калигулы, по-видимому, не подлежала критике. Ему уже стала надоедать жена Макрона Энния, с которой Макрон развелся по просьбе Калигулы, чтобы тот мог жениться на ней, и теперь каждый вечер он отправлялся на поиски любовных приключений с компанией веселых юнцов, которых Калигула прозвал «разведчиками». В нее обычно входили три молодых штабных офицера, два известных гладиатора, актер Апеллес и Евтих, лучший возничий в Риме, выигрывавший на бегах почти все заезды. Калигула сделался горячим приверженцем «зеленых» и рассылал по всему свету гонцов в поисках самых быстроходных лошадей. Он находил любой повод для колесничных состязаний и, если не препятствовала погода, устраивал по двадцать заездов в день. Калигула получал кучу денег, подбивая богатых людей ставить против него на другие цвета, что они из вежливости и делали. Но эти деньги были, как говорится, каплей в море его трат. Переодевшись в чужое платье, Калигула вместе с удалыми «разведчиками» каждую ночь уходил из дворца и посещал самые грязные притоны, вступая в стычки с городской стражей и устраивая шумные эскапады, которые начальник стражи благоразумно старался замять.
Все три сестры Калигулы — Друзиллла, Агриппинилла и Лесбия — были замужем за патрициями, но он настоял на том, чтобы они переехали во дворец. Агриппинилле и Лесбии он позволял взять с собой мужей, но Друзилла должна была жить одна; ее муж, Кассий Лонгин, был отправлен губернатором в Малую Азию. Калигула требовал, чтобы к его сестрам относились с величайшим уважением, и дал им все привилегии, полагающиеся весталкам. Он велел присоединить их имена к своему в публичных молитвах о его здравии и безопасности и даже включить в клятву, которую произносили должностные лица и жрецы при посвящении в сан и назначении на должность: «…да будет Его жизнь и жизнь Его сестер для меня дороже моей собственной жизни и жизни моих детей». Калигула относился к ним так, словно они были его жены, а не сестры, и это очень всех удивляло.
Любимицей его была Друзилла. Хотя она избавилась от мужа, вид у нее всегда был несчастный, и чем несчастней она казалась, тем внимательней и заботливей становился Калигула. Он выдал ее для вида за своего родича Эмилия Лепида, вялого, разболтанного юношу, младшего брата той Эмилии, дочери Юлиллы, на которой я чуть было не женился в отрочестве. Этого Эмилия Лепида, известного под именем Ганимед из-за своей женственной внешности и раболепия перед Калигулой, очень ценили в компании «разведчиков». Он был на семь лет старше Калигулы, но Калигула обращался с ним как с тринадцатилетним мальчиком, и тому, по-видимому, это нравилось. Друзилла его терпеть не могла. Но Агриппинилла и Лесбия то и дело со смехом и шутками забегали к нему в спальню и всячески дурачились с ним. Их мужья, казалось, ничего не имели против. Для меня жизнь во дворце была очень беспорядочной. И не в том дело, что я лишился привычного комфорта и слуги были плохо обучены, и не в том, что здесь не соблюдались обычные формы вежливости по отношению к гостям. А в том, что я никогда не знал наверное, какие отношения существовали между тем-то и тем-то лицом: сначала Агриппинилла и Лесбия, по-видимому, обменялись мужьями, затем стало похоже, что Лесбия находится в интимной связи с Апеллесом, а Агриппинилла — с возничим. Что касается Калигулы и Ганимеда… но я уже достаточно сказал, чтобы показать, что я понимаю под «беспорядочным» образом жизни. Я был среди них единственным пожилым человеком и совершенно не понимал молодого поколения. Гемелл тоже жил во дворце; это был запуганный болезненный мальчик, который обгрызал ногти до мяса: обычно он сидел где-нибудь в уголке и рисовал сатиров и нимф для ваз. Ничего больше я о нем сказать не могу. Раз или два я пытался с ним заговорить — мне было жаль его, ведь он, как и я, был здесь чужаком; но, возможно, он думал, будто я хочу вызвать его на откровенность и заставить так или иначе осудить Калигулу, потому что отвечал он мне односложно. В день, когда он достиг совершеннолетия, Калигула объявил его своим приемным сыном и назначил «главой юношества», но все это было далеко не то, что делить с Калигулой императорскую власть.
38 г. н. э.
Калигула заболел, и целый месяц жизнь его висела на волоске. Доктора назвали его болезнь воспалением мозга. Смятение римлян было так велико, что возле дворца день и ночь стояла многотысячная толпа, дожидаясь сведений о его здоровье. Люди тихо переговаривались между собой; до моего окна долетал приглушенный шум, словно где-то вдали по гальке бежал ручей. Тревога горожан выражалась подчас самым удивительным образом. Некоторые жители Рима вешали на дверях домов объявление, что, если смерть пощадит императора, они клянутся отдать ей взамен свою собственную жизнь. С общего согласия уже в полумиле от дворца прекращались уличные крики, грохот повозок и музыка. Такого еще не бывало, даже во время болезни Августа, той, от которой, как полагали, излечил его Муза. Но бюллетени день за днем гласили: «Без перемен».
Однажды вечером ко мне постучалась Друзилла.
— Дядя Клавдий, — сказала она. — Император хочет тебя немедленно видеть. Не задерживайся. Иди скорей.
— Зачем я ему нужен?
— Не знаю. Но, ради всего святого, постарайся его ублажить. У него в руке меч. Он убьет тебя, если ты скажешь не то, что он хочет услышать. Сегодня утром он наставил острие мне прямо в горло. Он сказал, что я его не люблю. Мне пришлось без конца клясться, что я люблю его. «Убей меня, если хочешь, мой ненаглядный», — сказала я. О, дядя Клавдий, зачем только я родилась на свет. Он сумасшедший. Всегда таким был. Он хуже, чем сумасшедший. Он одержимый.
Я отправился в спальню Калигулы, увешанную тяжелыми портьерами и устланную толстыми коврами. Возле постели еле горел ночник. Воздух был спертый. Калигула приветствовал меня ворчливым тоном:
— Тебя не дождешься. Я велел поторопиться.
Больным он не выглядел, только бледным. По обе стороны кровати стояли на страже с топориками в руках два здоровенных глухонемых.
Я сказал, приветствуя его:
— Я спешил изо всех сил. Если бы не хромота, я был бы у тебя еще до того, как ринулся с места. Какая радость видеть тебя бодрым и слышать твой голос, цезарь! Могу я взять на себя смелость надеяться, что тебе лучше?
— А я вовсе и не болел. Только отдыхал. Со мной произошла метаморфоза. Это самое великое религиозное событие в истории. Не удивительно, что Рим притих.
Я догадался, что при всем том он ждет от меня сочувствия.
— Надеюсь, что метаморфоза не была болезненной, император?
— Очень болезненной, словно я сам себя рожал. Роды были очень трудными. К счастью, я все уже забыл. Почти все. Я родился развитым не по летам и ясно помню восхищение на лицах повивальных бабок в то время, как они купали меня после моего появления, и вкус вина, которое они влили мне в рот, чтобы придать сил.
— Поразительная память, император. Но могу я смиренно спросить, какой именно характер носит та славная перемена, что с тобой произошла?
— Разве это не видно и так? — сердито спросил Калигула.
Произнесенное Друзиллой слово «одержимый» и моя последняя беседа с Ливией, когда она лежала на смертном одре, подсказали мне, как надо себя вести. Я пал ниц, как перед божеством.
Минуты через две я спросил, не поднимаясь с полу, удостоен ли был кто-нибудь поклоняться ему раньше меня. Калигула сказал, что я первый, и я рассыпался в благодарностях. Калигула задумчиво покалывал мне затылок кончиком меча. Я решил, что моя песенка спета:
Калигула:
— Не скрою, я все еще нахожусь в человеческом облике, поэтому неудивительно, что ты не сразу заметил мою божественную суть.
— Не понимаю, как я мог быть так слеп. Твое лицо сияет в полумраке, как светильник.
— Да? — спросил он с интересом. — Встань с пола и подай мне зеркало.
Я протянул ему полированное металлическое зеркало, и он согласился, что лицо его светится ярким светом. Придя в хорошее настроение, Калигула принялся откровенничать.
— Я всегда знал, что это случится, — сказал он. Я всегда чувствовал, что я не простой смертный. Подумай только: когда мне было два года, я подавил мятеж в армии отца и спас Рим. Это так же удивительно, как истории, которые рассказывают о детстве Меркурия или Геркулеса, который в колыбели душил змей.[120]
— А Меркурий всего лишь украл несколько быков, — сказал я, — да бренчал на лире. Тут и сравнивать нечего.[121]
— Больше того, в восемь лет я убил отца. Даже Юпитер не смог этого сделать. Он только изгнал старикашку.
Я принял его слова за тот же бред наяву, но спросил деловым тоном:
— Убил отца? Почему?
— Он мне мешал. Хотел, чтобы я ему повиновался. Я, юный бог! Представляешь?! Вот я и запугал его до смерти. Я потихоньку натаскал всякой падали в наш дом в Антиохии и засунул под пол. И рисовал заклинания на стенах. И спрятал у себя в комнате петуха, чтобы отправить отца на тот свет. И я украл у него Гекату. Погляди, вот она! Я всегда держу ее под подушкой.
Калигула поднял вверх зеленый яшмовый талисман.
У меня сердце облилось кровью, когда я узнал его. С ужасом в голосе я сказал:
— Так, значит, это был ты? И в запертую комнату через оконце залез тоже ты и сделал все те надписи?
Калигула гордо кивнул и продолжал болтать:
— Я убил не только родного отца, но и приемного — Тиберия. И если Юпитер сожительствовал только с одной своей сестрой, Юноной, то я спал со всеми своими сестрами. Мартина сказала, что мне следует так поступить, если я хочу быть таким, как Юпитер.
— Значит, ты хорошо знал Мартину?
— Еще бы. Когда родители были в Египте, я навещал ее каждый вечер. Она была очень умная женщина. Я тебе еще одно скажу. Друзилла тоже богиня. Я возвещу об этом тогда же, когда и о себе. Как я люблю Друзиллу! Почти так же, как она любит меня.
— Могу я спросить, каковы твои священные намерения? Твоя метаморфоза, без сомнения, глубоко потрясет Рим.
— Разумеется. Прежде всего я нагоню на всех священный трепет. Я больше не позволю, чтобы мной командовали суматошные старики. Я им покажу… Ты ведь помнишь свою бабку Ливию? Ну и смех. Она почему-то вообразила, будто предвечный бог, пришествие которого предсказывают на Востоке уже тысячу лет, не кто иной, как она. Я думаю, ее сбил с толку Фрасилл, вот она и поверила, что речь идет о ней. Фрасилл никогда не лгал, но любил вводить в заблуждение. Понимаешь, Ливия знала предсказание лишь в общих чертах. Божество это должно быть мужчиной, а не женщиной, и место его рождения не Рим, хотя оно и будет править Римом (я родился в Антии), и, хотя появится оно в мирные времена (как я), ему суждено стать причиной бесчисленных войн после смерти. Умрет этот бог молодым, народ сперва будет любить его, потом — ненавидеть: конец его будет печальным, все от него отвернутся. «Слуги будут пить его кровь».[122] А после смерти он станет править всеми богами мира, даже в неведомых нам сейчас странах. Кто же это, если не я? Мартина говорила, будто на Ближнем Востоке за последнее время было много чудес, которые не оставляют сомнений в том, что бог этот наконец родился. Особенно волнуются евреи. Они почему-то считают, что это касается их больше всех. Я думаю, причина в том, что я однажды посетил вместе с отцом Иерусалим и впервые проявил там свою божественную суть.
Калигула приостановился.
— Мне бы очень хотелось об этом узнать, — сказал я.
— О, ничего особенного. Просто шутки ради я зашел в один дом, где их священнослужители и богословы обсуждали теологические вопросы, и неожиданно закричал: «Вы — куча старых обманщиков! Вы ничего в этом всем не смыслите». Это их как громом поразило, и один седобородный старик сказал: «О Дитя, кто ты? Тот, кого нам предвещали?» «Да», — смело ответил я. Он сказал, рыдая от восторга: «Тогда учи нас!» Я ответил: «Вот еще! Это ниже моего достоинства», — и выбежал из дома. Видел бы ты их лица! Нет, Ливия была по-своему умная и ловкая женщина — Улисс в юбке, как я однажды назвал ее прямо в лицо, — и когда-нибудь я, возможно, и обожествлю ее, но это не к спеху. Важной богини из нее не получится. Возможно, я сделаю ее покровительницей счетоводов и бухгалтеров — у нее были большие способности по этой части. А заодно подкину ей отравителей, вот же Меркурий — покровитель не только купцов и путешественников, но и воров.
— Это вполне справедливо, — сказал я. — Но больше всего меня сейчас волнует другое: кому мне поклоняться? Какое имя ты примешь? Можно ли, например, называть тебя Юпитер? Или ты еще более велик, чем он?
Калигула:
— О, конечно, более велик, но пока мое имя останется в тайне. Хотя, пожалуй, я думаю, на какое-то время я стану зваться Юпитером — Латинским Юпитером, чтобы меня не путали с этим греческим старикашкой Зевсом. С ним мне придется выяснить отношения в самое ближайшее время. Слишком долго он гнул свою линию!
Я спросил:
— Как получилось, что твой отец не был божеством? Я еще не слышал о боге, не имеющим божественного отца.
— Очень просто. Моим отцом был Август. Божественный Август.
— Но ведь он тебя не усыновлял, не так ли? Он усыновил твоих старших братьев, а ты должен был продолжать род своего отца.
— Я не говорю, что он был моим приемным отцом. Я имею в виду, что я его родной сын, родившийся от его кровосмесительной связи с Юлией. Это единственно возможное решение вопроса. Иначе и быть не могло. Не Агриппина же моя мать. Думать так просто нелепо. Ее отец был никто.
Я не был настолько глуп, чтобы указывать на то, что, раз Германик ему не отец, его сестры, следовательно, ему не сестры, а племянницы. Я потакал ему, как советовала Друзилла.
— Это самый великий день моей жизни, — сказал я. — Разреши мне удалиться и принести тебе жертвоприношение. Я совсем обессилел. Твое божественное дыхание слишком пряно для моих ноздрей. Я чуть не теряю сознание.
В комнате было ужасно душно. С первого дня, что он слег в постель, Калигула не разрешал открывать окна.
Калигула:
— Иди с миром. Я хотел тебя убить, но теперь раздумал. Передай «разведчикам», что я — бог и что у меня светится лицо, но больше ничего не говори. Насчет всего остального, что ты от меня узнал, я налагаю на твои уста печать священного молчания.
Я снова распростерся ниц и, пятясь, ползком удалился. В коридоре меня остановил Ганимед и спросил, какие новости. Я сказал:
— Он только что сделался богом, и очень важным, по его словам. У него светится лицо.
— Плохие новости для нас, простых смертных, — воскликнул Ганимед. — Но все к тому шло. Спасибо, приму это к сведению и передам другим. А Друзилла знает? Нет? Тогда я ей тоже скажу.
— И сообщи ей, что она стала богиней, — попросил я, — на случай, если она сама этого не заметила.
Я вернулся к себе в комнату и подумал: «Все, что ни случается, — к лучшему. Люди скоро поймут, что Калигула безумен, и его упрячут под замок. У нас не осталось ни одного совершеннолетнего потомка Августа, который мог бы стать императором, кроме Гемелла, а Гемелл не завоевал популярности и не обладает сильным характером. Возродится республика. Тесть Калигулы — самый подходящий человек, чтобы ее провозгласить. Никто не пользуется таким большим влиянием в сенате. Я буду его поддерживать. Если бы только мы могли избавиться от Макрона и поставить на его место приличного командира, все было бы просто. Гвардейцы — самое большое препятствие на нашем пути. Они знают, что республиканский сенат не потерпел бы, чтобы они получали в дар по сто пятьдесят золотых на душу. Да, когда Сеяну пришло в голову образовать из гвардейцев нечто вроде личной армии дяди Тиберия, это привело империю к восточному абсолютизму. Нам следует уничтожить лагерь и расквартировать гвардейцев, как прежде, по частным домам».
Но — поверите ли? — божественность Калигулы ни у кого не вызвала сомнений. Какое-то время он довольствовался тем, что известие об этом распространялось лишь в частном кругу, и официально все еще считался смертным. Если бы каждый простирался при виде его ниц, это испортило бы его развлечения с «разведчиками» и лишило бы множества удовольствий. Но в течение десяти дней после выздоровления, встреченного всеобщей радостью, Калигула воздал себе все людские почести, какие были оказаны Августу за всю его жизнь, и еще парочку в придачу. Он был Цезарь Добрый, Цезарь — Отец Армий, Милостивый и Могущественный Цезарь и даже Отец отчизны — титул, от которого Тиберий твердо отказывался до конца своих дней.
Первой жертвой террора оказался Гемелл. Калигула послал за одним из полковников гвардии и сказал ему:
— Немедленно убей этого предателя, моего сына.[123]
Полковник пошел в комнату Гемелла и отрубил мечом ему голову.
Следующей жертвой стал тесть Калигулы. Он был из рода Силанов; Калигула женился на его дочери Юнии, но она умерла родами за год до того, как он стал императором. Силан отличался от своих собратьев-сенаторов тем, что был единственным среди них, кого Тиберий никогда не подозревал в измене, и заявлял, что его судебные решения обжалованию не подлежат. Теперь Калигула отправил ему письмо: «К завтрашнему утру ты должен умереть». Несчастный человек попрощался с семьей и перерезал себе горло. Калигула объяснил в письме к сенату, что Гемелл умер смертью предателя: во время его, Калигулы, недавней опасной болезни мальчишка ни разу не молился о его здоровье и старался снискать расположение его телохранителей. К тому же всякий раз, как его приглашали во дворец к обеду, он принимал противоядие, боясь, что его отравят, он весь пропах этими снадобьями. «Но разве есть противоядие против цезаря?» Его тесть, писал далее Калигула, также изменник: он отказался выйти с ним вместе в море в тот день, когда он отплыл на Пандатерию и Понцу, чтобы забрать останки матери и брата; он остался на берегу в надежде узурпировать власть, если буря потопит корабль. И сенат принял эти объяснения. На самом же деле Силан так плохо переносил качку, что чуть не умирал от морской болезни всякий раз, как садился на корабль, даже в тихую погоду, и Калигула сам милостиво отверг предложение Силана сопровождать его во время той поездки. А Гемелл страдал от упорного кашля, и от него пахло лекарством, которое он принимал, чтобы смягчить горло и не мешать застольной беседе.
Глава XXX
Когда мать узнала об убийстве Гемелла, она очень опечалилась и, приехав во дворец, потребовала свидания с Калигулой; он принял ее с угрюмым видом, так как чувствовал, что она будет его бранить. Мать сказала:
— Внук, могу я говорить с тобой наедине? Речь пойдет о смерти Гемелла.
— Только не наедине, — ответил он. — Все, что ты хочешь сказать, можешь говорить при Макроне. Если это действительно так важно, я должен иметь свидетеля.
— Тогда я лучше помолчу. Это наши семейные дела, они не для ушей сына рабов. Отец этого молодчика был одним из моих виноградарей. Я продала его своему деверю за сорок пять золотых.
— Будь добра, сообщи мне без проволочек, о чем ты собиралась со мной говорить, и не оскорбляй моих приближенных. Не знаешь разве, что я могу всех на свете заставить делать по-моему?
— Ты не обрадуешься, когда это услышишь.
— Выкладывай.
— Как хочешь. Я пришла сказать, что убийство бедняжки Гемелла — бессмысленное и беспричинное преступление, и я отказываюсь от всех почестей, полученных из твоих, обагренных невинной кровью, рук.
Калигула рассмеялся и сказал Макрону:
— Я думаю, лучшее, что может сделать эта старая дама, это пойти домой, попросить нож у одного из своих виноградарей и перерезать себе голосовые связки.
Макрон:
— Я всегда советовал то же самое своей бабке, но старая ведьма не желала меня слушать.
Мать пришла ко мне.
— Я собираюсь уйти из жизни, Клавдий, — сказала она. — Все мои дела в порядке. Остались неуплаченными несколько мелких долгов, отдай их точно в срок. Не обижай челядь — они верно служили мне, все до одного. Мне жаль, что теперь некому будет присматривать за твоей дочкой; было бы неплохо, если бы ты снова женился и у нее была бы мать. Она хорошая девочка.
Я:
— Что? Ты хочешь убить себя? О, мать, не делай этого!
Она мрачно улыбнулась.
— Моя жизнь принадлежит мне, не так ли? С чего бы тебе отговаривать меня от того, что я задумала? Вряд ли ты будешь по мне скучать.
— Ты — моя мать, — сказал я. — У человека бывает всего одна мать.
— Я удивлена тем, что ты такой преданный сын. Я не была тебе очень любящей матерью. Кто мог этого от меня ожидать? Ты обманул все мои надежды — болезненный, слабый, робкий, придурковатый ребенок. Что ж, боги жестоко наказали меня за то, что я не уделяла тебе внимания. Мой сын, мой прекрасный Германик убит, бедные мои внуки Нерон, Друз и Гемелл — убиты, дочь мою Ливиллу я своими собственными руками наказала за ее чудовищные прегрешения — это было для меня тяжкой мукой, еще ни одна мать не испытывала таких мук, — все мои четыре внучки сбились с пути, а этот мерзкий богохульник Калигула… Но ты его переживешь. Ты, верно, и всемирный потоп переживешь.
В голосе ее, сперва спокойном, зазвучали привычные сварливые нотки.
Я спросил:
— Мать, неужели даже сейчас у тебя не найдется для меня доброго слова? Разве я когда-нибудь сознательно обидел или ослушался тебя?
Но она пропустила мои слова мимо ушей.
— Я жестоко наказана, — повторила она. Затем сказала: — Я желаю, чтобы ты пришел ко мне через пять часов. К тому времени все будет готово. Я рассчитываю, что ты исполнишь положенный обряд. Я не хочу, чтобы ты присутствовал при моем последнем издыхании. Если я еще буду жива, когда ты придешь, подожди в передней, пока Брисеида тебя не позовет. Не сбейся, когда будешь произносить прощальное слово, с тебя станется. Все указания насчет похорон будут написаны. Ты будешь на них самым близким из моих родственников. Я не хочу никаких похвальных речей. Не забудь отрубить мне правую руку и сжечь ее отдельно, как положено при самоубийстве. И никаких благовоний в погребальном костре; так часто делают, хотя и вопреки закону, и я всегда считала это расточительством. Я отпускаю Палланта на волю, так что не забудь: в похоронной процессии он должен быть в шапке вольноотпущенника. Постарайся хоть раз в жизни довести церемонию до конца, ничего не перепутав.
И это все, если не считать сухого «прощай». Ни поцелуя, ни слез, ни благословения.
Я в точности выполнил все пожелания матери, как и положено послушному сыну. Но не странно ли — дать свободу моему рабу Палланту! Так же она поступила и по отношению к моей Брисеиде.
Несколько дней спустя, глядя на ее погребальный костер из окна столовой, Калигула сказал Макрону:
— Ты поддержал меня против этой старухи. Я награжу тебя, ты получишь самое почетное назначение в империи. Назначение, которым, согласно установленному Августом закону, удостаиваются лишь люди кристальной честности: я назначу тебя губернатором Египта.
Макрон был в восторге; в последнее время его беспокоило то, как относится к нему Калигула, а если он уедет в Египет, он будет в безопасности. Как и сказал Калигула, назначение это было важным: губернатор Египта мог уморить Рим голодом, перестав снабжать его зерном, а гарнизон можно было так усилить за счет местных новобранцев, что ему было бы нетрудно отразить вторжение любой посланной в Египет армии.
Так Макрона освободили от командования гвардией. Вначале Калигула не определил никого на его место, и командиры девяти батальонов командовали ею — каждый один месяц — по очереди. Калигула объявил, что по истечении девяти месяцев самый способный и преданный ему командир получит пост командующего навсегда. Но по секрету он обещал этот пост командиру батальона, из солдат которого состояла дворцовая стража, — не кому иному, как доблестному Кассию Херея, чье имя вы не могли забыть, даже если не очень внимательно читали эту книгу, — человеку, который убил германского заложника в амфитеатре, кто вывел свою роту, когда германцы вырезали почти всю армию Вара, кто затем спас мост через Рейн, кто мечом проложил себе путь среди мятежников в Бонне и кто нес на своих плечах Калигулу одним ранним утром, когда Агриппина с друзьями должна была пешком покинуть лагерь под его защитой. Кассий поседел, хотя ему не было еще и шестидесяти, и немного горбится, руки его дрожали после лихорадки, от которой он чуть не умер в Германии, но он по-прежнему превосходно владел мечом и считался самым храбрым человеком в Риме. Как-то раз один старый гвардеец помешался в уме и принялся в неистовстве бегать с копьем наперевес по дворцовому двору. Ему казалось, что он сражается с мятежниками-французами. Все бросились врассыпную, кроме Кассия, который, хоть и был невооружен, не тронулся с места, а когда сумасшедший кинулся на него, спокойно скомандовал, словно на плацу: «Рота, стой! Сложить оружие!» — и безумный солдат, для которого подчинение приказам стало второй натурой, остановился как вкопанный и положил копье на землю. «Рота, кругом! — снова скомандовал Кассий. — Шагом марш!» Так Кассию удалось его обезвредить. Этот самый Кассий и стал первым временным командующим гвардейцев и держал их в узде в то время, когда судили Макрона.
Дело в том, что назначение Макрона губернатором Египта было всего лишь уловкой со стороны Калигулы, такой же уловкой, как та, к которой прибег Тиберий, желая устранить Сеяна. Макрона арестовали, когда он садился в Остии на корабль, и привезли обратно в цепях. Его обвинили в том, что он виновен в смерти Аррунция и еще нескольких ни в чем не замешанных римских граждан. К этому обвинению Калигула добавил еще одно, а именно: что Макрон сыграл роль сводника, стараясь вызвать в нем страсть к своей жене Эннии, — соблазн, против которого ему, при его юношеской неопытности, было трудно устоять. Макрона и Эннию принудили к самоубийству. Я поразился тому, как легко Калигула избавился от Макрона.
Однажды Калигула в качестве великого понтифика сочетал браком мужчину из рода Пизона и женщину по имени Орестилла. Та приглянулась Калигуле, и, когда церемония была закончена и гости — большинство римских патрициев — собрались за пиршественным столом и, как это водится в подобных случаях, шумно веселились, Калигула вдруг крикнул новобрачному: «Эй, ты там, хватит целовать эту женщину. Она — моя жена». Затем поднялся и в наступившей тишине велел гвардейцам схватить Орестиллу и препроводить ее во дворец. Никто из пораженных гостей не осмелился протестовать. На следующий день Калигула женился на Орестилле; муж ее был вынужден присутствовать на бракосочетании и быть посаженым отцом. Калигула прислал сенату письмо, где сообщил, что отпраздновал свадьбу в духе Ромула и Августа — имея в виду, наверное, похищение Ромулом сабинянок и женитьбу Августа на бабке Ливии (в присутствии моего деда).[124] Через два месяца он развелся с Орестиллой и отправил ее и ее мужа в изгнание под тем предлогом, что они прелюбодействовали у него за спиной. Орестиллу сослали в Испанию, Пизона — на Родос. Пизону разрешили взять с собой всего десять рабов, а когда он попросил в виде милости позволить ему удвоить это число, Калигула сказал: «Бери сколько хочешь, но на каждого лишнего раба будет лишний стражник».
Друзилла умерла. Я уверен, что ее убил Калигула, но улик у меня нет. Мне передавали, что, когда он теперь целовал женщин, он приговаривал: «Ах, какая белая и нежная шейка! А стоит мне приказать — раз! — и ее разрубят пополам». Если шейка была особенно белой и нежной, он иногда не мог избежать искушения отдать этот приказ и посмотреть, как сбудется его похвальба. Но я думаю, что в случае с Друзиллой он сам нанес удар. Как бы там ни было, никому не было позволено увидеть ее тело. Калигула заявил, что Друзилла умерла от чахотки, и устроил ей необычайно пышные похороны. Ее обожествили под именем Пантея, построили множество храмов, высокородные римляне и римлянки были назначены ее жрецами и жрицами; ежегодный праздник в ее честь был более роскошным, чем любой другой праздник в календаре.[125] Человек, якобы видевший, как дух Друзиллы был принят на небе Августом, получил десять тысяч золотых. В дни публичного траура по ней, объявленного Калигулой, считалось тяжким преступлением, караемым смертью, смеяться, петь, бриться, ходить в бани и даже обедать в кругу семьи. Суды были закрыты, не совершались бракосочетания, не было воинских учений. Калигула приговорил к смертной казни человека, продававшего на улицах горячую воду, и еще одного за то, что он выставил на продажу бритвы. Охватившее всех уныние было так велико, что Калигула сам не мог его выдержать (а может быть, его мучили угрызения совести?) и однажды ночью покинул город и отправился в Сиракузы в сопровождении одного лишь почетного караула. Дел у него там никаких не было, он просто хотел отвлечься. Доехал он всего лишь до Мессины, где как раз началось небольшое извержение Этны. Зрелище это так напугало Калигулу, что он тут же повернул обратно. Когда Калигула возвратился в Рим, там все пошло по-старому, снова начались игры гладиаторов, гонки колесниц и травля диких зверей. Калигула вдруг вспомнил, что люди, обещавшие во время его болезни отдать за него жизнь, все еще живы, и заставил их покончить с собой, не только потому, что клятвопреступление — грех, но главное, чтобы Смерть не сочла их сделку недействительной.
Как-то раз за ужином, довольно много выпив, я заявил, что вывел правило насчет того, как переходит по наследству женская красота; я утверждал, будто передается она через поколение, от бабушки к внучке, и приводил тому примеры. К сожалению, закончил я, сказав: «Самая прекрасная женщина, какую я видел в отрочестве, возродилась сейчас в лице своей внучки и тезки — Лоллии, жены губернатора Греции. Они похожи как две капли воды. За исключением одной-единственной дамы, имени которой я не назову, так как она здесь присутствует, Лоллия, по моему мнению, самая прекрасная из всех ныне живущих женщин». Исключение это я сделал лишь из тактичности, так как Лоллия была во много раз красивее моих племянниц Лесбии и Агриппиниллы, да и любой другой бывшей там дамы. Я не был в нее влюблен, просто я заметил однажды, что ее красота — совершенна, и вспомнил, что точно такое же впечатление давным-давно произвела на меня ее бабка. Калигула заинтересовался моими словами и стал расспрашивать меня о Лоллии. Не сознавая, что я и так сказал больше, чем следовало, я наговорил еще. В тот же вечер Калигула написал мужу Лоллии, приказывая ему вернуться в Рим, где его ожидают исключительные почести. Ожидал же его развод с Лоллией, которую он своими руками должен был отдать в жены императору.
Еще одно случайное замечание, сделанное мною как-то за ужином, произвело на Калигулу неожиданный эффект. Кто-то упомянул об эпилепсии, и я сказал, что, согласно коринфским летописям, Ганнибал был эпилептик и что Александр и Юлий Цезарь оба были подвержены этой таинственной болезни, которая, по-видимому, неизбежно сопутствует полководческому гению. Калигула насторожил уши. Спустя несколько дней он очень правдоподобно изобразил в сенате эпилептический припадок — упал на пол и кричал во все горло, так что на губах его пузырилась пена (мыльные пузыри, скорее всего).
Римляне все еще были довольны жизнью. Калигула по-прежнему устраивал для них театральные представления, гладиаторские бои, гонки и травлю диких зверей и разбрасывал деньги с ораторского амвона и верхних окон дворца. Горожанам было безразлично, какие браки он заключал или расторгал, каких приближенных предавал казни. Калигула не мог вынести, если в театре или в цирке было хоть одно свободное место, а в проходах не толпился народ, поэтому в дни представлений он приостанавливал судебные заседания и временно отменял траур, чтобы никто не мог отговориться и не прийти. Калигула также ввел несколько новшеств: разрешал приносить с собой на представление подушки, а в жаркую погоду надевать соломенные шляпы и сидеть босиком — даже сенаторам, которым было положено подавать другим пример благочиния.
Когда мне наконец удалось на несколько дней приехать в Капую, чуть не впервые за год, Кальпурния почти сразу спросила:
— Ну и сколько, Клавдий, осталось в казне от тех двадцати семи миллионов?
— Меньше пяти миллионов, я думаю. Но Калигула строит прогулочные корабли из кедра, покрывает их золотом, усыпает драгоценными камнями, делает в них ванны и цветники; он начал возводить шестьдесят новых храмов и поговаривает о том, чтобы прорыть канал через Коринфский перешеек. Он принимает ванны из нарда и фиалкового масла. Два дня назад он подарил Евтиху, возничему зеленых, двадцать тысяч золотых за то, что тот выиграл гонки против сильных соперников.
— А зеленые всегда выигрывают?
— Всегда. Или почти всегда. Недавно первым пришел красный, и зрители шумно приветствовали его. Им надоело, что выигрывают одни зеленые. Император был в бешенстве. На следующий день и возничий, и его упряжка оказались мертвы. Отравлены. Такие вещи случались и раньше.
— Скоро твои дела будут совсем плохи, мой бедный Клавдий. Кстати, не хочешь ли ты проверить счета? Год был неудачный, как я писала тебе. Скот передох, рабы воруют без зазрения совести, скирды хлеба горят. Ты стал бедней на две тысячи золотых. И управляющий тут не виноват. Он делает, что может, и он, во всяком случае, честен. Все это потому, что здесь нет тебя, чтобы самому присматривать за хозяйством.
— Ничего не поделаешь, — сказал я. — Говоря по правде, я сейчас больше беспокоюсь за свою жизнь, чем за деньги.
— С тобой плохо обходятся?
— Да. Все время куражатся надо мной. Мне это очень неприятно. И главный мой мучитель — император.
— Что они тебе делают?
— О, придумывают всякие штуки. Устраивают ловушки, подвешивают над дверью ведра с водой, кладут в постель лягушек или мерзких, воняющих миррисом мальчишек-педерастов; ты ведь знаешь, что я не терплю ни лягушек, ни педерастов. Если я ложусь вздремнуть после обеда, они кидаются в меня косточками от фиников, или надевают на руки туфли и завязывают шнурки, или звонят у меня над ухом, словно случился пожар. И я совсем не могу работать. Стоит мне начать, они опрокидывают на листы чернильницу. И что бы я ни сказал, поднимают меня на смех.
— Ты — единственный, кто служит мишенью их насмешек?
— Я — их излюбленная мишень. Официальная.
— Клавдий, ты сам не представляешь, как тебе повезло. Следи внимательно, чтобы тебя не спихнули с этого места. Не давай никому его захватить.
— Что ты хочешь этим сказать, девочка?
— То, что люди не убивают тех, над кем смеются. Они бывают жестоки по отношению к своим жертвам, они пугают и грабят их, но не убивают.
Я сказал:
— Кальпурния, ты на редкость умна. Послушай меня. У меня все еще есть кое-какие деньги. Я куплю тебе красивое шелковое платье и золотую коробочку для притираний, и мартышку, и кулек коричных конфет.
Она улыбнулась:
— Я предпочитаю получить этот подарок наличными. Сколько ты собирался потратить?
— Около семисот золотых.
— Прекрасно. Они нам скоро будут очень кстати. Спасибо, добрый мой Клавдий.
Когда я вернулся в Рим, я услышал, что в городе были беспорядки. Однажды ночью Калигулу разбудил отдаленный шум — это собравшиеся у амфитеатра горожане, распихивая и толкая друг друга, старались пробиться поближе к воротам, чтобы, когда их откроют, занять первые ряды даровых мест. Калигула послал роту гвардейцев с дубинками навести порядок. Гвардейцы, злые из-за того, что их подняли с постелей, колотили дубинками направо и налево и убили немало людей, в том числе несколько весьма состоятельных горожан. Чтобы высказать свое неудовольствие тем, что сон его был дважды нарушен — причем во второй раз, когда люди с криком разбегались от гвардейцев, шум был гораздо громче, — Калигула появился в амфитеатре лишь под вечер, когда все утомились от ожидания и проголодались. Когда зеленый выиграл первый заезд, никто не аплодировал, мало того — раздалось шиканье. Калигула в ярости вскочил с места: «О, будь у вас на всех одна шея, я бы перерубил ее!»
На следующий день предстояли гладиаторские бои и травля диких зверей. Калигула отменил прежние договоренности и заслал в амфитеатр самых жалких животных, каких сумел скупить на оптовом рынке, — шелудивых львов и пантер, больных медведей и старых, изнуренных диких быков, из тех, что посылают в гарнизонные города в отдаленных провинциях, где зрители не особенно разборчивы, а выходящие на арену любители предпочитают зверей похуже. Люди, которыми Калигула заменил объявленных на афишах, были под стать животным: тучные, неповоротливые, страдающие одышкой ветераны. Некоторые из них, возможно, были хороши в свое время — в давно прошедший золотой век Августа. Публика принялась свистеть и осыпать их насмешками. Этого-то Калигула и ждал. Он велел арестовать тех, кто больше всех шумел, и вывести их на арену — может, у них получится лучше? Шелудивые львы и пантеры, больные медведи и изнуренные быки быстро с ними расправились.
Популярность Калигулы пошла на убыль. Говорят, что толпа любит праздники. Спору нет. Но когда год превращается в один долгий праздник и у людей не остается времени заниматься делами, а удовольствие становится принудительным, то это другой разговор. Гонки колесниц всем приелись. Хорошо Калигуле, ведь он был лично заинтересован в упряжках и возничих и даже иногда сам правил. Он неплохо управлялся с вожжами и хлыстом, а остальные возничие следили за тем, чтобы не обогнать его. Театральные представления тоже сильно надоели. Все пьесы похожи одна на другую, во всяком случае, на мой взгляд, различают их лишь знатоки. Калигула считал себя знатоком и к тому же питал пристрастие к Апеллесу, трагическому актеру, филистимлянину, который написал многие из пьес, где обычно сам играл. Одну из них, особенно восхищавшую Калигулу — так как он внес кое-какие предложения насчет роли Апеллеса, а тот их учел, — показывали много раз подряд, пока она не набила всем оскомину. Еще больше Калигула благоволил к Мнестеру, исполнявшему главные партии в мифологических балетах, бывших тогда в моде. Он обычно целовал Мнестера на глазах у всей публики всякий раз, когда тот делал особенно удачное па. Как-то раз один из всадников раскашлялся на представлении и был вынужден выйти, так как не мог унять кашель. Шум, который он поднял, протискиваясь мимо чужих колен, извиняясь, кашляя и пробираясь через битком набитые проходы к выходу из амфитеатра, помешал Мнестеру, и тот остановился посреди одного из самых изысканных своих танцев под нежные звуки флейты и стал ждать, пока все успокоятся. Калигула пришел в бешенство; он велел привести к нему всадника и побил его собственной рукой. Затем отправил его в Танжер с запечатанным посланием царю Марокко.[126] Царь (мой родственник — его мать была моей теткой Селеной, дочерью Антония от Клеопатры) был крайне изумлен содержанием письма. Там было написано: «Не откажи в любезности отослать подателя сего обратно в Рим». Все сословие всадников сильно возмутилось этим случаем: Мнестер был всего лишь вольноотпущенник, а вел себя как одержавший победу полководец. Калигула стал брать частные уроки красноречия и танцев у Апеллеса и Мнестера и спустя некоторое время начал появляться на сцене в их ролях. Произнеся монолог в какой-нибудь трагедии, он иногда оборачивался и кричал Апеллесу, стоявшему за кулисами: «Превосходно, не правда ли? Ты бы сам не сыграл лучше». А после того как, танцуя в балете, делал какой-нибудь удачный пируэт, он останавливал музыку, поднимал руку, чтобы призвать всех к тишине, и повторял его без аккомпанемента.
Подобно Тиберию, у которого был любимый дракон, Калигула завел себе любимца коня. Раньше его звали Порцелл (что значит «Поросенок»), но Калигула решил, что это имя недостаточно красиво, и переименовал коня в Инцитата — «Быстроногого». Инцитат всегда приходил на бегах первым, и Калигула так его обожал, что сделал сперва гражданином Рима, затем сенатором и наконец занес в списки кандидатов на пост консула. Инцитат получил собственный дом и слуг, у него была мраморная спальня, где лежал большой соломенный тюфяк, менявшийся каждый день, стояла кормушка из слоновой кости и золотое ведро для питья, а на стенах висели картины известных художников. Всякий раз, что Инцитат выигрывал гонки, его приглашали вместе с нами к обеду, но он предпочитал чашу ячменного пива рыбе и мясу, которыми всегда потчевал его Калигула. Мы должны были раз двадцать пить за его здоровье.
Деньги уходили все быстрей и быстрей, и наконец Калигула решил навести экономию. Как-то раз он сказал: «Какой смысл сажать в тюрьму за подлог, кражу и нарушение общественного порядка? Преступникам там не сладко, но и мне приходится тратиться на их кормежку и стражу. А если я их выпущу, они снова примутся за свое. Я сегодня объеду тюрьмы и разберусь в этом деле». Так он и поступил. Калигула отобрал самых закоренелых, как он считал, преступников и велел их казнить. Тела их разрубили на части и скормили диким зверям, ждавшим своей очереди быть убитыми в амфитеатре, — двойной расчет. Теперь Калигула каждый месяц обходил тюрьмы. Преступность слегка снизилась. Однажды казначей Калигулы Каллист сообщил ему, что в государственной казне остался всего один миллион золотых, а в императорской — полмиллиона. Калигула понял, что мало сократить расходы, надо увеличить доходы. Начал он с торговли жреческими должностями и магистратурами, а также монополиями, и это сильно пополнило казну, но все же недостаточно, и тогда, как и предвидела Кальпурния, он прибег к помощи доносителей, чтобы обвинить богатых людей в истинных или вымышленных преступлениях и заполучить их имущество. Когда Калигула стал императором, он отменил смертельную казнь за государственную измену, но оставалось множество других преступлений, караемых смертью.
После казни первой группы осужденных Калигула устроил особенно великолепную травлю диких зверей. Но зрители были в дурном настроении. Они шикали, свистели, ворчали и не желали даже смотреть на арену. Затем в дальнем от императорской ложи конце цирка раздался крик: «Выдай нам доносителей! Выдай нам доносителей!» Калигула поднялся, чтобы восстановить тишину, но рев толпы заглушил его голос. Он отправил гвардейцев с дубинками туда, где орали громче всего, и они принялись дубасить людей по головам, но шум, и еще более яростный, возник в другом месте. Калигула перепугался. Он поспешно покинул амфитеатр, велев мне заменить его на распорядительском месте. Мне это вовсе не улыбалось, но когда я встал, чтобы обратиться к толпе, все вежливо замолчали и даже крикнули: «Feliciter», что значит: «Удачи тебе», и я вздохнул с облегчением. В отличие от Калигулы, у которого такой громкий голос, что его слышно с одного края Марсова поля на другой, я говорю тихо, и мне пришлось попросить кого-нибудь повторять за мной мои слова. Мнестер вызвался мне помочь, отчего моя речь прозвучала куда эффектнее.
Я объявил, что императора, к сожалению, вызвали по срочному государственному делу. Тут все расхохотались. Мнестер сопровождал свои слова красноречивыми жестами, показывающими, насколько важным и безотлагательным было это государственное дело. Затем я сказал, что обязанности распорядителя перешли, увы, к моей недостойной особе. Мнестер безнадежно пожал плечами и покрутил указательным пальцем у виска — более выразительно передать смысл моих слов было трудно.
— Давайте продолжать игры, друзья, — добавил я.
И тут сразу же поднялся крик:
— Выдай нам доносителей!
Но я спросил, а Мнестер повторил, вложив в это все свое обаяние:
— А если император согласится выдать их, что тогда? Кто-нибудь донесет на них?
Вместо ответа послышался неясный гул. Я задал еще один вопрос. Я спросил, кто более тяжкий преступник — доноситель или доноситель на доносителя? Или доноситель на доносителя на доносителя? Я сказал, что чем дальше идти по такому пути, тем он будет более гнусным, тем большее число людей окажется замарано грязью. Лучшая политика — не совершать ничего, что могло бы дать доносчикам основания для доносов. Если бы все, сказал я, вели истинно добродетельную жизнь, проклятое племя вымерло бы само собой из-за недостатка пищи, как мыши на кухне у скупца. Вы не представляете, какой смех вызвали мои слова. Чем шутка проще и глупее, тем больше нравится толпе. (Никогда мне так не аплодировали, как однажды, когда я тоже заменял Калигулу в цирке на распорядительском месте. Зрители сердито требовали, чтобы появился обещанный заранее, но не выходивший на арену гладиатор по имени Голубь. Я сказал: «Терпение, друзья. Сперва поймайте голубя, а уж потом ощипывайте его!» А по-настоящему остроумные шутки до них не доходят.)
— Давайте продолжать игры, друзья, — повторил я, и на этот раз крики прекратились. Бои оказались очень удачными. Два гладиатора одновременно убили друг друга ударом меча в живот, что случается очень редко. Я велел принести мне их оружие, чтобы сделать из него ножички; такие ножички считаются лучшими талисманами при эпилепсии. Калигула оценит этот подарок — если простит меня за то, что я успокоил толпу, когда ему это не удалось. Он так перепугался, что поспешно выехал из Рима в Антий и не возвращался в течение нескольких дней.
Но все обошлось. Калигула был доволен ножичками, которые дали ему возможность поразглагольствовать о необыкновенных свойствах его болезни, а когда он спросил, что в его отсутствие произошло в амфитеатре, я сказал, будто я предупредил толпу о том, что их ждет, если они не раскаются в своем вероломстве и неблагодарности. Я сказал, что после этого мятежные крики сменились мольбами о пощаде, и у всех сделался испуганный и пристыженный вид.
— Да, — проговорил Калигула, — я был с ними слишком мягок. Я решил не уступать им ни на йоту. Отныне мой девиз — «Непреклонная твердость».
И, чтобы не позабыть об этом решении, он теперь каждое утро упражнялся перед зеркалом в спальне, корча грозные рожи и испуская жуткие вопли в своей личной ванной, где было хорошее эхо.
Я спросил Калигулу:
— Почему ты не объявишь публично о своей божественной сути? Ничто не приведет их в такой трепет.
Он ответил:
— Мне еще надо кое-что совершить в моем смертном обличии.
Первое, что он совершил, — приказал начальникам портов Италии и Сицилии задержать все суда больше определенного водоизмещения и, оставив груз в залог, отправить порожними под конвоем военных кораблей в Неаполитанский залив. Никто не мог понять, что означает этот приказ. Предполагали, что Калигула задумал вторжение в Британию и хочет использовать эти суда в качестве транспортных. Но ничего подобного. Калигула просто решил опровергнуть слова Фрасилла, будто он с таким же успехом может стать императором, как пересечь верхом залив между Байями и Путеолами. Он собрал около четырех тысяч судов — из них тысяча была построена специально для этого случая, — и поставил их на якоре в два ряда борт к борту через весь залив от доков в Путеолах до его виллы в Байях. Носы кораблей смотрели наружу, кормой каждую пару сцепили между собой. Так как носы были слишком высоки для его цели, Калигула велел их подровнять, спилив сидение рулевого и носовое украшение, что очень огорчило моряков, — ведь фигура на носу корабля считается его богом-хранителем. Затем Калигула велел уложить деревянный настил через все корабли, накидать на доски землю, увлажнить ее и утрамбовать; в результате получилась твердая широкая дорога в шесть тысяч шагов длиной от края до края. Когда появились новые корабли, вернувшиеся из плавания на Восток, Калигула велел связать их вместе так, чтобы образовалось пять «островов», которые присоединили к «дороге» на расстоянии в тысячу шагов один от другого. По сторонам «дороги» построили множество лавок, и Калигула приказал старшинам корпораций в десятидневный срок обеспечить их товарами и продавцами. На «дорогу» была подведена питьевая вода и посажены сады, на «островах» устроены поселения.
К счастью, во время этих приготовлений погода была тихая и на море стоял полный штиль. Когда все было готово, Калигула надел нагрудник Александра (Август считал себя недостойным носить перстень Александра, а Калигула надел ни мало ни много как его нагрудник), а поверх него — пурпурный шелковый плащ, стоявший колом от золотой вышивки с драгоценными камнями; в руки он взял меч Юлия Цезаря, боевой топор, который, как считалось, принадлежал Ромулу, и щит, которым, по преданию, владел Эней, оба — хранившиеся в Капитолии (и то и другое, по моему мнению, подделка, но такая давняя, что их можно считать настоящими); на голову он надел венок из дубовых листьев. После того как были принесены искупительные жертвы: Нептуну — тюлень, так как это плавающее животное, богу зависти — павлин, на случай, если, как сказал Калигула, кто-либо из богов ему позавидует, он сел на Инцитата и поскакал по «мосту» в Путеолы. Следом скакала вся конная гвардия, позади нее — отряд кавалерии, отозванный из Франции, за ним шли двадцать тысяч пехотинцев. Когда Калигула достиг последнего «острова» недалеко от Путеол, он велел трубить сигнал атаки и ринулся на город так яростно, словно преследовал разгромленного врага.
Калигула провел в Путеолах ночь и большую часть следующего дня, как будто отдыхал после битвы. Вечером он вернулся обратно в триумфальной колеснице с позолоченными колесами и боками, в которую были запряжены Инцитат и кобыла Пенелопа, на которой Калигула женил своего любимца согласно положенному ритуалу. Калигула был в том же великолепном наряде, с одной лишь разницей — на голове вместо дубового венка красовался лавровый. Следом за колесницей ехал длинный обоз, груженный «военной добычей» — мебелью, статуями и украшениями, взятыми в домах богатых купцов. Пленников у Калигулы представляли заложники, которых мелким восточным царькам надлежало присылать в Рим как гарантию своего хорошего поведения, и все рабы, каких от только сумел заполучить, одетые в национальные костюмы, с цепями на руках и ногах. Затем в разукрашенных колесницах следовали друзья Калигулы в нарядных вышитых тогах, воздающие ему хвалу. За ними шла армия и, наконец, процессия из двухсот тысяч граждан в праздничном платье. На холмах, окружающих залив, горело бесчисленное множество костров, и каждый солдат и горожанин в процессии нес зажженный факел. Это был самый эффектный спектакль, какой видел мир, и, по-моему, самый бессмысленный. Но как все веселились! На мысе Мизен к юго-западу от вилл загорелся сосновый лес — еще одно великолепное зрелище. Как только Калигула достиг земли, он потребовал подать ему золотой трезубец и другой шелковый плащ, расшитый серебряными рыбами и дельфинами. Экипированный таким образом, он сел на самый большой из своих пяти прогулочных кораблей, ждавший его у берега, и гребцы отвезли его к среднему «острову», превосходившему размерами все остальные. Большая часть войска сопровождала его на военных судах.
Калигула сошел с корабля, поднялся на увешанный шелковыми полотнищами помост и принялся разглагольствовать, обращаясь к проходившей мимо него толпе. Специально поставленные стражники не давали никому останавливаться, так что никто, кроме друзей Калигулы, находившихся возле помоста — в числе которых оказался и я, — и солдат на ближайших военных судах, не слышал больше одной-двух фраз. Среди прочего Калигула назвал Нептуна трусом за то, что тот без сопротивления позволил надеть на себя оковы, и пообещал в ближайшем будущем еще крепче проучить старика. (Похоже было, что он совсем забыл об искупительной жертве, принесенной им морскому царю). Что до императора Ксеркса, некогда, во время своего неудачного похода против Греции, построившего мост через Геллеспонт, то Калигула даже думать о нем не может без смеха.[127] Он сказал, что этот прославленный мост был в два раза короче его «моста» и куда менее прочный. Затем Калигула объявил, что намерен дать каждому солдату по два золотых, чтобы они выпили за его здоровье, а всем остальным, кто там был, по пять серебряных монет.
Приветственные крики не смолкали в течение получаса, что, по-видимому, удовлетворило его. Калигула остановил их и велел начать раздачу денег. Толпа двинулась мимо него в обратном порядке; приносили и опорожняли мешок за мешком. Часа через два деньги кончились, и Калигула сказал тем, кому ничего не досталось, чтобы они выместили свое разочарование на тех, кто успел все захватить себе. Это, естественно, привело к свалке. А как пили, какие горланили песни, какие отпускали шутки, какая поднялась потеха, какие вспыхивали потасовки! Ни одна ночь не может сравниться с той, что последовала за этим днем. Сам Калигула под воздействием хмельного был склонен к довольно злым проделкам. Во главе «разведчиков» и телохранителей-германцев он носился по «острову» вдоль ряда лавок, спихивая людей в воду. Море было таким спокойным, что только мертвецки пьяные да старики и дети не сумели спастись. Утонуло всего двести или триста человек.
Около полуночи Калигула устроил нападение на один из небольших «островов», сперва разрушив мост по обе стороны от него, а затем отталкивая один за другим корабли, из которых он состоял, пока обитателя «острова», лишившись всех путей спасения, не сгрудились на крошечном пятачке посредине. Последняя атака была оставлена флагманскому кораблю. Калигула стоял, размахивая трезубцем, на полубаке, откуда он устремился на еще оставшихся в живых перепуганных людей и сбросил их всех в море. Среди жертв этого морского сражения был самый удивительный участник триумфальной процессии Калигулы — Елеазар, парфянский заложник, самый высокий человек в мире — рост его равнялся одиннадцати футам. Однако сила его не соответствовала росту, голос напоминал рев верблюда, у него была слабая спина, и говорили, что он придурковат. По происхождению он был еврей. Калигула велел сделать из его тела чучело, нарядить в военные доспехи и поставить у дверей своей спальни для устрашения убийц.
Глава XXXI
Это двухдневное развлечение совершенно опустошило государственную и императорскую казну. Мало того, Калигула не только не вернул суда владельцам, но, велев починить «мост», уехал в Рим и занялся другими делами. Нептун, в доказательство того, что он вовсе не трус, наслал с запада сильный ветер и потопил около тысячи кораблей. Примерно столько же сорвалось с якоря и было выброшено на берег. Около двух тысяч благополучно переждали шторм на месте, но потеря чуть не половины торгового флота привела к нехватке судов для привоза зерна из Египта и других областей Африки, а следовательно, и к серьезной нехватке продовольствия в Риме. Калигула поклялся, что отомстит Нептуну. Чтобы раздобыть деньги, он прибегнул к новым, весьма остроумным способам, забавлявшим всех, кроме его жертв, их друзей и слуг. Например, юношей, которых он штрафами и конфискациями довел до такой глубокой нужды, что они стали его рабами, Калигула отправлял в школы гладиаторов. Когда кончался срок учения, он посылал их в амфитеатр сражаться за свою жизнь. Тратился он при этом лишь на их стол и кров; будучи рабами, они не получали платы. Если их убивали, на том делу был конец. Если они одерживали победу, Калигула продавал их с аукциона магистратам, в чью обязанность входило устраивать подобные состязания — масса людей помимо воли удостоилась этого почетного поста, — и всем, кто хотел участвовать в торгах. Калигула поднимал цены до самой несообразной величины, так как стоило кому-нибудь почесать голову или потереть нос, как Калигула делал вид, будто принимает это за знак того, что ему предлагают надбавку. Мой нервный тик привел меня к большой неприятности — у меня на руках оказались три гладиатора по две тысячи золотых каждый. Но мне еще повезло; судье по имени Апроний, уснувшему во время аукциона, Калигула продал гладиаторов, которых никто не хотел покупать, повышая цену всякий раз, что голова Апрония падала на грудь; проснувшись, он обнаружил, что должен заплатить ни мало ни много как девяносто тысяч золотых за тридцать совершенно не нужных ему гладиаторов. Один из гладиаторов, которых я купил, был очень хорош, но Калигула побился со мной об заклад против него на большую сумму. Когда наступил день боя, мой гладиатор едва стоял на ногах и его легко победили. Оказалось, что Калигула велел подмешать какие-то снадобья в его еду. Многие богатые люди участвовали в этих аукционах и по собственному почину назначали за гладиаторов высокие цены не потому, что нуждались в них, а потому, что надеялись, раскошелившись сейчас, спастись в дальнейшем от облыжного обвинения, которое будет им грозить потерей не только денег, но и самой жизни.
Забавная вещь произошла в тот день, когда победили моего гладиатора. Калигула поспорил со мной на тысячу золотых, которые заставил меня поставить против его пяти тысяч, что в предстоящем бою между пятью гладиаторами, вооруженными сетью и трезубцем, и таким же числом «преследователей» — гладиатором, вооруженных мечом и щитом, выиграют «преследователи». Я смирился с тем, что потеряю свои деньги, но как только бой начался, я заметил, что гладиаторы с трезубцами поддаются противникам — видимо, они были подкуплены. Я сидел рядом с Калигулой и сказал ему:
— Похоже, что ты выиграешь, но, по-моему, эти ребята сражаются спустя рукава.
И действительно, гладиаторы с трезубцем и сетью один за другим сдались, и в конце концов все пятеро лежали на арене лицом в песок, а над каждым из них стоял «преследователь», подняв меч. Зрители опустили вниз большие пальцы в знак того, что побежденные заслуживают смерти. Калигула, бывший распорядителем, мог по своему усмотрению последовать совету публики или нет. Он ему последовал.
— Убейте их, — вскричал он, — они и не пытались выиграть!
Ничего не скажешь, не повезло беднягам, ведь Калигула обещал им сохранить жизнь, если они дадут себя победить; я был далеко не единственный, кого он принудил на них поставить, — он выиграл бы восемьдесят тысяч золотых, если бы победу одержали «преследователи». Что же было дальше? А вот что: один из побежденных гладиаторов так вознегодовал на этот обман, что внезапно сцепился со своим противником, свалил его на землю, схватил сеть и лежавший неподалеку трезубец и кинулся прочь. Вы не поверите, но в результате я выиграл пять тысяч золотых! Сперва этот взбешенный гладиатор убил двух «преследователей», которые, стоя к нему спиной над умерщвленными жертвами, отвечали на приветствия толпы, затем, по очереди, остальных трех, в то время как они бежали к нему, каждый на несколько шагов позади другого. Калигула расплакался от досады и воскликнул:
— О, чудовище! Погляди, он убил пять искусных многообещающих юношей этой мерзкой острогой!
Когда я говорю, что выиграл пять тысяч золотых, я имею в виду, что я выиграл бы их, если бы у меня не хватило такта объявить наше пари недействительным.
— Разве это бой, когда один убивает пятерых? Где тут справедливость?! — сказал я.
До этого времени Калигула всегда отзывался о Тиберии как о форменном негодяе и поощрял всех других делать то же самое. Но однажды он произнес ему в сенате длинную хвалебную речь: Тиберия, мол, неправильно понимали, и он не позволит никому и слова худого сказать против своего названного отца.
— Я — император, и в таком качестве имею право его критиковать, если захочу, но у вас этого права нет. По сути дела, это равносильно государственной измене. На днях один из сенаторов официально заявил, будто Тиберий убил моих братьев Нерона и Друза после того, как посадил их в тюрьму на основании ложных обвинений. Надо же придумать такое!
Затем Калигула вынул судебные материалы, которые якобы сжег, и стал читать оттуда длинные выдержки. Из них следовало, что сенат не усомнился в показаниях, собранных Тиберием против его братьев и единодушно проголосовал за то, чтобы юноши были переданы в руки императора и наказаны. Некоторые сенаторы даже выступили против них свидетелями. Калигула сказал:
— Если вы знали, что факты, с которыми Тиберий знакомил вас (сам приняв их на веру), ложны, то убийцы вы, а не он; а теперь, когда он умер, вы осмеливаетесь перекладывать на него собственное вероломство и жестокость. Если вы все время считали, что факты эти истинные, значит, он не убийца, и вы очернили его доброе имя. А если вы думали, что они ложные и Тиберий знает это, то вы не менее виновны, чем он, к тому же еще и трусы.
Калигула грозно нахмурился, подражая Тиберию, громко постучал, как тот, кулаком по столу, что напомнило всем ужасные процессы по обвинению в государственной измене, и произнес хриплым голосом — точь-в-точь как Тиберий:
— Хорошо сказано, мой сын! Никому из этих шавок нельзя доверять. Погляди, какого божка они сотворили из Сеяна, перед тем как обратились против него и разорвали на куски! Они поступят так же с тобой, если будут иметь хоть какую-то возможность. Все они ненавидят тебя и молят небо о твоей смерти. Мой тебе совет: руководствуйся только своими интересами и прежде всего думай об удовольствиях. Никто не любит, чтобы им командовали, и единственный способ сохранить власть — держать в страхе всю эту шваль. Следуй моему примеру. Чем хуже ты будешь с ними обращаться, тем больше они будут тебя чтить.
Затем Калигула заявил, что снова вводит смертную казнь за государственную измену, приказал выгравировать свою речь на бронзовой доске и повесить эту доску на стене сената над местами консулов и поспешно покинул зал. Больше в этот день сенат ничем не занимался — все были подавлены. Но назавтра мы принялись расточать Калигуле хвалы, называя его праведным и благочестивым правителем, и подписали декрет о ежегодных жертвоприношениях в благодарность за его милосердие. А что еще мы могли сделать? У Калигулы за спиной стояла армия, он был волен в нашей жизни и смерти, и пока не найдется человек достаточно смелый и умный, чтобы устроить против него успешный заговор, нам оставалось лишь ублажать императора и надеяться на лучшее. На пиру через несколько дней Калигула неожиданно разразился диким хохотом. Никто не понимал, что его так рассмешило. Консулы, сидевшие по обе стороны от него, спросили, не будет ли он столь милостив и не разрешит ли он им разделить его веселье. В ответ на это Калигула захохотал еще громче.
— Нет, — сказал он, давясь от смеха, и вытер глаза. — В том-то все и дело. То, над чем я смеюсь, вовсе не покажется вам смешным. Я смеялся при мысли, что стоит мне только кивнуть, и вам обоим туг же перережут горло.
Против двадцати самых богатых, по слухам, людей Рима было выдвинуто обвинение в государственной измене. Их лишили возможности покончить с собой до суда и всех приговорили к смертной казни. Один из них, старший магистрат, оказался совсем бедным.
«Идиот, — сказал Калигула. — Зачем он делал вид, будто у него есть деньги? Я попался на его удочку. Ему совсем ни к чему было умирать».
Я помню только одного человека, обвиненного в государственной измене, которому удалось спастись. Это был Афр, выступавший в роли обвинителя моей родственницы Пульхры, адвокат, славившийся своим красноречием. Афр написал на подножии статуи Калигулы, которую поставил у себя в доме, что в свои двадцать семь лет Калигула уже второй раз занимает пост консула. Калигула увидел в этом насмешку над своей молодостью и упрек в том, что он получил пост, которого по закону еще не был достоин, и обвинил Афра в государственной измене. Он сочинил длинную, тщательно продуманную обвинительную речь и произнес ее в сенате, пустив в ход все свое красноречие (и отрепетировав заранее каждую интонацию и каждый жест). Калигула имел привычку хвалиться, что он — лучший адвокат и лучший оратор в мире, и сейчас больше стремился превзойти Афра в ораторском искусстве, чем добиться его осуждения и конфисковать его деньги. Афр это понял и притворился, что он поражен и восхищен тем, как блестяще Калигула ведет процесс. Он повторял следом за Калигулой один за другим все выдвинутые против него пункты обвинения, превознося их с профессиональной беспристрастностью и бормоча вполголоса: «Да, на это нечего возразить», и «Он исчерпал это доказательство до конца», и «Настоящая дилемма», и «Как он поразительно владеет языком». Когда Калигула кончил и с торжествующей улыбкой сел на место, Афра спросили, не хочет ли он что-нибудь сказать. Он ответил:
— Лишь то, что мне, по-моему, очень не повезло. Я рассчитывал использовать свой дар слова, чтобы хоть немного отвести от себя гнев императора за мою непростительную беспечность с этой проклятой надписью. Судьба кинула кости против меня. В руках императора абсолютная власть, неопровержимые доказательства моей вины и красноречие, в тысячу раз превосходящее мое; даже если бы я избежал приговора и изучал ораторское искусство до ста лет, я не сумел бы с ним сравняться.
Афра присудили к смерти, но на следующий же день отсрочили исполнение приговора.
Кстати, о костях. Когда богатые жители провинций приезжали в Рим, их всегда приглашали во дворец на обед и дружескую игру в кости. Их удивляла и приводила в смятение удачливость императора: у него раз за разом получался «венерин бросок», и он обдирал их как липку. Да, Калигула всегда и во всем играл нечестно. Например, он отнял консульские полномочия у консулов и наложил на них огромный штраф на том основании, что они устроили традиционный праздник в честь победы при Акции, одержанной Августом над Антонием. Калигула заявил, что они оскорбили этим его предка Антония. (Между прочим, на одно из освободившихся мест Калигула назначил Афра.) На обеде за несколько дней до праздника он сказал нам, что накажет консулов независимо от того, как они поступят: если они отменят праздник, они оскорбят этим его предка Августа. И тут Ганимед совершил роковую ошибку. Он вскричал:
— Ах, как ты умен, милый! Им ни так, ни так от тебя не уйти. Но если у этих идиотов есть хоть капля ума, они все же станут отмечать этот праздник, ведь больше всех при Акции потрудился Агриппа, а он тоже твой родственник, так что они окажут честь двум твоим предкам из трех.
Калигула произнес:
— Ганимед, нашей дружбе конец.
— О, — воскликнул Ганимед, — не говори так, милый! Я не сказал ничего обидного для тебя.
— Выйди из-за стола, — приказал Калигула.
Я сразу догадался, в чем была ошибка Ганимеда. Причем двойная ошибка. Ганимед, родственник Калигулы по материнской линии, был потомком Августа и Агриппы, но не Антония. Все его предки принадлежали к партии Августа. Так что ему лучше было вообще не говорить на эту тему. К тому же Калигула не любил, когда ему напоминали, что в числе его предков был Агриппа, человек из ничем не примечательного рода. Но пока что Калигула не предпринял против Ганимеда никаких мер.
Калигула развелся с Лоллией, обвинив ее в том, что она бесплодна, и женился на женщине по имени Цезония, которая не отличалась ни молодостью, ни красотой. Она была дочерью командира городских стражников и женой пекаря или кого-то в этом роде, которому она уже родила троих детей. Но в ней было что-то необъяснимым образом привлекавшее Калигулу, что — не мог объяснить никто и меньше всего он сам. Калигула не раз говорил, что вырвет у нее секрет своей неодолимой тяги к ней, даже если для этого придется прибегнуть к пытке. Болтали, будто Цезония завоевала его при помощи приворотного зелья, от которого он затем сошел с ума. Но это только догадка, а сходить с ума он начал задолго до того, как ее встретил. Так или иначе, Цезония от него забеременела, и Калигула, как я уже сказал, женился на ней; он был вне себя от гордости, что станет отцом. Вскоре после этого Калигула впервые публично заявил о том, что он бог. Это произошло, когда он посетил вместе с Апеллесом храм Юпитера на Капитолийском холме.
— Кто более великий бог — Юпитер или я? — спросил он Апеллеса.
Апеллес, думая, что Калигула шутит, и не желая богохульствовать в храме, задержался с ответом. Калигула подозвал свистом двух телохранителей-германцев и велел содрать с Апеллеса одежду и выпороть перед статуей Юпитера.
— Не торопитесь, — сказал он германцам. — Помедленнее, чтобы сильнее проняло.
Они секли Апеллеса, пока тот не потерял сознание, привели в себя, побрызгав святой водой, и снова секли, пока не засекли до смерти. После этого Калигула направил сенату письмо, где возвестил о своей божественной сути, и приказал немедленно начать строительство нового святилища возле храма Юпитера — «чтоб я мог обитать рядом с моим братом». Он поставил там свою статую в три раза больше натуральной величины, сделанную из чистого золота, которую ежедневно облачали в новое одеяние.
Вскоре Калигула поссорился с Юпитером. Слышали, как он говорил ему сердито: «Если ты не понимаешь, кто здесь хозяин, убирайся в Грецию». Юпитер якобы попросил прощения, и Калигула сказал: «Очень мне нужен твой жалкий Капитолийский холм! Я перееду на Палатин. Он куда лучше расположен. Я построю там достойный меня храм, ты, старый, жалкий мошенник». Другая любопытная вещь произошла, когда Калигула посетил Храм Дианы вместе с бывшим губернатором Сирии Вителлием. Вителлий добился в провинции большого успеха, форсировав Евфрат и неожиданно напав на царя парфян, который собирался вторгнуться в Сирию. Застигнутый на невыгодных для битвы позициях, тот был вынужден подписать унизительный для него мир и отдать сыновей в заложники. Я забыл упомянуть, что старший из них был в колеснице Калигулы, когда тот скакал через залив. Так вот, Калигула завидовал Вителлию и умертвил бы его, если бы я не предупредил Вителлия (он был мой друг), что ему надо сделать. Когда он высадился в Брундизии, его уже ждало там мое письмо. Как только Вителлий прибыл в Рим и был допущен к Калигуле, он пал ниц перед ним, как перед богом. Это было еще до того, как Калигула официально возвестил всем, что он божество, поэтому он решил, что поклонение Вителлия — искренно. Вителлий сделался закадычным другом Калигулы и всячески старался выразить мне свою благодарность. Как я уже сказал, Калигула был в храме Дианы и разговаривал с богиней — не со статуей, но с ее духом. Он спросил Вителлия, видит ли он Диану или один лишь лунный свет. Вителлий затрепетал всем телом, словно в священном страхе, и ответил, не поднимая глаз от пола:
— Только вы, боги, достойны лицезреть друг друга.
Калигула был доволен.
— Она прекрасна, Вителлий, и часто приходит во дворец разделить со мной ложе.
Примерно в это время я снова попал в беду. Сперва я подумал, будто все это подстроил Калигула, чтобы избавиться от меня. Я до сих пор не уверен, что это не так. Один мой знакомый, с которым я часто играл в кости, подделал завещание и в том числе мою печать, которую я якобы поставил как свидетель. К счастью для меня, он не заметил, что с одного края агата, служившего мне печатью, была трещинка, всегда оставлявшая след на воске. Когда меня неожиданно арестовали за сговор с целью обмана и препроводили в суд, я подкупил солдата, чтобы он отнес потихоньку мое письмо Вителлию: я умолял его спасти мне жизнь, как некогда я спас жизнь ему. Я просил намекнуть о трещинке Калигуле, который вел разбирательство этого дела, и иметь наготове мою печать для сравнения с подделанной. Но все надо было подстроить так, чтобы Калигула сам увидел между ними разницу и поставил это в заслугу самому себе. Вителлий с большим тактом провел это дело. Калигула обнаружил трещину, похвастался своей зоркостью и освободил меня, сурово предупредив, чтобы я впредь получше выбирал себе знакомых. Человеку, совершившему подлог, отрубили руки и повесили их ему на шею как предостережение для других. Если бы меня признали виновным, я лишился бы головы. Калигула так и сказал мне в тот вечер за ужином.
Я ответил:
— О, милосердный бог, право, я не понимаю, почему тебя так тревожит, буду ли я жить.
Племяннику всегда приятна лесть из уст дяди. Калигула наклонился ко мне и спросил, подмигнув всем сидящим за столом:
— Могу я спросить, во сколько именно ты ценишь сейчас свою жизнь?
— Я уже подсчитал: в одну медную монетку.
— Как ты пришел к такой скромной цифре?
— Жизнь каждого человека имеет свою цену. Выкуп, заплаченный родичами Юлия Цезаря пиратам, захватившим его в плен и угрожавшим убить, составлял — хотя просили они сперва куда больше — всего двадцать тысяч золотом.[128] Значит, жизнь Юлия Цезаря и стоила на самом деле двадцать тысяч золотых. На мою жену Элию однажды напали разбойники, но она откупилась от них аметистовой брошью, стоившей пятьдесят золотых. Значит, и жизнь ее имела ту же цену. Моя жизнь была спасена благодаря трещине в агате, весящем, если я не ошибаюсь, полграна. Агат такого качества стоит, вероятно, не больше чем одна серебряная монета за двадцать гран. Следовательно, эта трещинка, если суметь ее найти, что нелегко, или найти на нее покупателя, что еще труднее, должна стоить не более чем одну сороковую часть серебряной монеты, то есть одну медную монетку. Значит, и жизнь моя стоит столько же.
— Если ты найдешь на нее покупателя! — захохотал Калигула в восторге от собственного остроумия.
Как все хлопали ему, я — в том числе! Еще долго после этого меня звали не Тиберий Клавдий, а Терунций Клавдий: «терунций» по-латыни — самая мелкая медная монетка, равная одной сороковой серебряной монеты.
Для поклонения Калигуле понадобились жрецы. Он сам был свой верховный жрец, а подчиненными ему жрецами он назначил меня, Цезонию, Вителлия, Ганимеда, четырнадцать экс-консулов и своего благородного друга Инцитата. Каждый из нас должен был заплатить восемьдесят тысяч золотых за эту честь. Он помог Инцитату раздобыть нужные деньги, обложив от его имени ежегодной данью всех лошадей Италии; если они не платили, их отправляли на живодерню. Цезонии достать деньги для вступительного взноса он помог тем, что обложил от ее имени налогом всех женатых мужчин за право спать со своими женами. Ганимед, Вителлий и прочие были богатыми людьми; хотя бывали случаи, когда им приходилось себе в убыток продавать свое имущество, чтобы незамедлительно достать сто тысяч наличными, у них оставалось еще достаточно. Чего нельзя было сказать о бедном Клавдии. Прежние шуточки Калигулы, когда он всучивал мне гладиаторов и заставлял втридорога платить за стол и кров во дворце, оставили мне всего тридцать тысяч золотых наличными; что до недвижимости, которую я мог бы продать, то у меня не было ничего, кроме небольшого поместья в Капуе и дома в Риме, перешедшего ко мне от матери. Я выплатил Калигуле эти тридцать тысяч и сказал ему в тот же день за обедом, что я объявил о продаже моего имущества и отдам ему остальные пятьдесят тысяч, когда найду покупателя.
— Больше мне продавать нечего, — добавил я.
Калигула счел это великолепной шуткой.
— Нечего продать? Почему ж? А твоя одежда?
К этому времени я уже понял, что самое благоразумное — делать вид, будто я и вправду придурковат.
— О боги! — воскликнул я. — Я совсем о ней забыл. Будь добр, предложи ее своим гостям, я уверен, что тебе удастся ее сбыть, ты ведь лучший аукционист в мире.
Я принялся скидывать с себя платье, пока не остался нагишом, если не считать салфетки, которой я поспешно прикрыл чресла. Калигула продал кому-то мои сандалии за две сотни золотых, тогу — за тысячу и так далее, и всякий раз я шумно выражал свой восторг. Наконец он захотел продать салфетку. Я сказал:
— Моя природная скромность не помешала бы мне принести в жертву последний лоскут, если бы полученные за него деньги помогли заплатить остаток моего взноса. Но в данном случае мне мешает нечто более сильное, чем скромность.
Калигула нахмурился:
— Что это? Что сильнее скромности?
— Мое уважение к тебе, цезарь. Это твоя собственная салфетка. Та, которой ты милостиво разрешил мне пользоваться во время нашей превосходной трапезы.
Этот фарс уменьшил мой долг всего на три тысячи. Но он убедил наконец Калигулу в моей бедности.
Мне пришлось отказаться от комнат во дворце и места за императорским столом и поселиться на время со старой Брисеидой, бывшей служанкой матери; я попросил ее сторожить мой городской дом до тех пор, пока на него не найдутся желающие. Туда приехала ко мне Кальпурния, и — верите ли? — у милой девочки в целости и сохранности были деньги, которые я дал ей вместо ожерелий, мартышек и шелковых платьев, и она предложила их мне взаймы. Более того, скот мой вовсе не пал, а скирды не сгорели, как она раньше сказала мне. Это было просто уловкой, чтобы повыгоднее их продать и отложить деньги на непредвиденный случай. Кальпурния вернула их мне — две тысячи золотых — до последней монеты, а также дала полный отчет о сделках, подписанных управляющим. Так что мы жили не так уж плохо. Но, чтобы поддержать легенду о моей нищете, я каждый вечер, взяв в руки кувшин, ходил, опираясь на клюку (и это — вместо носилок!), чтобы купить вина в таверне.
Старая Брисеида часто повторяла:
— Господин Клавдий, люди думают, будто я вольноотпущенница твоей матери. Но это не так. Я стала твоей рабыней, когда ты подрос, и ты, а не она, отпустил меня на волю, правда?
Я отвечал:
— Конечно, Брисеида. Когда-нибудь я всем об этом сообщу.
Она была славная старуха, всем сердцем преданная мне. Мы жили вчетвером в двух комнатах (кроме нас троих — еще старый раб, помогавший по хозяйству) и прекрасно проводили время, если принять все во внимание.
Ребенок Цезонии, девочка, родился через месяц после того, как Калигула женился на ней. Он сказал, что это — чудо. Он взял ребенка, возложил на колени статуи Юпитера — это было еще до их ссоры, — словно хотел показать, что и тому принадлежит честь отцовства, затем положил ее на руки статуи Минервы и дал пососать мраморную грудь богини. Калигула назвал дочку Друзиллой по имени своей умершей сестры, которое после ее обожествления было переменено на «Пантея». Он также назначил ребенка жрицей. Чтобы раздобыть деньги на вступительный взнос, Калигула обратился с просьбой о помощи к римлянам; жалуясь на бедность и большие траты, которые он вынужден делать как отец, он стал собирать деньги в фонд, который назвал фондом Друзиллы. Он поставил кружки для сбора пожертвований на всех перекрестках Рима с надписями: «Еда Друзиллы», «Питье Друзиллы», «Приданое Друзиллы», — и никто не отваживался пройти мимо гвардейцев, стоявших рядом с кружками на посту, не опустив туда хоть несколько медных монет.
Калигула обожал свою маленькую Друзиллу, которая так же, как и он в свое время, была развита не по летам. Ему нравилось учить ее собственной «непреклонной твердости», причем начал он эти уроки, когда она только-только стала ходить и говорить. Калигула хвалил девочку, когда она мучила котят и щенят и пыталась выцарапать ноготками глаза своим маленьким товарищам по играм.
— Да, в том, кто твой отец, моя куколка, сомнений быть не может, — посмеиваясь, повторял он, когда это многообещающее дитя особенно отличалось. А однажды он наклонился к ней при мне и лукаво сказал: — А за первое настоящее убийство, которое ты совершишь, моя драгоценная, даже если ты убьешь всего-навсего твоего бедного старого дедушку Клавдия, я сделаю тебя богиней.
— А ты сделаешь меня богиней, если я убью маму? — пролепетал бесенок. — Я не люблю маму.
Деньги требовались Калигуле и для его золотой статуи. Он раздобыл их, издав эдикт, где говорилось, что он будет принимать подарки к Новому году у главных ворот дворца. Когда настал назначенный день, Калигула послал в город отряды гвардейцев, и те, угрожая оружием, согнали толпы горожан на Палатинский холм и заставили их бросить все, что у них было при себе, в огромные, специально поставленные там бочки. Римлян предупредили, что если они попробуют скрыться от гвардейцев или утаить хоть одну медную монетку, их немедленно подвергнут смерти. К вечеру две тысячи огромных бочек были полны до краев.
Примерно в это время Калигула заявил Ганимеду и Агриппиниллс с Лесбией:
— Как вам не стыдно, вы, трутни! Что вы делаете, чтобы заработать себе на хлеб? Вы обыкновенные паразиты. Вы не знаете разве, что все мужчины и женщины в Риме трудятся в поте лица, чтобы меня поддержать? Последний носильщик, каждая разнесчастная проститутка с радостью отдают мне одну восьмую того, что они получают.
Агриппинилла сказала:
— Но, братец, ты же отобрал у нас под тем или иным предлогом все наши деньги. Разве этого не достаточно?
— Достаточно? Конечно, нет. Полученные в наследство деньги вовсе не то, что заработанные честным трудом. Вы, детки, приметесь у меня за работу.
И вот Калигула распространил в сенате листки, извещавшие, что в такой-то вечер во дворце откроется для избранной публики особый бордель на все вкусы, который будет обслуживаться особами самого знатного происхождения. Входной билет — всего одна тысяча золотых. Напитки бесплатно. С прискорбием должен сообщить, что Агриппинилла и Лесбия не очень протестовали против позорного предложения Калигулы, мало того, сочли, что их ждет неплохое развлечение. Однако они настаивали, чтобы он позволил им самим выбирать себе клиентов и не брал слишком больших комиссионных с того, что они заработают. К моему великому неудовольствию, меня тоже вовлекли в это дело, нарядив комическим привратником. Калигула в маске, изменив голос, играл роль содержателя публичного дома и пускал в ход их обычные мошеннические трюки, чтобы лишить гостей и удовольствия, и денег. А когда те протестовали, он звал меня в качестве вышибалы. У меня очень сильные руки, сильней, чем у большинства людей, а вот от ног мало проку, поэтому, когда я неуклюже ковылял к гостям, а затем неожиданно принимался колотить их палкой — если мне удавалось их схватить, — это вызывало бурное веселье. Вдруг Калигула напыщенно продекламировал строки Гомера:
Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба, Видя, как с кубком Гефест по чертогу вокруг суетится.[129]Это был отрывок из первой песни «Илиады», там, где хромоногий бог ковыляет по Олимпу, а все другие боги смеются над ним. Я лежал в это время на полу, дубася мужа Лесбии, — не часто мне выпадал случай отплатить за старые обиды. Когда Калигула кончил, я поднялся на ноги и сказал:
Рек — и от наковальни великан закоптелый поднялся И, хромоногий, медлительно двигал увечные ноги, — [130]и захромал к столу с угощением. Калигула был в восторге и процитировал еще две строки, которые идут раньше описания «несказанного смеха»:
…потщися могучего сладкими тронуть словами, И немедленно к нам Олимпиец милостив будет.[131]Отсюда и пошло мое, данное им, прозвище Вулкан, которое я был рад получить, так как оно несколько защищало меня от его капризов.[132]
Затем Калигула потихоньку вышел, снял маскарадный костюм и вернулся в своем обличии через ту дверь, у которой он поставил меня. Он притворился, будто страшно удивлен и возмущен тем, что происходит, и снова принялся декламировать Гомера — исполненные стыда и гнева слова Улисса, возмущенного распущенностью женщин во дворце:
Он под покровом лежал. В ворота, он увидел, служанки, Жившие в тайной любви с женихами, толпой побежали, С хохотом громким, болтая, шумя и крича непристойно. Вся его внутренность пламенем гнева зажглась несказанным. Долго не знал он, колеблясь рассудком и сердцем, что делать — Встать ли и, вслед за бесстыдными бросившись, всех умертвить их? Или остаться, дав волю в последний им раз с женихами Свидеться? Сердце же злилось его; как рычит, ощетинившись, Злобная сука, щеняток своих защищая, когда их Кто незнакомый берет, и за их покусаться готовясь, Так на бесстыдниц его раздраженное сердце роптало. В грудь он ударил себя и сказал раздраженному сердцу. «Сердце, смирись; ты гнуснейшее вытерпеть силу имело В логе циклопа, в то время, когда пожирал беспощадно Спутников он злополучных моих, — и терпенье рассудку Выход из страшной пещеры для нас, погибавших, открыло».[133]— Под «циклопом» понимайте «Тиберий», — сказал он. Потом хлопнул в ладоши, призывая гвардейцев, которые бегом прибежали на его зов. — Немедленно пришлите сюда Кассия Херею!
Послали за Кассием, и Калигула сказал ему:
— Кассий, славный герой, ты, кто служил мне боевым конем, когда я был ребенком, мой самый старый и самый верный друг, видел ли ты когда-нибудь такое печальное и унизительное зрелище? Мои сестры торгуют своим телом у меня во дворце, мой дядя Клавдий стоит у дверей и продает впускные билеты! О, что сказали бы бедные мать и отец, если бы они дожили до этого дня!
— Арестовать их всех, цезарь? — горячо спросил Кассий.
— Лучше «остаться, дав волю в последний им раз с женихами свидеться…»,[134] — ответил, словно отчаявшись, Калигула и зарычал, как «злобная сука».
Кассию было велено увести гвардейцев обратно.
Это была не последняя оргия такого рода, устроенная во дворце; впоследствии Калигула заставил сенаторов, присутствовавших на первом «приеме», приводить с собой жен и дочерей в помощь Агриппинилле и Лесбии. Но вопрос, где и как раздобыть деньги, становился все острее, и Калигула решил посетить Францию и посмотреть, что там можно сделать.
Он собрал огромное войско, затребовав по отряду из каждого полка регулярной армии, формируя новые полки и набирая рекрутов где только мог. Из Италии он вышел во главе ста пятидесяти тысяч человек, а во Франции увеличил армию до четверти миллиона. Вооружать и экипировать это огромное войско пришлось городам, через которые оно проходило, необходимое продовольствие Калигула реквизировал там же. Иногда он скакал в галоп и заставлял армию шагать по сорок восемь часов подряд, чтобы не отстать от него, иногда двигался со скоростью одной-двух миль в день, любуясь окрестностями из носилок, которые несли на плечах восемь дюжих солдат, и то и дело останавливаясь, чтобы сорвать цветок.
Калигула предуведомил о своем приезде в письмах, приказывая всем должностным лицам высоких рангов как в самой Франции, так и в рейнских провинциях, прибыть в Лион, где он намеревался сосредоточить все военные силы. Среди тех, кто подчинился этому приказу, был Гетулик, один из лучших офицеров моего милого Германика, командовавший последние несколько лет четырьмя полками в Верхней Германии. Он был очень популярен среди солдат, так как сохранил традицию не применять жестоких наказаний, и дисциплина в его полках держалась на любви к нему, а не на страхе. Популярен он был не только в Верхней, но и в Нижней провинции, в полках, которыми командовал его тесть Апроний — Гетулик женился на сестре Апрония, которую, как полагали, мой шурин Плавтий выбросил из окна. После убийства Сеяна Гетулику грозила смерть, так как он обещал отдать дочь замуж за сына Сеяна, но он избежал этого, написав Тиберию дерзкое письмо. Он заявил, что до сих пор, пока командование полками у него в руках, император может рассчитывать на его верность и верность его солдат. У Тиберия хватило благоразумия оставить его в покое. Но Калигула завидовал его популярности и, как только Гетулик приехал в Лион, его арестовали.
Калигула не предложил мне участвовать в этом походе, поэтому я знаю о том, что там произошло, из вторых рук и не могу писать об этом в подробностях. Мне стало известно лишь то, что Ганимед и Гетулик были обвинены в заговоре — Ганимед-де посягал на жизнь императора, а Гетулик был его пособником — и казнены без суда. Считалось, что Лесбия и Агриппинилла (муж последней незадолго перед тем умер от водянки) тоже участвовали в заговоре. Их сослали на остров у берегов Африки, невдалеке от Карфагена. Это был очень жаркий, бесплодный остров, где единственным занятием было ныряние за губками; Калигула велел сестрам выучиться этому промыслу, так как сам он дольше содержать их не может. Но прежде чем отправиться на остров, они должны были пройти пешком под стражей от Лиона до Рима, неся по очереди в руках урну с прахом Ганимеда. Это было им наказание за многократное прелюбодейство с Ганимедом, как объяснил Калигула в написанном высоким слогом письме к сенату. И тут же принялся распространяться о собственной снисходительности. Ведь они хуже обыкновенных проституток, ни у одной порядочной проститутки не хватило бы наглости заломить такую цену, какую требовали — и получали — Лесбия и Агриппинилла за участие в оргиях, а он их даже не казнил!
Я не имел оснований жалеть племянниц. Они были по-своему так же дурны, как Калигула, и относились ко мне крайне недоброжелательно. Когда у Агриппиниллы за три года до того родился ребенок, она спросила Калигулу, как бы он посоветовал его назвать. Калигула сказал: «Назови его Клавдием, и он обязательно станет красавцем». Агриппинилла так разозлилась, что чуть не ударила Калигулу: вместо этого она обернулась и плюнула в мою сторону, а затем разрыдалась. Младенца назвали Луций Домиций.[135] Лесбия была слишком горда, чтобы обращать на меня внимание или как-то показать, что она меня замечает. Если мы встречались в узком коридоре, она обычно продолжала идти прямо посредине, не замедляя шага, и я вынужден был прижиматься к стене. Мне приходилось напоминать себе, что это дети моего милого брата и что я обещал Агриппине сделать все возможное ради них.
На мои плечи было возложено довольно затруднительное для меня поручение — поехать во главе делегации из четырех экс-консулов в Лион, чтобы поздравить Калигулу с раскрытием заговора. Это была моя первая самостоятельная поездка во Францию, и лучше бы я ее не совершал. Мне пришлось взять у Кальпурнии деньги на дорожные расходы, так как на мое поместье и дом до сих пор не нашелся покупатель, а ждать, что Калигула очень мне обрадуется, я вряд ли мог. Я отплыл из Остии и сошел на берег в Марселе. После того как Калигула отправил в изгнание моих племянниц, он продал с аукциона драгоценности, украшения и наряды, которые они привезли с собой, и получил за них очень высокую цену: он тут же распродал и их рабов, а затем и вольноотпущенников под видом рабов. Покупали их богатые жители провинции, которым хотелось похвастаться: «Да, это и это принадлежало сестрам императора. Я купил все эти вещи лично у него». Успех навел Калигулу на новую мысль. Старый дворец, где жила некогда Ливия, стоял заколоченный. Там было полно ценной мебели и картин и реликвий, оставшихся после Августа. Калигула послал за этим добром в Рим, возложить на меня ответственность за их благополучное и незамедлительное прибытие в Лион. Он писал: «Пришли все сушей, а не морем. Я еще в ссоре с Нептуном». Письмо это пришло накануне того дня, когда я должен был отплыть, поэтому я перепоручил это дело Палланту. Трудность заключалась в том, что все свободные лошади и повозки были изъяты для обоза новой армии. Но Калигула отдал приказ, значит, и тягловая сила, и перевалочные средства должны были быть изысканы. Паллант отправился к консулам и показал им письмо Калигулы. Они были вынуждены реквизировать почтовые кареты, фургоны булочников и даже кляч, вертящих мельничные жернова, что причинило всем большие неудобства.
40 г. н. э.
Так вот и получилось, что как-то майским вечером, перед заходом солнца, Калигула, сидевший на парапете моста в Лионе и занятый воображаемой беседой с тамошним речным богом, увидел, как издалека по дороге к нему приближаюсь я. Он узнал мои носилки по доске для игры в кости, которую я к ним приладил: я коротаю долгий путь, играя сам с собой. Калигула закричал сердито:
— Эй, ты, там, где повозки? Почему с тобой нет повозок?
Я крикнул в ответ:
— Благослови тебя небо, цезарь! К сожалению, повозки придут только через несколько дней. Они двигаются сушей через Геную. Я с моими спутниками прибыл по воде.
— Так и обратно отправишься по воде, голубчик, — ответил он. — Пожалуй-ка сюда.
Когда я приблизился к мосту, два германских солдата стащили меня с носилок, отнесли к среднему пролету и посадили на парапет спиной к реке. Калигула подбежал и столкнул меня. Я перевернулся два раза в воздухе и полетел вниз — казалось, я пролетел тысячу футов, пока не коснулся воды. Помню, я сказал себе: «Родился в Лионе, умер в Лионе». Рона — река очень холодная, очень глубокая и очень быстрая. Тяжелая тога облепила мне руки и ноги, но я все же умудрился не пойти ко дну и даже выбраться на берег за излучиной, в полумиле от моста. Я куда лучше плаваю, чем хожу, у меня сильные руки, и так как я довольно толстый — я мало двигаюсь и люблю поесть, — я держусь на воде, как пробка. Кстати, мой племянник вообще не умел плавать.
Калигула был очень удивлен, когда несколько минут спустя увидел, что я ковыляю по дороге, и громко захохотал над моим видом — я весь перепачкался в вонючей тине.
— Где ты был, дорогой Вулкан? — крикнул он.
Ответ был у меня наготове:
— То громовержец
…меня, побужденного сердцем на помощь, Ринул, за ногу схватив, и низвергнул с небесного прага: Несся стремглав я весь день и с закатом блестящего солнца Пал на божественный Лемнос, едва сохранивший дыханье. Там синтийские мужи меня дружелюбно прияли, — [136]под «Лемносом» понимай «Лион», — сказал я.
Калигула сидел на парапете, а перед ним лежали ничком в ряд остальные трое членов нашей делегации. Ноги Калигулы стояли на шеях двух из них, а кончик меча упирался в спину третьего — мужа Лесбии, который с рыданиями молил о пощаде.
— Клавдий, — простонал он, услышав мой голос. — Уговори императора нас отпустить, мы явились лишь принести ему наши поздравления.
— Мне нужны повозки, а не поздравления, — сказал Калигула.
Казалось, Гомер написал отрывок, из которого я перед этим уже процитировал несколько строк, специально для этого случая. Я сказал мужу Лесбии:
— «…Претерпи и снеси, как ни горестно сердцу!» Я же молю тебя только
…не дай на себе ты увидеть Зевса ударов; бессилен я буду, хотя и крушася, Помощь подать: тяжело Олимпийцу противиться Зевсу![137]Калигула был в восторге. Он спросил экс-консулов, моливших о пощаде:
— Во сколько вы цените свою жизнь? В пятьдесят тысяч золотых за каждого?
— Сколько ты скажешь, цезарь, — еле слышно отвечали они.
— Тогда выплатите эту сумму бедному Клавдию, как только вернетесь в Рим. Его хорошо подвешенный язык спас вам жизнь.
После этого он разрешил им подняться и заставил, не сходя с места, подписать обязательство о выплате мне в трехмесячный срок ста пятидесяти тысяч золотых.
Я сказал Калигуле:
— Всемилостивейший цезарь, ты нуждаешься в деньгах больше, чем я. Ты не откажешься принять от меня сто тысяч золотых, когда я их получу, в знак благодарности за мое собственное спасение? Если ты соизволишь принять дар, у меня еще останутся пятьдесят тысяч, и я смогу расплатиться с тобой, внеся полностью вступительный взнос. Меня очень беспокоит этот долг.
Калигула сказал:
— Как тебе будет угодно, лишь бы ты обрел спокойствие духа, — и назвал меня своей «золотой монеткой».
Так что Гомер выручил меня. Но несколько дней спустя Калигула предупредил, чтобы я больше не цитировал Гомера:
— Этого автора сильно переоценили. Я собираюсь изъять его книги и сжечь их. Почему бы мне не осуществить на практике рекомендации Платона? Ты помнишь его «Государство»? Его доводы весьма убедительны. Платон считал, что поэтов вообще нельзя пускать в его идеальное государство, так как, говорил он, все они лгут.[138] И он совершенно прав.
Я спросил:
— Собираешься ли ты, о божественный цезарь, сжечь стихи других поэтов, кроме Гомера?
— Непременно. Всех, кого слишком высоко оценили. Для начала — Вергилия. Он очень скучен. Хочет быть Гомером, но у него это не получается.
— А историков?
— Да. Ливия. Еще скучнее. Хочет быть Вергилием, но у него это не выходит.
Глава XXXII
Калигула потребовал дать ему результаты последнего официального имущественного ценза и, изучив его, вызвал в Лион самых богатых людей Франции, чтобы обеспечить хорошие цены, когда из Рима прибудет дворцовое добро. Перед началом аукциона он произнес речь. Калигула сказал, что он — несчастный банкрот, обремененный огромной задолженностью, но он надеется, что ради блага империи его дорогие друзья из провинции и благодарные союзники примут в расчет его трудное финансовое положение. Он просит их предлагать настоящую цену за фамильные вещи, которые он, к своему прискорбию, вынужден продать с торгов.
Мало того, что Калигула выучил все обычные трюки аукционистов, он придумал еще немало новых фокусов, куда более хитрых, чем те, что были доступны простым рыночным торговцам, у которых он заимствовал свой жаргон. Например, он продавал один и тот же предмет нескольким покупателям, каждый раз по-иному расписывая его историю и достоинства. Под «настоящей» ценой Калигула понимал «диктуемую чувством» цену, которая всегда оказывалась в сто раз больше, чем действительная. Он говорил, к примеру: «Это было любимое кресло моего прадедушки Марка Антония», или: «Божественный Август пил на своей свадьбе из этой чаши», или: «В этом платье моя сестра, богиня Пантея, была на приеме, данном царю Ироду Агриппе в ознаменование его освобождения из тюрьмы…» и так далее.[139] И он продавал «кота в мешке», как он это называл, — небольшие предметы, завернутые в материю. Когда Калигуле удавалось обманом всучить кому-нибудь за две тысячи золотых старую сандалию или кусок черствого сыра, он был невероятно доволен собой.
Аукцион всегда начинался с резервированной цены; Калигула кивал кому-нибудь из богатых французов и говорил: «Ты, кажется, предложил за этот алебастровый ларец сорок тысяч? Благодарю. Но посмотрим, нельзя ли получить за него больше. Кто скажет сорок пять тысяч?» Сами понимаете, что страх подгонял покупателей. Калигула ободрал всех, кто там собрался, до нитки и, чтобы отметить это, устроил великолепный десятидневный праздник.
Затем Калигула направил свой путь в рейнские провинции. Он заявил, что намерен объявить германцам войну, которая кончится их поголовным истреблением. Его священный долг — завершить дело, начатое дедом и отцом. Калигула послал за Рейн два полка, чтобы установить местонахождение ближайшего противника. Было взято около тысячи пленных. Калигула осмотрел их и, отобрав триста крепких юношей для своей охраны, выстроил остальных в один ряд у скалы. На обоих концах оказалось по лысому человеку. Калигула отдал Кассию приказ: «Убей их всех — от одного лысого до другого — в отмщение за смерть Вара». Известие об этой бойне достигло германцев, и они ушли в свои непроходимые леса. Когда Калигула вместе со своей армией переправился на другой берег, он никого там не обнаружил. В первый же день похода Калигула, чтобы развлечься, отправил несколько германских телохранителей в соседний лес, и к ужину те принесли известие, что «враг» совсем близко. Калигула ринулся в атаку во главе «разведчиков» и эскадрона гвардейской кавалерии. Он привел обратно захваченных жителей, заковав их в цепи, и объявил, что им одержана сокрушительная победа над превосходящими силами противника и взято много пленных. Калигула наградил своих товарищей по оружию новым военным орденом «Зоркий глаз», представлявшим собой золотой обруч, украшенный солнцем, луной и звездами из драгоценных камней.
На третий день похода дорога подошла к узкому ущелью. Армии пришлось построиться в колонну. Кассий сказал Калигуле:
— Вот в почти таком же месте, цезарь. Вар попал в засаду. Мне не забыть этого до самой смерти. Я шел во главе своей роты, и только мы достигли поворота дороги, вроде того, к которому мы сейчас подходим, как вдруг из-за группы елей, вон как та, впереди, раздался оглушительный боевой клич, и на нас со свистом обрушились три или четыре сотни ассагаев…
— Мою кобылу, быстро! — в панике вскричал Калигула. — Расступись!
Он спрыгнул с носилок, вскочил на Пенелопу (Инцитат оставался в Риме для участия в гонках) и помчался галопом обратно, к концу колонны. Через четыре часа он снова был у Рейна, но мост оказался забит повозками, а Калигула так стремился поскорее попасть на другую сторону реки, что он сошел с лошади, сел в кресло и велел солдатам передавать себя с рук на руки от повозки к повозке, пока не очутился в безопасности на противоположном берегу. Он тут же велел армии повернуть назад, объявив, что противник слишком труслив, чтобы принять бой, и поэтому он будет искать новых побед в ином месте. Когда армия вновь собралась в Кельне, Калигула пошел маршем вниз по Рейну, затем пересек его и направился к Булони, расположенной ближе всех остальных портов к Британским островам. Случилось так, что сын Кинобелина, короля Британии, поссорился в это время с отцом и, услышав о приближении Калигулы, покинул страну, переправился через пролив с несколькими сторонниками и отдал себя под защиту Рима. Калигула, уже сообщивший сенату о полном покорении Германии, теперь написал, что царь Кинобелин прислал к нему сына в знак признания владычества Рима над всем Британским архипелагом — от островов Силли до Оркнейских островов.
От начала до конца этой экспедиции я находился при Калигуле; нелегкое это было дело — ублажать его. Он жаловался на бессонницу и говорил, что его враг Нептун донимает его постоянным шумом волн в ушах, а ночью является ему и грозит трезубцем. Я сказал:
— Нептун? Я бы на твоем месте не позволил этому нахалу себя запугать. Почему ты не накажешь его, как наказал германцев? Ты ведь, если память мне не изменяет, однажды уже обещал ему это сделать, если он и впредь будет издеваться над тобой. Сколько можно проявлять снисхождение? Это большая ошибка.
Калигула посмотрел на меня, тревожно прищурив глаза.
— Ты думаешь, я безумен? — спросил он, помолчав.
Я боязливо рассмеялся.
— Безумен, цезарь? Ты спрашиваешь, считаю ли я тебя безумным? Да ты образец здравомыслия для всего обитаемого мира.
— Знаешь, Клавдий, — сказал он доверительно, — очень трудно быть богом в людском обличье. Я часто думаю, уж не схожу ли я с ума. Говорят, в таких случаях хорошо помогает чемерица из Антикиры. Как ты считаешь?
Я сказал:
— Один из величайших греческих философов, но я сейчас не могу припомнить, кто именно, пользовался чемерицей, чтобы его ясный разум стал еще ясней. Но если ты спрашиваешь моего совета, я скажу: «Не надо тебе никакой чемерицы. Твое сознание ясно, как горное озеро».
— Да, — сказал он, — но я хотел бы спать больше трех часов в ночь.
— Ты и три часа спишь из-за своего людского обличия, — сказал я. — Боги вообще не спят.
Калигула успокоился и на следующий день стянул всю армию на побережье для битвы с Нептуном; впереди стояли лучники и пращники, затем германцы из вспомогательных войск с ассагаями и наконец, позади всех, французы. Кавалерия была на флангах; на песчаных дюнах расположились осадные орудия, баллисты и катапульты. Никто и понятия не имел, что будет дальше. Калигула въехал верхом на Пенелопе в море, пока вода не дошла ей до колен, и закричал:
— Нептун, старинный враг мой, защищайся! Вызываю тебя на смертный бой. Ты вероломно погубил флот моего отца, не так ли? Испробуй свою мощь на мне, если осмелишься.
И прочитал строку из Гомера, ту, где Аякс борется с Улиссом:
— «Ты подымай, или я подыму; А решит Олимпиец!»[140]
На берег накатилась большая волна. Калигула презрительно рассмеялся и пронзил ее мечом. Потом спокойно вернулся на берег и велел трубить сигнал наступления. Лучники выпустили стрелы, пращники метнули камни, копьеносцы — дротики и копья, пехотинцы вошли в воду до подмышек и принялись рубить волны, кавалеристы кинулись в море с флангов и проплыли несколько шагов, размахивая саблями, баллисты извергали каменные ядра, а катапульты — огромные дротики и бревна с железными наконечниками. Затем Калигула сел на военный корабль, велел бросить якорь там, куда не долетали ядра, и принялся выкрикивать нелепые угрозы по адресу Нептуна и плевать за борт. Нептун не сделал никаких попыток защитить себя или ответить, если не считать того, что одного солдата ущипнул омар, а другого обожгла медуза.
Наконец Калигула приказал трубить отбой и велел солдатам вытереть кровь с мечей и собрать трофеи. Трофеями были морские ракушки на берегу. Каждый солдат должен был набрать их полный шлем и высыпать в общую кучу. Затем ракушки рассортировали, запаковали в ящики и отправили в Рим как доказательство его неслыханной победы. Солдаты сочли все это превосходной забавой, а когда Калигула к тому же выдал в награду по четыре золотых на человека, они приветствовали его оглушительными криками. В знак победы Калигула также выстроил очень высокий маяк наподобие знаменитого александрийского маяка, что оказалось великим благом для моряков в этих опасных водах.
Затем Калигула повел все войско обратно вверх по Рейну. Когда мы подошли к Бонну, он отозвал меня в сторону и хмуро шепнул:
— Полки так и не были наказаны за оскорбление, которое они мне нанесли, взбунтовавшись против отца, когда меня не было в лагере. Ты помнишь, мне пришлось вернуться и навести здесь порядок?
— Прекрасно помню, — ответил я. — Но ведь это было так давно. Прошло двадцать шесть лет; вряд ли успело много солдат из тех, кто служил тогда. Ты и Кассий Херея, пожалуй, единственные ветераны, оставшиеся в живых после того ужасного дня.
— Тогда я казню лишь каждого десятого, — сказал Калигула.
Солдатам Первого и Двадцатого полков было приказано собраться в одном месте, причем разрешено из-за жаркой погоды оставить оружие в палатках. Гвардейской кавалерии также приказали явиться туда и взять с собой не только сабли, но и пики. Я заметил сержанта, который, судя по возрасту и количеству шрамов, вполне мог быть участником битвы при Филиппах. Я спросил:
— Сержант, ты знаешь меня?
— Нет, прошу прощения, не знаю. Похоже, что ты — экс-консул.
— Я — брат Германика.
— Право? Никогда не знал, что у него есть брат.
— Да, я не военный и вообще не очень важная персона. Но я хочу сказать вам, солдатам, одну важную вещь. Держите при себе мечи, когда пойдете днем на сбор.
— Почему, если мне будет позволено спросить?
— Потому что они вам могут пригодиться. Вдруг нападут германцы? Вдруг еще кто-нибудь…
Он пристально на меня посмотрел и увидел, что я не шучу.
— Большое спасибо, я передам всем твои слова.
Пехотинцев собрали вместе перед трибуналом, и Калигула, грозно нахмурясь, топая ногой и размахивая руками, обратился к ним с речью. Он начал с того, что напомнил им о некоей ночи ранней осенью много-много лет назад, когда небо было затянуто тучами… Здесь некоторые солдаты стали украдкой проскальзывать прочь через проход, оставшийся между двумя эскадронами кавалерии. Они отправились за оружием. Другие, не таясь, вытащили спрятанные под плащами мечи. Калигула, должно быть, это заметил, так как внезапно переменил тон прямо посреди фразы и принялся проводить сравнение между теми тяжелыми, к счастью забытыми, временами и теперешним славным, изобильным и победоносным правлением.
— Ваш маленький дружок стал мужчиной, — сказал он, — и могущественнейшим императором на свете. — Даже самый свирепый враг не осмеливается бросать вызов его непобедимым войскам.
Тут выскочил вперед мой старый сержант.
— Все пропало, цезарь! — вскричал он. — Противник пересек реку у Кельна — триста тысяч человек. Они отправились грабить Лион… а затем они перейдут через Альпы и разграбят Рим.
Никто не поверил этой бессмысленной истории, кроме Калигулы. Он позеленел от страха, спрыгнул с трибунала, схватил поводья, плюхнулся в седло и с быстротой молнии исчез из лагеря. Следом за ним помчал грум, и Калигула, обернувшись, крикнул ему:
— Слава богам, что у меня есть Египет! Там мне ничто не грозит. Германцы — плохие моряки.
Как все смеялись! Но вдогонку за Калигулой поскакал один из полковников и довольно скоро его нагнал. Он заверил императора, что опасность преувеличена. Реку пересек, сказал он, лишь небольшой отряд, да и его отбросили назад; наш берег полностью очищен от врага. Калигула остановился в ближайшем городе и отправил в сенат письмо, сообщая, что все его походы увенчались победой и он со своим славным войском возвращается в Рим. Калигула сурово упрекал остававшихся дома трусов за то, что они, судя по всему, продолжали вести обычный образ жизни — театры, бани, пиры, — в то время как он подвергался жесточайшим невзгодам, ел, пил и спал, как обыкновенный рядовой.
Сенаторы не знали, как его умилостивить, ведь Калигула строго-настрого запретил сенату оказывать ему какие-либо почести по собственному почину. Они все же отрядили к нему посланцев с поздравлениями по поводу его блистательных побед и мольбами поспешить обратно в Рим, где его так недостает. Калигула страшно рассердился на то, что ему не назначили триумфа, даже вопреки его приказаниям, и на то, что в послании сената его называли не Юпитер, а всего лишь — император Гай Цезарь. Он похлопал по рукояти меча и вскричал: «Поспешить обратно? Само собой, поспешу, и вот с этим в руках!»
Калигула начал приготовления к тройному триумфу — в честь победы над Германией, над Британией и над Нептуном. В качестве британских пленных он мог воспользоваться сыном Кинобеллина и его сторонниками, к которым он прибавил команды нескольких британских торговых судов, задержанных в Булони. Германские пленники у него были — целых триста человек настоящих и самые высокие французы, каких он сумел найти, в белокурых париках и германском платье, болтающие между собой на тарабарском, якобы германском, языке. Но, как я уже говорил, сенаторы боялись назначить ему официальный триумф, поэтому ему пришлось довольствоваться неофициальным. Калигула въехал в город в том же облачении, в каком скакал через залив в Байи, и только заступничество Цезонии, которая была разумной женщиной, спасло сенаторов от гибели. Калигула наградил римлян за их прошлые щедрые пожертвования, осыпая их с крыши дворца градом серебряных и золотых монет; но он прибавил к ним раскаленные железные диски, чтобы напомнить гражданам Рима, что император не простил их за беспорядки в амфитеатре. Солдатам было сказано, что они могут сколько угодно шуметь и бесчинствовать, и сколько влезет пить за общественным счет. Они не только воспользовались этим разрешением, но разграбили множество лавок и сожгли дотла квартал проституток. Порядок не могли восстановить целых десять дней.
Это произошло в сентябре. Все то время, что Калигула отсутствовал, на Палатинском холме между храмом Кастора и Поллукса и дворцом Калигулы поспешно возводили новый храм, доходивший до самой рыночной площади. Приехав, Калигула превратил храм Кастора и Поллукса в вестибюль к новому храму, велев проделать проход между статуями богов. «Божественные близнецы — мои привратники», — хвастливо говорил он. Затем Калигула отправил письмо губернатору Греции с приказом изъять из храмов и отослать в Рим все самые известные статуи богов. Он намеревался отсечь им головы и заменить их скульптурными изображениями собственной головы. Больше всего Калигула жаждал заполучить колоссальную статую Юпитера Олимпийского. Он велел построить специальный корабль для ее перевозки. Но перед самым спуском на воду в корабль попала молния. Во всяком случае, такова была официальная версия — я думаю, что на самом деле суеверная команда сама сожгла корабль. Тут Юпитер Капитолийский раскаялся в своей ссоре с Калигулой (так Калигула нам сказал) и умолял его вернуться и жить рядом с ним. Калигула ответил ему, что новый храм уже практически закончен, но, поскольку Юпитер так смиренно просит у него прощения, он пойдет на компромисс — построит мост над долиной и соединит два холма. И он сделал это; мост проходил над самой крышей храма, посвященного Августу.
Калигула был публично признан Юпитером. Он был не только Латинский Юпитер, но и Юпитер Олимпийский, мало того, он воплощал в себе всех остальных богов и даже богинь, которых он обезглавил и наградил своей головой. Иногда он был Аполлоном, иногда Меркурием, а иногда Плутоном; в каждом отдельном случае он носил соответствующий наряд и требовал соответствующих жертвоприношений. Я видел, как он расхаживал, изображая Венеру, в длинном газовом одеянии, рыжем парике, туфлях на высоком каблуке, с накладным бюстом и размалеванным лицом. Он выступал в качестве Доброй Богини на ее ежегодном декабрьском празднике; стыд и срам. Его любимцем также был Марс, но чаще всего Калигула оставался Юпитером; он ходил тогда в масличном венке и ярко-голубом шелковом плаще, нацепив бороду из тончайшей золотой проволоки, держа в руке кусок янтаря с зазубренными краями, который изображал молнию. Однажды в таком наряде он произнес речь с ораторского амвона на рыночной площади.
— Я намереваюсь в скором времени, — сказал он, — построить для себя город на вершине Альп. Мы, боги, предпочитаем горные вершины душным речным долинам. Я смогу обозревать оттуда всю свою империю — Францию, Италию, Швейцарию, Тироль и Германию. Если я увижу, что где-нибудь внизу готовится заговор, я пошлю всем в предупреждение раскат грома, вот так! (Он грозно зарычал.) Если на это не обратят внимания, я поражу предателя молнией, вот так! (Он метнул кусок янтаря в толпу. Тот ударился о статую и отскочил, не причинив никому вреда.)
Находившийся в толпе чужеземец, сапожник из Марселя, приехавший осматривать достопримечательности Рима, разразился смехом. Калигула велел его схватить и привести к ораторскому амвону. Наклонившись к нему и грозно нахмурясь, он спросил:
— Кто я, по-твоему?
— Пустозвон, — сказал сапожник.
Калигула не поверил своим ушам.
— Пустозвон? — переспросил он. — Я- пустозвон?
— Да, — сказал француз. — Я всего лишь бедный французский сапожник, и я первый раз в Риме, но ничего другого я сказать не могу. Если бы кто-нибудь у меня дома говорил то, что говоришь ты, его назвали бы пустозвоном.
Калигула подхватил его смех.
— Бедный дурачок, — сказал он. — Конечно, назвали бы. Но ведь это говорю я!
Все расхохотались, как безумные, но над кем они смеялись, над Калигулой или сапожником, было неясно. Вскоре после этого Калигула соорудил «небесную» машину. Он поджигал фитиль, раздавался раскат «грома», вспыхивала «молния», и из машины летели камни в ту сторону, куда он ее направлял. Но я знаю из достоверных источников, что, когда ночью гремел настоящий гром, Калигула прятался под кровать. Насчет этого есть одна забавная история. Однажды, когда он шествовал по улицам в обличий Венеры, началась гроза. Калигула принялся кричать: «Отец, отец, пощади свою красавицу дочь!»
Деньги, которые он привез из Франции, скоро кончились, но Калигула изобрел новые способы увеличить свой доход. Его излюбленным приемом было обследовать в судебном порядке завещания людей, не оставивших ему ничего в наследство. Он доводил до сведения суда о всех благодеяниях, оказанных им завещателям, и заявлял, что то ли они забыли про благодарность, то ли, когда писали завещание, не были в здравом уме; он предпочитает думать последнее. Затем он аннулировал завещание и назначал себя основным наследником. Он обычно приходил в суд рано утром и писал на доске сумму, которую намеревался получить в тот день, чаще всего двести тысяч золотых. Когда он ее получал, он закрывал судебное заседание. Однажды утром Калигула издал новый эдикт о часах торговли различных лавок. Он велел начертать его крошечными буквами на небольшом листке и прибить выше человеческого роста на колонне посреди рыночной площади, где никто не потрудился его прочитать, не догадываясь, как он важен. В тот же день были переписаны имена нескольких сот торговцев, невольно нарушивших эдикт. Когда началось судебное разбирательство. Калигула разрешил тем, кто был в состоянии это сделать подать суду просьбу, чтобы им позволили ради смягчения приговора назначить его сонаследником совместно с собственными детьми. Мало кто смог этим воспользоваться. Теперь зажиточные люди, как правило, уведомляли императорского казначея, что Калигула назначается их основным наследником. Но и тут они просчитались. Калигула стал пользоваться ларцом с лекарствами, полученным в наследство от бабки Ливии, и как-то раз отправил в подарок тем, кто недавно включил его в свое завещание, корзинки с засахаренными фруктами. Завещатели скоропостижно умерли, все до одного. Калигула также вызвал в Рим моего родича, царя Марокко, и убил его, сказав без околичностей: «Мне нужно твое состояние, Птоломей».
Во время отсутствия императора в Риме осудили сравнительно мало людей, тюрьмы пустовали, а значит, не хватало жертв для диких зверей. Калигула возместил эту нехватку за счет зрителей, причем сперва им отрезали язык, чтобы они не могли позвать на помощь друзей. У Калигулы становилось все больше причуд. Как-то раз жрец должен был принести ему в жертву молодого бычка — в тот день Калигула выступал в роли Аполлона. Обычная процедура заключалась в том, что прислужник оглушал животное ударом каменного топора по лбу, а жрец перерезал ему горло. Калигула вошел в храм, переодетый прислужником, и задал положенный по ритуалу вопрос: «Можно?» Когда жрец ответил: «Бей», — Калигула опустил топор и размозжил ему голову.
Я все еще жил в бедности с Кальпурнией и Брисеидой. и, хотя долгов у меня не было, денег не было тоже, не считая небольшого дохода с поместья. Я не забывал показывать Калигуле, как я беден, и он милостиво разрешил мне оставаться в сословии сенаторов, хотя я больше не имел на это права по своему имущественному положению. Но я чувствовал себя с каждым днем все менее прочно. Однажды в октябре в полночь меня разбудил оглушительный стук в парадную дверь. Я высунул голову в окно спальни.
— Кто там? — спросил я.
— Тебя немедленно требуют во дворец.
Я сказал:
— Это ты, Кассий Херея? Ты не знаешь, меня убьют?
— Мне приказано немедленно привести тебя к нему.
Кальпурния заплакала, Брисеида тоже, и обе нежно расцеловали меня на прощание. В то время как они помогали мне одеться, я поспешно говорил им, как распорядиться оставшимся у меня небольшим имуществом, что делать с маленькой Антонией, как устроить похороны и так далее. Это была очень трогательная сцена, но я не осмеливался ее затягивать. Скоро я уже хромал рядом с Кассием по пути во дворец. Кассий сказал угрюмо: «Вместе с тобой вызвали еще двух экс-консулов». Он назвал мне их имена, и я перепугался еще больше. Это были богатые люди, как раз из тех, кого Калигула обычно обвинял в заговоре против себя. Но при чем тут я? Я пришел во дворец первым. Двое остальных прибежали почти сразу за мной, задыхаясь от спешки и страха. Нас провели в зал суда и велели сесть на похожем на эшафот помосте напротив трибунала. За нами, переговариваясь вполголоса на своем языке, стояла стража из германских солдат. Комната была погружена во мрак, если не считать две небольшие масляные лампы на трибунале. Окна позади, как я заметил, были завешены черными занавесями, вышитыми серебряными звездами. Мы молча пожали друг другу руки. В прошлом я много натерпелся от этих людей, но кто вспоминает о таких мелочах, когда у порога стоит смерть? Так мы просидели в ожидании до самого рассвета.
Внезапно раздался звон цимбал и веселые звуки гобоев и скрипок. Из двери сбоку трибунала вышли гуськом рабы, каждый — с двумя светильниками, которые они поставили на столы у стен; и тут громкий голос евнуха запел известную песню «Когда ночные стражи…». Рабы удалились. Послышался звук шагов, и в комнату «впорхнула» высокая неуклюжая фигура в женской розовой тунике, с короной из искусственных роз на голове. Это был Калигула.
Розовоперстая богиня Отдернет ночи звездный полог…При этих словах Калигула раздвинул занавеси, и мы увидели первый проблеск рассвета: затем, когда евнух дошел до того места, где розовоперстая Заря тушит один за другим светильники, Калигула и это изобразил в своем танце. Пуф. Пуф. Пуф.
И где влюбленные таятся, Застыв в тенетах нежной страсти…Тут с ложа, которого мы не заметили, так как оно было в алькове, «богиня Заря» совлекла нагих девушку и мужчину и жестами показала, что им пора расставаться. Девушка была на редкость красива. Мужчина оказался евнухом, который пел. Они разошлись в разные стороны с горестным видом. Когда прозвучал последний куплет:
Заря, Богиня, всех ты краше, Ты поступью своею чудной Тревоги усмиряешь наши… —у меня хватило ума простереться на полу. Остальные поспешили последовать моему примеру. Калигула, сделав антраша, убежал со сцены, и вскоре нас позвали позавтракать с ним. Я сказал:
— О, бог богов! Никогда в жизни я не был свидетелем танца, который доставил бы мне такое же наслаждение. Мне не хватает слов, чтобы описать его прелесть.
Остальные присоединились ко мне и воскликнули:
— Какая жалость, что такое несравненное представление было дано перед такой крошечной аудиторией!
Калигула самодовольно сказал, что это была только репетиция. А представление он даст в одну из ближайших ночей в амфитеатре, собрав туда весь город. Я не совсем представлял, как он сможет повторить сцену с занавесями в огромном открытом амфитеатре, но благоразумно промолчал. Завтрак был очень вкусный, и старший экс-консул, сидевший на полу, попеременно ел пирог с дроздами и целовал ногу Калигулы. Я подумал о том, как обрадуются Кальпурния и Брисеида, когда я вернусь, и тут Калигула, бывший в прекрасном настроении, вдруг сказал:
— Хорошенькая девушка, не правда ли, Клавдий, старый греховодник?
— Очень хорошенькая, божественный.
— И до сих пор девственница, насколько мне известно. Ты не хочешь на ней жениться? Я не возражаю. Она мне было приглянулась, но, смешное дело, мне не нравятся незрелые женщины, да и зрелые тоже, если на то пошло, кроме Цезонии. Ты ее узнаешь?
— Нет, бог богов. Сказать по правде, я смотрел только на тебя.
— Она твоя родственница, Мессалина, дочь Барбата. Старый сводник даже слова не сказал, когда я попросил прислать ее ко мне. Какие они все трусы, Клавдий!
— Да, божественный бог.
— Ну и прекрасно, завтра я вас поженю. А сейчас я, пожалуй, отправлюсь в постель.
— Тысяча благодарностей. Прими мое глубочайшее почтение.
Калигула протянул мне для поцелуя другую ногу. Он исполнил свое обещание и на следующий день нас поженил. Он взял одну десятую приданого как плату за услугу, но в остальном вел себя достаточно пристойно. Кальпурния была в восторге, что я остался жив, и сделала вид, будто моя женитьба ее не трогает. Она сказала деловым тоном:
— Все хорошо, дорогой. Я вернусь в поместье, стану присматривать там за хозяйством. Ты не будешь скучать по мне с такой хорошенькой женой. А раз у тебя завелись деньги, тебе придется снова жить во дворце.
Я сказал, что жену мне навязали, и я буду очень, очень скучать по своей Кальпурнии. Но она отмахнулась от моих слов: Мессалина в два раза ее красивее, в три раза умней, да к тому же родовита и богата. Я уже в нее влюблен, сказала Кальпурния.
Я чувствовал себя неловко. Все эти четыре тяжких года Кальпурния была моим единственным настоящим другом. Чего только она не делала для меня! И все же она была права: я действительно влюбился в Мессалину, и Мессалина должна была стать моей женой. Для Кальпурнии больше не было места.
Уезжала она в слезах. Я тоже плакал. Я никогда не был увлечен ею, но я знал, что она — мой самый верный друг, и если я буду в ней нуждаться, всегда придет мне на помощь. Нет нужды говорить, что, получив приданое, я про нее не забыл.
Глава XXXIII
Мессалина была на редкость красивая девушка, стройная и проворная, с черными, как гагат, глазами и копной черных кудрявых волос. Она почти все время молчала и улыбалась загадочной улыбкой, сводившей меня с ума. Она была так рада ускользнуть от Калигулы и так быстро сообразила, какие преимущества принес ей наш брак, что держалась со мной очень нежно, и я вообразил, будто она любит меня не меньше, чем я ее. Впервые с детства я был по-настоящему влюблен, а когда не очень умный и не очень привлекательный мужчина пятидесяти лет влюбляется в очень привлекательную и очень умную пятнадцатилетнюю девушку, ничего хорошего его обычно не ждет. Поженились мы в октябре, в декабре она забеременела. Мессалина, по-видимому, привязалась к маленькой Антонии, которой шел тогда десятый год, и я вздохнул с облегчением: наконец-то у девочки появилась мать, которая к тому же по возрасту годилась ей в подруги и могла объяснить, как надо вести себя в обществе, и вывезти в свет, чего Кальпурния была сделать не в состоянии.
Нас с Мессалиной опять пригласили жить во дворце. Мы прибыли туда в неудачный момент. Купец по имени Басс расспрашивал начальника дворцовой стражи о привычках Калигулы — правда ли, что он бродит ночью по галереям, так как его мучит бессонница? В какое время это бывает? Какие галереи он предпочитает? Сколько телохранителей его сопровождает? Начальник стражи сообщил об этом Кассию, а Кассий — Калигуле. Басса арестовали и подвергли допросу. Он был вынужден признаться в намерении убить Калигулу, но даже под пытками утверждал, что у него нет пособников. Тогда Калигула послал за его стариком отцом, приказав явиться на казнь сына. Старик, не подозревавший о планах Басса и об его аресте, пришел в ужас, увидев на полу стонущего сына с переломанными костями. Но он взял себя в руки и поблагодарил Калигулу за то, что тот милостиво призвал его закрыть сыну глаза.
— Закрыть сыну глаза! Вот еще! Да у него сейчас и глаз не будет, у этого убийцы. Я выколю их. И твои тоже.
Отец Басса сказал:
— Пощади нашу жизнь, цезарь. Мы — только орудие в руках могущественных людей. Я назову тебе все имена.
Это заинтересовало Калигулу, а когда старик назвал в числе заговорщиков командующего гвардией, начальника германцев, Каллиста-казначея, Цезонию, Мнестера и еще три-четыре имени, он позеленел от страха.
— А кого они хотели сделать императором вместо меня? — спросил он.
— Твоего дядю Клавдия.
— Он тоже участвует в заговоре?
— Нет. Они просто хотели использовать его как подставное лицо.
Калигула поспешно вышел из комнаты и велел позвать к нему командующего гвардией, начальника германцев, казначея и меня. Он спросил, указывая на меня пальцем:
— Разве этот годится в императоры?
Все ответили удивленно:
— Нет, если ты сам так не скажешь. Юпитер.
Тогда Калигула улыбнулся жалостной улыбкой и воскликнул:
— Я — один, а вас трое. Двое из вас вооружены, а я безоружен. Если вы ненавидите меня и хотите убить, убивайте и объявите этого бедного идиота императором вместо меня.
Мы все упали перед ним ниц, и военные протянули ему с пола оружие, говоря:
— У нас этого и в мыслях не было, о повелитель! Разве мы предатели? Если не веришь, убей нас.
Представляете, он действительно готов был нас убить! Но пока он колебался, я сказал:
— О всемогущий, полковник, вызвавший меня сюда, сказал мне о том, какое обвинение выдвинул против этих преданных тебе людей отец Басса. То, что это ложь, видно само собой. Если бы Басс действовал по их наущению, зачем бы ему было расспрашивать о твоих привычках? Разве он не мог бы получить все необходимые сведения от них самих? Нет, просто отец Басса решил спасти жизнь сына и свою собственную жизнь грубой ложью.
По-видимому, мои доводы убедили Калигулу. Он протянул мне руку для поцелуя, велел нам всем троим встать и вернул владельцам мечи. Басс и его отец были разрублены германцами на куски. Но Калигула не мог избавиться от страха, что его убьют, и страх этот вскоре еще усугубился дурными предзнаменованиями. Сперва в сторожку привратника при дворце попала молния. Затем Инцитат, приглашенный как-то вечером на ужин, встал на дыбы, и у него слетела подкова, разбившая алебастровую чашу Юлия Цезаря и расплескавшая на пол вино. Самым зловещим было то, что произошло в Олимпии, когда по приказанию Калигулы храмовые прислужники стали разбирать статую Юпитера на части, чтобы перевезти ее в Рим.[141] Прежде всего должны были снять голову, чтобы она послужила меркой для головы Калигулы ей на смену. К потолку храма прикрепили блок, обвязали шею Юпитера веревкой и только собрались потянуть, как по всему храму прокатился громовой хохот. Прислужники в панике бросились бежать. Никого достаточно смелого, чтобы занять их место, найти не удалось.
Поскольку «неколебимая твердость» Калигулы заставила всех трепетать при одном упоминании его имени, Цезония посоветовала ему проявлять больше снисходительности, чтобы римский народ любил, а не боялся его. Она понимала, настолько опасно его положение, а ведь если с ним что-нибудь случится, она тоже лишится жизни, разве что станет известно, какие она прилагала старания, чтобы смягчить жестокость императора. Калигула же вел себя на редкость безрассудно. Он отправился по очереди к командующему гвардией, казначею и начальнику германцев и доверительно сказал каждому из них: «Тебе я верю, но остальные замышляют заговор против меня, считай их моими смертельными врагами». Те сообщили об этом друг другу, и когда действительно был организован заговор, они закрыли на это глаза. Калигула сказал, что он считает правильным совет Цезонии и благодарит за него, он, несомненно, последует ему, когда помирится со своими недругами. Он созвал сенат и обратился к нам в следующем тоне: «Скоро, мои враги, я дам вам всем амнистию и буду царствовать с любовью и миром тысячу лет. Таково предсказание. Но прежде чем наступит золотая эра, по полу этого здания покатятся головы и кровь фонтаном будет бить в потолок. Вас ждут безумные пять минут». Мы бы предпочли, чтобы сначала настала золотая эра, а уж потом — «безумные пять минут».
Организовал заговор Кассий Херея. Он был солдат старой школы, привыкший слепо повиноваться приказам старших по званию. Дело должно было дойти до крайности, чтобы человек такого склада подумал о заговоре против своего главнокомандующего, которому он торжественно присягал на верность. Калигула безобразно обошелся с Кассием. Он твердо обещал ему пост командующего гвардией, а затем без всяких объяснений отдал его офицеру, совсем недолго служившему в армии и не имевшему никаких заслуг, в награду за то, что тот отличился во время попойки во дворце: вызвался осушить огромный кувшин вина, не отнимая его от губ, и сделал это — я не спускал глаз, — мало того, не изверг вино обратно. Кроме того, Калигула назначил его сенатором. Кассию поручались самые неприятные дела — сбор налогов, которые на самом деле не подлежали выплате, конфискация собственности за несовершенные преступления, казнь невинных людей. И, наконец, Калигула заставил его подвергнуть пытке прекрасную, к тому же высокорожденную, девушку по имени Квинтилия. История была такова. К Квинтилии сваталось несколько молодых людей, но тот, кого прочил ей в мужья ее опекун, совсем ей не нравился. Девушка умоляла опекуна разрешить ей выбрать себе мужа среди остальных, и он согласился. Был назначен день свадьбы. Отвергнутый претендент, один из «разведчиков», отправился к Калигуле и выдвинул против своего соперника обвинение, сказав, что тот богохульствовал, называя своего августейшего повелителя «лысая дама». В качестве свидетельницы он назвал Квинтилию. Девушку и ее нареченного привели к Калигуле. Оба отрицали свою вину. Обоих было приказано вздернуть на дыбу. Кассий не смог скрыть своего отвращения, так как по закону пытать можно было только рабов. Заметив это, Калигула велел ему самому, своими руками, поворачивать блок. Квинтилия не издала ни стона, не произнесла ни слова во время этого испытания, а после сказала Кассию, который не мог удержаться от слез:
— Бедный полковник, я не питаю к тебе зла. Порой очень тяжело повиноваться приказам.
Кассий ответил с горечью:
— Лучше бы я умер в тот день вместе с Варом в Тевтобургском лесу.
Квинтилию снова привели к Калигуле, и Кассий доложил, что она ни в чем не призналась и даже ни разу не застонала. Цезония сказала Калигуле:
— Это потому, что она любит этого человека. Любовь побеждает все. Можешь разрезать ее на части, она все равно его не выдаст.
Калигула спросил:
— А ты была бы ради меня такой же храброй?
— Сам знаешь, что да, — сказала Цезония.
Поэтому жениха Квинтилии не пытали: он получил помилование, а самой Квинтилии дали в счет приданого восемь тысяч золотых из имущества «разведчика», казненного за лжесвидетельство. Но Калигула прослышал про слезы Кассия во время пытки и стал дразнить его старым плаксой. И это было еще не самое худшее, что он говорил. Сделав вид, будто он верит, что Кассий — сентиментальный престарелый педераст, Калигула все время отпускал по его адресу грязные шуточки в присутствии других гвардейских офицеров, которые были вынуждены им смеяться. Каждый день в полдень Кассий являлся к Калигуле за паролем. Раньше тот говорил «Рим», или «Август», или «Юпитер», или «Победа», или что-нибудь в этом роде, но теперь, чтобы досадить Кассию, Калигула придумывал всякую чепуху, вроде «Сандалии», или «Щипцы для завивки», или «Поцелуй меня, сержант», или «Любовь, только любовь», и Кассий должен был передавать эти пароли остальным офицерам и терпеть их насмешки. Он решил убить Калигулу.
Калигула стал еще безумнее. Однажды он вошел ко мне в комнату и сказал без всяких предисловий:
— У меня будет три императорских города, но Рим в их число не войдет. Один в Альпах, другой — вместо Рима — в Антии, ведь я там родился, и он заслуживает этой чести, к тому же он расположен на море, а третьим станет Александрия, на случай, если германцы захватят два первых. Александрия — очень просвещенный город.
— Да, божественный, — смиренно ответил я.
И тут он вдруг вспомнил, что его назвали лысой дамой — у него на макушке действительно светилась лысина, — и закричал:
— Как ты смеешь находиться в моем присутствии с такой уродливой шапкой волос на голове? Это богохульство!
Он обернулся к германским телохранителям:
— Отрубите ему голову!
Я опять подумал, что моя песенка спета. Но у меня хватило присутствия духа резко сказать германцу, который устремился ко мне с мечом в руках:
— Что ты делаешь, идиот! Бог не говорил «отрубите», он сказал: «остригите». Беги за ножницами, да побыстрей.
Калигула опешил. Он, возможно, и правда подумал, что сказал «остригите». Он разрешил германцу принести ножницы, и меня остригли наголо. Я попросил разрешения Калигулы посвятить ему состриженные волосы, и он милостиво дал на это согласие.[142] После чего всем во дворце, за исключением германцев, велели остричься наголо. Когда очередь дошла до Кассия, Калигула сказал:
— Ах, какая жалость! Такие миленькие кудерки, и полковник так ими гордится!
В тот вечер Кассий встретил мужа Лесбии. Он был близким приятелем Ганимеда, и, судя по тому, что обронил в то утро Калигула, жить ему оставалось недолго. Муж Лесбии сказал:
— Добрый вечер, Кассий Херея, мой друг. Какой сегодня пароль?
Муж Лесбии ни разу еще не называл Кассия «мой друг», поэтому Кассий внимательно на него посмотрел.
Муж Лесбии — его звали Марк Виниций — снова сказал:
— Кассий, у нас много общего, и, когда я говорю «друг», я это и имею в виду. Какой сегодня пароль?
— «Кудерки», — ответил Кассий. — Но, мой друг Марк Виниций, если я действительно могу считать тебя своим другом, дай мне пароль «Свобода», и мой меч в твоем распоряжении.
Виниций обнял его.
— Мы не единственные, кто готов пустить в ход мечи ради свободы. Тигр тоже с нами.
«Тигр» — настоящее имя его было Корнелий Сабин — был гвардейский полковник, который обычно сменял Кассия, заступая вместо него на службу.
41 г. н. э.
На следующий день начались Палатинские игры. Этот праздник в честь Августа был учрежден Ливией в самом начале правления Тиберия и отмечался ежегодно в южном дворе старого дворца. Начинался он с жертвоприношений Августу и символической процессии, а затем в течение трех дней шли всякие увеселения: театральные спектакли, пение, танцы, выступления фокусников и тому подобное. Для зрителей воздвигались деревянные трибуны на шестьдесят тысяч мест. Когда праздник заканчивался, трибуны разбирали и прятали до следующего года. На этот раз Калигула продлил праздник с трех дней до восьми, перемежая представления гонками колесниц в цирке и потешными морскими боями на искусственном озере. Он хотел развлекаться до самого отъезда в Александрию, назначенного на двадцать пятое января. Калигула отправлялся в Египет, чтобы осмотреть достопримечательности, чтобы раздобыть денег при помощи своей «неколебимой твердости» и тех трюков, которые он пустил в ход во Франции, чтобы составить планы перестройки Александрии и, наконец, чтобы, как он хвастался, приделать новую голову Сфинксу.
Итак, праздник начался. Калигула совершил жертвоприношение Августу, но делал это довольно небрежно, с надменным видом, как хозяин, который из-за каких-то чрезвычайных обстоятельств вынужден прислуживать одному из своих рабов. Когда церемония окончилась, Калигула объявил, что, если у присутствующих здесь граждан есть к нему просьбы, которые в его власти выполнить, он окажет им эту милость. Последнее время Калигула был сердит на римлян за то, что они не проявили достаточного энтузиазма на устроенной им травле диких зверей, и наказал их тем, что закрыл на десять дней городские амбары с зерном; но, возможно, он уже их простил, так как в тот день разбрасывал с крыши дворца деньги. Поэтому со всех сторон раздались радостные крики: «Больше хлеба, меньше налогов, цезарь! Больше хлеба, меньше налогов!» Калигула пришел в ярость. Он послал вдоль скамей взвод германцев, и те снесли не меньше сотни голов. Этот случай обеспокоил заговорщиков; он напомнил им о жестокости германцев и их фанатической преданности Калигуле. К этому времени в Риме вряд ли оставался хоть один человек, который не мечтал бы о смерти императора и не отправил бы его с радостью, как говорится, к праотцам, но для своих телохранителей Калигула был самый великий герой на свете. И если он наряжался в женское платье, или, пустившись в галоп, покидал на марше армию, или заставлял Цезонию раздеваться донага и похвалялся перед ними ее красотой, или сжигал свою самую красивую виллу в Геркулануме на том основании, что там два дня прожила пленницей его мать на пути в изгнание на остров, где она затем умерла, — эти необъяснимые поступки лишь подтверждали его божественность и делали его еще более достойным поклонения. Германцы глубокомысленно кивали друг другу и говорили: «Да, все боги такие. Никогда нельзя сказать, что они сделают. Туискон и Манн у нас дома, на нашей дорогой и милой родине, такие же в точности».
Кассия не пугала опасность, ему было все равно, что случится с ним самим, лишь бы убить Калигулу, но остальные заговорщики, настроенные менее решительно, стали подумывать о мести германцев, которую они навлекут на себя, убив их героя. Они начали искать отговорки, и Кассий не мог заставить их принять определенный план действий. Они предлагали положиться на случай. Кассий встревожился. Он назвал их трусами и обвинил в том, что они стараются выиграть время. Он сказал, что на самом деле они хотят, чтобы Калигула уехал в Египет целым и невредимым. Наступил последний день праздника. Кассий с большим трудом уломал остальных заговорщиков согласиться на вполне осуществимый план, и тут Калигула вдруг объявил, что праздник будет продлен еще на три дня. Он сказал, что намерен играть и петь в пьесе, которую он сочинил для жителей Александрии, но считает несправедливым не показать ее сперва своим соотечественникам.
Это дало более трусливым заговорщикам новый предлог для проволочки.
— Но, Кассий, это совершенно меняет дело. Теперь все куда легче. Мы можем убить его в последний день праздника, когда он уйдет со сцены. Это куда удобнее. Или когда пойдет на нее. Что тебе больше нравится.
Кассий отвечал:
— Мы составили план и поклялись привести его в исполнение. Мы должны следовать ему, это очень хороший план. Без единого изъяна.
— Но у нас теперь предостаточно времени. Почему не подождать еще три дня?
Кассий сказал:
— Если вы не осуществите наш замысел сегодня, как поклялись, мне придется действовать в одиночку. У меня мало шансов справиться с германцами, но я сделаю, что смогу. Если они станут меня одолевать, я закричу: «Виниций, Аспренат, Бубон, Аквила, Тигр, почему вы не здесь, как вы мне клятвенно обещали?»
Поэтому им пришлось согласиться привести в исполнение первоначальный план. Виниций и Аспренат должны были уговорить Калигулу уйти в полдень из театра, чтобы искупаться в пруду и перекусить. Перед этим Кассий, Тигр и другие офицеры, участвовавшие в заговоре, должны были незаметно выскользнуть через служебный вход, обойти здание театра и подойти к крытой галерее, ведущей из театра прямо в новый дворец, а Аспренат и Виниций должны были убедить Калигулу воспользоваться этим коротким путем.
В тот день играли «Улисса и Цирцею», и Калигула обещал по окончании пьесы раздавать фрукты, пирожки и деньги. Естественно, он делал бы это со своего места возле ворот в театр, поэтому зрители стали собираться заранее, чтобы сесть к нему поближе. Когда открыли ворота, толпа наперегонки кинулась к крайним скамьям. Обычно женщины сидели вместе в одной части театра, отдельные сидения были отведены для всадников, сенаторов, знатных иностранцев и так далее. На этот раз все перемешалось. Я видел, как опоздавший сенатор был вынужден сесть между рабом-африканцем и женщиной с крашенными в шафрановый цвет волосами, в темном плаще, какие носят профессиональные проститутки. «Тем лучше, — сказал Кассий Тигру. — Чем большая здесь неразбериха, тем больше у нас шансов на успех».
Кроме германцев и самого Калигулы чуть не единственным человеком во дворце, кто ничего не слышал о заговоре, был бедный Клавдий. Произошло это потому, что бедного Клавдия тоже собирались убить, ведь он был дядей Калигулы. Вся семья Калигулы должна была быть убита. Заговорщики, по-видимому, боялись, что я объявлю себя императором и отомщу за смерть племянника. Они решили восстановить республику. Если бы только идиоты открылись мне, эта история имела бы совсем другой конец. Ведь я был более ревностным республиканцем, чем любой из них. Но они мне не доверяли и обрекли меня на смерть. Ну не жестоко ли это? Даже Калигула в некотором смысле больше знал о заговоре, чем я, так как получил из храма Фортуны Антийской предостережение: «Берегись Кассия».[143] Но он неправильно его понял, решив, что речь идет о первом муже Друзиллы — Кассии Лонгине, и вызвал его из Малой Азии, где тот был губернатором. Калигула подумал, что Лонгин затаил на него зло за убийство Друзиллы, к тому же вспомнил, что тот был потомком Кассия, который участвовал в убийстве Юлия Цезаря.
Я пришел в театр в восемь часов утра и обнаружил, что привратник уже занял для меня место между командующим гвардией и начальником германцев. Командующий перегнулся через меня и спросил:
— Ты слышал новость?
— Какую? — сказал начальник германцев.
— Сегодня играют новую трагедию.
— Как она называется?
— «Смерть тирана».
Начальник германцев кинул на него быстрый взгляд и, нахмурясь, произнес:
Молчи, товарищ мой, Иначе грек услышит нас с тобой.Я сказал:
— Да, программу изменили. Мнестер покажет нам «Смерть тирана». Ее не играли много лет.[144] Это про царя Кинира, который не захотел вступить в войну с Троей и был убит за свою трусость.
Представление началось; Мнестер был в великолепной форме. Когда он умирал на руках у Аполлона, он забрызгал всю сцену «кровью» из небольшого пузыря, спрятанного у него во рту. Калигула послал за ним и расцеловал в обе щеки. Кассий и Тигр проводили Мнестера в актерскую уборную, словно для того, чтобы защитить от назойливых поклонников. Затем вышли через служебный вход. Остальные заговорщики, воспользовавшись суматохой во время раздачи денег, — следом за ними. Аспренат сказал
— Это было изумительно. А теперь как насчет купанья и легкого завтрака?
— Нет, — сказал Калигула, — я хочу посмотреть акробаток. Говорят, они очень хороши. Думаю, что я досижу до конца. Это последний день.
Он был в чрезвычайно благодушном настроении.
Виниций поднялся. Он хотел предупредить Кассия, Тигра и остальных, чтобы они не ждали. Калигула потянул его за плащ.
— Не убегай, приятель. Ты должен посмотреть этих девушек. Одна исполняет танец, который называется «танец рыбы»; когда на нее смотришь, кажется, будто ты сам глубоко-глубоко под водой.
Виниций сел и полюбовался танцем рыбы. Но сперва ему пришлось посмотреть от начала до конца небольшую мелодраму под названием «Лавреол, или Главарь разбойников», где убийство шло за убийством.[145] Актеры — не из лучших — раздобыли, в подражание Мнестеру, пузыри с краской. Вы не представляете, какое море «крови» они вылили на сцену! Когда танец рыбы окончился, Виниций снова поднялся.
— Сказать по правде, божественный, я бы и рад был остаться, но меня призывает Очистительница.[146] Видно, я съел какую-то гадость.
Пусть плавно выйдут эти подношенья — Не слишком быстро, но без промедленья.Калигула рассмеялся:
— Только не вини в этом меня, дорогой. Ты — один из моих лучших друзей. Я ни за что на свете не стал бы приправлять твою еду.
Виниций вышел через служебный вход и подошел к Кассию и Тигру, ждавшим во дворе.
— Лучше вернитесь, — сказал он. — Он будет смотреть представление до конца.
Кассий сказал:
— Прекрасно. Давайте вернемся. Я готов убить его там, где он сидит. Надеюсь, вы меня поддержите.
В этот самый момент к Кассию подошел гвардеец и сказал:
— Мальчики наконец прибыли, полковник.
Дело в том, что некоторое время назад Калигула отправил письмо в греческие города Малой Азии, приказывая каждому из них прислать в Рим по десять высокорожденных мальчиков, чтобы они танцевали на празднике национальный танец с мечами и пели гимн в его честь. Это был только предлог, чтобы заполучить их в свои руки: они будут ценными заложниками, когда Калигула обратит свой гнев против Малой Азии. Мальчики должны были прибыть на несколько дней раньше, но на Адриатике штормило, и они задержались в Корфу. Тигр сказал:
— Немедленно сообщи это императору.
Гвардеец поспешил в театр.
А меня все сильней мучил голод. Я шепнул Вителлию, сидевшему позади:
— Неплохо было бы, если бы император вышел перекусить, и мы могли последовать его примеру.
Туг подошел гвардеец и сообщил о прибытии греческих мальчиков. Калигула сказал Аспренату:
— Великолепно. Они смогут выступить сегодня днем. Мне надо немедленно их увидеть и прорепетировать гимн. Пойдемте, друзья! Сперва репетиция, затем купанье, завтрак, а потом снова сюда.
Мы вышли. Калигула остановился у ворот, чтобы распорядиться насчет дневного представления. Я по крытой галерее пошел вперед с Вителлием, двумя военачальниками и сенатором по имени Сенций. У входа я заметил Кассия и Тигра. Они не поздоровались со мной, как с остальными, это показалось мне странным. Когда мы дошли до дворца, я сказал:
— Ну и голоден же я! Я слышу по запаху, что готовят оленину. Надеюсь, эта репетиция не затянется надолго.
Мы были в вестибюле пиршественного зала. «Странно, — подумал я, — ни одного капитана, здесь только сержанты». Я вопросительно обернулся к своим спутникам, но — еще одна странность — обнаружил, что все они исчезли. И тут вдалеке послышались крики и визг, затем снова крики. Я не мог понять, что происходит. Кто-то пробежал мимо окна, крикнув: «Все кончено! Он мертв!» Спустя две минуты от театра донесся ужасающий рев, словно там началась резня. Рев тянулся и тянулся, но вот он затих, а затем послышалось громовое «ура»! Я кое-как поднялся в свою библиотеку и, дрожа всем телом, рухнул на стул.
Бюсты Геродота, Полибия, Фукидида и Азиния Поллиона смотрели на меня со своих постаментов. Их бесстрастные черты словно говорили: «Настоящий историк должен быть выше политических смут своего времени». Я решил вести себя как настоящий историк.
Глава XXXIV
А произошло вот что. Калигула вышел из театра. Его ждали носилки, чтобы отнести в новый дворец кружным путем между двумя рядами гвардейцев. Но Виниций сказал:
— Давай пойдем напрямик. По-моему, греческие мальчики ждут там у входа.
— Хорошо, пошли, — согласился Калигула.
Кое-кто из зрителей хотел последовать за ним, но Аспренат отстал и оттеснил их обратно.
— Император не желает, чтобы его беспокоили, — сказал он, — убирайтесь! — и велел привратникам закрыть ворота.
Калигула подошел к крытой галерее. Навстречу ему вышел Кассий и спросил:
— Какой сегодня пароль, цезарь?
Калигула сказал:
— Что? А, да, пароль. Кассий. Я дам тебе прекрасный пароль: «Юбка старика».
Тигр спросил из-за спины Калигулы: «Можно?» — это был условный сигнал.
— Бей! — крикнул Кассий, выхватывая из ножен меч и изо всех сил ударяя Калигулу.
Он хотел рассечь ему череп до подбородка, но, ослепленный яростью, промахнулся и попал между шеей и грудью. Главный удар пришелся по ключице. Калигула пошатнулся от боли и изумления. Он в ужасе оглянулся по сторонам, затем повернулся и побежал. Однако Кассий успел еще раз ударить его и рассек ему челюсть. Затем Тигр повалил Калигулу на землю ударом по голове, но тот медленно поднялся на ноги.
— Бей снова! — закричал Кассий.
Калигула возвел глаза к небу, на лице его отразилась мука.
— О, Юпитер! — взмолился он.
— Изволь! — вскричал Тигр и отсек ему руку.
Последний удар острием меча в пах нанес капитан по имени Аквила, но и после этого еще десять мечей вонзились в грудь и живот Калигулы, чтобы не было сомнений в его конце. Капитан по имени Бубон погрузил руку в рану Калигулы на боку и облизал пальцы.
— Я поклялся, что буду пить его кровь! — крикнул он.
Собралась толпа, поднялась тревога: «Германцы! Идут германцы!» У убийц не было никаких шансов противостоять целому батальону германцев. Они кинулись в ближайшее здание; им оказался мой старый дом, временно взятый у меня Калигулой под жилье для иностранных послов, которых он не хотел селить во дворце. Заговорщики пошли в парадную дверь и выбежали через черный ход. Все, кроме Тигра и Аспрената. Тигр сделал вид, что он тут ни при чем, и присоединил свой голос к германцам, взывавшим о мщении. Аспренат вбежал в крытую галерею, где германцы схватили и убили его. Убили они также двух сенаторов, которые случайно попались им по пути. Но это был лишь небольшой отряд германцев. Весь остальной батальон вошел в театр и закрыл за собой ворота. Они намеревались отомстить за смерть своего героя, вырезав там всех до одного. Отсюда те крики и визг, которые я слышал. Никто из зрителей не знал, что Калигула убит; они даже не знали, что на его жизнь покушались. Но намерения германцев были достаточно ясны, так как они похлопывали и поглаживали свои ассагаи и разговаривали с ними, точно с живыми, как принято у них перед тем, как пустить в ход это ужасное оружие. Спасения не было. Вдруг со сцены раздался сигнал трубы «Внимание!», за которым прозвучали шесть нот, означающих «Императорский приказ». На сцену вышел Мнестер и поднял руку. И сразу же шум умолк — слышались лишь тихие рыдания и приглушенные стоны, — так как, согласно приказу Калигулы, всякий, кто осмеливался издать хоть звук, когда на сцене появлялся Мнестер, тут же подвергался смерти. Германцы тоже перестали похлопывать и поглаживать ассагаи и прекратили заклинания. Сигнал трубы превратил их в статуи.
Мнестер вскричал:
— Он не умер, граждане! Ничего подобного. Убийцы напали на него, и под их ударами он упал на колени. Вот так! Но тут же снова поднялся. Вот так! Мечи не могут одержать победу над нашим божественным цезарем. Раненый, окровавленный, он все же встал на ноги. Вот так! Он поднял свою августейшую голову и прошел божественным шагом — вот так! — сквозь ряды трусливых растерянных убийц. Его раны зажили, свершилось чудо! Сейчас он на рыночной площади обращается с горячей речью к своим подданным с ораторского амвона.
Раздалось громовое «ура!», германцы вложили мечи в ножны и вышли из театра. Своевременная ложь Мнестера (подсказанная ему, по правде говоря, Иродом Агриппой, царем иудеев, единственным человеком в Риме, кто не растерялся в тот роковой день) спасла шестьдесят тысяч жизней, а возможно, и больше.
Но во дворце к этому времени уже узнали, что в действительности произошло, и там начался переполох. Несколько старых солдат решили воспользоваться удобным случаем и стали рыскать по комнатам в поисках поживы, делая вид, будто разыскивают убийц. На всех дверях во дворце были золотые ручки, равные по стоимости солдатскому жалованию за полгода, которые легко было сбить ударом меча. Я услышал крики: «Убей их, убей их! Отомстим за цезаря!», — и спрятался за занавесями. В комнату пошли два солдата. Они заметили мои ноги.
— Выходи, убийца. От нас не спрячешься.
Я вышел и пал ниц.
— Н-не у-убивайте м-меня, г-господа, — сказал я. — Я ни-ни в ч-чем н-не в-виноват.
— Кто этот старикан? — спросил один из солдат, недавно переведенный во дворец. — У него совсем безобидный вид.
— Ты что, не знаешь? Это брат Германика, инвалид. Он — ничего. Совершенно безвредный. Поднимайся, друг. Мы тебя не тронем.
Имя этого солдата было Грат.
Они заставили меня спуститься вместе с ними в пиршественный зал, где сержанты и капралы держали военный совет. Молодой сержант стоял на столе, размахивая руками, и кричал:
— К черту республику! Наша единственная надежда — новый император. Любой император, лишь бы нам удалось убедить германцев его признать!
— Инцитат, например, — предложил кто-то и заржал.
— Да, клянусь богами! Лучше старая кляча, чем никто. Нам нужно немедленно найти кого-нибудь, чтобы успокоить германцев, не то они все тут разнесут.
Мои двое солдат протолкались через толпу, таща меня за собой.
— Эй, сержант! Посмотри, кто тут у нас! — крикнул Грат. — Нам, кажется, повезло. Это старый Клавдий. Чем не император? Лучшего человека на это место во всем Риме не сыщешь, хоть он и прихрамывает чуток и малость заикается.
Громкое «ура!», смех и крики:
— Да здравствует император Клавдий!
Сержант извинился:
— Прости, господин, мы думали, тебя нет на свете. Но ты нам подходишь по всем статьям. Поднимите его повыше, ребята, чтобы всем было видно.
Два дюжих капрала схватили меня за ноги и посадили себе на плечи.
— Да здравствует император Клавдий!
— Опустите меня! — в ярости закричал я. — Опустите меня! Я не хочу быть императором! Я отказываюсь быть императором! Да здравствует республика!
Но они только расхохотались:
— Надо же такое сказать! Не хочет быть императором, говорит! Стесняется!
— Дайте мне меч! — закричал я. — Я лучше покончу с собой!
К нам подбежала Мессалина.
— Соглашайся, Клавдий. Ради меня. Ради нашего ребенка. Нас всех убьют, если ты откажешься! Цезонию уже убили. А дочку ее схватили за ноги и размозжили голову о стену!
— Все будет хорошо, господин, когда ты попривыкнешь, — сказал, улыбаясь, Грат. — Императорам не так уж плохо живется, право слово.
Больше я не протестовал. Что толку спорить с судьбой? Подгоняемый солдатами, я чуть не бегом направился в Большой двор под аккомпанемент глупейшего гимна, сочиненного, когда Калигула стал императором: «Поем Германика приход, он город наш от бед спасет». (Одно из моих имен тоже Германик.) Меня заставили надеть золотой венок Калигулы из дубовых листьев, отнятый у одного из мародеров. Чтобы не упасть, я крепко вцепился в плечи капралов. Венок то и дело сползал на ухо. Я чувствовал себя дурак дураком. Говорят, что я был похож на преступника, которого ведут к месту казни. Собранные вместе трубачи играли «Императорский салют».
На нас лавиной надвигались германцы. Они узнали от сенатора, вышедшего к ним навстречу в глубоком трауре, что Калигула действительно умер, были в ярости оттого, что их обманули, и хотели вернуться в театр, но театр опустел, и теперь они не знали, как поступить дальше. Поблизости не осталось никого, кроме гвардейцев, а гвардейцы были вооружены. «Императорский салют» положил конец колебаниям: они кинулись вперед с криком:
— Хох! Хох! Да здравствует император Клавдий! — и, яростно потрясая ассагаями в знак своей верности, стали протискиваться через толпу гвардейцев, стремясь поцеловать мне ноги.
Я крикнул, чтобы они не приближались, и они тут же пали передо мной ничком на землю. Раз за разом меня обносили вокруг двора.
Как по вашему, какие мысли и воспоминания пролетали у меня в голове в этот поворотный момент? Думал ли я о предсказании сивиллы, об упавшем мне в руки волчонке, о совете Поллиона или сне Брисеиды? О деде и свободе? Об отце и свободе? О трех своих предшественниках — Августе, Тиберии и Калигуле, об их жизни и смерти? Об опасности, все еще угрожающей мне со стороны заговорщиков, сената и гвардейцев в лагере? О Мессалине и нашем нерожденном ребенке? О бабке Ливии и обещании ее обожествить, если я когда-нибудь стану императором? О Постуме и Германике? Об Агриппине и Нероне? О Камилле? Нет, вы никогда не угадаете, какие мысли проносились у меня в уме. Но я буду откровенен и сам скажу вам это, хотя признание не делает мне чести. Я думал: «Так, значит, я — император. Какая чепуха! Но теперь я по крайней мере смогу заставить людей читать мои книги. Стану устраивать публичные декламации для больших аудиторий. Книги-то неплохие, на них ушло тридцать пять лет тяжелого труда. Это не будет нечестно. Поллион собирал себе слушателей, давая великолепные обеды. Он был очень разумный историк и „последний из римлян“. В моей „Истории Карфагена“ полно занимательных эпизодов. Я уверен, что она всем понравится».
Вот что я думал. Думал я также о том, что теперь, когда я стал императором, у меня появилась возможность познакомиться с секретными архивами и выяснить, какие события на самом деле произошли в том или ином случае. Сколько запутанных историй еще надо распутать! Какой чудесный жребий для историка! Как вы видите, я действительно не упустил своих возможностей. И даже привилегией опытных историков подробно излагать разговоры, зная только их суть, я почти не воспользовался.
1934
Комментарии
Действие романа Р. Грейвза заканчивается 24 января 41 г., когда солдаты преторианской гвардии, случайно натолкнувшись во дворце на Клавдия, провозгласили его императором. Сенату, поставленному перед совершившимся фактом, не оставалось ничего иного, как поднести Клавдию все обычные титулы, которые получал глава государства. Первой задачей нового правителя империи было умиротворение всех партий. За убийство Калигулы казнены были только Кассий Херея и несколько главных заговорщиков. Как сообщает Иосиф Флавий («Иудейские древности», XIX, 270), голову Херее по его просьбе отрубили тем же самым мечом, которым он нанес удар Калигуле. Остальные лица, так или иначе замешанные в заговоре, были прощены. Клавдий приложил все усилия, чтобы стереть из памяти римлян годы жестокого правления своего предшественника: бумаги Калигулы были сожжены, ссыльные возвращены, новые налоги постепенно отменены, статуи Калигулы уничтожены.
Клавдий правил государством четырнадцать лет. Во время его правления завершился важный процесс, начавшийся еще при Цезаре и Августе, — реорганизация административной системы и создание бюрократического аппарата империи. Для управления огромным имуществом императора были созданы четыре дворцовые канцелярии, во главе которых Клавдий поставил своих вольноотпущенников — Полланта, Нарцисса, Каллиста и Полибия. Возникшие для управления частным хозяйством императора, дворцовые канцелярии постепенно превратились в центральные органы имперского управления.
Внешняя политика Клавдия была весьма энергичной и успешной — к империи были присоединены новые территории, зависимые царства вошли в более тесный контакт с имперской администрацией. Самым крупным достижением было завоевание Британии. В 43 г. пятидесятитысячная римская армия высадилась на юго-востоке острова и перешла Темзу. К театру военных действий прибыл Клавдий, на глазах у которого римляне разбили войска царя Каратака. Клавдий справил триумф, а его сын получил почетное имя Британник. К концу жизни Клавдия были также завоеваны центральные районы Британии. В своей провинциальной политике Клавдий продолжал линию Цезаря на романизацию. Многие провинциалы получили права римского гражданства. В 48 г. сенат по настоянию Клавдия даровал право доступа в свой состав галлам.
Террористический режим, установившийся в Риме при предшественниках Клавдия, был смягчен, процессы об оскорблении величества прекратились. Тем не менее за время правления Клавдия, согласно античным источникам, было казнено 35 сенаторов и 300 всадников. Часть казненных принимала участие в заговорах против Клавдия, часть оказалась жертвами зависти и корыстолюбия третьей жены императора — Мессалины, часть — жертвами властолюбия его последней жены, Агриппины. Античные авторы рисуют Клавдия человеком слабым и безвольным, ставшим жалкой игрушкой в руках своих жен и вольноотпущенников. Эта характеристика справедлива по отношению к последним годам правления Клавдия — реальная власть постепенно ускользала из его рук.
В семейной жизни Клавдия преследовали неудачи. Мессалина своим распутством и разнузданностью сумела поразить даже видавшее виды римское общество. Когда Клавдий узнал, что она публично справила свадебные обряды со своим любовником Гаем Силием, он приказал казнить Силия и нескольких знатных римских всадников, с которыми Мессалина имела любовные связи. Сама Мессалина была убита по приказанию Нарцисса, опасавшегося, что Клавдий ее пощадит. После ее смерти Клавдий женился на своей племяннице Агриппине, у которой к этому времени был сын от первого брака — будущий император Нерон. Брак дяди с племянницей по римским законам считался кровосмесительным, однако в императорском Риме воля императора была выше законов — дело было улажено, и сенат вынес постановление, разрешающее подобные браки. Агриппина обладала твердым характером и сильной волей. Ее целью было сделать императором своего сына, и этой цели она добивалась, сметая с пути все препятствия, включая самого Клавдия, который был ею отравлен в 54 г. ядом, положенным в изысканное грибное блюдо.
Из римских авторов, переведенных на русский язык, о Клавдии и его предшественниках можно прочесть у Тацита (Корнелий Тацит. Соч.: в 2 т. Том 1. Анналы. Малые произведения. Л., 1970) и Светония (Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1964).
И. Левинская
Примечания
1
См.: Тацит. Указ. соч., II, 19 (Пер. А. Бобовича). (Комментарий И. Левинской)
(обратно)2
Римская миля… короче английской. — Римская миля — 1478,7 м, английская — 1609 м. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)3
…отрывкам его речи…относительно привилегий, дарованных им эдуям. — В 48 г. по предложению Клавдия эдуям (одно из галльских племен) было даровано право доступа в сенат. Во время разгоревшейся по этому поводу дискуссии в сенате Клавдий произнес речь, отрывки из которой, высеченные на бронзовых досках, дошли до наших дней. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)4
Полибий (ок. 200–120 г. до н. э.) — древнегреческий историк, автор «Всеобщей истории в 40 книгах» (до наших дней полностью дошли только пять первых книг, остальные — в отрывках и извлечениях), книги по военной тактике и биографии греческого полководца Филопомена (эти произведения утрачены полностью). (Комментарий И. Левинской)
(обратно)5
…в Аполлонову библиотеку… — Речь идет об одной из двух общественных библиотек, основанных Августом. Она находилась в портиках, примыкающих к святилищу Аполлона. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)6
…я отправился в Кумы в Кампании… — Кампания — область в средней Италии на западном побережье. В Кампании находились Кумы, Байи, Путеолы, Геркуланум, Помпея и другие города. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)7
…Кумы были эолийской греческой колонией… — Город Кумы был основан греками, выходцами из одноименного города, находившегося в Эолиде (область на западном побережье Малой Азии). (Комментарий И. Левинской)
(обратно)8
…история Тезея и Минотавра… — Согласно греческой мифологии, Тезей, сын афинского царя, убил Минотавра — чудовище с бычьим туловищем и человеческой головой (по другому варианту мифа — с человеческим туловищем и бычьей головой), на съедение которому афинский царь раз в девять лет отправлял семерых юношей и семерых девушек. Одолев Минотавра, Тезей вышел из Лабиринта при помощи нити, полученной от Ариадны. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)9
Здесь и далее стихи в переводе М. Карп.
(обратно)10
…он быстро оправился от бедствий, причиненных второй Пунической войной, обманом вовлекли его в третью Пуническую войну… — Вторая Пуническая война (219–201 гг. до н. э.) закончилась победой Рима. Карфаген оставался независимым государством, но терял право вести войну без разрешения римского народа. Третья Пуническая война (149–146 гг. до н. э.) была начата Римом под предлогом того, что Карфаген нарушил это условие. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)11
…работая над историей Карфагена и Этрурии… — Этрурия — область, занимавшая западную часть Апеннинского полуострова (нынешняя Тоскана). (Комментарий И. Левинской)
(обратно)12
…Марком Порцием Катоном Цензором, развязавшим третью Пуническую войну… — Марк Порций Катон Старший (234–149 гг. до н. э.) — политический деятель, историк, оратор, цензор 184 г. до н. э., прославился своей суровостью и строгостью, а также неутомимой борьбой против новых идей и порядков, подрывавших, с его точки зрения, основы римского благочестия. В 153 г. до н. э. он возглавил посольство в Карфаген и, увидев процветание этого города, явился одним из инициаторов начала новой войны. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)13
…убитым в битве при Филиппах… — В 42 г. до н. э. близ г. Филиппы в Македонии Октавиан Август и Марк Антоний разбили войска, возглавляемые основными организаторами убийства Гая Юлия Цезаря Брутом и Кассием. После поражения своей армии Брут и Кассий покончили с собой, и республиканская партия практически сошла с политической арены. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)14
…с которой советовался Эней… — Эней — сын смертного Анхиза и богини Афродиты (в римской мифологии Венеры), сражался с греками на стороне троянцев. После разрушения Трои и долгих странствий добирается до Италии. Во время своих странствий он посещает Кумы и при помощи сивиллы спускается в подземный мир, где получает пророчество о грядущей славе Рима. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)15
…к царю Тарквинию… — Согласно римской традиции, Тарквиний Гордый был седьмым и последним римским царем. См. также примечание 67. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)16
…А Брут… был внебрачным сыном Юлия. — Версия, известная из античных источников. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)17
…когда священные цыплята не хотели клевать зерно… — Перед сражением римляне совершали гадание по цыплятам (курам). Цыплят, которые находились в клетке, выпускали наружу, и если они быстро и жадно хватали предложенную им пищу, то это считалось благим предзнаменованием. Если же цыплята отказывались от пищи, то это предвещало несчастье. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)18
…вступать в опасный союз с царем Пирром… — Пирр — царь Эпира (западная область северной Греции), выдающийся полководец, автор сочинений по военному делу. В 280 г. высадился в Италии и нанес Риму несколько серьезных поражений. В одном из выигранных сражений понес настолько большие потери, что это поставило под вопрос возможность дальнейшего ведения войны. Отсюда выражение — «пиррова победа». В 280 г. до н. э. (по другой традиции в 279 г. до н. э.) по инициативе Пирра начались мирные переговоры, которые были прерваны из-за вмешательства Аппия Клавдия Цека (Слепого). (Комментарий И. Левинской)
(обратно)19
…что на сабинском диалекте означает «сильный»… — Сабины (сабиняне) — одно из италийских племен в гористой области к северо-востоку от Рима. Язык сабельских племен, к которым принадлежали сабины, называется осским.
См. также примечение 104. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)20
…во время войны с Египтом. — Александрийская война (48–47 гг. до н. э.) была вызвана взысканием Римом долгов с Египта, а также вмешательством Цезаря в династический спор в Египте. Война закончилась полной победой Цезаря, власть над Египтом получили царица Клеопатра и ее младший брат. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)21
…попросил назначить его понтификом… — Понтифик — член жреческой коллегии, которой был поручен надзор и управление всем религиозным бытом, общественным и частным богослужением. Во главе коллегии стоял великий понтифик. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)22
…он был на стороне молодого Помпея… — Секст Помпей — сын Гнея Помпея Великого, полководец, непримиримый враг Октавиана Августа. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)23
…сражался… при Перузии в Этрурии. — Перузинская война продолжалась с осени 41-го до весны 40 г. до н. э. Она была вызвана тем, что Август начал массовую конфискацию земель в Италии в пользу ветеранов. Недовольством населения воспользовались брат и жена Марка Антония и подняли войну против Августа. Войска Луция Антония были осаждены Августом в г. Перузии. После длительной осады город был взят и полностью сожжен. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)24
Проскрипции — публичное объявление вне закона. Проскрипционные списки, написанные на досках, выставлялись публично, опальный лишался покровительства законов и подлежал уничтожению. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)25
…Август в качестве цензора… — В обязанности цензоров (одновременно их было двое) входило: 1) пересмотр списка сенаторов; 2) перепись граждан; 3) надзор за благонравием населения; 4) руководство государственными имуществами и общественными работами. Цензоров обычно выбирали из бывших консулов. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)26
…Апис, священный бык Мемфиса… — Апис был предметом религиозного почитания у египтян. Воплощением Аписа являлся черный бык с белым треугольным или четырехугольным пятном на лбу и белым пятном в форме полумесяца на правом боку. Жилищем ему служил храм с двумя приделами, ухаживали за ним многочисленные жрецы. Корова, родившая Аписа, также почиталась и содержалась в особом здании. Умершего Аписа бальзамировали и хоронили по особому ритуалу в специальном склепе. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)27
…пришлым богам, таким, как Изида и Кибела… — Изида — египетская богиня, в Риме в императорскую эпоху ее культ получил повсеместное распространение. Кибела — богиня фригийского происхождения, отождествлялась с греческой Реей, матерью Зевса. Ее называли также Идейская мать и Великая мать. Культ Кибелы в Риме был введен в 204 г. до н. э., когда из Пессинунта (город в Галатии, области в центральной части Малой Азии) перевезли большой камень, по преданию упавший с неба и считавшийся изображением богини. Храм Кибелы находился на Палатинском холме. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)28
…Меценат, один из приближенных Августа… — Меценат принадлежал к всадническому роду, был близким другом Августа. Был известен как тонкий ценитель искусства и покровитель знаменитых римских поэтов Вергилия, Горация и др. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)29
… «от яйца до яблок» — то есть с начала до конца. Обед у римлян обычно начинался с яйца и заканчивался фруктами. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)30
…начав с яйца, из которого вылупилась Елена… — Елена — дочь бога Зевса и Леды, жены лакедемонского царя Тиндарея. Согласно одному из вариантов мифа, Зевс сошел к Леде в виде лебедя, и Леда снесла два яйца — из одного вышла Елена, из другого — близнецы Кастор и Полидевк (в римской мифологии — Кастор и Поллукс). (Комментарий И. Левинской)
(обратно)31
…до яблок, поданных на десерт на празднике в честь возвращения Улисса… — Одиссей (лат. Улисс), один из греческих вождей, сражавшихся под Троей, смог вернуться на родную Итаку только через десять лет после окончания Троянской войны. Во время его отсутствия его верную жену Пенелопу преследовали многочисленные женихи, бесчинствовавшие и разорявшие дом отсутствующего царя. Вернувшись, Одиссей убедился в верности своей жены и убил женихов. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)32
…к более раннему повествованию жреца Дареса… — Дарес, жрец при храме Гефеста в Трое, считался сочинителем догомеровской «Илиады», написанной, по преданию, на пальмовых листьях. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)33
…назначать его раньше срока на высокие должности… — В Риме существовали возрастные ограничения для занятия государственных должностей. В I в. до н. э. минимальный возраст консула — высшего должностного лица, избираемого на год — был 43 года. Стать претором — высшим руководителем судопроизводства — можно было в 40 лет. На должность эдила, ведавшего общественным порядком, городским благоустройством, продовольствием, организацией народных зрелищ и т. д., мог быть избран человек, достигший возраста 37 лет. Наконец, претендовать на должность квестора, управлявшего финансами, можно было начиная с 30 лет. При Августе должность квестора можно было занимать уже в 25 лет. Однако для членов императорской фамилии постоянно делались исключения, и они занимали должности значительно раньше установленного возраста. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)34
…вернуть полковых орлов и пленников… — Боевое знамя римских легионов представляло собой серебряного орла на древке, нижний конец которого был заострен. В лагере знамя втыкалось в землю. Во время битвы его нес особый знаменосец. Если перед битвой оно туго подавалось при выдергивании, то это считалось дурным предзнаменованием. Орлы были отбиты парфянами у Красса при Каррах (53 г. до н. э.) и у Антония во время его парфянского похода (35 г. до н. э.). (Комментарий И. Левинской)
(обратно)35
«Пусть ненавидят, лишь бы боялись» — слова из трагедии Акция (170-94 до н. э.) «Атрей». Содержание его многочисленных пьес было заимствовано из греческих трагедий. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)36
…совершить подвиг, лишь дважды совершенный в римской истории… — Римские историки считали, что подвиг этот был совершен в римской истории трижды: первый раз легендарным основателем Рима Ромулом, второй раз в 428 г. до н. э. Аврелием Корнелием Коссом, третий раз в 222 г. до н. э. Марком Клавдием Марцеллом. Оружие, снятое с убитого неприятельского главнокомандующего, посвящалось в храм Юпитера — подателя добычи и называлось spolia opima (знатная добыча). (Комментарий И. Левинской)
(обратно)37
Луций Корнелий Сулла (138-78 гг. до н. э.) — крупный военачальник, вождь оптиматов (консервативной аристократической партии). После гражданской войны, закончившейся поражением демократов, получил в 82 г. до н. э. диктаторские полномочия. Во время его диктатуры были заложены основы имперской государственной системы. Сулла первым прибег к проскрипциям, в результате чего погибло 5 тыс. человек. В 79 г. до н. э. сложил с себя диктаторские полномочия и отошел от государственной деятельности. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)38
…пакет чемерицы из Антикиры в Фессалии… — Фессалия — область на севере Греции. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)39
…из Тарса в Киликии… — Киликия — область на юго-восточном побережье Малой Азии. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)40
…продавшим ее содержателю публичного дома в Тире… — Тир — приморский город в Финикии (совр. Сур в Ливане). (Комментарий И. Левинской)
(обратно)41
…старого патриция, члена коллегии авгуров… — Авгуры — птицегадатели. Они составляли почетную коллегию жрецов, учрежденную, по преданию, основателем Рима Ромулом. Во времена Августа в нее входило 16 человек. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)42
…поклялась именем Весты и наших домашних пенатов… — Веста — богиня семейного очага. Жрицы богини назывались весталками. В их обязанности входило поддерживать вечный огонь в храме богини. Пенаты — домашние божества римлян, которые охраняли единство и целость семьи. Их изображения помещались в шкафу подле очага. Государство также имело своих пенатов, которые хранились в храме Весты. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)43
Вергилий. «Энеида», VI, 853. Пер. С. Ошерона.
(обратно)44
Марк Порций Катон. «Земледелие», 2, 7. Пер. М. Сергеенко.
(обратно)45
Гесиод — древнегреческий поэт, живший в конце VIII — начале VII в. до н. э. Под его именем сохранились поэмы «Труды и дни», «Теогония», а также фрагменты других произведений. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)46
…Ливий не написал еще… своей «Истории», которая… состояла из 150 томов… — Сочинение Ливия состояло из 142 книг. До нашего времени дошло только 35. В современном издании одна книга Ливия занимает примерно 40–60 страниц. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)47
На… озере в Саллюстиевых садах… — Саллюстиевы сады были расположены в северо-восточной части Рима. Они были посажены в конце 40-х — начале 30-х гг. I в. до н. э. знаменитым историком Гаем Саллюстием Криспом (86–35 гг. до н. э.), от племянника которого в 22 г. н. э. перешли в собственность императорской семьи. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)48
…шутка стоика по поводу философии эпикурейцев. — Намек на полемику двух наиболее влиятельных философских школ эпохи империи — стоиков и эпикурейцев. Согласно эпикурейцам, от всех тел исходят невидимые материальные выделения, благодаря которым тела взаимодействуют. Афинодор, следуя стоическому учению, полагает, что огонь, животворящая сила, по велению разума пронизывает все части тела, и смеется над эпикурейцами, которые считают, что эта сила может передаваться при помощи истечений. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)49
…а перед этим должен был занять одну за другой три важных государственных должности. — Претендент на консульство должен был последовательно занимать должности квестора, курульного эдила, претора. См. также примечание 33. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)50
…оргии Юлии… даже на самой ростральной трибуне… — Ростральная трибуна представляла собой расположенную на форуме ораторскую площадку — четырехугольное каменное возвышение, перила которого были украшены носами неприятельских кораблей, которые назывались рострами, — отсюда название. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)51
Эвфорион — древнегреческий поэт, родился в 276 г. до н. э. Его стихотворения отличались изысканностью слога и сложностью языка. Писал прозу, эпические произведения, элегии и эпиграммы.
Парфений — римский поэт, автор элегий, родился в Вифинии, взят в плен римлянами во время войны с Митридатом, в Риме ему покровительствовал Тиберий. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)52
Бабку Гектора, мать троянской царицы Гекубы, звали, по разным версиям, Эвфоей, Эвагорой, Телеклеей, Метопой или Главкиппой. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)53
Химера — мифическое чудовище. По Гесиоду, была дочерью Тифона и Ехидны и имела три головы — льва, козы и дракона.
Тифон — страшное чудовище, сын Тартара и Геи. Отец Аполлона, Зевс, — внук Геи. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)54
Цербер — пес, стороживший вход в подземное царство. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)55
Марк Фурий Камилл — знаменитый римский полководец. Пять раз избирался диктатором. В 390 г. до н. э. освободил Рим от захвативших его галлов. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)56
Феокрит — знаменитый древнегреческий поэт. Род. около 305 г. до н. э. Прославился, в первую очередь, своими буколическими стихотворениями, изображающими жизнь пастухов и их состязания в пении. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)57
…учитель из Фалерий… заманил… детей. — Фалерии — город в южной Этрурии. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)58
…день катастрофы при Аллии… — На берегу реки Аллии, притока Тибра, 18 июля 390 г. (по другой версии 387 г.) римская армия потерпела сокрушительное поражение от галлов. Рим, за исключением Капитолия, был захвачен и сожжен. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)59
…высокородные римлянки должны совершать жертвоприношения Доброй Богине… — Культ Доброй Богини был, по-видимому, близок культу греческой богини Деметры. Храм Доброй Богини находился на склоне Авентинского холма. Главное празднество устраивалось римскими матронами в доме высшего должностного лица (консула или претора). (Комментарий И. Левинской)
(обратно)60
На сцене появляется Ирида… — Ирида — в древнегреческой мифологии посланница богов, посредница в их сношениях между собой и с людьми (Комментарий И. Левинской)
(обратно)61
…злосчастное «Искусство любви»… — «Искусство любви» (другой вариант перевода заглавия — «Наука любви») принадлежит перу великого римского поэта Овидия (43 г. до н. э. — 17(18?) г. н. э.). (Комментарий И. Левинской)
(обратно)62
Он пересек Рубикон вместе с Юлием Цезарем… — В 44 г. до н. э. Цезарь принял решение захватить власть и перешел с войсками реку Рубикон — границу, отделявшую провинцию Цизальпийская Галлия от Италии, начав тем самым войну с сенатом. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)63
…перед битвой при Фарсале. — При г. Фарсале (северовосточная Греция) 9 августа 48 г. до н. э. произошла битва между Цезарем и Помпеем, закончившаяся сокрушительным поражением последнего. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)64
Это история Ларса Порсены. — Ларс Порсена — царь этрусского города Клузия. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)65
…ему помешало героическое поведение Горация у моста… — По преданию, римский воин Гораций Коклес один сдерживал напор врагов, пока его товарищи разрушали мост через Тибр. Когда мост был разрушен, он бросился в реку и благополучно ее переплыл. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)66
Дионисий Галикарнасский — историк, написавший на греческом языке сочинение «Римские древности». Дионисий излагает традиционный вариант легенды, однако действительно упоминает о дарах, поднесенных Порсене. Другая версия известна из Тацита («История», III, 72) и Плиния Старшего («Естественная история», XXXIV, 39). Тацит сообщает, что римляне сдались Порсене. По Плинию, Порсена навязал римлянам договор, согласно которому они могли использовать железо только для изготовления сельскохозяйственных орудий. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)67
…Тарквиния изгнал из Рима не Брут, а Порсена… — Согласно римской традиции, поводом для изгнания последнего римского царя Тарквиния Гордого послужило то, что его сын надругался над Лукрецией, женой Коллатина. Возмущенные римляне во главе с Брутом подняли восстание против царя и изгнали его вместе с женой и детьми из Рима. После этого в Риме была учреждена республика и выбраны два первых консула — Брут и Коллатин. Эти события произошли, по Ливию, в 510 г. до н. э., по Катону и Полибию — в 507 г. до н. э. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)68
Парфянская стрела — недоброжелательная реплика, брошенная при уходе. Парфянские всадники обычно стреляли из лука при отступлении, обернувшись назад. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)69
Зря так прозвали этого убийцу, Кассия. — Гай Лонгин Кассий (85–42 г. до н. э.) — один из вождей заговора против Цезаря. Последними римлянами Брута и Кассия назвал историк Кремуций Корд. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)70
…я имею в виду первого Брута… — См. выше примечание. 67. Brutus по-латыни «тупой, грубый». (Комментарий И. Левинской)
(обратно)71
Совершеннолетием в Риме считался возраст 14–16 лет. До достижения совершеннолетия мальчики носили тогу с пурпурной полосой, так же как и магистраты. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)72
…на Марсовых играх… — Марсовы игры проводились в Риме дважды в год — в мае и в августе. После религиозных церемоний специальная коллегия устраивала угощение для жрецов. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)73
…во время Латинских игр. — Латинские игры — торжественное собрание союза латинских городов, происходившее в древности под гегемонией Альбы Лонги. После разорения этого города и переселения его жителей в Рим союз возглавили римские цари. Жертвоприношение совершалось первоначально на Авентинском холме, а позднее на Альбанской горе. Во время республики и империи оба консула для совершения жертвоприношения выезжали из Рима. На время их отсутствия для управления Римом назначался особый префект. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)74
…весть о самом тяжком военном поражении, какое римская армия потерпела со времени Карр… — Карры — город в Месопотамии, где в 53 г. до н. э. парфяне наголову разбили римское войско, которым командовал Красс. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)75
…были незнакомы с римским искусством осады крепостей при помощи катапульт, баллист, «черепах»… — «Черепахой» назывался деревянный, покрытый сырыми шкурами навес для защиты нападающих при штурме от сбрасываемых сверху камней, огня и т. п. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)76
…изгнанием Юлиллы… на Тримерий, маленький островок у берегов Апулии. — Остров Тримерий (ныне Тремити) находится в Адриатическом море. Апулия — восточная область южной Италии. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)77
…как называли золотым веком Нумы время правления этого царя. — Согласно римской традиции, Нума Помпилий был вторым римским царем, избранным сенатом после смерти Ромула за справедливость и благочестие. Ему приписывается упорядочение религиозной жизни в Риме. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)78
Мом — олицетворение злословия и насмешки. Согласно мифу, лопнул от злости, когда не смог найти в богине любви Афродите никаких недостатков. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)79
…в Ноле ему пришлось прервать поездку. — Нола — город в Кампании. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)80
…Геркулес умер от яда… — Жена Геракла (лат. Геркулес) Деянира, чтобы возродить любовь мужа, послала ему плащ, пропитав его, как она полагала, любовным зельем, а на самом деле ядом. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)81
…более тринадцати свитков лучшей бумаги… — Бумага появилась в I в. н. э. в Китае, в Европе становится известной только в средневековье. Римляне пользовались папирусом и пергаменом. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)82
«Ранивший исцелит» — слова оракула, данного мизийскому царю Телефу, который был ранен копьем Ахилла и которого должна была исцелить ржавчина от того же самого копья. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)83
…прорвался к священному трибуналу… — Трибуналом в римском лагере называлось возвышение, с которого командир обращался к солдатам. Оно было расположено перед палаткой полководца неподалеку от алтарей. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)84
…большой ежегодный праздник в честь германского Геркулеса. — Туземных богов греки и римляне, исходя из близости отправления культа, сходных атрибутов или места в пантеоне, обычно идентифицировали со своими. Геркулесом римляне называли германского бога Донора. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)85
…Ливиад… «Ливигена»… — И то, и другое означает «сын Ливии». Первая форма аналогична русскому образованию отчества от женского имени. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)86
…в том числе искусству толкования снов, заимствованному у халдеев. — Халдеями называли обитателей Халдеи (юго-западная часть Вавилонии). Со временем слово «халдеи» стало означать любых предсказателей, магов или астрологов. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)87
…никогда через залив между Байями и Путеолами не протянется улица с лавками… — Мост через залив между Байями и Путеолами длиной около 3,5 км был сооружен по приказанию Калигулы. Для сооружения этого моста были собраны грузовые суда и поставлены на якорь в два ряда, сверху был насыпан земляной вал.
…никогда ни одна из моих нелепых букв не появится в публичных надписях в Риме. — Добавленные Клавдием к латинскому алфавиту буквы использовались в официальных надписях во время его правления. После его смерти они вышли из употребления. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)88
Маробод — царь германского племени маркоманов (ветвь свебов), обитавшего к югу от р. Майн и переселившегося на территорию нынешней Чехии. Основал царство в 8 г. до н. э. В 17 г. был разбит Арминием (Германном), в 19 г. готами. Умер в 37 г. в Равенне. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)89
Пиндар — выдающийся греческий поэт (ок. 522–442 г. до н. э.). Знаменит своими эпиникиями — праздничными песнями, прославляющими победителей на общегреческих состязаниях — Олимпийских, Пифийских, Немейских и Истмийских играх.
Сафо (Сапфо; ок. 628–568 г. до н. э.) — знаменитая греческая поэтесса. Сочиняла лирические стихи, гимны в честь богов, а также эпиграммы, элегии и ямбы. Значительная часть ее произведений написана строфой, названной по ее имени сапфической. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)90
…времен Перикла, Демосфена, Эсхила и Платона. — Перикл (ок. 490–429 г. до н. э.) — государственный деятель, стоял во главе афинского государства. Демосфен (ок. 384–322 г. до н. э.) — знаменитый оратор; Эсхил (525–456 г. до н. э.) — драматург; Платон (429–348 г. до н. э.) — философ. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)91
…Пизон прибыл в Антиохию… — Антиохия — столица Сирии. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)92
…от имени Тиберия, возложил венец… — Германик возложил знаки царского достоинства на голову Зенона, сына понтийского царя Полемона, в городе Артаксате, по названию которого царь получил имя Артаксий. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)93
…осмотрел… огромную статую Мемнона… — Согласно мифу, Мемнон был сыном Эос (Зари) и брата троянского царя Приама, участник Троянской войны. Родиной Мемнона считалась Эфиопия, которую греки локализовали достаточно неопределенно — где-то на юге. Изображением Мемнона считалась одна из колоссальных фигур, воздвигнутых при фараоне Аменхотепе III.
…добрался даже до развалин Элефантины. — Элефантина — остров на Ниле в Верхнем Египте. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)94
…топорики и пучки розог держали опущенными вниз. — Связанные ремнем красного цвета пучки березовых или вязовых прутьев, из середины которых выступал топор (фасции), были знаком достоинства римских магистратов. Полководцы-победители увенчивали фасции лавровыми ветвями. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)95
…сатурналии… прошли без обычных шуток и веселья… — Во время сатурналий римляне старались воскресить нравы золотого века, царившего на земле при Сатурне. По преданию, Сатурн (греч. Крон) после того, как был низвергнут своим сыном Юпитером (Зевсом), бежал в Италию и царствовал там. Во время сатурналий все предавались веселью, пировали, шутили, одаривали друг друга, угощали за своим столом рабов в знак того, что при Сатурне не было различий между сословиями.
…после праздника Великой Матери… — Праздник Великой Матери (Кибелы) справлялся женами патрициев. Жрецами культа были фригийцы. Во время праздника они проходили по улицам Рима под аккомпанемент фригийской музыки и просили милостыню для своей богини. См. также примечание 27. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)96
«Не тем ли ты оскорблена…» — Происхождение и авторство греческого стиха неизвестно. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)97
Кенотаф — могила без погребенного в ней тела. Кенотафы сооружались, когда не могли найти останки усопшего или если хотели особо почтить человека, умершего на чужбине. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)98
…сенат назначил ему овацию (малый триумф)… — Во время малого триумфа полководец, одетый в тогу, с миртовым венком на голове, вступал в город пешком или верхом. В жертву он приносил не быка, как при триумфе, а овцу. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)99
Sine die (лат.) — без указания даты следующего заседания.
(обратно)100
Не путать этого Нерона с тем, который впоследствии стал императором. — Примеч. автора.
(обратно)101
…поставил… статую Сеяна в театре Помпея… — Театр на 40 тысяч мест был построен в 55 г. до н. э. Гнеем Помпеем. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)102
«А я соболезную вам… по поводу смерти Гектора». — Гектор — троянский царевич, погиб от руки Ахилла у стен Трои, один из главных героев «Илиады» Гомера. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)103
…начиная с Энея, родоначальника Юлиев… — По официальной римской версии, род Юлиев восходил к Юлу, сыну Энея. Об Энее см. примечание 14. Ромул, основатель Рима, являлся по женской линии потомком Юла. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)104
…его сбросили с Тарпейской скалы. — Крутая западная стена Капитолийского холма носила название Тарпейской скалы. Названа она была так по имени Спурия Тарпея, осужденного Ромулом и свергнутого с Капитолийского холма за то, что он во время войны с сабинянами (см. примечание 19) хотел передать им Капитолий, защита которого была ему вверена. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)105
Другого человека, всадника, казнили за… трагедию о царе Агамемноне… — Оратор и драматург Мамерк Эмилий Скавр, принадлежавший к знатному патрицианскому роду, был обвинен в оскорблении величества, в прелюбодеянии и колдовстве. На самом деле причиной обвинения являлись несколько стихов из трагедии «Атрей», порицающих Агамемнона (греческий царь, предводитель греков под Троей). Не дожидаясь судебного решения, Скавр покончил с собой. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)106
…этот процесс — розыгрыш, подобный тому, которому… подвергся молодой путешественник в Лариссе. — Розыгрыш на Празднике смеха описан в романе Апулея «Золотой осел» (кн. II, 32; кн. III, 1–9). (Комментарий И. Левинской)
(обратно)107
…четыреста семьдесят шестая годовщина обнародования закона Двенадцати Таблиц… — Первый римский законодательный памятник, включающий в себя частное, общественное и сакральное право, был создан в середине V в. до н. э. (обнародован в 451 и 450 гг. до н. э.). В отношении частного права законы Двенадцати Таблиц вплоть до позднейших времен служили основой для римского законодательства. До нашего времени текст законов сохранился лишь в отрывках, благодаря комментариям юристов и отдельным упоминаниям. Подлинные таблицы стояли на форуме до 3 в. н. э. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)108
«Ближе предстань…» — Вестники приходят к Ахиллесу для того, чтобы по приказанию Агамемнона забрать у него пленницу Брисеиду, которую Ахиллес получил как свою долю из добычи, взятой в разрушенных греками городах. (Комментарий И. Левинской)
Гомер. «Илиада», 1, 334–335. Пер. Н. Гнедича.
(обратно)109
…подверг сомнению некоторые подробности, приведенные поэтом Невием… — Перу первого римского эпического поэта Гнея Невия (ок. 270–200 г. до н. э.) принадлежит поэма о первой Пунической войне. От произведения Невия до наших дней дошли ничтожные фрагменты. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)110
…тот, кто умрет в том году, когда… суждено умереть мне, станет величайшим Божеством мира… — Речь идет об Иисусе Христе. Ливия умерла в 29 г. Согласно одной из древних традиций хронологии жизни Иисуса, он умер в 340 г. эры Селевкидов (29 г. н. э.). (См., например: Евсевий Кесарийский. Церковная история, I, 13). (Комментарий И. Левинской)
(обратно)111
Быстро! (нем.)
(обратно)112
…потомкам Торквата… сенат пожаловал в качестве семейного отличия золотое ожерелье, а потомкам Цинцинната — золотой завиток… — Имя Торкват происходит от слова torquis (ожерелье). Торкват стало когноменом (прозвищем, принадлежащим отдельной ветви рода) в роде Манлиев после того, как Тит Манлий в единоборстве победил исполина галла и сорвал с его шеи ожерелье.
Луций Квинций Цинциннат (Кудрявый) служил для римлян образцом старинной простоты нравов. В 460 г. до н. э. он был назначен консулом. Примирив враждовавшие партии и восстановив значение сената, он вернулся в сельское уединение. Но уже в 458 г. до н. э. во время войны с эквами и сабинами был снова призван в Рим и облечен диктаторской властью. Послы сената застали его за обработкой своего поля. Цинциннат отправился в Рим, разбил врагов и, на шестнадцатый день сложив диктаторские полномочия, вернулся на свое поле. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)113
…миносовы подручные будут ломать на колесе кости… — Минос — мифический царь Крита, вместе с Радамантом и Заком был в подземном мире судьей мертвых. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)114
…положи в рот монету… Перевозчик ее узнает. — По мифу, тени погребенных умерших перевозил через реку в подземное царство перевозчик Харон. В виде платы он получал монету, которую умершему клали в рот. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)115
Тиберий выхватил у капитана виноградную лозу… — Знаком власти центуриона была сделанная из виноградной лозы палка, которой наказывали нерадивых солдат. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)116
На… празднике в честь Флоры… — Флора — римская богиня цветения и весны. С 28 апреля по 3 мая в ее честь справлялся праздник, во время которого двери украшались венками. Женщины надевали в эти дни цветные платья, что было запрещено в другое время. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)117
Другой Тиберий Цезарь — Клавдий. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)118
…известному эпикурейцу Лукуллу. — Луций Лициний Лукулл (до 106-56 г. до н. э.) — известный римский государственный деятель, военачальник, знаток литературы и философии. Его богатство и изнеженный образ жизни вошли в поговорку. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)119
…фурии еженощно мстят ему во сне… — Фурии (греч. Эринии) — древние богини проклятия, мести и кары. Карая преступников (преимущественно за нарушение освященных природою семейных прав), фурии восстанавливают попранный нравственный порядок в мире. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)120
…истории… о детстве… Геркулеса, который в колыбели душил змей. — Геркулес (греч. Геракл), сын Зевса, задушил в колыбели двух огромных змей, которых послала богиня Гера, ненавидевшая и преследовавшая героя в течение всей его жизни. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)121
А Меркурий… украл несколько быков… да бренчал на лире. — Меркурий (греч. Гермес) — бог-вестник, податель сна, бог изобретений, хитрости и обмана, а также проводник мертвых. Сразу же после рождения он похитил 50 коров из стада, которое пас бог Аполлон. Аполлон привел похитителя на Олимп, и Зевс приказал ему вернуть коров, однако Меркурий заиграл на лире, которую он сделал из панциря черепахи. Восхищенный новым инструментом, Аполлон отдал за лиру украденных коров. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)122
«Слуги будут пить его кровь». — См. описание тайной вечери в Евангелии от Марка (14: 22–24): «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: „Приимите, ядите; сие есть тело мое“. И взяв чашу, благодарив, подал им; и пили из нее все. И сказал им: сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая». (Комментарий И. Левинской)
(обратно)123
…убей…моего сына. — Гемелл был усыновлен Калигулой. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)124
…похищение Ромулом сабинянок… — Согласно преданию, во время праздника в Риме римляне во главе с Ромулом похитили сабинских девушек, чтобы сделать их своими женами. Вспыхнувшая из-за этого война была прекращена благодаря вмешательству сабинянок, помиривших отцов и братьев со своими мужьями. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)125
Ее обожествили под именем Пантея… — Пантея в переводе с греческого означает «Всебогиня». В Риме ее культу служили 20 жрецов и жриц. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)126
…царю Марокко. — Птоломей II, последний мавританский царь, убит Калигулой. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)127
Что до императора Ксеркса… построившего мост через Геллеспонт… — Персидский царь Ксеркс предпринял поход на Грецию в 480 г. до н. э. Длина моста через Геллеспонт, по которому шло персидское войско, составляла около 1,3 км. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)128
Выкуп, заплаченный родичами Юлия Цезаря… составлял… двадцать тысяч золотом. — По Плутарху, пираты потребовали выкуп в 20 талантов, а Цезарь сам предложил им 50 талантов. По Светонию, Цезарь заплатил 50 талантов. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)129
Гомер. «Илиада», 1, 599–600.
(обратно)130
Там же, XVIII, 410–411.
(обратно)131
Там же, 1, 582–583.
(обратно)132
Отсюда и пошло мое… прозвище Вулкан… — Вулкан (в греческой мифологии Гефест) — сын Юпитера (Зевса) и Юноны (Геры), бог огня, искусный мастер. По мифу, был рожден хромоногим. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)133
Гомер. «Одиссея», XX, 6-21. Пер. В. Жуковского.
(обратно)134
Там же, 11–12.
(обратно)135
Впоследствии император Нерон. (Примеч. автора.)
(обратно)136
Гомер. «Илиада», 1, 590–594.
(обратно)137
Гомер. «Илиада», 1, 586–589.
(обратно)138
Платон считал, что поэтов вообще нельзя пускать в его идеальное государство… — Платон. Государство, III, 1–5. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)139
…была на приеме, данном царю Ироду Агриппе… — Ирод Агриппа I — царь Иудеи. Был посажен в римскую тюрьму Тиберием, выпущен в 37 г. н. э. после смерти Тиберия своим другом и патроном Калигулой, даровавшим Ироду Агриппе титул царя. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)140
«Ты подымай…» — слова Аякса Одиссею (Улиссу) (Гомер. Илиада, XXIII, 724). Согласно Сенеке («О гневе», 1, 20), Калигула обратился с этими словами к небу, когда гроза помешала ему досмотреть представление пантомимы, по Диону Кассию (59, 28), в подкрепление угроз он при помощи театральных машин стал швырять камни в небо. (Комментарий И. Левинской)
Гомер. «Илиада», XXIII, 724.
(обратно)141
Самым зловещим было то, что произошло в Олимпии… — Олимпия — местность в Элиде (на западе Пелопоннесского полуострова), где проходили Олимпийские игры и находился храм Зевса со знаменитой статуей работы Фидия. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)142
Я попросил разрешения Калигулы посвятить ему состриженные волосы… — Посвящение состриженных волос было одной из форм приношений божеству. Обычно волосы посвящали молодые люди. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)143
…получил из храма Фортуны Антийской предостережение… — В г. Антии (ныне Порто д'Анцо) было два древних храма Фортуны с оракулами. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)144
Мнестер покажет нам «Смерть тирана». Ее не играли много лет. — Трагедия о Кинире исполнялась в 336 г. до н. э. на играх в честь свадьбы дочери Филиппа Македонского, который тогда же был убит. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)145
…небольшую мелодраму под названием «Лавреол, или Главарь разбойников»… — Мим «Лавреол» принадлежит перу некоего Катула. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)146
…меня призывает Очистительница. — Очистительница — эпитет Венеры. (Комментарий И. Левинской)
(обратно)
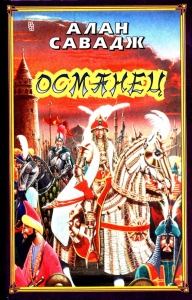
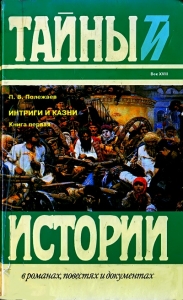



Комментарии к книге «Я, Клавдий», Роберт Грейвс
Всего 0 комментариев