Часть третья
АБАЙ-АГА[1]
1
Осеннее небо пасмурно. Воздух пронизан сыростью. Холодный ветер усиливает резкую свежесть раннего утра. Уныло чернеет голыми ветвями потерявшая листья таволга, краснеет пересохший тростник. Кивая облетевшими головками, колышутся под порывами ветра пожелтевшая полынь и ставший белесым ковыль. По поблекшей траве катится гонимое ветром перекати-поле. День только что занимается. Обильная роса, рожденная холодной ночью, еще не просохла, ноги лошадей мокры до самых щеток, влажные копыта поблескивают в траве.
Всадники, показавшиеся на широкой долине Ералы, далеко обогнали свои аулы, которые снялись на кочевку с рассветом. Впереди, беседуя со своим племянником Шубаром и с дальним сородичем Кокпаем, ехал Абай. За ними шумной кучкой двигалась молодежь: сыновья Абая — Акылбай и Магаш, еще один его племянник — Какитай и молодой акын Дармен. Чуть поотстали от этой группы двое всадников: Ербол, друг юности Абая, и сказочник Баймагамбет.
Ни унылая серая погода, ни дорожная усталость не мешали молодежи весело смеяться и перекидываться шутками. Все они были поэты, и хотя обычно сочиняли стихи дома с карандашом в руках, никто из них не отказывался сложить песню или стихотворение перед друзьями по-акынски — под напев домбры. Часто Акылбай вызывал молодых акынов на состязание в импровизации; порой он подбивал их на это даже во время быстрой скачки верхом. Тот же Акылбай рассказал им недавно о трудной форме стиха-подхвата, когда четыре поэта должны экспромтом сложить четверостишие, поочередно подхватывая друг за другом по строке.
Как раз эти стихи-подхват и были причиной шумного веселья всадников. Молодые акыны состязались в быстроте стихосложения, безобидно посмеиваясь друг над другом в своих стихах.
Магаш, пригнувшись в седле, повернулся к Какитаю и Акылбаю.
— Ну, давайте еще!
Застыл весь я! Дует со всех сторон…Ожидая вызова, все жигиты были настороже, но первым подхватил строчку Акылбай:
Замерз и я! Осень взяла нас в полон…Дармен раскрыл уже рот — из всех молодых акынов он был самым находчивым и обычно заканчивал сразу обе последние строки, — но Магаш схватил повод его коня и закричал:
— Погоди, Дармен, умерь свой пыл! Какитай всегда у нас в долгу, пусть он подхватит. Ну, Каке, скорее!
И Магаш с лукавой улыбкой обернулся к Какитаю, своему другу и сверстнику, над которым постоянно подшучивал. Но тот, к удивлению всех, не медля ни мгновения, тут же закончил стихи звонким, высоким голосом:
Ну, что ж, друзья! Замерзнешь ты и застынет он — Останусь я! Заменит обоих Какитай-шон!И он громко рассмеялся, довольный своей находчивостью. Акылбай в раздумье повторил про себя строчки Какитая и спросил с недоумением:
— «Шон…» Что это еще за слово?
— Просто Какитай не подыскал рифмы и выдумал «шон»! — насмешливо сказал Магаш. — Такого слова вовсе нет. Стоит Какитаю взяться за стихи, обязательно придумает какую-нибудь чушь!
Дармен заливался хохотом.
— Ой, Каке! Откуда ты приволок такое слово, какого ни один казах не знает?
Какитай дал им посмеяться вволю, но потом начал защищаться:
— А разве для стихов годятся лишь слова всем известные, избитые, которые в зубах навязли? Порой красивые, звучные слова приходят издалека, вот тогда они и изумляют людей, как сейчас. По-моему, уж если называть нашу чепуху стихотворением, так только из-за моего слова «шон»!
Услышав взрывы смеха, Ербол и Баймагамбет нагнали молодежь, и Магаш решил обратиться к старшим. Акыны повторили свои строчки, прося Ербола рассудить их. Насмешки друзей не очень задевали Какитая, но все же он стал шутливо жаловаться Ерболу.
— Ербол-ага, избавьте меня от глупых острот! Будьте моим заступником, подтвердите им, ради бога, что есть в казахском языке слово «шон»!
Видя, что в этом споре ему приходится быть судьей, Ербол попросил прочесть стихи-подхват целиком.
Магаш начал, остальные продолжили:
Застыл весь я! Дует со всех сторон… Замерз и я! Осень взяла нас в полон! Ну что ж, друзья! Замерзнешь ты, и застынет он — Останусь я! Заменит обоих Какитай-шон!Ербол подумал и отрицательно покачал головой. Новый град насмешек обрушился на Какитая.
Тогда Какитай кинулся за помощью к Баймагамбету.
— Подумай, что они говорят, Баке! — закричал он во весь свой звонкий голос. — Твои уши много слыхали, нет слова, которого бы ты не знал! Скажи свой приговор!
Баймгагамбет с обычной своей прямотой решительно ответил:
— Ты неправ, Какитай. Ни в сказках, ни в песнях не встречал я такой чепухи. Нет такого слова — «шон».
Все опять зашумели, ожидая, что вспыльчивый Какитай сцепится с Баймагамбетом. Но на этот раз юноша не стал спорить, хотя и не признал своего поражения.
— Ладно, Какитай не из тех, кто валится с седла от первых ударов! — воскликнул он, — Обращусь к суду Абая-ага. Скачите за мной, поглядим, какие вы мудрецы! — И, хлестнув коня, он помчался вперед.
Пока друзья нагоняли его, Какитай, подскакав к Абаю, успел уже рассказать о споре. Видимо, о слове «шон» здесь что-то знали: Кокпай, улыбаясь, переглянулся с Абаем. В сердце юноши вспыхнула надежда. И действительно, едва остальные поравнялись с ними, Абай повернулся к Ерболу и Баймагамбету.
— Выходит, вы оба стали на сторону Магаша и принуждали Какитая сдаться? — спросил он усмехаясь.
— Я испытанный судья, — шутливо ответил Ербол. — Не только Какитая — тебя самого вынуждала сдаваться моя справедливость, вспомни, Абай!
— Принудить к сдаче нетрудно. Много труднее — справедливо судить. Что ты скажешь, если Какитай все-таки прав?
И судьи и обвинители, уже торжествовавшие победу, в недоумении посмотрели друг на друга. Ербол и Баймагамбет начали неуверенно возражать Абаю, но Магаш и Акылбай, перебивая их, изумленно воскликнули:
— Что вы сказали, отец?
— Вы говорите, есть слово «шон»?
— Да, Какитай прав, — повторил Абай. — У казахов есть слово «шон», есть даже и такое имя. В роду Суюндик, как две высокие горы, возвышались братья Шон и Торайгыр, Оба были на редкость красноречивы, их крылатые слова известны всему Среднему Жузу, Вероятно, слово «шон» пришло к нам от киргизов. Оно часто встречается в старинных песнях, в рассказах о знаменитых батырах рода Уйсун. Как видите, Какитай крепко утер вам нос! Все вы непомерно довольны собой, среди вас он самый скромный, даже не смеет называть себя акыном. А на деле именно он и оказался настоящим поэтом, владеющим богатством речи. «Шон» означает: мощный, достойный. Какитай и о себе сказал как о достойном и вас уязвил, зябнущих и мерзнущих. Вы просто положены на обе лопатки! Вот что я скажу вам; самонадеянные акыны Магаш и Акылбай! — Абай лукаво взглянул на сыновей.
Выслушав эту добродушную отповедь, все от души расхохотались — и победивший Какитай, и побежденные поэты, и посрамленные судьи.
Всадники двинулись дальше, пробираясь в густых зарослях осоки, уже поникшей по-осеннему. В стороне показался невысокий холм. Абай, ехавший впереди, молча повернул коня к нему. Видя его задумчивость, примолкли и остальные. В полной тишине всадники поднялись за Абаем на холм, на вершине которого оказались две старые могильные насыпи, почти сровнявшиеся с землей. Молодежь вопросительно переглядывалась: никто не знал, чью память хранят эти древние курганы. Абай остановил коня.
Охватив ладонью свою красивую, не очень густую бороду, в которой уже пробивалась седина, Абай молча смотрел на могилы. Порой он щурил глаза, и сеть мелких морщин — знак прожитого времени — проступала у висков яснее: порой он совсем прикрывал веки, погруженный в мысли о давно минувших днях, свидетелями которых были эти осевшие курганы. Молодежь, остановившись поодаль, молчала, не понимая, что вызвало такую глубокую задумчивость Абая. Два ястреба, сидевшие на руке у Дармена и Шубара, вытянув шеи, тоже уставились немигающими золотистыми глазами на могилы, словно ожидая, что из-за них вот-вот выскочит дичь.
Наконец Абай, не оборачиваясь, поднял руку и сделал жигитам знак приблизиться. Всадники тронули коней. Когда стук копыт замер и все остановились возле Абая, он заговорил негромко и медленно, как бы раздумывая вслух:
— Вот уже сто раз угрюмая осень сменяла над этими могилами благодатное лето… Целый век глядят эти курганы на шумящую вокруг них жизнь новых поколений. Страшную тайну хранят они в себе. И каждый раз, когда я проезжаю мимо, я чувствую себя должником… Мой долг им — долг поэта. Здесь похоронены жигит и девушка. Жигита звали Кебек, девушку — Енлик…
Абай поднял голову. Голос его зазвучал громче, теперь он говорил, обращаясь к молодежи:
— Жестокий родовой обычай принудил тех, кто жил в одно время с ними, убить их обоих. Убить лишь за то, что они любили друг друга… Их привязали к хвостам коней и вскачь волокли по этой земле, пока жизнь не покинула их тела… Так велел закон рода сто лет тому назад. Так велит он карать и теперь, в конце девятнадцатого века. Страшный закон был и остается путами для жигита, петлей для девушки…
Абай замолк. В порывах осеннего ветра, клонившего траву над могилами, юношам слышался жалобный, печальный напев. Ковыль и полынь, покачиваясь, согласно кивали головками, как бы подтверждая, что рассказ о трагедии, разыгравшейся здесь давным-давно, — страшная правда. Абай продолжал:
— Гонимые, как звери, затравленные, несчастные, Енлик и Кебек скрылись от преследования вон там, в горах Орды. Здесь родился у них сын — плод короткой счастливой любви, продолжаться которой было не суждено. Их нашли и казнили. Мальчика отнесли туда, на ту голую вершину, и бросили там. До самой ночи, пока длился день, пока кровавое солнце не скрылось за горами, плакало на камнях ни в чем не повинное созданье… Лишь ночью умолк одинокий детский голосок, взывавший к черствым, жестоким людям в черством, жестоком мире. Умолк навсегда.
Юноши невольно откинулись в седлах, словно отшатнувшись от холода, которым повеяло на них от этих древних могил.
Первым взволнованно заговорил Дармен:
— Абай-ага… Чья же злоба решилась на такой приговор?
— Кто их убил? — не выдержал и Магаш.
— Кто заставил людей совершить это? — воскликнул Какитай.
— Тот, кто был тогда главой наших родов, — ответил Абай, — кого мы чтим как аруаха — духа наших предков: Кенгирбай.
Абай произносил эти слова медленно, обводя лица испытующим взглядом. При имени Кенгирбая Шубар вздрогнул и беспокойно взглянул на Абая. Все слушали в тяжелом молчании. Лишь Дармен не сдержался.
— Кого же мы чтим — аруаха или палача? — с горечью спросил он.
Абай посмотрел на него с видимым одобрением, но Шубар хмуро остановил юношу:
— Хватит, Дармен, думай что говоришь…
— Прошло сто лет, но аркан на шее казахской девушки затянулся еще туже… — снова заговорил Абай, внимательно вглядываясь в Дармена. И внезапно оборвал свою речь: во взгляде юноши он увидел просыпающееся вдохновение. Глаза Дармена горели и искрились, как у ястреба, сидевшего на его руке; казалось, молодой акын так же рвется в полет.
— Абай-ага, — взволнованно начал он, — у меня есть просьба. Наверное, всякий, кто проходил мимо этих могил, произносил поминальные слова из Корана. Пусть их молитвы утешают дух безвинных жертв. Но позвольте мне по-своему помянуть этих несчастных и тех, кто и теперь страдает, подобно им. Можно?
Слова Дармена как будто и не удивили Абая. Ласково кивнув, он сказал:
— Конечно.
— Вот моя поминальная молитва Енлик и Кебеку… И Дармен запел протяжную, звучную песню.
Он пел с вдохновенной печалью, и пение его совсем не походило на то, что все привыкли слышать в дружеском кружке или на больших сборищах. Оно было как скорбное, полное раздумья жоктау — песнь, которую поют об умершем, рассказывая людям о его жизни и восхваляя его достоинства. Лицо певца-поэта и все оттенки его звучного голоса выражали волнующее его душу сокровенное и глубокое чувство. Он изливал печаль двух юных сердец, рвущихся друг к другу и готовых легко расстаться с жизнью, если она не соединит их:
Без ума — бия нет. В доме тьма — дома нет. Коль в душе нет огня, Жизнь — тюрьма, жизни нет!И хотя песня, которую он пел, была всем известна, она звучала у него по-новому — торжественно и трогательно. Это была сочиненная недавно Абаем песня любви: «Ты — зрачок глаз моих». Магаш и Какитай, вполне понимая вдохновенный порыв Дармена, восхищенно переглядывались.
Дармен пел недолго. Спев четыре строфы, он глубоко вздохнул и умолк. Абай молча тронул коня. Остальные двинулись следом. Ястребы на руках охотников с шумом встряхнулись; теперь они оглядывали степь хищными, отливающими золотом глазами, отыскивая дичь.
Абай, погруженный в мысли, течение которых не было прервано пением Дармена, продолжал то, что хотел сказать молодым акынам:
— А ведь аркан, который накинули на шею Енлик, задушил не только ее. Им задавлен отчаянный крик, не успевший вырваться в мир… Не пора ли хоть теперь поведать народу тайну этих двух могил? Нельзя ли голосом Енлик выразить тайну девичьего сердца, а устами Кебека — мятежный призыв мужественной души, встающей на защиту прав человека… Ведь вы поэты. Прислушайтесь: осенний ветер доносит к нам из мглы времен жалобы и стоны… Мне кажется, вдохновенье надо искать не только в радости и в счастье, но и в горькой доле народа, в подавленных порывах его смелых сынов. Если слово берет поэт, пусть оно выражает всю правду жизни. Стих, рожденный правдой, подобен ручью, чей исток на высокой горе: он всюду найдет себе дорогу. Почему бы вам не создать стихи из того, что мы пережили вместе сегодня? Кто из вас возьмется за это?
Дармен, понявший мысль Абая еще до того, как тот закончил, хотел назвать себя, но Шубар опередил его:
— Абай-ага, я напишу об этом!
— Шубар сказал то, что было у меня на языке! — воскликнул Дармен. — Напишу я.
— У тебя на языке? — насмешливо повторил Шубар. — Я сказал то, что было у меня в мыслях. Я говорю только свои слова, и стихи будут только мои. Писать буду я!
— Нет, я!
— Нет, не ты! Я первый ответил Абай-ага…
Абай улыбнулся. Засмеялись и остальные. Дармен обратился к суду друзей:
— Пусть решит большинство! Но не забывайте, что свое намерение я выразил песней там, у могил, еще до того, как Шубар сказал об этом словами…
Магаш сочувственно кивнул головой.
— Вот так довод! — с издевкой сказал Шубар. — Ну, скажи сам по совести: разве в песне была хоть одна твоя строка? Песню сложил Абай-ага! А я еще тогда подумал обо всем этом и первым сказал слово «напишу»!
— Ты подумал, а я почувствовал это всей душой! — страстно возразил Дармен. — Ты первый выговорил это слово языком, зато я сказал его всем сердцем! Пусть то была песня Абая-ага, но разве ты не понял, что все мои чувства, все вдохновение обращены к памяти тех двоих несчастных?
Ербол, который только что смеялся вместе с Абаем над горячностью спорящих, поднес ко лбу ладонь и, вглядываясь прищуренными глазами куда-то вперед, перебил их:
— Эй, жигиты, сами вы ничего не решите! Дайте я скажу, кому из вас писать!
— Говорите! — отозвались оба сразу.
— Смотрите, — начал Ербол, понижая голос почти до шепота, — вон там у горки притаилась стая дроф. Ястребы ваши уже видят их. Спустите птиц! Чья первой схватит дрофу — тому и писать стихи.
Абай одобрительно улыбнулся. Шубар и Дармен, зная, как чутки дрофы, также шепотом ответили Ерболу:
— Ладно…
— Согласен!
И, отъехав в сторону, они взмахнули руками, выпуская ястребов. Шубар, проследив полет своей птицы и убедившись, что она, взмыв, сразу же направилась к стае, быстро обернулся к Абаю:
— Значит, так, Абай-ага? На этом и решили?
Абай не спеша ответил:
— Ербол хорошо придумал… Но я добавлю еще условие: пока ястребы летят к цели, сложите на скаку несколько строф!
И он первым тронул коня крупной рысью. Шубар и Дармен поехали рядом с ним по обе стороны, остальные за ними. Шубар, видимо довольный условием, весело сказал:
— Согласен и на это, Абай-ага! Значит, про наших птиц?
Молодежь, уже приготовившаяся мчаться вскачь, чтобы не пропустить удара ястребов, придержала коней, с любопытством глядя на Абая.
— Нет, не про них… Вы поэты, так покажите, что мысль ваша гибка и быстра! Старая бабушка в морозную зимнюю ночь убаюкивает внука под унылый вой холодного ветра… Вот ее слова и скажите стихами. Начинайте! — И Абай хлестнул коня.
Шубар, обманутый в своих ожиданиях, с укоризной взглянул на него.
— Ну, Абай-ага, это не состязание, а наказание! — растерянно воскликнул он.
Дармен, скакавший рядом с Абаем, с удивительной быстротой начал свою импровизацию. Необычные условия состязания привлекли внимание всех. Всадники забыли о птицах. Дармен, чувствуя, как внимательно все его слушают, продолжал говорить строку за строкой. Абай, довольно посмеиваясь, скакал, посматривая сбоку на Дармена; он даже снял шапку, чтобы расслышать каждое слово.
Дармен громкой скороговоркой читал рождавшиеся одну за другой строки:
Есть много на свете акынов таких, Кто быстро слагает заданный стих, Но много быстрей полет мыслей моих — Ястреба крылья нынче у них! Следите, друзья, как стих мой летит В зимнюю ночь, где вьюга свистит, Где лютый мороз за стеною трещит, Где старая бабушка с внучком сидит, Где тихая песнь над ребенком звучит: Спи, ягненочек мой, спи, Вьюга рыщет там, в степи, Не залезет к нам в окно, Не найдет нас все равно… Баю-баюшки, бай-бай, Спать нам, вьюга, не мешай, Зря ты внучка не пугай, Не возьмешь нас, так и знай! Уходи ты в степь — гуляй, На просторе поиграй, Никого ведь нет в степи! Спи, ягненочек мой, спи, Ребенок под песенку эту уснет, А бабушка тихо поет и поет,— Найду ей слова на сто лет вперед, Покуда мой ястреб окончит полет…Дармен приподнялся на стременах и вдруг, обернувшись в седле, закричал в восторге:
Но ястреб мой в когти зажал врага!.. Победа! Стих кончен, Абай-ага!И, вытянув коня плетью, он во весь опор помчался к горке. Все со смехом устремились за ним.
Первым доскакал Магаш и резко осадил коня возле крупной, с козленка, дрофы, в спину которой вцепился ястреб Дармена, терзавший ее так, что пестрые перья взлетали в воздух. Магаш сорвал с головы тымак и, размахивая им, закричал догонявшим его всадникам.
— Дармен, Дармен, суюнши!..[2] Тебе писать о Енлик!
Дармен, примчавшись к нему, кубарем скатился с коня и побежал к своему ястребу. Кокпай, Акылбай и всюду поспевающий Баймагамбет тотчас окружили его.
Шубар в стороне возился со своим ястребом. Издали никому не было видно, поймала ли птица добычу.
Увязав убитую дрофу в тороки Ербола, молодежь направилась к Шубару. Тот сидел на корточках, прикрывая ястреба полами чапана.
Кокпай первый понял, в чем дело.
— Какой позор! — закричал он, покатываясь от хохота. — Покажи, покажи всем!
Он отдернул полу Шубара, и тогда все увидели ястреба. Весь мокрый, дыбом подняв взъерошенные, перепачканные перья, он гневно вертел головой. Кокпай, всегда нещадно высмеивавший Шубара, дал себе волю и на этот раз.
— Ай-яй-яй, ну и подвел тебя твой ястреб! — издевался он. — Да еще в таком благородном состязании. И дрофы не схватил и сам в беду попал. Бедняжка, всего обгадила проклятая дрофа! Плохой признак для тебя, Шубар, подвела тебя дрянная птица!
Шубар только презрительно взглянул на Кокпая и под общий смех стал садиться на коня.
— Не говори так, Кокпай, — примиряюще сказал Абай. — Ястреб вовсе не дрянная птица, не зря его считают символом мужества. Взгляни, в каком он гневе! Что же, с каждым может случиться неудача. Чего же издеваться над Шубаром? Но стихи, видно, придется писать Дармену! — закончил он.
Дармен, счастливый, взволнованный, хлестнул своего белого коня, крепко натянув поводья. Конь взвился на дыбы, перебирая передними ногами, вытянувшись вверх белой свечой. Широкая улыбка сияла на привлекательном лице Дармена, озаренном чистым пламенем юности и счастья. И серый ястреб, сидевший на его руке, тоже напряг отливающее стальным блеском тело в стремлении в небо, в вольный полет.
Солнце, прорвавшееся вдруг сквозь серые облака, осветило розоватыми лучами коня, всадника и ястреба, охваченных единым порывом, и Абаю показалось, что он видит перед собой прекрасное изваяние, высеченное из мрамора.
Тревожный топот копыт, раздавшийся за спиною, заставил всех обернуться. Повернул своего коня и Абай, все еще продолжая восхищенно улыбаться.
По склону горки к ним мчался одинокий всадник. Видимо, он очень спешил: лишь подскакав вплотную к путникам, он сдержал своего коня. Под ним был вороной стригунок по второму году, маленький, но крепкий. Ноги рослого жигита свисали почти до земли; уздечка, позвякивая кольцами, свободно болталась на голове скакуна, а сам он был облит потом от ушей до копыт.
Еще издали всадник отыскал взглядом Абая и, едва остановившись, обратился к нему с почтительным приветствием:
— Ассалау-малейкум, Абай-ага!
Как ни старался жигит казаться спокойным, во взгляде его узко прорезанных глаз, слегка покрасневших от долгой скачки, Абай уловил гнев и обиду.
— Уагалайкум-ассалам! — ответил он. — Куда спешишь, жигит, что случилось?
Но всадник решил, видимо, доказать, что умеет владеть собой. Он обстоятельно и неторопливо поздоровался с остальными, начиная с Ербола, как со старшего, и лишь тогда заговорил, устремив на Абая свой острый взгляд:
— Абай-ага, я спешил к вам с жалобой. Только к вам. Дело спешное, а догнать вас удалось лишь теперь. Кроме этого стригунка у нас и коня не нашлось.
— Какое же дело? Говори! — сказал Абай, внимательно глядя на него.
— Меня зовут Абды, я из рода Жигитек.[3] Меня послали к вам все наши семь аулов. Наши земли на Шуйгинсу и Азбергене.
— Я знаю эти аулы.
— Все семь аулов терпят жестокую обиду: насилие и разбой! А насильник — Азимбай.
Абай нахмурился. Когда при нем называли это имя, неразрывно связанное со злом, с несправедливостью, Абай чувствовал себя ответчиком: ведь Азимбай — сын его родного брата Такежана, племянник, или, как считается у казахов, младший брат. Абай невольно вздохнул, и Абды, уловив этот вздох и тень, пробежавшую по лицу Абая, заговорил смелее:
— Опять забирает себе половину наших покосов. Косарей нагнал. И в позапрошлом году и в прошлом отнимал у нас сено, и теперь снова грабит — в третий раз. А для нас это сено — большая подмога. Своего скота в наших аулах нет, так мы брали на зимний прокорм скот у крепких аулов. А он накидывается на наше добро каждый год. Без спросу скосит и увезет. Обманет поодиночке каждый аул, пригрозит, запугает. До костей пробрала нас обида, нынче и решились: все семь аулов сговорились сказать, что не дадим косить. Пошли к нему, а он нас прогнал. Вот и послали меня к вам, Абай-ага: состоим в тяжбе, ждем вашего решения.
Спокойно изложив обстоятельства дела, Абды дал наконец волю своим чувствам:
— Вот с какой слезной обидой скакал я к вам, Абай-ага. Меня послали голые, голодные люди семи аулов. Разве Азимбай не единоплеменник наш? А он хуже самого лютого врага! Живое тело народа клюет, рвет на части клыками! Топчет нас, грабит каждый год, каждый день! Удержу не знает! Будет ли тому конец, увидим ли мы когда-нибудь в жизни свет?
Смуглое лицо его подергивалось, как от боли, голос прерывался, на глазах выступили слезы, весь он кипел возмущением. Шубар насмешливо подтолкнул Кокпая.
— Вот болтун, еще разревется! — негромко сказал он, презрительно морща нос.
Абай всей душой понимал жигита. Яркая вспышка справедливого гнева восхищала его, а в горьких, печальных словах Абды он услышал стон множества обездоленных и ограбленных людей своего народа. «Искать, искать неустанно, где же в жизни тот свет, о котором мечтают безвинные жертвы!..» — думал он, продолжая смотреть на взволнованного, Абды. Потом выпрямился в седле и быстро заговорил, оглядывая спутников:
— Видели вы такое самоуправство? Накинулся на бедных людей, подмял под себя, терзает, не слушая воплей и криков!
— Ну, они с Такежаном соседи, — примирительно заговорил Шубар. — Нынче дружба, завтра ссора, между соседями всегда так… Пусть этот жигит едет к Такежану, договорятся сами…
Абай испытующе посмотрел на него.
— Что ты предлагаешь? У них тяжба с самим Такежаном, а ты посылаешь их к нему? Они у нас ищут защиты, просят быть посредниками.
— Но это значит — вам снова ссориться с Такежаном. Снова обиды, тревоги… Все опять ляжет на вас… Нарушится ваш мирный труд, оборвутся стихи и песни… Вот чего я боюсь.
— Пусть вовсе сгинут стихи, если им нужен покой и тишина! — оборвал Абай, окидывая Шубара сердитым взглядом. — Что ты мелешь? Вот как вы рассуждаете, глядя на коварство и насилие! Тогда не зовите себя акынами!
— Ну, воля ваша, — коротко ответил Шубар, насупясь.
Абай, повернувшись к другим, уже приказывал властно и гневно:
— Магаш, Дармен! Скачите сейчас же вслед за Абды! Скажите Азимбаю, чтобы прекратил разбой! Пускай остановит косьбу, пусть не ввергает народ в слезы!
И, проводив взглядом юношей, Абай, тронул коня и молча поехал впереди остальных, погруженный в горькие думы.
Когда жигиты подъехали к Азбергену, Дармен удивился, что трава на спорной земле, рослая и густая, уже пожелтела и высохла.
— Что же вы так тянули с косьбой? — упрекнул он Абды.
— Мимо нас осенью много аулов проходят на зимовья, — объяснил тот. — Покосы нужно охранять днем и ночью, не хватает рук на уборку. А когда все стада прошли и мы собрались косить, Азимбай оказался тут как тут… Мы просили: «Подождите косить, пусть нас рассудят сторонние люди». Я поскакал к Абаю-ага, а Азимбай все-таки начал косить. Разве есть над ним власть? Какой суд он признает? Насильничает как хочет! Вон поглядите! — И он показал на край луга, где, взмахивая косами, размеренно продвигались вперед восемь косарей.
Возле них стоял десяток мужчин, в большинстве молодые жигиты. Среди них Дармен узнал знакомых ему Сержана и Аскара. Лица всех выражали гнев и возмущение.
Сам Азимбай был тут же. Верхом на сытом гнедом коне он медленно проезжал за спинами косарей, как бы подгоняя их. Коричневый чапан раздувался ветерком на боках и спине, и сзади Азимбай казался много толще, чем был на самом деле. Взглянув на него, Магаш невольно подумал, что такую тушу не прошибить ни мольбами, ни слезами.
Жигиты подъехали к кучке бедняков. Те приветливо поздоровались с приезжими. Лица их прояснились надеждой. Люди узнали сына Абая и почувствовали, что юноша привез им защиту и опору.
Магаш обратился к Азимбаю.
— Что ты тут натворил, Азимбай? — спросил он спокойно. — Почему затеял тяжбу с нищими соседями?
— А что я сделал? Я подбираю с земли то, что они бросили. Бедняки заволновались. Громче других заговорили Сержан, Аскар и Абды:
— Как это — бросили?.. Разве мы отказались косить? Кто тебе это говорил?
Азимбай бросил на Абды холодный взгляд из-под набухших красных век и, повернувшись к Магашу, лениво заговорил:
— Врут они. Вовсе и не собирались тут косить. Где это видано, чтобы некошеная трава стояла до морозов? Увидели, что я за нее взялся, вот и завопили, что сами собирались косить. Просто хотят сорвать с меня за брошенный покос.
Абды не вытерпел.
— Ты отлично знал, почему мы не косим! — возмущенно крикнул он. — И сам тоже ждал, когда пройдут другие аулы, чтобы никто не видел твоего разбоя. Останови, мирза, косарей!. Дай разобрать дело!
— Прекрати косьбу! Начнем разбор! — добавил и Сержан. Азимбай прикрикнул на них:
— Приказывать мне взялись? Ну, глядите у меня!
— Прекрати разбой! Эй, люди, бросьте косить, кладите косы! — закричал Абды, спрыгивая со своего стригунка.
— Косите, не останавливайтесь! — разъяренно кричал Азимбай, взмахивая плеткой. — Косите, говорю вам!
Абды, Сержан и Аскар, как бы сговорившись, одновременно кинулись к косарям и решительно встали перед ними.
— Для нас трава на этой земле — что волосы на голове! Коси нас вместе! — отчаянно крикнул Абды.
Косари заколебались. Первым перестал косить Иса, сын старухи Ийс из такежановского аула.
— Коси! — зарычал Азимбай.
Но Иса не послушался окрика. Глядя на него, остановились и двое других косарей, дошедших до Сержана и Аскара. За ними нерешительно опустили косы и остальные. Лишь один чернобородый табунщик продолжал косить, испуганно оглядываясь на Азимбая.
Тот подскакал к Исе, осыпая его бранью.
— Будешь ты косить, собака?
— Что же, мирза, значит, ты велишь мне убить человека? Такого же голодранца, как я…
Азимбай не дал ему договорить. Тяжелая плетка с размаху опустилась на спину Исы. Тот, сверкнув яростным взглядом, стиснул зубы и кинул свою косу далеко в сторону.
— Не буду убивать! Убей лучше меня, кровопийца!
Азимбай уже не помнил себя от злости. Он подозвал чернобородого косаря и приказал ему встать на место Исы.
— Иди вперед! Коси по ногам! Посмотрим, как они устоят! Чернобородый табунщик взмахивал косой, все ближе подбираясь к ногам Абды.
Магаш и Дармен не выдержали. Хлестнув коней, они поскакали к косарю, крича:
— Стой, с ума сошел! Стой, говорю!
Но тут Абды высоко поднял ногу и наступил на лезвие косы, сверкнувшее возле носка его сапога. Стремительно нагнувшись, он вырвал у чернобородого косу и одним ударом о землю сломал черенок. Подняв косу за обломок черенка, он взмахнул ею, как саблей. Сейчас он был готов на все.
Сержан и Аскар тоже кинулись на стоявших против них людей Азимбая и, отняв у них косы, высоко подняли их. Теперь всем было ясно, что если кто-либо посмеет скосить хоть одну травинку, начнется настоящее побоище.
— Стойте, опустите косы! — крикнул Дармен. Магаш поддержал его:
— Дайте сказать слово! Абды, брось косу! Азимбай, укроти своих людей!
Абды и его товарищи послушно опустили косы, но все же не выпускали их из рук. Бледный и разъяренный Азимбай безмолвно осадил коня.
Теперь Магаш заговорил нарочно негромко, неторопливо. Неожиданно спокойный его тон невольно действовал на людей, только что кипевших в яростной вспышке, заставляя их приходить в себя.
— Мы приехали к вам от Абая-ага. Он просил вас разрешить спор миром. У меня поручение к тебе, Азимбай: отец требует, чтобы ты не насильничал. Если хочешь взять сено, купи, договорись. А разбой мы все осуждаем. Вот мнение посредника, к которому обратились эти люди. Объяснись при мне с ними, договорись, как быть!
Эти рассудительные слова Магаша, за которыми чувствовалась уверенная сила, подействовали и на Азимбая. Он не решился на открытое столкновение. Но и от своего отступать не хотел:
— Пусть Абай посредничает в нашем споре, я не возражаю. Но если Абай мне дядя, то Такежан мне отец. Абай приказывает мне не косить здесь, а отец велел скосить эту траву. Для этого и оставил меня тут, а сам откочевал. Кого же мне слушать: отца или дядю? Думаю, что отца. Он старше Абая, а слушают приказ старшего.
— Но ведь этот приказ несправедлив! Абай затем и послал нас, чтобы ты не выполнял такого приказа!
— Если приказ несправедлив, пусть Абай и уговорит отца отменить его.
— Ну, а ты? Пока они договорятся, ты будешь косить?
— А как же? Я только исполняю повеления отца. Ведь ты, Магаш, не нарушаешь воли своего отца? На что же ты подбиваешь меня? Напрасно послал тебя Абай ко мне, тебе надо было ехать к Такежану. Вот мой ответ, другого у меня нет. Траву эту я скошу. Кончено!
И, не желая слушать возражений, он тронул коня и поехал в сторону. Бедняки жигитеки растерянно молчали. Наконец первым заговорил седобородый Келден:
— Ну, жигиты, поняли? Дорогой Магаш, ты сам видел все своими глазами. Просим лишь об одном: расскажи подробно Абаю. А Азимбай пусть кончает свое дело. Пусть скосит траву, соберет в стога. А потом мы оплатим ему работу и заберем наше сено на свои зимовки. Верно ли такое решение, люди?
Все одобрили его:
— Ничего другого не остается! Раз он сам говорит «кончено» — пусть и будет кончено.
И лишь один Абды, кипя сдержанным гневом, горько сказал:
— Э, жигиты, так нам не видать света! Развернуть бы сейчас плечи да одним ударом ответить за все многолетние обиды! За это и кровь пролить-можно… Эх, нет среди нас Базаралы! Как был бы ты кстати сейчас, родной мой батыр! Горе нам без тебя, заступник наш! — И Абды, вздохнув, низко опустил голову, опершись лбом на обломок черенка отнятой им косы, и замолчал.
Теперь заговорил Магаш. Он согласился с бедняками, что иного решения быть не может. Тупой и злобный Азимбай все равно настоит на своем. Магаш обещал рассказать обо всем Абаю и просил потерпевших не предпринимать ничего до решения отца.
Попрощавшись с бедняками, Магаш и Дармен поехали, обратно. Проезжая мимо косарей, Дармен остановил коня и дружески обратился к Исе:
— Ну и молодец ты, Иса! Я только теперь понял твои достоинства. Можно быть батраком, но не надо становиться цепным псом хозяина. Ты показал себя настоящим человеком!
Иса, все еще не успокоившийся, коротко ответил:
— Мало злодею, что грабит, чужое, еще на убийство толкает! Нет, лучше мне самому погибнуть, чем повредить хотя бы ноготь такого отважного, жигита, как Абды!
Магаш и Дармен пустил» коней вскачь торопясь рассказать все Абаю.
2
Небо и сегодня в серых низких облаках. В юрте Абая и его второй жены Айгерим уютно горит очаг. Служанка Злиха, заложив в котел мясо, подкладывает в огонь плитки прессованного кизяка — желтого кыя.
Юрта устроена уже по-осеннему. Кереге — нижние решетчатые части ее остова — завешаны кошмами и коврами; пол покрыт толстым войлоком, поверх которого на почетном месте юрты лежит кошма, отделанная сукном, и разбросаны одеяла из мерлушки и шкура архара. Высокой кровати уже нет: постель, застланная стегаными одеялами и заваленная подушками, сделана из мягкого войлока, наложенного рядами и покрытого периной.
Завтрак только что окончился. Абай, накинув на плечи тонкий чапан и надев легкую козью шапку, взял очки (теперь он уже не мог читать без них) и протянул руку к стопке книг, лежащих у постели. Там, рядом со всегдашними его спутниками — Пушкиным и Лермонтовым, — нынче появились Байрон и Гете в русском переводе.
Эту ночь Абай спал плохо, ворочаясь в тяжелых думах, вызванных рассказом Магаша и Дармена.
Когда юноши с возмущением передавали ему то, чему были свидетелями, Абай слушал молча, хотя в душе у него все кипело. Только сегодня рассказывал он молодежи о злодеянии, совершенном сто лет назад. И нынче сильные опять чинят насилие над беззащитными. Какими законами, какими обычаями оправдать произвол, не изменяющийся на протяжении ста лет? Переменились только имена хищников: одного звали Кенгирбаем, другого Кунанбаем, а нынешнего Азимбаем — да изменились способы насилия: раньше убивали камнями, а теперь нищетой и голодом. Мрачное, беспросветное время. Бежать бы куда глаза глядят. Но тут же горько усмехнулся. Нет, если в юности, когда было больше сил и решимости, он не сделал этого, теперь, в зрелые годы, он не мог бросить свой народ, бежать от его страданий и горя: ведь нет для него ничего ближе, дороже родного народа.
«Уйти… Как уйти от народа?.. Не от него надо уходить, а уйти от злодеев-насильников! Пусть они близки по крови. Те обездоленные, обиженные люди из народа ближе мне, чем родные. К ним влечет и сердце и разум. Для их блага должен отдать я все силы, их велений должна слушаться моя совесть…»
Но Магашу и Дармену, безмолвно сидящим перед ним, он высказал лишь часть своих дум и решений.
— Что за несчастная у меня жизнь! — горько сказал он. — Как же укротить насилие злодеев, когда самый злобный из них живет рядом с тобой, в твоей семье, и ты его не можешь остановить? Народ в слезах, а что толку, если и я плачу вместе с ним? Чем помогу я ему на деле?.. Они правильно решили увезти сено по своим зимовкам. Это урок таким людям, как Азимбай! Пусть только держат слово и выполняют его… А я поговорю с Такежаном, поддержу их. Не так часто бедный народ решается на отпор, такому делу нельзя не помочь…
С этими словами Абай отпустил сына и Дармена. Они тут же рассказали о своей поездке остальным. Все единодушно осуждали Азимбая, возмущаясь его бессердечностью и алчностью, а Какитай с негодованием припомнил и поведение Шубара:
— «Пусть едет к Такежану»… Что это за совет? И что это за опасения: «повредит вашим стихам»?.. Не человек, а лиса!
— Ты прав, именно лиса! — подтвердил Магаш. Акылбай, слушая их, усмехнулся.
— Неужели вы до сих пор не знаете, что такое Шубар? Разве делал он что-нибудь без тайного расчета? Ведь он быстро смекнул, что эта ссора далеко зайдет, и тут же поспешил подчеркнуть, что он ни во что не вмешивался. Когда между отцом и Такежаном начнется разлад, Шубар останется посредине. Конечно, выгоднее, чтобы обе стороны считались с тобой! А ведь в душе-то он только и ждет схватки отца с Такежаном и сам исподтишка, как говорится «из-за шести холмов», разжигает эту вражду. Уж если кто ставит здесь капкан, так это Шубар!
Акылбай верно оценил положение. Шубар действительно был одной из неисцелимых ран Абая. Эта рана глубокая, скрытая. Если Азимбай — жестокая, но открытая язва, которую можно прижечь или вырезать, то Шубар — тайная, липкая болезнь, грызущая внутренности, от которой нельзя избавиться. И оба они родственники Абая, связанные с ним общей жизнью. Попробуй убежать, куда от них убежишь? А Шубар вдобавок и сам неотступно вился вокруг Абая, преследуя свои тайные цели.
И так же, как его сыновей, самого Абая мучила мысль об этих врагах, стоящих рядом. Хмурая погода лишь усиливала эти мрачные мысли. И, достав томик Пушкина, Абай погрузился в чтение, стремясь хотя бы на время уйти мыслью от тяжелой действительности, найти в любимых стихах успокоение тоскующему сердцу.
Айгерим сидела у очага, склонясь над лисьим малахаем, который она шила мужу к зиме. На ней была крытая черным шелком шуба из лисьих лапок, отороченная бобром и украшенная серебряными пуговицами с вделанными в них кораллами. Головной убор, вышитый позументом, изящно повязанный, сверкал ослепительной белизной. В этой нарядной одежде Айгерим, несколько располневшая за последние годы, поражала своей созревшей красотой.
Абай порой отрывал от книги глаза и взглядывал через открытый тундук на небо. Он уже дважды спрашивал Злиху, которая то и дело выходила по хозяйству:
— Ну, как там тучи? Не расходятся?
В юрту вошли Магаш и Акылбай вместе с друзьями, с которыми они позавтракали в своих юртах. Появились Ербол, Кокпай, Баймагамбет и Муха — певец-скрипач. Они считались гостями самого Абая, тогда как молодежь — Какитай, Дармен и начинающий певец Альмагамбет были гостями его сыновей, Абай продолжал читать, и лишь когда рядом с ним сел на свое обычное место Ербол, он снял очки, отложил книгу и обратился к другу с тем же вопросом:
— Как погода, виден просвет?
Айгерим с улыбкой подняла глаза на мужа.
— Что вы все беспокоитесь о погоде, Абай, будто сейчас зима и грозит джут?[4]
Абай ответил ей долгим восхищенным взглядом. Румянец, вызванный огнем очага, еще больше подчеркивал чистую белизну ее лица, все оно сияло безмятежным спокойствием. Глядя на нее, Абай невольно улыбнулся и сам.
— И верно, что это я пристаю ко всем с погодой? — весело сказал он. — Не лучше ли глядеть на тебя и забыть о ней? Какой бы унылой она ни была, в нашей юрте сверкает свое солнце… Гляди, Ербол, как брызжет оно лучами! Ну какая осень может омрачить его сиянье?
Все шумно рассмеялись, Айгерим еще больше покраснела; смущенно прозвенел ее тихий смех, всегда напоминавший Абаю звон серебряного колокольчика. Она повернулась к Злихе и сказала, чтобы та подала гостям кумыс.
Служанка расстелила новую синюю скатерть, принесла большую миску и серебряный черпак с позвякивающими на ручке кольцами. Густой осенний кумыс наполнил желтые деревянные чашки.
Сегодня кумыс оказался особенно хорош. Иногда, не перебродив достаточно в такие холодные ночи, кумыс отдает прокисшим молоком. На этот раз гости, выпив по чашке, зачмокали губами.
— Настоящий, крепкий кумыс!
— Такой с ног свалит!
Яркий огонь очага, мясо, сварившееся в котле, отличный, густой кумыс — все это располагало к долгой беседе. Именно для этого и собрались в юрте Абая его друзья и молодежь.
То, что рассказал вчера Абай, каждого взволновало и навело на глубокие раздумья. Кокпай, Ербол, Муха и Баймагамбет, ночевавшие вместе, все утро говорили только об этом. Больше других знал о давнем событии Ербол. Он объяснил бесчеловечность приговора тем, что во времена Кенгирбая племя Тобыкты, еще малочисленное и неокрепшее, не смело спорить с сильным племенем Сыбан, из которого происходила Енлик. А старейшины его требовали самой жестокой казни.
Слова Ербола ни у кого не вызвали возражений, обсуждались лишь подробности события.
Не так говорили о нем в юрте Магаша, младшего сына Абая. Там горячие и пылкие споры начались еще с вечера и продолжались за утренним чаем. Акылбай, Магаш, Какитай и Дармен всякий по-своему искали объяснений жестокому насилию. Они строили множество догадок, приходили к самым различным выводам. Страстные чувства волновали их: презрение к палачу, жалость к его жертвам, гнев и стыд. Один вопрос занимал юношей более всего: что хотел сказать Абай, говоря о правде жизни и о том, что поэт должен именно выражать своими стихами?
Дармен попытался разрешить загадку:
— Мне кажется, Абай-ага намекал тут на Кенгирбая… По-моему, он хотел сказать: «Не воспевайте его как безгрешного аруаха. Ищите правды. И если в нем есть пороки — не молчите о них, говорите прямо!»
Эта мысль пришла Дармену в голову ночью, когда он размышлял о своей будущей поэме. Если бы ему дали волю, он показал бы Кенгирбая таким, каким тот был в день страшного приговора, без тех покровов, которыми его благоговейно окутали.
Магаш возразил ему:
— Как ты будешь говорить о пороках Кенгирбая, если его считают почти святым. Давайте сперва решим, как понимать, что такое правда. Если это то, что на устах у многих, нам остается лишь смиренно ставить на могилу Кенгирбая парные свечи и проводить на ней ночи в молитве. По-моему, нельзя слепо верить тому, что твердят люди, покорные обычаям. Наоборот, надо обличать заблуждения, направлять народ на новый путь…
В разговор вмешался старший сын Абая Акылбай. Он размышлял всегда неторопливо и обстоятельно, отчего казался тяжелодумом. Однако он глубже других вникал в суть вопроса. Так и теперь Акылбай повернул беседу в неожиданную для всех сторону.
— Я тоже думаю не о Кебеке и Кенгирбае, меня занимает другое, — заговорил он своим резким, хрипловатым голосом, напоминавшим голос его матери — Дильды. — Вот вы скажите мне: может ли быть на свете вечная истина? Такая, которая оставалась бы общей для всех народов, неизменной для всех времен? Бывало ли так, чтобы все поколения одинаково понимали справедливость, жестокость, коварство?
— Верно, Акыл-ага, — улыбнулся Какитай. — Немало мудрецов так же ставят вопрос в своих книгах. И кто знает, может быть, во времена Кенгирбая кое-кто считал такой приговор не бесчеловечным преступлением, а справедливой карой? Что вы думаете об этом? — И он посмотрел на Магаша.
Обычно, беседуя о сложных вопросах, которые выдвигала перед ними жизнь, друзья приходили к общему решению. Но часто споры их не рождали ясного ответа, а иной раз приводили к выводам, явно противоречащим взгляду на жизнь, установленному мусульманским учением. И тогда друзья, не в силах выбраться из дебрей, куда сами забрели, бывали вынуждены обращаться за помощью к Абаю.
Слова Какитая заставили Магаша призадуматься. Некоторое время он молчал, а потом взглянул на него и улыбнулся.
Если б мне пришлось судить, как настоятелю мечети, то… он рассмеялся, — то я обвинил бы вас обоих в кощунстве!
Какитай тоже засмеялся, видимо ничуть не испугавшись такого обвинения.
— Ну, что же, пусть так! Только не говори этого при Кокпае и Шубаре! Они всегда морщатся, когда мы осмеливаемся в своих спорах уходить от восточных книг…
Но на Акылбая слово «кощунство» произвело впечатление. В отличие от Магаша и Какитая он, как и Шубар с Кокпаем, крепко держался мусульманских убеждений. И Магаш, зная это, не стал продолжать спор.
И теперь, сидя у Абая за кумысом, молодежь с нетерпением ждала, когда беседа перейдет на то важное и значительное, о чем говорилось в юрте Магаша. Наконец, воспользовавшись удобным случаем, Магаш начал рассказывать отцу о незаконченном споре. Абай слушал внимательно, пристально глядя на него. Но когда юноша замолчал и Абай хотел было уже отвечать, возле юрты залаяли собаки, послышались топот коней и громкие голоса. Абай невольно посмотрел на дверь.
Войлок приподняли снаружи и дверь некоторое время держали открытой, видимо, в ожидании, пока какой-то почтенный гость сойдет с коня. Порыв холодного ветра ворвался в юрту, огонь в очаге взметнулся, едкий дым кыя сизым клубом пыхнул на сидящих. Они зажмурились, закашлялись и, протирая слезящиеся глаза, не очень-то радушно повернулись к двери, пытаясь разглядеть гостя, так некстати прервавшего интересный разговор.
Вошедший в юрту старик, не здороваясь, обвел всех прищуренными глазами. Важно поглаживая седую окладистую бороду, он сам ожидал приветствий, соответствующих его преклонному возрасту. Все, кроме Абая, встали и отдали ему салем, освобождая дорогу к почетному месту. Абай холодно поздоровался и неприязненно проследил взглядом, как усаживался гость.
Это был Жуман, троюродный дядя Абая. Несмотря на его годы (Жуману было уже под семьдесят), Абай считал его самым никчемным из всех своих родственников и вполне соглашался с прозвищем, под которым старик был известен в племени Тобыкты: «Жуман-болтун». Жуман и сам знал, что Абай недолюбливает его. Но ни это, ни осенняя непогода не помешали ему явиться в гости: причина для приезда была, слишком уважительной.
Еще вчера он узнал, что в ауле Абая зарезали жеребенка от кобылы, которая в эту осень ходила яловой. Жеребенок такой кобылы обычно сосет мать по второму году, и нежное мясо его особенно ценится. Жуман с самого утра ждал, когда же можно будет поехать к Абаю. Он приказал сыну держать коней оседланными и не спускать глаз с юрты Абая, пока над ней не появится дым, означающий, что мясо заложено в котел.
Гостеприимный аул Абая привлекал к себе многих людей, которые и зимой и летом приезжали без всякого приглашения под благовидным предлогом послушать Абая. Они появлялись прямо к обеду и раскрывали рты лишь для того, чтобы запихнуть туда куски мяса. Покончив с угощением, они молча разъезжались по домам, не интересуясь тем, что будет говорить Абай, беседуя с молодежью, которая шла к нему совсем не ради кумыса и обеда. Таких гостей Абай даже не замечал, желая лишь одного: чтобы они не мешали его разговорам с теми, кто был ему близок по духу.
Так и теперь: едва Жуман и его сын Мескара, коренастый смуглый парень, прильнули к кумысу, он уже забыл о них и обратился к молодежи, отвечая на слова Магаша. Он начал сразу с того, что затрудняло Дармена:
— Вчера мы решили: если слово берет поэт, пусть оно выражает всю правду жизни. Что это означает? Прямой и ясный ответ вы найдете у русских писателей. Они говорят: поэтическое слово не только повествует о том, что происходит в жизни, но дает этому свою оценку. Другими словами: поэт должен выносить свой приговор… Если не ошибаюсь, эту мысль высказал Чернышевский… Это значит, что если бы будете, например, рассказывать о таком правителе давних времен, как Кенгирбай, то повторять привычные для других слова — «блаженной памяти», «святой предок» — будет бессмысленно. Надо пристально вглядеться в те времена, понять, что же действительно произошло, и тогда смело вынести свой приговор…
И, как бы поясняя сказанное, Абай заговорил о казни Енлик и Кебека. Жестокость Кенгирбая нельзя оправдывать тем, будто народ был возмущен дерзостью Кебека, похитившего просватанную невесту. Наоборот, люди сочувствовали несчастным жертвам. Нельзя оправдывать Кенгирбая и тем, что он якобы не мог бороться против племени Сыбан, требовавшего суровой кары. Это неверно: племя Тобыкты и тогда было уже достаточно сильным. Правду об этом деле надо искать в самом народе, у стариков. Те знают, сколько скота пригнали Кенгирбаю из племен Сыбан и Матай, чтобы он вынес приговор, отвечающий их жажде мести.
Юноши и старшие друзья Абая внимательно слушали его. Жуман, вволю напившись кумыса, давно уже был поглощен другим: по выражению лиц Злихи и Айгерим, присматривавших за котлом, он старался угадать, скоро ли поспеет мясо. Разговор Абая о таких непонятных вещах быстро утомил его. Недовольно чмокая губами, Жуман удивлялся: о чем только не болтают люди! Порой он клевал носом, погружаясь в дремоту, и пропустил даже то, что говорилось о Кенгирбае.
— Вы пытались решить, что же такое истина, — донеслись до него слова Абая. — На этот вопрос коротко не ответишь…
Услышав это, Жуман знаком приказал сыну подать подушку и уткнулся в воротник чапана.
Абай начал с того же, о чем говорили юноши в утреннем споре.
— Вы правы, что это слово понимается различно. Ислам, например, говорит в имане — символе веры, который наизусть знает каждый мусульманин… — И Абай сказал по-арабски — «Верую в единого бога, в его ангелов, в пророков его и священные книги его, в коран, изреченный самим создателем…» А раз так, значит — в коране и заключена вся истина. Какова же она? Я не буду приводить множества других мнений, а передам вам только слова одного мыслителя, который вступает в спор с кораном…
Кокпай, взглянув на Абая с некоторым испугом, беспокойно кашлянул, как бы предупреждая, что разговор заходит слишком далеко. Остальные отодвинули чашки с кумысом и подсели ближе к Абаю, слушая его с жадным вниманием.
— Мыслитель этот говорит: «Допустим, мы верим, что коран — это собственные слова создателя, записанные последним его пророком. В таком случае все сказанное в коране должно быть более правильным и более глубоким, чем то, что за много веков высказано людьми, пусть даже мудрецами. Стало быть, наука всех наук, высшая истина, вершина мышления заключена именно в коране». Но почему же получается иначе? — спрашивает этот мыслитель. — Почему эта книга менее глубока, чем книги индийских мудрецов или греческих философов? У человечества есть множество неразрешенных вопросов: в чем суть истины, кто создал мир, что такое вселенная, что такое душа? Разумеется, на все эти вопросы яснее всего и вернее всего должен был бы ответить коран. Но почему же ответы его неясны, запутанны и не так убедительны, как ответы, которые дают на эти вопросы мыслители прошлого и современности? Все, что сказано в коране о строении вселенной, о человеческом обществе, о теле человека и об его сокровенной тайне — душе, ничего не объясняет. Более того, говорит он, иногда получаются даже смехотворные выводы…
Абай помолчал, обводя взглядом слушателей. Ербол и Акылбай сидели нахмурясь, опустив головы, а Кокпай даже приложил руку к груди жестом покаяния, будто повторяя про себя «Астапыр, алла» («Господи, прости мое согрешение»). Дармен, Магаш и Какитай, наоборот, улыбались и, не решаясь высказать одобрение вслух, всем своим видом показывали, что слова Абая нашли в них живейший отклик.
— Мудрец этот указывает, что сказкам, которые есть в коране, просто трудно верить, — снова продолжал Абай, — что там с детской наивностью говорится о бесах всякого рода и о прочем колдовстве, чему человек, постигший науки и обладающий разумом, поверить уже никак не может. В самом деле, вспомните стих из корана «Алям тара кайфа…», «Посмотрите, как господь покарал за гордыню племя Филь». Толкователи корана поясняют, что с неба слетело множество необычайных птиц, несших в клювах камни, и каждая птица бросила на голову каждого человека камень господней кары… Ну можно ли этому поверить? Или возьмите короткую молитву из корана, которую пять раз в день повторяет тот же Кокпай во время намаза: «Куль агузи би раббиль фалях», где просят господа, чтобы он охранил от нечестивых козней старухи колдуньи, умеющей насылать на людей порчу… По мнению мыслителя, коран, давая такую молитву, ничем не отличается от шамана или знахаря, которых мы нынче считаем суеверными невеждами. Вот вам пример того, что, желая найти в коране истину, мы находим суеверие и невежество! — закончил Абай.
Кокпай и Акылбай, не в силах слушать дальше, поднялись и молча пошли к выходу. Какитай, Дармен и Магаш проводили их громким хохотом.
— Они спасают свою веру бегством! — шутливо заметил Магаш.
Какитай повернулся к Абаю.
— Немудрено, что Кокпай сбежал! Ваш мудрец, Абай-ага, прямо за глотку хватает! — Потом, перестав смеяться, он добавил в раздумье: — Но если согласиться с ним, что же остается от вашей веры? Чем тогда жить?
Смех юношей разбудил Жумана. Он взглянул на котел. Огонь, видимо, давно потух, а Абай, все говорил и говорил; сейчас он отвечал Какитаю, Жуман с негодованием и презрением взглянул на Абая, который совершенно позабыл о том, что пора приступить к обеду.
Тревога, прозвучавшая в вопросе Какитая, была понятна Абаю, и он, ласково глядя на юношу, сказал:
— В книгах других мыслителей ты столкнешься с более горькой правдой. Но не отворачивайся от нее, не беги, как это делал Кокпай… Взвешивай, сравнивай, думай и, если окажется нужным, выбирай…
И Абай снова вернулся к тому, что занимало молодых акынов.
— В поисках ответа, что же такое истина, где должен искать ее поэт, мы увидели, как в разные времена, в разных обществах по-разному понималась истина. Но оставим далекое прошлое, посмотрим на то, что окружает нас сейчас. Подумайте хотя бы о том, о чем рассказали нам вчера Магаш и Дармен…
Какитай, несдержанный и пылкий, воскликнул:
— Что можно увидеть рядом с Азимбаем кроме злодейства и насилия?
Абай взглянул на юношу.
— Вдумайся: разве всякие Азимбаи и Такежаны свое насилие над слабым именуют насилием? Разве свои дела они понимают как разбой? Нет, они понимают это как свое право, как преимущество сильного рода Иргизбай над другими. Они говорят: «Раз мой дед Оскембай властвовал над людьми, раз мой отец Кунанбай устанавливал свой закон для народа, то, если мы не пойдем по их стопам, значит, мы недостойные потомки!» Пусть другие называют это хищничеством, волчьим законом, насилием, им это все равно. Они держатся за это… Ну, а разве убедите вы обездоленные и ограбленные аулы, что истина — в таком волчьем законе? У этих аулов настоящая истина — стремление защищаться, сопротивляться. Разве все это не источник для мысли поэта? Пишите о прошлом, судите его, пойте о сегодняшнем, но проверяйте все самой жизнью. Каждую истину проверяйте думами, мечтами, судом самого народа. Вот что я посоветовал бы вам. Несчастье этих бедняков велит мне бороться за них, посылает меня к Такежану, требует, чтобы все мои, мысли, мои стихи и песни служили народу. Вот что повелевает мне жизнь!
Абай говорил теперь все более взволнованно, повышая голос и увлекаясь. Было видно, что он не раз думал обо всем этом. Подчеркивая свои слова широкими движениями рук, он продолжал:
— А вот обратимся к России. Как думает о ней казахский народ? И что видят в России такие люди, как Уразбай, Жиренше или, скажем, наш Такежан? Для Уразбая Россия — это только власть белого царя. Он и покоряется ей, и боится ее, и угождает ей. Для него самое важное — выпросить для себя или сына место волостного управителя, чтобы нажиться самому и прижать своих соперников. Для всех, подобных ему, понятие «Россия» только в этом и заключается. Он и не друг России и не враг ее, он связан с ней лишь расчетом, выгодой. Да он и не знает ни России, русского народа, он знает лишь чиновников да урядников. А что такое на самом деле Россия для молодого поколения казахского народа?
Абай обвел взглядом слушателей.
— Россия — это прежде всего страна с высоким уровнем жизни, неизмеримо более высоким, чем у нас, в нашей глухой степи. Россия — это мудрые книги, написанные настоящими мыслителями; это бесчисленные школы, библиотеки, лечебницы; это многолюдные города, где жизнь идет совсем иначе, чем в нашей пустыне; это железная дорога, пришедшая нынче в Сибирь; это пароходы, плавающие теперь по Иртышу; это и русские фабрики, заводы, мастерские. И мы, казахи, получаем от России часть того, что рождается в ней ее высоким уровнем жизни: мы получаем и одежду, и обувь, и упряжь, и топоры, и пилы. Это видят все. Но мы можем получить и то, что важнее этого: знания, просвещение, уменье вести борьбу против насильников так, как ведет ее давно уже русский народ. Вот это все и есть для нас Россия! Лучшие русские люди зовут казахов к себе, говорят: «Идите к нам, учитесь у нас, будьте такими, как мы…» Ну, значит, как же должны мы рассказать о России нашим сородичам, если мы честные сыны нашего народа? Понятно, мы скажем, что Россия — наш друг, это будет истиной и нашей и общенародной. Для народа эта мысль будет правдой, важнейшей и нужнейшей. Но, конечно, Уразбай или Такежан, выслушав наши слова, завопят, что в них нет и крупицы истины…
Слушая Абая, Ербол удивлялся, какие смелые мысли владеют нынче его старым другом. Он искренне сочувствовал тому, что говорил Абай. Невольно вспомнились ему слова Кокпая. «Уж очень наш Абай-ага восхищается всем русским, — говорил тот, с упреком покачивая головой. — Неужели только на них и смотреть?» Чего же можно было ожидать от Уразбая или Жиренше, если даже Кокпай враждебно принимает слова Абая?
На этом беседа закончилась. Котел, который так долго испытывал терпение Жумана, был наконец снят. Кокпай и Акылбай вернулись в юрту, все начали мыть руки и усаживаться. Жуман вытащил из ножен большой нож с желтой роговой рукояткой, готовясь крошить желанное мясо, и наконец вступил в разговор. Негодование все еще кипело в нем, и, пользуясь правами старшего по возрасту, он громко заговорил, не слушая никого:
— Ну и никчемные люди эти тобыктинцы! О чем они думают, на кого они смотрят? Не понимаю, чем я досадил им, что они все время неотступно преследуют меня, донимают тем, что я много говорю, называют меня «Жуман-болтун», «Жуман-пустомеля». А почему именно меня? Уж если болтуном называть того, кто много говорит, то и без меня найдутся болтуны! Вот хотя бы этот Абай, говорит один без умолку. Целый котел мяса успел свариться, пока он тут болтал! Вот уж кого надо прозвать пустомелей!
Молодежь снова засмеялась. Айгерим, поливавшая воду на руки Абаю, тоже залилась своим тихим, серебристым смехом. Сам Абай, весь трясясь и расплескивая воду, хохотал до слез и наконец, махнув мокрой рукой на Жумана, едва сумел выговорить:
— Эх, аксакал… Чтобы прослыть болтуном, вовсе не нужно много говорить… Достаточно сказать: «Жена, как хорошо, что я утром…»
Новый взрыв общего смеха не дал ему докончить: каждый отлично понял, на что намекает Абай. Однажды зимой Жуман, проснувшись, вышел облегчиться. Днем поднялся сильный ветер, начался буран, все заволокло снежной пылью. Жуман долго стоял у окна, посматривая на буран, потом подозвал жену и сказал ей важно и значительно: «Жена, погляди, что делается! Как разумно было, что я утром успел сходить на двор!» Слова эти облетели всё Тобыкты.
Жуман, не обращая внимания на смех, деловито накрошил мясо и начал пожирать его. Акылбай, сидевший рядом с Айгерим, наклонился к ней и зашептал, расплываясь в улыбке:
— Женеше[5]…— Он звал ее «женеше», а отца — Абай-ага: воспитываясь с малых лет у своего деда Кунанбая и его жены Нурганым, он привык относиться к отцу, как к старшему брату, а к жене его, как к невестке. — Женеше, с кем он вздумал состязаться в насмешке? Сам ищет, где бы повернее сломить себе шею!
Айгерим, считая неприличным смеяться над старшим родственником, обернулась к Злихе как бы по хозяйству, борясь с душившим ее смехом. Тем временем Жуман успел уже справиться с порядочной горой мяса и потянулся за сорпой — бульоном. Прихлебывая из большой деревянной чашки, раскрашенной узорами и цветами, он снова заговорил:
— Ну, посмеялись надо мной достаточно. А теперь я скажу вам кое-что, что заставит вас прекратить смех. Вот я все думал, размышлял, никак не мог понять: с чего это вдруг жигитеки так обнаглели? Я ведь рассказывал тебе, Абай: недавно один из их аулов, кочуя мимо Кольгайнара на осеннее пастбище, прогнал коней через мой покос. Помнишь, я говорил тебе: «Как смеют жигитеки идти по нашим землям! В чем они силу почуяли?» Говорил я это? И вчера еще я удивлялся, как эти голодранцы осмелились тягаться с Азимбаем из-за спорного покоса. Кто с кем вздумал спорить? Самые дохлые из жигитеков с самым сильным из иргизбаев! Кричат, мычат, как коровы, увидев волка! Неспроста, думаю, опять жигитеков какое-то бешенство охватило, говорю…
Абай, явно показывая свое нежелание слушать вечные кляузы, отвернулся от Жумана, нахмурившись. Но тот повысил свой скрипучий голос и с важностью продолжал:
— Так вот послушай теперь. Послушайте и вы, какую новость привезли из города. Нынче утром через наш аул проскакал верховой и так кричал: «Суюнши! Суюнши!» — что мы его остановили: откуда скачет, куда, что за радость? Оказывается, скачет из города к жигитекам. И знаете, кто это был? Большеносый сын Тусипа, тот, которого зовут Мадияр, вот кто! И что, думаете вы, он говорил? Он говорил: «Суюнши, суюнши! У белого верблюда брюхо распоролось![6] Сам аллах сжалился над жигитеками! Вернулся, говорит, заступник, который высушит мои слезы!» А знаете, о ком он это кричал, волнуя и тревожа народ, скача через аул что есть духу? О Базаралы, вот о ком! «Бежал, говорит, из ссылки, вернулся!»
Новость поразила всех сидевших в юрте Абая.
Базаралы, бедняк из рода Жигитек, был отважным борцом против насилий и зверств Кунанбая, сыновей его Такежана и Исхака и внука Шубара, ставших волостными управителями. В свое время он встал во главе бедноты рода Жигитек и прочего угнетенного люда Чингизской волости и не раз оказывал серьезное сопротивление этим правителям. Сильные враги его подкупили уездного начальника Казанцева, и оклеветанный Базаралы был сослан в глубь Сибири. Несколько лет он находился вдали от родины, и о нем не приходило никаких вестей.
Абай обернулся к старику:
— Что вы говорите? Дай бог, чтобы ваша весть была верна!
Молодежь оживленно и радостно зашумела:
— Значит, Базеке жив!
— Выбрался из могилы.
— Вот и примчался на крыльях!
— Невредимым вернулся. Вот счастье!
Жуман никак не ожидал, что слова его будут так встречены. Лицо его выразило досаду.
— Будь сейчас волостным Такежан или Шубар, этот разбойник не только не появился бы, но и во сне не увидел бы степь, — проворчал он. — Наверно, узнал, что волостным сейчас Кунту, почуял, что власть теперь уже не в руках сыновей хаджи Кунанбая. А чему вы радуетесь? Думаете, веселье вернулось? Нет, беда с кровавыми глазами вернулась, вот увидите!..
— Довольно, перестаньте, аксакал! — перебил его Абай, сдерживая возмущение. — Что сделал вам Базаралы? Какая неотмщенная обида осталась за ним? Вернулся — и слава богу, пусть ждет его удача!
И, обращаясь к своим молодым друзьям, Абай закончил:
— Месть и злобу я отдал другим. А мы эту весть встречаем радостью. Базаралы — честь моего народа! Кто думает, как я, пусть завтра же едет в Семипалатинск и передаст ему мою братскую радость!
3
Догадка Жумана была верной: Базаралы бежал из ссылки именно потому, что волостным управителем Чингизской волости стал нынче Кунту. Будь управителем Такежан или Шубар, он не решился бы вернуться на родину, где у власти были те же люди, которые добились его ссылки. Но летом прошлого года власть была вырвана из рук сыновей Кунанбая и перешла к роду Бокенши, а следовательно, и к жигитекам. Событие это было совершенно неожиданным и изумило все племя Тобыкты.
Выборы проводил сам Казанцев — семипалатинский уездный начальник, в течение многих лет покровительствовавший сыновьям Кунанбая. Но даже и он до самой последней минуты не подозревал, что управителем окажется не один из них, а кто-то другой. Избрание Кунту явилось для него такой же необъяснимой и неприятной неожиданностью, как и для них самих.
Началось все это со съезда аткаминеров,[7] происходившего весной прошлого, 1888 года, на зимовке Оспана, младшего сына Кунанбая, в Жидебае.
Шубар, занимавший тогда должность волостного, устроил в доме Оспана съезд аткаминеров всей Чингизской волости. Тайной целью этого сбора, известной лишь Шубару, Такежану и его дяде Майбасару, было выяснить настроение родовых воротил перед выборами: не таит ли кто-либо из них вражды против кунанбаевцев, нет ли таких, кто будет выступать против намеченного ими кандидата? Равнодушных, колеблющихся, сомневающихся следовало привлечь на свою сторону, а против тех, кто может навредить, заранее принять меры. Именно для этого Шубар и созвал в Жидебае около сотни аткаминеров — родовых старейшин, биев, аульных старшин, елюбасы[8] — и, подчеркивая значительность встречи, заколол для них кок-каска — серую кобылицу с отметиной на лбу. В древности такую лошадь закалывали перед началом какого-либо важного дела и давали торжественную клятву в верности друг другу, опуская пальцы в ее кровь. Впоследствии угощение мясом кок-каска стало символом единомыслия и верности общему делу.
Внешним поводом для этого съезда послужила необходимость распределить между аулами Тобыкты налог на покрытие издержек волостного, связанных с его должностью. Под предлогом расходов на поездки в город, на прием и угощение начальства в ауле, на подарки и подношения нужным людям волостной помимо обычных налогов в доход казны устанавливал свой собственный. По существу это было просто взяткой, которую управитель вымогал у населения вдобавок к казенному жалованью. Эти поборы не имели ни установленных размеров, ни определенных сроков. Народ окрестил их «черными сборами».
Этой доходной статьей волостной не мог пользоваться один: волей-неволей приходилось делиться с теми, кто помогал ему выколачивать «черные сборы». Отобрав у народа множество всякого добра — овец, коней, денег, — аульные старшины, елюбасы, бии и родовые старейшины полюбовно делили с волостным добычу, получая каждый свою долю. И поэтому, когда Шубар, ссылаясь на предстоящие расходы по выборам, значительно увеличил в том году размер «черного сбора», аткаминеры согласились с ним без долгих пререканий.
Чингизская волость состояла из двенадцати административных аулов.[9] Представители их, разместившись группами в просторных комнатах нового дома Оспана, выстроенного после смерти Кунанбая, занялись распределением налога по юртам своих аулов — на каждый «дым». В этом деле все руководствовались одним правилом: не обижать своих родственников и друзей и всю тяжесть налога валить на других. А так как родственниками и друзьями аульных воротил могли быть только богатые и зажиточные люди, то само собой получалось, что налог раскладывался по юртам худородных бедняков.
Для оправдания этого было изобретено объяснение: когда в ауле проводится съезд или туда приезжает начальство, то львиную долю расходов несут именно зажиточные хозяева: им приходится и давать подводы, и выставлять гостевые юрты, и тратиться на угощение. «Ведь никто не останавливается у бедняков, — рассуждали аткаминеры, — никто не ждет от них ни кумыса, ни мяса. Все ложится на нас. Так пусть они примут на себя часть расходов, иначе как же могут они жить в нашем ауле и считаться нашими сородичами? Должны же они помочь старшим, если бога не забыли!»
Когда дело касалось простого народа, аткаминеры, обычно грызшиеся между собою, как аульные собаки, и здесь вели себя как собаки, когда те завидят волка: они бок о бок кидались на общего врага. Народ отлично видел их грязные дела, но кому мог он жаловаться на «черные сборы», беспрерывно ложившиеся на него тяжелым бременем! Тем же биям, старшинам, волостному? «Какой с того прок? — толковали по аулам простые люди. — Обратишься с жалобой к одному — он пошлет тебя к другому. Воротилы всегда сухими из воды выйдут.
Крепка у них круговая порука, недаром говорится: «В своем ауле хвост у собаки крючком». Поддерживают, защищают друг друга, а твои слова уходят на ветер. Что же остается? Махнуть рукой и покорно отдать свое добро.
Однако распределить «черный сбор» на множество юрт было не так-то легко. Съехавшиеся и позавтракали и угостились мясом кок-каска, а разверстка все еще не закончилась.
Хозяин дома, уступив большие комнаты аткаминерам, сидел со своими друзьями в маленькой угловой. Тут собрались подобные ему самому охотники до веселой беседы за кумысом и бесбармаком, не занятые ничем, кроме праздных переездов из аула в аул.
После обеда приехал Дармен. Оспан обрадовался ему, посадил рядом с собой, угостил густым зимним кумысом, а потом подал домбру.
— Вот хорошо, что ты приехал! Меня тут совсем замучили. Твердят: «Расходы, сборы! А сами пекутся только о своих прожорливых глотках. Дочиста мой аул объели! Умоляю, припомни, нет ли у Абая или у тебя таких песен, которые бы с них живьем шкуру содрали? Спой хоть одну, отомсти этим шакалам за мои обеды и чай! — сказал он, рассмешив такой просьбой своих гостей.
Дармен тут же начал длинную песню, незнакомую слушателям. Это была новая песня Абая. Полная гнева и едкой насмешки, она клеймила степных воротил, хитроумных управителей, взяточников-биев, неугомонных сутяг.
Дармен пел все громче и смелее, все более вызывающе. Шумное веселье привлекало внимание степных аткаминеров, сидевших в соседней комнате. Двое из них подошли к двери и, вслушавшись в слова песни, позвали остальных. Дармен далеко не дошел еще до конца, когда появились Уразбай, Жиренше, Бейсемби и Абралы — старейшины родов, известные на всю волость сутяги и хищники.
Беспощадные стихи Абая поразили их. Песня, высмеивая вымогателей, хитрецов, клятвопреступников, обличая их тайные сговоры и темные дела, как будто называла по именам и их самих и тех, кто был с ними. Они слушали Дармена хмуро, ни разу не усмехнувшись.
Дармен закончил песню, насыщенную гневом и горечью. Кучка аткаминеров сидела недвижно в холодном молчании. Оспан, посмеиваясь, повернулся к Уразбаю:
— Ну, бай, что ты морщишься? Не нравится, как Абай нападает на тебя? И верно — прямо по темени бьет!
Уразбай заговорил, сдерживая кипевшую в нем ярость.
— Видно, ничего хорошего не ждать уже нам от нашего времени. Скоро совсем загниет. А испортите его вы, сыновья хаджи, — сказал он сурово, глядя не на Оспана, а поверх его головы, словно видя за ним еще кого-то.
Привыкшие хорошо понимать всякий намек аткаминеры одобрительно кивнули. Уразбай продолжал с нарастающей злобой:
— Чему учат? Собери в свой аул людей, почитаемых народом, и лупи их вот так по башке! Срами, пачкай всех, срывай одежду! Подавай пример молодежи и всякому нищему сброду! — Он раздраженно махнул рукой.
— Э, Уразбай, а что тебе обижаться? — ответил Оспан, хитро посматривая на него. — Если ты в самом деле почтенный и хороший человек, песня эта не про тебя! А если ты узнал в ней самого себя, так злись не на песню, а на бога, что он тебя сделал таким…
Дармен усмехнулся, оценив хлесткий ответ. Аткаминеры, не удостоив Оспана ни словом, лишь окинув его презрительным взглядом, как юродивого, вернулись в свою комнату.
День уже клонился к вечеру. Выйдя из дому подышать свежим воздухом, Оспан вдруг заметил, что возле зимовки, на том пастбище, которое он сберегал для скота, кормившегося еще прошлогодним сеном, пасется около сотни оседланных коней. Этого Оспан не выдержал.
Он гневно обернулся и, увидев одного из своих жигитов, рослого Сейткана, приказал:
— Бери курук и скачи к тем коням! Гони всех в загоны! Мало обжорам того, что на скатертях, еще и коням их отдать луг на потраву? Загоняй скорей, бей куруком, кто заартачится!
Сейткан схватил курук — длинную березовую палку с петлей на конце для ловли лошадей, — вскочил на стоявшего у дома коня и помчался во весь дух. Забияка по природе, Сейткан вдобавок отличался дерзостью и наглостью слуги сильного, знатного хозяина.
С гиканьем подскакав к пасущимся лошадям, он начал бить их куруком, выкрикивая во все горло имена тех родов, чье тавро было выжжено на крупах:
— Сактогалак! Жигитек! Котибак! Топай! Карабатыр! Торгай!…
Испуганные криками и ударами, кони шарахнулись в стороны, стукаясь седлами, наскакивая друг на друга, и наконец кинулись к зимовью, словно гонимые степным пожаром, неловко подскакивая на спутанных передних ногах. У ворот загона они сбились в кучи, сталкиваясь, взвиваясь на дыбы, опуская копыта на спины передних. И тут случилось то, чего ни Оспан, ни Сейткан не предвидели: перекладина ворот была очень низка, и спутанные кони, проскакивая в загон вприпрыжку, с силой ударяли по ней седлами, с треском раскалывая и даже разбивая в щепки передние луки…
Тем временем распределение «черного сбора» наконец завершилось. Общее согласие, с которым аткаминеры обсуждали, сколько нынче можно взять у народа, сразу же исчезло, едва речь зашла о доле каждого из них в будущей добыче. Шубар, как волостной, и поддерживаемые им другие кунанбаевцы показали такую жадную хватку, что остальные уходили обиженные, затаив злобу. Больше всех оскорбились Уразбай, Жиренше и Бейсемби.
Когда, закончив дела, аткаминеры гурьбой повалили из дома Оспана, чтобы сесть на коней, они увидели последствия озорства Сейткана. Почти все седла были исковерканы, словно кто-то нарочно разбивал их, решив поиздеваться над гостями. Были изуродованы седла и тех, кто считал себя цветом племени Тобыкты: Жиренше, Уразбая, Кунту, Бейсемби, Абралы, Байгулака, Байдильды. Тщеславные, самолюбивые, заносчивые, они были глубоко оскорблены тем, что на глазах у аткаминеров всей волости оказались в таком смешном и позорном положении. Не спрашивая объяснений у хозяина аула, Оспана, не удостоив взглядом даже Шубара, который провожал гостей, они уехали молча, не попрощавшись.
И только когда зимовье Оспана скрылось из глаз, Жиренше, Кунту, Уразбай и Бейсемби, ехавшие рядом, заговорили об этом.
— Что мы им сделали кроме добра? — мрачно начал Жиренше. — По первому зову Шубара примчались, чтобы помочь ему добиться неслыханного «черного сбора»… Озолотили и его самого, и всю его родню, и того же Оспана. А чем они отблагодарили? Этим, что ли? — И он ударил рукояткой плети по разбитому седлу Кунту.
— Сами мы распустили кунанбаевских щенков! — злобно отозвался Уразбай. — Совсем обнаглели, бога забыли… Даже сам Кунанбай не издевался так над нами! Но пусть покарают нас предки, если мы стерпим и на этот раз! Собаками мы будем, если и сейчас проглотим их дерзости. Надо действовать!
Бейсемби, расчетливый, спокойный и властный глава рода Жигитек, обычно говорил медленно, взвешивая каждое слово. Отлично поняв настроение обоих и прочитав на хмуром лице Кунту полное сочувствие им, он сказал, глядя в упор то на Жиренше, то на Уразбая:
— Не кричи так. Зачем это слушать другим? И не говори лишних слов. Если ты действительно возмущен, говори о деле. И говори открыто, свет мой…
В его внешнем спокойствии оба старейшины почуяли ярость, готовую прорваться.
— Клянусь всевышним, буду мстить! — ответил Уразбай.
— Клянусь кораном и духами предков, умру, но буду с тобой, скажи только, что делать! — поклялся и Жиренше.
Бейсемби, как бы убедившись в их решимости, заговорил быстрее обычного, даже взволнованно:
— Если вы оба говорите, что думаете, пусть гнев ваш не тонет в словах. Говорить много нечего, все и так ясно. Нет у нас больших врагов, чем те, кто нынче кричит громче всех, проклиная сынков хаджи, а завтра сам бежит к ним рассказывать, кто что говорил. Не время пустословить. Вот нас четверо. Возьмем еще троих — больше нам и не нужно. Поедем к могиле Кенгирбая, принесем торжественную клятву и примемся за дело.
— Пусть будет так. Едем! — отозвались Кунту и Уразбай.
Жиренше добавил:
— О создатель, пошли нам успех! Я первый поклянусь в мести, подняв над головой камень с могилы Кенгирбая… Называйте имена.
Они придержали коней, чтобы договориться, кого еще взять с собой. Жиренше подозвал Байгулака, Абралы, Байдильду, и все семеро незаметно отделились от толпы и повернули к могиле Кенгирбая, находившейся на расстоянии бега стригуна.
Зимние сумерки медленно опускались на степь. Покрытая снегом, она не темнела, а постепенно синела все гуще и гуще. Молчаливым холодом веяло от нее. В мутно-голубом просторе скоро стал виден высокий угрюмый мазар.[10] Сто лет уже возвышается над всей округой его мощный заостренный конус, нет в нем ни трещин, ни выпавших камней. И так же, как властвует над невежественными потомками Кенгирбая его мрачный дух, так и могила его царит над степью, застыв в вековой неподвижности, глухая ко всему миру. В узкой двери стоит густой могильный мрак, наполняющий мазар. Там безмолвие вечной ночи, стойкая тьма, отгороженная толстыми стенами от света солнца, от живых голосов жизни. Кажется, что застыло и самое время, что законы степи — суровые, косные, жестокие — так же вечны и неизменны, как неподвижный мрак могилы.
По степи с тонким свистом промчался порыв холодного вечернего ветра. Заснеженные стебли высокого чия покорно и обреченно пригнулись к земле, низкорослый кустарник задрожал всеми ветками. Угрюмый мазар в жестоком и равнодушном спокойствии по-прежнему непоколебимо вздымал свои крепкие темные стены над степью, где сильный всегда валил слабого.
Всадники остановились перед мазаром и сошли с коней. Первым заговорил Уразбай.
— Кто их ведет? Абай. У них один абыз[11] — Абай… А мой абыз не Абай! Святой предок, ты мой наставник! Покарай отступников, смутителей мира, Кенгирбай, родоначальник наш.
Эти слова, рожденные совсем не благоговением перед предком, а трезвым расчетом будущих выгод, звучали и как клятва и как призыв к заговору. Жиренше понял это раньше других.
— Не станет абызом Абай, не будут угодными богу богохульники нового племени. Отрубим негодный язык, преградим путь смутьянам! — сказал он и подошел к мазару.
Бейсемби пробормотал молитву из корана. Все провели ладонями по лицу и, сойдясь в тесный круг, поклялись мстить и хранить в строжайшей тайне все, о чем порешат они этой ночью.
Эти семь человек были старейшинами, биями, правителями семи крупных родов Тобыкты: Бейсемби был главою жигитеков, Кунту — бокенши, Жиренше — котибаков, Уразбай представлял род Есполат, Абралы — Сактогалак, Байдильда — Топай, Байгулак — род Жуантаяк. Они могли легко восстановить против кунанбаевцев, против рода Иргизбай население почти всей Чингизской волости. Но они решили действовать иначе, скрытно и осторожно.
Чтобы ничем не возбудить подозрения, было условлено относиться к Шубару, Такежану, Майбасару и другим иргизбаевским воротилам по-прежнему почтительно, уверять их с подобострастием, что те могут на них рассчитывать и получат все, чего желают. Гром должен был ударить лишь в самый день выборов, когда начнут считать шары, опущенные выборщиками — елюбасами. Именно этих людей, и только этих людей, которые буквально держат в своих руках судьбы будущего избранника, следовало привлечь на свою сторону. На них нужно было действовать уговорами, взятками и подарками, обещать выгодные должности после победы на выборах и добиться от них клятвы, что они опустят шары за того, кого им назовут.
Решив, как и кто будет действовать, заговорщики отправились ночевать на зимовье Жиренше. Там они еще раз подтвердили свою клятву, зарезав жертвенного белого барана— ак-сарбаса, чтобы очиститься от греха нарушения первой клятвы, данной над кок-каска в доме Оспана.
Все три месяца до волостного съезда прошли в полном спокойствии и тишине. Наконец настал день выборов. Их проводили в Большом ауле Кунанбая, на жайляу Пушантай, куда откочевал на лето Оспан.[12]
Из Семипалатинска, поражая всех своей пышностью, звоном бубенцов и колокольчиков, большой свитой урядников, стражников, посыльных, прибыл на жайляу сам уездный начальник Казанцев, ловкий и изворотливый приятель Шубара и Такежана, которого они задаривали в течение многих лет. На этот раз он приехал со своей женой Анной Митрофановной, пухлой, голубоглазой представительной дамой. Они остановились в богато убранной юрте, выставленной Оспаном около своей. В тот же день Анне Митрофановне была преподнесена соболья шуба, крытая черным шелком, а в железную шкатулку Казанцева легли пачки заботливо перевязанных кредиток.
Должность волостного кунанбаевцы нынче решили передать Оспану, который впервые выразил желание занять ее. Ему было уже под сорок, и среди многодетных потомков Кунанбая один он оставался без детей и переживал это очень тяжело. Кроме Еркежан и Зейнеп он взял себе третью жену — Торымбалу, но наследника так и не было. Рослый, плотный, могучий — этот великан, делясь своей печалью с близкими родными, порой всхлипывал, называя себя то однорогим оленем, то соколом с перебитым крылом. И как-то на одном из недавних сборищ родни он сказал Такежану:
— Может быть, дела отвлекут меня немного… Я просил бы вас уступить на этот раз должность волостного мне.
Заправилы рода Иргизбай тут же единодушно порешили: пусть Оспан будет очередным волостным управителем, а как отнесется к этому народ, хочет ли он этого — их совершенно не интересовало. Они рассматривали эту должность как некую собственность прямых потомков Кунанбая, право на которую им дано свыше, самим богом.
И, помещая Казанцева у Оспана, кунанбаевцы дали начальнику понять, кого они прочат нынче в волостные управители. Со своей стороны и Казанцев, вполне оценив прием, который оказал ему Оспан, и богатые дары, поднесенные им, заверил своих друзей, что они вполне могут рассчитывать на поддержку начальства.
Как обычно, на жайляу были выставлены гостиные юрты для размещения прибывших и большая «выборная юрта», составленная из трех, соединенных между собой и образующих как бы три сообщающихся круглых зала. В этой юрте, стоявшей невдалеке от юрт Оспана и Казанцева, проходили деловые собрания елюбасы. По установившемуся обычаю до начала выборов распределяли казенные налоги и сборы, взимаемые с населения. Налоги эти определяются в городских канцеляриях для всех административных аулов в равном размере, но один аул имеет больше юрт, другой меньше, количество скота в них также не одинаковое. Поэтому суммы налогов на каждый аул окончательно уточняются на таких собраниях выборщиками — елюбасы и крестьянским начальником. Этой работой и были заняты два дня подряд все тридцать выборщиков из двенадцати административных аулов Чингизской волости под руководством крестьянского начальника Семипалатинского уезда Никифорова, прибывшего с Казанцевым.
Сам уездный начальник даже не заглядывал в «выборную юрту». Грузный, седоусый, молчаливый, он держался важно и хмуро. Многолетний правитель этой обширной части степи, Казанцев не забывал своего высокого положения — представителя царя — и всем своим суровым видом, холодным взглядом, редко улыбающимся каменным лицом внушал казахам представление о грозной власти. Разговаривал он с немногими — со своим толмачом, городским казахом, и с писарем волостного управления Захаром Ивановичем, низеньким юрким человеком. Из аульных казахов начальник удостаивал внимания лишь Такежана, Шубара и Исхака, но, став гостем Оспана, он теперь вступил в разговор еще и с ним — через переводчика, так как Оспан совсем не говорил по-русски.
Впрочем, Оспан расположил его к себе не только радушием хозяина. Весь его внешний облик невольно привлекал к нему людей. Широкая улыбка показывала ряд крепких, ровных зубов, поражавших своей необыкновенной белизной, ярко-красные губы под черными усами были как-то по-детски свежи и сочны. Большие, несколько навыкате, глаза широко раскрывались при волнении, выражая истинную горячность. Он не таил ни радости, ни гнева, ни дружеского расположения, ни недовольства. Тучный, грузный, огромный, он, ухаживая за милыми его сердцу гостями, становился проворным и легким, двигаясь по-юношески быстро, поражая расторопностью и неутомимостью.
Все эти качества расположили к нему Казанцева и в особенности Анну Митрофановну, а также и Никифорова, и переводчика, и даже урядников и стражников. Правда, этому способствовало еще одно обстоятельство: Оспан щедрой рукой осыпал подарками всю свиту Казанцева, начиная с крестьянского начальника Никифорова и кончая последним стражником, не забывая и посыльного уездной канцелярии — рябого Акымбета.
Наконец к концу второго дня съезда Никифоров и елюбасы закончили распределение налогов, и аулы облетела весть: «Завтра выборы волостного! Выборы биев!» Множество людей, конных и пеших, повалило со всех концов к юртам, поставленным для начальства. Урядники, стражники, посыльные широким полукольцом оцепили «выборную юрту», не допуская к ней напиравшую толпу. Важно помахивая сложенными пополам щегольскими нагайками, рукоятки которых были обвиты медной проволокой, они рассаживали людей в почтительном отдалении от двух столов, поставленных перед «выборной юртой» и покрытых пестрым бархатом. То и дело слышались их короткие, внушительные окрики:
— Не лезь вперед!.. Не галдеть! Садись в ряд, в круг!..
Из всей огромной толпы ближе к юрте были допущены только тридцать елюбасы. Они сели вблизи столов: одни — поджав ноги под себя, другие — на согнутых коленях, некоторые — боком, опираясь на локоть. Урядники поставили на стол небольшой ящик, покрытый бархатом. Наконец из юрты вышло начальство — Казанцев, Никифоров, два городских переводчика и несколько чиновников, все в белоснежных кителях, — и расположилось за столами. Чуть поодаль села и Анна Митрофановна. Урядники и стражники встали в ряд за начальством. Белые кители и рубахи, золотые и серебряные погоны, сверкающие пуговицы и кокарды, блестящие эфесы шашек придавали всей этой группе, как бы выставленной у юрты напоказ, необычайную пышность и торжественность.
Когда в толпе наступила тишина, Казанцев глухо пробасил в свои седые усы несколько слов. Никифоров, поднялся, тотчас же встал с места и его толмач, толстомордый парень с жесткими черными усами, торчащими, как свиная щетина.
В это время Такежан, Шубар, Исхак, Оспан и с ними еще трое-четверо из иргизбаевских заправил вышли из переднего ряда круга и спокойно, с полным сознанием своего достоинства, подсели к группе елюбасы с правого края. Жиренше и Уразбай, следившие за ними с тем вниманием, с каким борцы во время борьбы ловят каждое движение противника, тоже встали со своих мест, подтолкнув соседей. Шепотом подбадривая их: «Иди, иди не робей», — они смело подошли к выборщикам с другой стороны и также уселись возле них. Это были те самые семь человек, которых связывала общая клятва, данная на могиле Кенгирбая.
Обычно во время выборов урядники не позволяли никому переходить с места на место, а тем более подсаживаться к выборщикам. Но Шубар был еще волостным и поэтому мог позволить себе такую вольность. Что же касается семерых других, то такое благоволение стражи было вызвано иной причиной.
Как только час выборов стал известен, Жиренше пригласил к себе черноусого толмача, состоявшего при Никифорове, и передал ему солидную пачку крупных кредиток.
— Надеюсь, дорогой, у тебя легкая рука, — прошептал он ему в самое ухо. — Вот тебе небольшой подарочек на счастье… А если ты огласишь приятную для нас весть, мы в долгу не останемся. А это, — продолжал Жиренше, давая вторую пачку кредиток помельче, — для тех голосабельников, которые вас окружают. Попроси их, дорогой, не обращать внимания, если я случайно пророню лишнее слово или, скажем, встану от волнения и начну прохаживаться… Передай им этот подарочек и объясни, что даже если они погрозят пальцем, это будет оскорбительно для моего достоинства.
Подарки, видимо, дошли по назначению. Во всяком случае, Жиренше и его друзья беспрепятственно перешли к группе елюбасы, а черноусый толмач даже подождал пока они усядутся, и лишь после этого подал Никифорову список выборщиков. Тот начал читать по очереди их имена и фамилии, которые толмач громко повторял, обращаясь к толпе.
— Я!.. Здесь!.. Есть!.. — откликались елюбасы.
Закончив перекличку, Никифоров снял бархат, покрывавший ящик, который оказался выкрашенным в два цвета — одна половина его была белой, другая черной. Положив на него руку, Никифоров обратился к елюбасы:
— Ну, выборщики Чингизской волости! Кого вы назовете кандидатом в волостные управители? Говорите имя!
Есиргеп, елюбасы первого административного аула, обернувшись, вопросительно посмотрел на Шубара. Привыкнув, как и все кунанбаевцы, задавать тон на выборах, тот держался очень самоуверенно. Снисходительно кивнув головой, Шубар буркнул:
— Ну что ж, называй первым! Говори!
Есиргеп, приподнявшись, громко крикнул:
— Ваше благородие! Называю кандидатом в волостные Оспана! Оспана, Кунанбаева сына!
Никифоров склонился над столом, записывая имя. Все были уверены, что второго кандидата названо не будет. Волостной писарь Захар уже подвинул к толмачу шкатулку, в которой лежали шары. И вдруг на другом краю группы выборщиков раздался громкий голос жигитековского елюбасы, смуглого безбородого Омарбека:
— Ваше брлагородие! Запишите еще одного! Казанцев и Никифоров переглянулись. И в толпе и в кучке Такежана раздались удивленные и встревоженные возгласы:
— Кого там еще? Что это значит! Кто сказал?
Но Омарбек оказался не одиноким: несколько выборщиков из Жигитека и Бокенши поддержали его. Дружным хором они повторяли одно и то же имя:
— Кунту! Кунту, сын Шонка! Кунту!
Никифоров снова наклонился над бумагой, записывая.
Имя второго кандидата вызвало среди иргизбаев веселое оживление. Они так были уверены в своем успехе, что неожиданное появление соперника ничуть не встревожило их. Насмешки, злые шутки, пренебрежительный смех вспыхивали там и здесь. Кто-то из остряков крикнул:
— Видно, этот Шонка хочет стать онка![13]
И вся группа Такежана и Шубара расхохоталась.
Тем временем Никифоров через толмача подзывал выборщиков по очереди к столу. Здесь каждый елюбасы расписывался или, если не знал грамоты, отпечатывал палец, получал из шкатулки по красивому гладкому шарику и возвращался на место. Наконец шарики были розданы, шум толпы утих, все замерли в ожидании. Наиболее нетерпеливые выражали свои чувства тем, что ерзали на месте и поминутно сплевывали.
Никифоров объявил, что по порядку записи кандидатов сперва будут опускать шары за Оспана, сына Кунанбая, и повторил давно известное всем правило: тот, кто хочет выбрать Оспана, должен положить свой шар в правую сторону ящика — ту, которая окрашена в белый цвет. На крышку ящика снова накинули желтый бархат, скрывающий отверстие, и толмач опять начал вызывать елюбасы к столу.
Каждый из них, подойдя, называл свое имя Никифорову для отметки в списке, потом придвигался вплотную к ящику и просовывал руки под бархат. Тая свои помыслы, елюбасы для верности заранее опускали на руки длинные рукава чапана.
Наконец все тридцать выборщиков опустили свои шары. Никифоров и Казанцев встали, подошли к ящику и приказали толмачу открыть его.
— Считай сперва белые шары! — приказал ему Казанцев.
Толмач, опустив руку в ящик, усмехнулся и начал выкладывать на стол шарики, громко считая:
— Раз! Два Три! Четыре!..
Все начальство и группа Такежана, улыбаясь, следили за толмачом. Конечно, нельзя было ждать, что он дойдет до тридцати, но всем было ясно, что цифра будет близка к этому.
— Семь! Восемь! Девять! — кричал толмач и вдруг остановился, словно споткнувшись.
— Что с ним такое? Камень, что ли, застрял в этой проклятой глотке? Считай дальше! — злобно зашипели в кучке Такежана.
Но толмач вынул руку из ящика, подвинул белые шарики к Никифорову и начал считать черные. Их оказалось двадцать один.
Казанцев резко повернулся и пошел к своему стулу, коротко бросив жене сквозь зубы:
— Провалили!
Анна Митрофановна ахнула.
Но прерывать выборы было нельзя. Помрачневшее и растерявшееся начальство, пошептавшись, снова село за стол. Снова роздали выборщикам шары. И на этот раз елюбасы так же таинственно колдовали у ящика, тщательно пряча руки под желтым бархатом, и когда толмач вынул все шары, положенные за Кунту, он насчитал их двадцать один.
Кунанбаевцам был нанесен страшный удар. Им показалось, что самое небо разверзлось над ними, что вселенная рухнула в прах. Они сидели молча, ничего не понимая. Но уже ничего нельзя было исправить: в волостные был избран Кунту.
Дальнейшее еще более усилило разгром кунанбаевской клики. Группа выборщиков, вырвавшая у них власть, теперь по своему усмотрению избрала биев двенадцати административных аулов. Она действовала уверенно и сплоченно, как будто управляемая чьей-то невидимой рукой: двадцать один шар был положен за каждого названного ими кандидата. Лишь два-три ставленника кунанбаевцев с трудом набрали больше половины шаров.
Когда выборы закончились и толпа стала расходиться, шумно обсуждая это невероятное происшествие, шестеро виновников его окружили Кунту, поздравляя его с победой. Не стесняясь тем, что они находились еще в ауле кунанбаевцев, они заливались громким смехом, откровенно торжествуя. Жиренше, довольно посмеиваясь в усы, толкнул в бок Уразбая:
— Только сейчас я понял, что означает имя моего волостного, дай бог ему долгую жизнь! Порядком ты заставил нас ждать, дорогой Кунту![14] Наконец-то ты поднялся и стал освещать все вокруг! Взошло солнце моего счастья, моей победы!
Эти поздравления, восторженные возгласы, общая радость шести воротил, которые сделали Кунту управителем, были по-своему искренними. Теперь и печать волостного и его власть попали в их руки. Все приговоры, жалобы, кляузные письма будут составляться так, как хотят они. А если понадобится отнять у кого-нибудь землю или скот, то дубинкой будет Кунту с печатью волостного в руках и с управительским знаком на груди.
И они разъехались по своим жайляу, гордясь тем, что их тайный тонкий и сложный расчет увенчался такой решительной победой.
Елюбасы и многочисленные зрители разнесли по волости весть о неслыханном разгроме сыновей Кунанбая, которые так долго властвовали над всем Тобыкты. Они привезли в свои аулы множество острот, шуточных изречений, веселых рассказов.
Потерпев столь тяжкое поражение, сыновья Кунанбая ломали себе головы, пытаясь найти объяснение тому, как же это они попали впросак. Проводив начальство, они дни и ночи обсуждали, что же предпринять дальше.
Из всех сыновей и потомков Кунанбая одного Абая ничуть не огорчало то, что другие называли «позором», «ударом по достоинству», «общей бедою». Он отлично понимал, что должны были переживать жадные до власти его братья и племянники, неожиданно потеряв свое положение в Тобыкты, а главным образом возможность беспрепятственно обделывать темные, но выгодные дела. Теперь и печать волостного и его власть попала в руки других. Все приговоры, жалобы, кляузные письма будут составляться так, как захотят другие. Если понадобится отнять у кого-нибудь землю или скот, это будет делать Кунту для выгоды тех, кто дал ему пост управителя. И даже мстительная радость Уразбая, Жиренше и их приспешников, везде и всюду хваставших, что вот, мол, они усадили, наконец, кунанбаевцев в грязь, не задевала самолюбия Абая.
Он был весел больше чем когда бы то ни было. И, застав как-то у Оспана всех недавних властителей Тобыкты, в десятый раз обсуждавших план действий, Абай насмешливо покачал головой и язвительно сказал:
— Эх вы, жирные сурки, никак опять точите зубы? Начали уже рыть новую нору? Впрочем, что говорить: сурки всегда будут сурками, им всегда надо рыть свои темные ходы!..
Засмеявшись, он махнул рукой и тут же уехал от брата.
4
Весть о поражении кунанбаевцев, тотчас разлетевшаяся по всей степи, до Базаралы, отбывавшего ссылку за Иркутском, дошла почти через год. Несомненно, она и послужила толчком к осуществлению давно задуманного им побега.
Преодолев долгий и опасный путь, он добрался к осени до родных мест, еще раз подтвердив справедливость пословицы: «Кто в саване — не возвращается, кто в рубище — с тем еще повстречаемся».
Когда измученный и усталый Базаралы попал наконец в Семипалатинск, ему показалось, что он уже дома: в городе было полно тобыктинцев, и они встретили его так, что ему стало легче дышать.
Близилось время, когда аулы снимаются с осенних пастбищ, находящихся не так уже далеко от города, и уходят на дальние зимовья, в горы Чингиза. И как всегда почти из всех аулов Тобыкты в город пришли караваны верблюдов и телег со шкурами, с войлоком, с шерстью осенней стрижки. Тобыктинцы разместились в домах казахов на «той» и на «этой» стороне (так назывались части города, разделенные Иртышом), не спеша занимаясь продажей привезенного и закупкой на зиму муки, чая, мануфактуры. И вот все дома, где жили приехавшие из аулов казахи родов Жигитек и Бокенши, внезапно облетело волнующее известие — о благополучном возвращении Базаралы. Он и сам не ожидал, что его встретят с такой радостью.
Уже больше недели сородичи, близкие и дальние, не выпускали его из города, наперебой приглашая в гости. В эти дни Базаралы, согретый оказанным вниманием, совсем забыл о годах ссылки. Всю тяжесть этих лет и трудных месяцев пути он как бы сбросил с себя одним движением могучих плеч, которые наконец смог расправить. К нему вернулась былая бодрость, сильный по-прежнему стан его распрямился, на бледном, исхудавшем лице снова заиграл яркий румянец. И хотя в длинной темно-каштановой бороде были уже отчетливо видны серебристые пряди, пережитые страдания ничем больше не сказались на его облике, невольно привлекавшем к себе скрытой могучей силой.
В один из вечеров Базаралы был приглашен к Жиренше. Там собрались Уразбай, Бейсемби, Абралы и новый управитель Чингизской волости Кунту. В тесный круг новых хозяев племени Тобыкты был допущен лишь один посторонний гость — красивый представительный жигит с золотистой бородкой и румяным лицом. Это был Арип, молодой акын из племени Сыбан.
После обеда акын пропел несколько песен, потом началась беседа. Первым заговорил Уразбай.
Доверительно наклоняясь к Базаралы и заглядывая ему в глаза, он завел речь, полную многозначительных намеков.
— Вот ты и вылетел на волю из своей дали, — начал он. — Когда ты уходил, народ твой оставался с надломленными крыльями. Не только жигитеки — все наше племя Тобыкты было придавлено гнетом. Ну что ж, мы боролись. Боролись — и с помощью аллаха победили… Оставленные тобой друзья повергли в прах давнишних врагов — и своих и твоих — и теперь окружают тебя, принимая с почетом. Но враги никогда не признают себя побежденными: придави их пятой — они будут стараться ужалить в ногу. Ты раньше всех нас понял, что противника побеждают не мольбами, а борьбой. Они тоже готовятся к новой борьбе. И если каждый из нас не будет бить врага, пока власть еще в наших руках, мы можем проиграть все. Недаром давно говорят: «У самого аллаха курук короче курука кунанбаевцев…» Если мы не добьем их, пока у нас есть возможность и силы, мы не разделаемся с ними. Они уже начинают приходить в себя и могут свалить нас поодиночке, если мы не будем держаться вместе, плечом к плечу. Надо готовиться к борьбе… И мы подумали, что теперь же, пока печать волостного еще в руках Кунту, надо перечислить кое-кого из Чингизской в Мукурскую и Бугалинскую волости. Тогда одни из нас будут бороться с кунанбаевскими волками здесь, в нашей волости, а другие — вне ее пределов. Так мы охватим их со всех сторон, будем держать в тисках…
Не первый раз Базаралы слышал такие речи. То Жиренше, то Бейсемби, то Кунту, встречаясь с ним в гостях, заговаривали о необходимости борьбы против сыновей Кунанбая. Уразбай нынче лишь повторил это. Нового в его словах было только то, что, призывая его бороться плечом к плечу с ними, сами они стремились, очевидно, перейти в другие волости. Это не понравилось Базаралы, и он с обычной прямотой высказал то, что думал:
— Эх, Уразбай! Не собираешься ли ты кинуть в пасть медведя жигитеков и бокенши, а сам держаться поближе к его хвосту. Выходит так, что в этой борьбе кто-то из вас найдет удобное местечко в чужой волости…
Базаралы сказал то, что многие не осмелились бы выговорить.
Его слова задели Кунту. Он целиком разделял мысль Уразбая о необходимости окончательно разделаться с кунанбаевцами. Для него это было, может быть, более важно, чем для остальных: чем больше ударов наносить кунанбаевцам, не давая им поднять голову, тем спокойнее и прочнее сам он будет чувствовать себя на должности волостного. Но если когда-нибудь его свалят с этой вершины, лучше подстелить солому заранее. Для перечисления в другую волость требовалось иметь «приговор» старшин всех двенадцати административных аулов, и Кунту уже подготовил все документы на себя и своих сородичей. Однако пока что он помалкивал, не говоря об этом даже Уразбаю, который не догадался еще сделать то же самое.
Слова Базаралы были опасны: если мысль, которую он высказал, дойдет до народа, ничего хорошего не получится. Она может породить подозрение и недоверие к тем, кто призывает к борьбе, — начнется раскол.
И Кунту поспешил вмешаться, чтобы обойти острый угол и направить внимание Базаралы на другое.
— То, что говорит Уразбай, имеет совсем другую цель, Базеке, — начал он. — Цель далекую и важную. Перевести кое-кого в другие волости мы хотим лишь для того, чтобы создать сразу две опоры для нашей борьбы. С одной стороны, это помешает кунанбаевской своре искать союзников в соседних племенах, а с другой — если здесь нам придется туго, мы будем иметь помощь со стороны. Если ты вдумаешься, то и сам оценишь это. Вот что мы имели в виду, начиная такой ход.
— Кунту говорит верно, только так мы и думали, — поддержал его Абралы.
Заговорил и Жиренше.
— Зря ты обвиняешь нас в каких-то хитростях, Базым! — сказал он с подозрительной горячностью. — Не будет для нас большего позора, если месть загниет и истлеет в нашей груди! Лишь сейчас мы и можем действовать! Чего только мы не пережили, чего не натерпелись! Час мщения пришел. Сейчас в наших руках карающий меч. Чего же ждать? Взмахнуть им — и тогда в будущем нам ни о чем не придется сожалеть. Вот в чем суть! Надо бить врага, бить скорее, бить всем вместе!
Холодно посмотрев на Жиренше, Базаралы махнул рукой и нахмурил широкий лоб:
— Ладно, Жиренше, хватит, пожалуй… — Мужественное лицо его помрачнело. Он с трудом сдерживал гнев.
Было понятно, что эти люди стремятся втянуть его в свою грызню с сыновьями Кунанбая. Они хотели, чтобы Базаралы боролся за их власть и чины, за «черные сборы» и вымогательства. Этим хищникам, сцепившимся из-за добычи, он был нужен как увесистая дубинка, крепко зажатая в их руках.
Что мог он им ответить? Тяжкие годы провел он в ссылке. Он думал там об униженных, обездоленных — о множестве людей, влачащих в слезах жалкую, нищую жизнь. Он страдал при мысли о том, что на далекой родине оставил горемычный народ, который толкают в могилу вот эти хищники. Какой толк будет, если сейчас он выскажет все это?
Хмурый вид Базаралы не понравился Уразбаю.
— Видно, наших способов борьбы ты не одобряешь? Может быть, ты подскажешь нам другие? Хотя, пожалуй, то, чему научили тебя за эти годы, не подойдет нам, — зло усмехнулся он.
— Почему же не подойдет?
— А кого ты там видел? Те русские, кого держат скованными на каторге, — настоящие преступники. Не зря же заслужили они кару белого царя! Наверно, это все такие злодеи и совратители, что с ними и говорить не о чем. Не думаю, чтобы русский ссыльный или каторжник мог научить чему-нибудь путному.
— Так, по-твоему, в ссылке и на каторге — только убийцы, разбойники, грабители караванов? — спросил Базаралы со сдержанным гневом.
— Я говорю про русских, — уклончиво протянул Уразбай.
— А что же, у русских нет своих Базаралы, которых изгнали их Кунанбаи и Такежаны?
— А если бы и были — все равно. Чему можно учиться у людей другой веры? Не о чем тут и говорить, — сурово отрезал Уразбай.
Базаралы подумал, что он мог бы многое ответить, рассказав о тех русских, которых видел на каторге, — о крестьянах, боровшихся против насильников-помещиков, о студентах и учителях, пострадавших за смелое слово. Но говорить здесь об этом показалось ему бессмысленным, и, повернувшись к Арипу, он неожиданно сказал:
— Хороши твои песни, жигит. Спой еще, пожалуйста! Многие из родов племени Сыбан жили по соседству с племенем Тобыкты и вели давнюю глухую борьбу против Кунанбая и его наследников. Роды Жангобек и Салпы были так же влиятельны и сильны в своем племени, как род Иргизбай в Тобыкты. Арип, один из родовых воротил Жангобека, вполне разделял нанависть своих сородичей к кунанбаевцам. Он был из тех богатых байских сынков, которые предпочитали проводить больше времени в городе, собирая гостей и щеголяя перед ними и одеждой, и повадками, и уменьем писать стихи и петь песни. Уразбай и Жиренше пришлись ему по душе. Они тоже считали его полезным для себя человеком.
Внимательно слушая разговор, Арип безошибочно определил настроение и мысли каждого из собеседников. И когда Базаралы резко оборвал беседу, он, слегка усмехнувшись, тотчас взял домбру и заиграл с такой готовностью, что могло показаться, будто он совсем не думает о том, не обидит ли это его почтенных друзей, настроившихся на серьезный разговор.
Но когда он начал свою песню, стало ясно, что хитроумный акын лишь воспользовался создавшимся положением, чтобы помочь Уразбаю в том, чего тот добивался. Румянец волнения выступил на его красивом лице, глаза устремились прямо на Базаралы, и он вместе с домброй повернулся к гостю, подчеркивая, что песня посвящается ему. Звучным голосом он запел:
Когда в цепях ты уходил, Народ слезами проводил Тебя туда, где жизни нет… Но минул ряд тяжелых лет. Дошел до бога жар молитв: Услышав грохот новых битв. Ты, словно лебедь, прилетел, На озеро родное сел…Песня увлекла и Жиренше и Уразбая. Одобрительно кивая, они восклицали вполголоса:
— Ай, молодец! Как начал! Вот акын! Продолжай, продолжай, дорогой!
Арип запел еще громче и быстрее, по-прежнему не отводя взгляда от Базаралы.
Кто был смелей, отважней вас, Базаралы и Балагаз? Два скакуна, два тигра, два Могучих и бесстрашных льва, Вы повергали в прах врагов! Всегда, батыр, ты был готов Вскочить на верного коня… Благословляла вся родня Того, кто был ее щитом. Скажи мне, плачут ли о том, Кто не привлек к себе сердца? Тебя ж, как брата, как отца. Оплакивал степной народ: «Где он, вернейший нам оплот?» Акыны пели о тебе, О яростной твоей борьбе И называли скакуном, Летящим, словно божий гром… И слышал я, что тот скакун Ворвался раз в чужой табун И кобылицу там познал, Что так ревниво охранял Кривой какой-то жеребец… Не помню: чей он был отец?..Жиренше толкнул Уразбая в бок и повалился в припадке неудержимого хохота, весь побагровев. Кунту и Абралы, тоже отлично знавшие о любви Базаралы к молодой жене Кунанбая — Нурганым, довольно защелкали языками, словно их беркут схватил лисицу.
Базаралы гневно положил руку на струны домбры, заглушая ее, и резко сказал:
— Не обливай грязью Нурганым! Она была дорога моему сердцу, и я никому не позволю поносить ее!
Жиренше и Уразбай притихли. Арип вспыхнул. Он посмотрел на Базаралы с надменной и злой улыбкой и, не пытаясь снять его тяжелую руку со струн, пропел без домбры четверостишие на другой напев:
Казался тулпаром,[15] а оказался клячей худой… Не зря говорят, что в коне лишь порода ценна! Пусть прадед был бий, но отец — табунщик простой, И видим мы все, что коню — три барана цена!..Акын, на частых состязаниях набивший руку в искусстве словесного поединка, поразил слушавших язвительностью и мгновенностью ответа. Жиренше, прищурясь, посматривал на Арипа и посмеивался в бороду, негромко выражая свое одобрение:
— Жемчужные слова! Какими тайными намеками переливаются! Правду говорят: если овладеть словом, парящим подобно орлу, оно насмерть сразит свою добычу…
Базаралы отлично понял скрытый смысл обеих песен так же, как и то, зачем его сюда позвали. Внутренне презирая и льстивые слова Уразбая и Жиренше и почет, с которым его встретили, чувствуя во всем этом тонкий яд, он, замкнувшись в себе, сурово молчал. И неизвестно, как закончился бы этот вечер, если бы не появились нежданные гости — Ербол, Кокпай, Шубар, Акылбай и Магаш.
Войдя в комнату, они кинулись обнимать Базаралы, наперебой восклицая:
— Дорогой мой Базеке, как добрался?
— Благородный брат наш!
— Драгоценный мой, добро пожаловать!
— Пусть ждет вас и дальше удача, Базеке!
Жиренше и его друзья холодно поздоровались с прибывшими. После первых приветствий и расспросов о здоровье и трудностях пути Ербол передал Базаралы дружеский салем Абая, приглашение посетить его и сказал, что Абай поручил им сопровождать дорогого гостя до аула. Горячо рассказал Ербол о том, как искренне обрадовался Абай при известии о возвращении Базаралы, какое глубокое уважение питает к нему. Всей душой разделяющий понятия Абая о добре, честности, справедливости, Ербол нашел особенно теплые слова и выразил главную мысль друга: осторожно и мягко, стараясь не раздражать Жиренше и Уразбая, он дал Базаралы понять, что радость Абая не в пример другим вызвана только дружеским расположением, за которым не таится никаких скрытых расчетов.
Впервые за все эти дни торжественных угощений и шумных встреч с сородичами Базаралы почувствовал волнение. Он выслушал Ербола, не проронив ни слова, но все заметили, что на глазах его выступили слезы. Магаш, лучше других знавший сердечное расположение отца к Базаралы, тоже не выдержал и, отвернувшись, достал из кармана платок.
Справившись с собой, Базаралы заговорил. Он засыпал посланцев Абая вопросами о его здоровье, расспрашивал, как он сейчас живет, что делает.
Тем временем перед гостями расстелили скатерть, появилась большая деревянная миска с «городским» кумысом — крепким, бьющим в голову. Беседа оживилась, стала общей.
Но Жиренше, Кунту, Бейсемби и в особенности Уразбай держались настороженно. Неожиданный приезд сыновей и друзей Абая навел их на тревожные мысли. Почет, который Абай оказал Базаралы, прислав за ним самых близких людей, поразил их. По своей привычке видеть во всем тайную цель они сделали из этого свои выводы. Однако они не решались вслух осудить Абая и лишь переглядывались друг с другом.
Подозрительнее всего казалось им появление здесь Шубара. Для них было вполне ясно, что Такежан, Исхак, Майбасар, которые в свое время добились ссылки Базаралы, могли видеть в его возвращении лишь недоброе для себя. Уразбай уже знал, что они не на шутку перепугались, но, лишенные теперь прежнего могущества, притаились, свернувшись как змеи, готовые ужалить при первом удобном случае. Будь волостным кто-либо из их шайки, они, конечно, не постеснялись бы прямо выдать Базаралы властям. Но и сейчас, пользуясь старыми связями с начальством, они могли донести на беглеца. Предупреждая это, Уразбай и Жиренше, желавшие сохранить Базаралы для своих темных дел, повсюду распространяли слух, что тот вернулся законно оправданным, что жалобы сородичей дошли до царя и царь сам освободил несчастного. Шубар был из того же кунанбаевского гнезда, и доверять ему было нельзя — наверное, он приехал разузнать, что и как.
Догадки и опасения эти были недалеки от истины. Действительно, Такежан, Майбасар и Исхак, боясь мести Базаралы, обдумали, как бы схватить его и вернуть в ссылку, не вызвав негодования народа. Они попросили Шубара съездить в город и, если он убедится, что Базаралы не освобожден, а сбежал, сообщить об втом властям через других лиц.
Но Шубар, предвидя, что скрыть свое участие в доносе все равно не удастся, приехал к Абаю посоветоваться. Тот, возмущенный до глубины души, гневно обрушился на племянника.
— А я-то думал, что ты — не они, что в тебе есть честь и совесть! Как ты не стукнул их по голове, услышав такую гнусность? И ты еще просишь моего совета? Поезжай вместе с Ерболом к Базаралы, окажи ему почет, проводи ко мне, пусть это послужит для тебя наказанием!
Шубар понял, что даже косвенным участием в злом умысле он навсегда лишит себя расположения Абая, что было бы для него крайне невыгодно. Да, в сущности, ему самому Базаралы ничего дурного не сделал, и приговор четырех волостных, обрекавших Базаралы на ссылку, Шубар подписал нехотя, под давлением Такежана и Исхака. Поразмыслив, он решил не впутываться пока что в их дела.
Таким образом, никто из посланцев Абая не имел никаких тайных замыслов.
Сумрачная настороженность Жиренше и его гостей не мешала оживленной беседе остальных. Крепкий кумыс, слегка туманивший голову, способствовал общему веселью и шуткам. Сердечные слова Ербола, участие Абая, радостные лица молодежи, приехавшей встретить Базаралы, вовсе разогнали его суровость. Встреча с людьми, в которых он чувствовал настоящих друзей, как бы окрылила его, заставила воспрянуть духом. Он смеялся, шутил, стал прежним Базаралы, разговорчивым и остроумным. Охотно рассказывал о пережитом. Он взял у Арипа домбру и протянул Кокпаю, шутливо попросив показать свое искусство. Тот, повернувшись к Базаралы, начал песню.
Протяжная и неторопливая, она совсем не походила на быструю, блестящую импровизацию Арипа.
Кокпай повторил в стихах привет Абая, переданный Ерболом, высказал и свое глубокое уважение к вернувшемуся изгнаннику. В песне его не было ни преувеличенных похвал, ни пышных сравнений. Затем он запел песню Абая, осуждающую сынков степных правителей. С первых же слов ее Базаралы понял, кто сочинил песню:
Подлый смех у них в глазах, Злые шутки на устах…Базаралы, одобрительно кивнув головой, искоса, холодно посмотрел на Арипа. Стихи били прямо в цель.
Уразбай придвинулся к Жиренше и стал шепотом переговариваться с ним. Обоим было не по нутру, что в их доме поют стихи Абая.
Когда Кокпай замолк, Базаралы задумался и потом сказал:
— Хорошо сказал об этом Абай. А еще лучше, что ты заучил эти стихи и несешь их в народ.
— А как их называть: поучением, что ли? — с издевкой спросил Жиренше, приподымаясь на локте.
— Абай достиг уже зрелых лет. Какое же ему дело до молодежи? — подхватил Уразбай. — Зачем он вмешивается в их шутки, в веселье жигитов и девушек?
Базаралы окинул обоих насмешливым взглядом.
— Э, Уразбай, неужели, если человек, узнавший жизнь, наставляет младших, это плохо? Вот ты-то уж, наверно, заберешь с собой в могилу все, что познал и понял в жизни! Какая польза будет народу, если отцы не оставят детям ничего ценного и доброго?
Уразбаю не хотелось вступать с ним в спор перед сторонниками Абая. Махнув рукой, он проговорил загадочно и угрожающе:
— Ну, пусть… Хорошо, если это добрый пример. Лишь бы он не породил нечестивых смутьянов…
Базаралы поторопился перевести беседу на безобидные шутки. Магаш и Акылбай, мало знавшие его раньше, быстро свыклись с ним и к концу вечера обращались к нему свободно и смело. Шубар тоже освоился со своим несколько странным положением и даже начал, как когда-то, подшучивать над Базаралы. Тот взволнованно рассказывал о том, каких примечательных русских людей встретил он в ссылке, и Шубар, усмехнувшись, перебил его:
— Э, Базеке, ты, наверно, и по-русски научился там говорить?
Базаралы резко повернулся к нему, глаза его сверкнули опасным огоньком.
— Свет мой! Вы-то сами постарались заслать меня туда, где наверняка можно выучить русский язык… Будь я там подольше, я бы его уже, конечно, хорошо узнал!
Взгляд, которым он сопроводил эти слова, пылал и гневом и насмешкой. Все расхохотались. Шубар и сам растерянно улыбался, хотя язвительный ответ, внезапный и мгновенный, как выстрел, свалил его с ног.
МЕСТЬ
1
Вот уже месяц, как Базаралы вернулся в родные края. За это время у него побывало множество людей. Ближайшие по родству аулы жигитеков поговаривали даже об устройстве торжественного пира в его честь, но Базаралы, увидев, что бедные сородичи по-прежнему бьются в нужде, убедил их отказаться от этого. Первые две недели его возили из аула в аул, наперебой угощали, поздравляя с возвращением. Не одни жигитеки — сердечную радость высказывали ему и бокенши, и котибаки, и кокше.
У иргизбаев Базаралы погостил лишь в ауле Абая. Когда Ербол и молодежь привезли Базаралы из города, Абай сам выехал ему навстречу, обнял с горячими слезами радости и увез к себе.
Юрта Айгерим была украшена коврами, узорными кошмами. Праздничное убранство подчеркивало почет, оказываемый дорогому гостю. Базаралы сразу почувствовал, какой любовной заботой он здесь окружен. Молодежь ловила каждое его слово. Абай и Айгерим чутко следили за малейшей переменой в настроении гостя.
До обеда Базаралы, отвечая на вопросы Абая, рассказывал о краях, которые ему пришлось повидать, о встреченных людях. Но о страданиях, перенесенных им, он здесь, при всех, не говорил ни слова, как будто в прошлом не было мук, а в настоящем — усталости от них.
Вечером в юрте зазвучали песни. Абай решил, что воспоминания, вероятно, тяжелы для его друга, — лучше отвлечь его, помочь ему забыть эти годы. И он попросил молодежь перейти к развлечениям и песням.
Базаралы заметно оживился и, взяв домбру, протянул ее Кокпаю. Тот начал отговариваться:
— Нет, Базеке, я давно уже не пою. Да и грешно портить песню моим голосом, когда тут сидят такие певцы, как Муха и Альмагамбет!
— Новые певцы сами собой, их тоже послушаем, но и ты спой, — настаивал Базаралы.
Абай поддержал его:
— Кокпай, мы встретим Базеке вместо подарков песнями! Не ты один — все, кто тут сидит, все споют для него. А ты начни.
При этих словах Абая все молодые певцы оживленно переглянулись и с улыбкой посмотрели на Айгерим: они давно не слышали ее пения и соскучились по нему.
Кокпай запел одну из песен, которые пел когда-то знаменитый музыкант и певец, друг Абая Биржан:
В стае вожак первым идет, Песню Биржан первым начнет…Когда Кокпай закончил, Базаралы восхищенно воскликнул:
— Какая песня! И какое было то лето, как счастливо оно начиналось! — Вздохнув, он с грустью закончил: — Промелькнуло — и исчезло…
Уходят годы, уносят молодость… Но не только об этом подумал Базаралы. Вспомнился ему младший брат Оралбай — прекрасный певец, загубленный преследованиями сильных врагов. Острой болью кольнуло сердце.
А домбра уже перешла к Муха. Как бы желая рассеять грусть Базаралы, он затянул высокий, звучащий бодростью запев. Чистый, звонкий, какой-то прозрачный голос сразу возвестил о большом искусстве мастера. Зачин вскоре перешел в мелодию, поражающую своим строгим изяществом. Это была песня Абая «Красавица, привет тебе…».
Пламя любви, пылающее в этой песне, страстные мольбы и упреки, наполняющие ее, отвлекли Базаралы от его печали. Спев три строфы, Муха прервал пение, но Базаралы не дал ему положить домбру.
— Пой, душа моя, пой! Спой все до конца! Муха спел все послание жигита.
Потом домбру взял Альмагамбет. Он тоже запел песню, сложенную Абаем: «Ты—зрачок глаз моих…». Чуткие сердцем молодые друзья Абая как будто решили лечить душевную рану Базаралы — каждый выбирал песню, уводящую от этой серой, блеклой осени к ласковым дням мая, солнечной поре жизни.
Наконец Базаралы повернулся к Айгерим, протянув ей домбру.
— Айкежан, придется тебе ответить этим влюбленным! Я понимаю, что причина их любовных мук не ты, но все же кто-то из вас, красавиц… Спой же одна за них всех! — сказал он шутливо и добавил задушевно и ласково: — Спой, родная, солнце мое, разве можно нынче не послушать тебя!
Айгерим покачала головой.
— Я давно уже не пою, Базеке…
— Тогда, значит, передо мной не Айгерим… Я знаю лишь ту Айгерим, которая поет, другой никогда не видал… Спой, дорогая, утоли мою жажду! — снова попросил он с подкупающей теплотой.
И Айгерим запела «Письмо Татьяны». Она и теперь пела, как прежде, — с тем же глубоким душевным волнением, с той же трогающей сердце нежной тоской, как в те далекие дни, которые вспомнил Базаралы. И он сам и все в юрте слушали ее, сдерживая дыхание, покоренные пением. По молчаливому знаку Абая Айгерим допела длинную песню всю до конца.
И «Письмо Татьяны» и все песни, которые прозвучали в этот вечер, были неизвестны Базаралы. Как бы сговорившись, певцы исполняли нынче только те песни Абая, которые родились за годы ссылки Базаралы. Кокпай шепотом пояснял ему происхождение каждой новой песни.
Все это было для Базаралы совершенно ново, и он принял это как нежданный богатый дар, которым его встретила родина.
— Тту-у-у! — протянул он в восторженном изумлении. — Как все изменилось без меня — и песня и стих… Какая правда, какая глубина! Какие напевы! За душу хватают! Видно, и песня и слово расцвели во всю силу, Абай. Да будет благословен твой песенный дар!
В этот же вечер Магаш сообщил еще одну новость:
— Отец, Дармен успел уже много написать про Енлик и Кебека. Может быть, пора его послушать?
Ербол и Кокпай поддержали Магаша — обоим не терпелось узнать, как выполнил юный поэт свое обещание. Абай окинул Дармена внимательным взглядом.
— Не беда, если не закончил, хорошо, что ты начал. Не попробуешь ли спеть?
Дармен не заставил себя уговаривать. Он сыграл на домбре быстрое, нетерпеливое вступление и с жаром запел свои стихи.
Юношей-поэтом можно было залюбоваться. Красивое его лицо, со смуглой матовой кожей, с щегольскими тонкими усиками, бледно от волнения. Большие черные глаза, белки которых чуть налились кровью, сверкают живым блеском вдохновения. Чувствуется собранная, настороженная сила, жаркий огонь чистого сердца, кипящего справедливым гневом. Молодой, горячий акын охвачен благородным порывом. Он готовится произнести приговор юного племени старому, косному миру. Он чем-то похож на сокола, взвившегося над степью. Этот сокол — из благородного гнезда, из гнезда Абая. Он парит над целью широкими кругами, новый заступник обиженных, новый воин справедливости народной.
Он начал свою поэму описанием красоты и достоинств девушки Енлик. Ее отец — старый Ыкан. В горах Чингиза, у подножья вершины Хан, они жили мирной и честной трудовой жизнью. Девушка — радость и счастье стариков, опора семьи. В аул их часто заглядывают жигиты, охотящиеся в горах Чингиза. Они рассказывают о вражде племен, о коварстве врагов, об отваге воинов, любимцев народа. Называют жигитов, прославленных доблестью. И все чаще до слуха Енлик доносится имя одного-единственного, достойнейшего. Все, кто спасаются в ауле Ыкана от зимней непогоды, говорят о нем. Это имя тревожит мечты Енлик, одинокой, задумчивой, порой гонит прочь девичий сон.
Однажды зимним вечером, когда с хмурого неба падал густой снег, а по земле крутила поземка, из белой мглы явился незнакомый одинокий всадник. На руке его сидел ловчий беркут, к седлу была приторочена огненно-красная лисица. Хотя жигит прибыл в чужой аул не в пору, в буран и к ночи, он вошел весело и просто, как близкий человек. Он принес в тихую юрту приветливую шутку, веселый смех, захватывающий рассказ об охоте. С невольной улыбкой засмотрелась Енлик на красивого жигита.
И вдруг гость назвал свое имя: Кебек.
Кебек! Это он!.. Не сиди она так близко к очагу, все заметили бы, как запылало ее лицо…
— Сердце дрогнуло, будто тронутое неведомым прикосновением. На миг похолодев, оно забилось так дико… — На этих словах Дармен умолк и, замедляя переборы струн, прервал свой рассказ. — Вот докуда я пока что добрел, Абай-ага.
Базаралы посмотрел на него с укором.
— Эх, жигит, дал бы ты ему хоть шагнуть к ней!.. Взбаламутил меня всего — и оборвал!
Не скрыл своей досады и Магаш.
Абай долго смотрел на Дармена, как бы припоминая всю его поэму. Лицо его выражало сердечное одобрение. Но заговорил он о другом:
— Подумай, Дармен, вот о чем. Пусть рассказ о девушке, о горячей страсти не будет главным в твоей поэме. Окрыли сердце, зови думы вперед, вдаль… И второе: о прошлом ты поешь или о настоящем — выскажи то, что тяжким камнем давит грудь народа. Помни, что проклятия кипели в душе народа, но уста его не часто произносили их… А ты дай им выход! Пусть твои юные герои плачут слезами всего народа. И заклейми продажных судей, жестоких насильников!
Молодежь с глубоким вниманием слушала Абая.
— Абай-ага, ведь этот перевал у Дармена еще впереди! Доберется, выскажет все! — заступился за друга Какитай, и Дармен кивнул головой, подтверждая.
Базаралы понял все, о чем говорил Абай, но слова его оценил по-своему.
— Больше всего я люблю, когда ты говоришь вот так о насилии и насильниках, Абай!
— Дармен хочет раскрыть одну тайну Кенгирбая, — пояснил ему Кокпай.
— Расскажет о прошлом, а мы увидим настоящее, — серьезно и вдумчиво сказал Базаралы. — Наверно, для народа Кенгирбай был не лучше нашего Кунанбая… Хоть он и мой предок, не отступлюсь от своих слов!
— Конечно! Иначе ты не был бы Базеке! — подхватил Абай и перевел взгляд на Дармена. — Вот голос нашего времени, голос разумного поколения. Истинный поэт не может глядеть только в прошлое.
В этих дружеских беседах Базаралы вспоминал о своей жизни на каторге. С особенным уважением рассказывал он о встреченных там русских людях:
— Когда я задумал бежать, я раскрыл свою тайну двум старикам. Один из них был Керала, русский крестьянин, убивший бая-помещика, второй, Сергей, у себя на родине учился, думал лечить людей, а попал в ссылку. Они и спасли меня: и кандалы распилили и бежать помогли. Сказали: «Лети вольной птицей, неси наш привет своему народу!» Ничего не побоялись. Ведь если б я попался, их бы жестоко наказали… Как назвать такой поступок людей?
Благородство русских друзей Базеке вызвало общее восхищение. Абай начал расспрашивать Базаралы, как пробирался он по Сибири среди русских. Вопрос этот вызвал новые благодарные воспоминания.
— В первой же деревне русские меня научили подходить только к бедным домам. Несчастного поймет тот, кто сам знает беду. И от самого Иркутска до наших краев я так и делал: подходил в сумерках к русской деревне, стучал в окно крайней бедной избушки, и меня пускали в дом, как родного. И накормят, и напоят, и на дорогу с собой дадут. Объяснят, где лучше пробраться, а если идти опасно — оставят до ночи. И стар и млад не только пожелают удачи, но и всячески помогут. Вот когда я понял, как смел и добр русский народ. От меня им ни выгоды, ни пользы не было, а по правде сказать, я даже от сородичей своих, жигитеков, не видел столько добра, сколько от этих людей… И как укрепляла мне крылья такая бескорыстная доброта! — взволнованно закончил он.
Все эти дни пребывания у Абая Базаралы чувствовал себя в каком-то ином мире. Будто на середине безлюдного, унылого озера оказался чудесный мир, маленький, как глазок…
Накануне отъезда гостя Абай спросил, увезли ли к себе его земляки, бедняки жигитеки, сено, скошенное Азимбаем на Шуйгинсу и Азбергене. И Базаралы удивился, узнав, что все обстоятельства спора известны Абаю в подробностях.
Это и было как раз то дело, о котором земляки просили Базаралы поговорить с Абаем. Когда они уже собрались перевозить спорное сено по своим зимовьям, пришла весть о возвращении Базаралы. Семьи всех этих семи аулов были в близком родстве с ним. Абды, Сержан и старик Келден были его преданнейшими друзьями. Они решили: «Не стоит встречать Базаралы распрей! Осень долгая, подождем. Перевезем и после». Кроме того они ожидали, чем кончится разговор с Такежаном, обещанный Абаем. Еще в городе посланные от них просили Базаралы узнать от Абая, ждать ли им ответа или действовать на свой страх и риск.
Абай еще не повстречался с Такежаном — аул того кочевал на дальних осенних пастбищах. И теперь Абай обещал переговорить с братом, как только аулы их сблизятся, и тотчас сообщить об этом Базаралы.
На следующий день Базаралы простился с гостеприимным аулом Абая и вернулся к себе.
Внешне Базаралы казался веселым и беспечным, однако в душе его не было покоя. Черная печаль давила его. Покончив с разъездами по гостеприимным аулам родных и друзей, Базаралы засел дома. Чем больше раздумывал он о судьбе близких людей, тем тяжелее ему становилось.
Своего отца, горемычного Каумена, он в живых не застал. Старик умер прошлой зимой после долгой болезни. Потеряв одного за другим всех троих своих сыновей, он впал в глубокую тоску. Балагаза и Оралбая он давно считал погибшими и горевал, что прах их не покрыт хотя бы горсточкой родной земли. Долго не получая вестей о Базаралы, он потерял всякую надежду и на его возвращение, решил, что третий сын тоже погиб. За несколько дней до смерти он звал к себе то Оралбая, то Базаралы. «Скоро… скоро буду с вами…» — говорил он в забытьи. И в самый последний миг он повторил эти слова уже беззвучным движением холодеющих губ.
Услышав от своей жены Одек этот грустный рассказ о смерти отца, Базаралы целые сутки провел в безмолвном уединении.
Стояла поздняя осень. А она не тешит сердца, не рассеивает хмурых мыслей. Уже перевалило за середину сентября, степь, выгоревшая и посеревшая, стала унылой. И тепло не держалось в юрте. То ветер, то дождь — пора тоскливого беспокойства. Старый, обветшалый войлок, давно уже нуждающийся в замене, весь в прорехах. Ночная стужа свободно врывается в юрту, дождь проникает туда, и если закрутит ветер, юрта вторит ему глухим завыванием. Неприглядным и жалким стал нынче кров Базаралы.
Аул его, расположенный на Шоптиголе, одном из самых дальних урочищ осеннего кочевья жигитеков, находился поблизости от зимовок оседлых земледельцев, бедняков жатаков.[16] Нынче с зарею оттуда приехал старый друг Базаралы — Даркембай. Весь день они провели в уединенной беседе. Базаралы с горечью рассказывал, в каком жалком состоянии нашел он свою семью и близких родичей. Глядя на изможденное лицо жены, которая, выпросив у соседей на топку таволги и кокпека, кипятила чай и варила пересохшие куски вяленого мяса, он начал разговор с нее:
— Вот Одек… Высохла, почернела. И одежда ее и сама она вконец износились. Сетует на голод, плачет… Глянешь на единственного сына — вытянулся мой Сары, высох, как тростник. Тымак весь изодран, сапоги стоптаны. Что ему делать? В наймиты идти?.. Оба моих брата погибли. Балагаз так и умер в ссылке, жена, дети его разлетелись, как птицы, кто куда. Оралбай был сильнее, смелее и меня и Балагаза! Однако и он пропал безвозвратно, юный побег подсекли под корень. Где он скитался, изгнанный и проклятый правителями Тобыкты, где нашел себе могилу? Кто скажет?… Невольно подумаешь: нет ли у бога какой-то неотмщенной обиды на потомков Каумена? Скажи сам: разве за злодейство, подлость, разбой потерпел я кару? Нет! Вся моя вина была в том, что я не мог жить под пятой. «Снимите мне голову, но волю к свободе в сердце моем вам не подавить, огня чести моей вам не загасить!» — так говорил я. А теперь? Не только сыновьям Каумена, как я вижу, выпала такая судьба. Кругом расселись кучками пронырливые аткаминеры. Кичатся богатством, достатками. Ты знаешь, не бывал я ни в родстве с ними, ни в дружбе. Думы мои о таких, как ты, как я сам. О тех, в ком и под рваной одеждой горит неугасимое пламя гордости и чести, о благородном народе моем думаю я. Если гляжу на свепь, то вижу только его. Если горюю нынче, — из-за него горюю. Вернулся, вижу — еще больше стало несчастных. Кругом их обсели зеленые мухи, глаза залепили… Эх, горемычный старец мой, о них говорит печальный брат твой, только о них…
Так делился с Даркембаем Базаралы своими мыслями, угнетавшими его в одиноком раздумье.
Даркембай, понюхивая табак, то и дело понимающе кивал головой, полной тяжелых дум. За эти годы у него поседели не только борода и волосы, но и густые брови, однако в старческих глазах его еще не погас огонек прозорливого ума.
Многое переживший за свою долгую жизнь, старик не стал говорить о тяжелом положении семьи Базаралы, и так уже ясном из его горьких слов, а заговорил о тех, кто разбогател за эти годы. Немало нашлось таких, кто, злоупотребляя властью или прибегая ко всяческим мошенничествам в торговле, нажил огромные богатства. Нынче у Такежана восемьсот лошадей, у Жиренше столько же, а Уразбай довел свои косяки до полутора тысяч голов. Да и другие — Абралы, Кунту, Жакип — именуются нынче «тысяческотными» баями. Что же до жатаков, то число их возросло еще больше, а нищета их стала совсем беспросветной.
Заговорив о жатаках, Даркембай продолжал с горькой иронией:
— Не все ты еще увидал, Базеке! Ты говорил лишь о тех, кто бедствует в кочевой жизни. А посмотри на нас, оседлых, на тех, кому ты когда-то говорил, что «лучше сосать грудь земли, ковырять глину, чем ждать милости от врага». Мы, горемычные жатаки, и нынче живем так, как в те дни, когда ты нас оставил. Все еще ждем чего-то лучшего, думаем — вот заживем, как люди… Одно хорошо в нашей тяжкой жизни: ни у кого я не попрошайничаю, ничего не клянчу. Хоть и терплю нужду, тружусь, хлопочу, пусть иной раз и решетом воду таскаю, — зато не стою у чужого порога с протянутой рукой. Даже надеюсь, что когда умру, так завернут меня не в чужие, а в свои лохмотья. Богачи имеются над нами: мол-де, мы изменяем предкам и, как русские, ковыряемся в земле. А русские нас хорошему учат… И не умирать же нам с голоду. Всю мою долгую жизнь нужда давит меня, как ярмо давит измученного вола. Шея уж до крови натерта, а кожа на груди дубленой стала… И у многих так же проходит жизнь…
Даркембай заговорил об единственном утешении, скрашивающем его старость, — о Дармене.
У Даркембая был младший брат Коркембай, которого Базаралы почти не помнил, — тот давно ушел в далекие края, к русским, и стал жить среди них, нанимаясь в работники. Года два назад, когда Базаралы был еще в ссылке, Коркембай прислал извещение, что жизнь скоро оставит его и что он хотел бы проститься. Даркембай поехал к нему. Умирая, Коркембай поручил старшему брату заботу о своем единственном сыне. Это был Дармен. Даркембай привез его с собой, и юноша стал его утешением и радостью.
Рассказывая об этом, старик не скрыл от друга того, чего не говорил никому: Дармен не был родным сыном Коркембая — он был сыном Когадая, младшего брата Кодара, того самого Кодара, которого Кунанбай когда-то приговорил к страшной казни. Когда умер Когадай, мальчика взял к себе дальний родственник. Жилось ему там тяжело, сироту не любили, считали неисправимым упрямцем и даже так и прозвали — Кияспай.[17] В тот год, когда Кунанбай отправлялся в паломничество в Мекку. Даркембай привел к нему Кияспая, требуя выделить мальчику долю из захваченной Кунанбаем земли Кодара. Ничего не добившись, Даркембай решил отвезти сироту к Коркембаю, у которого не было детей, и тот усыновил Дармена. Мальчик оказался способным, умным и ласковым. Коркембай привязался к нему всей душой. В новой семье Дармен вырос смелым, честным юношей, и вдобавок в нем обнаружился талант певца и акына. Даркембай попросил Абая принять Дармена в среду окружающих его юношей. С тех пор Дармен половину времени проводил в ауле жатаков, половину — у Абая.
Базаралы рассказал старику о своей встрече с Дарменом у Абая, о том, как все восхищались его поэмой, искренне похвалил ее и сам. Даркембаю особенно дорого было услышать, как внимателен и ласков был к его приемышу Абай. Он признался, что вначале Дармен его сильно тревожил:
— Думал: вот, мол, привез Абаю пустого балагура с домброй. Все песни да песни… Потом слышу: в каждый приезд приносит все новые стихи Абая. И сам как будто идет по его следу. Вот это и согрело мою душу.
— Абай говорил с ним при мне очень сердечно, давал мудрые советы, — вспомнил Базаралы. — Похоже, что на него он возлагает больше надежд, чем на своих сыновей и на признанных акынов, которые там были. И меня это очень порадовало: я вижу, Абай и вправду стал сыном народа, а не сыном Кунанбая. Он с теми, кто обездолен, обижен. А в Дармене, мне кажется, он видит крылья свои. Я сам слышал, как он поучал его. Он говорил с ним как с настоящим акыном… Посылает с важными поручениями доверенным человеком. Вот и на разбор спора с Азимбаем послал вместе с сыном…
И, заговорив об этом, Базаралы глубоко вздохнул.
— Наш скот — земля, не шерсть стрижем мы, а сено, — сказал он горько. — И эта земля всегда была причиной наших бед, Даке… Раньше от Кунанбая народ терпел унижения и насилия из-за земли. Умер Кунанбай, а кунанбайство не сгинуло. Наоборот, обнаглело, умножилось, стало еще жаднее. Разве не унижение то, что терпят те семь аулов?
— И не говори! — покачал головой Даркембай. — Вся кровь закипает во мне, как вспомню. Жаль, что коса Абды не ударила по Азимбаю! Уж если нынче говорить о горе народа, надо говорить об этих семи аулах. Если кидаться за что в бой, так кидаться за них! Мстить — так мстить за их слезы! Ведь это самые обиженные, самые обезболенные люди, за них и поубивать злодеев не грех… Вот наши главные враги — Такежан с Азимбаем!
— Не только наши! — усмехнулся Базаралы и начал рассказывать о том, как встретили его в Семипалатинске Уразбай, Жиренше, Бейсемби и Кунту: — С утра до вечера приставали с душевными разговорами и дружескими советами. Не сразу я понял, чего они добиваются. Теперь-то я вижу, что они собираются втянуть меня в свои распри. Все равно, мол, Базаралы все видел, все перетерпел, что ему терять! Хуже того, что пережил, с ним не будет. Попробуем натравить его на Такежана… Вот и я хотел с тобой посоветоваться, Даке, как мне поступить, что им ответить?
Даркембай раздумывал недолго. Он предупредил Базаралы:
— Не откровенничай с ними! Не выдавай всех своих мыслей, сейчас они прикидываются твоими друзьями… Тебе надо быть со своим народом, с кем у тебя общая судьба, общее горе. Нынче кунанбаевцы потеряли силу, враждуют с другими баями, и если сейчас нанести им удар, они почувствуют всю его тяжесть… Но иди на них не один, а вместе с народом! Советуйся не с чужими людьми, а с теми, кто разделяет с тобой нужду и горе.
Слова Даркембая понравились Базаралы.
— Дельный ответ. И знаешь, что пришло мне в голову? Надо ударить врага, пока он ослаблен распрями. Крепко ударить, Даке. А потом скажу: «По вашим советам действовал, видите, как хорошо понял вас!» Погоди, Даке, ты еще увидишь! Мне сдается, что в беседе с тобой я нашел верное решение… Чего мне бояться? Я видел вещи и пострашнее! — И Базаралы, смеясь, взял со скатерти кусок сыра. — Вот, Даке, над этим кушаньем твой неугомонный бунтарь клянется устроить немалый шум в степи! — сказал Базаралы и торжественно, словно совершая обряд клятвы, положил в рот высохший сыр.
2
В эту осень аул Такежана, старшего брата Абая, как всегда, расположился на делеком урочище Кашама.
Одна половина тобыктинских земель представляет собой весеннее пастбище, жайляу, а другая — осенние, кузеу. Лучшие, наиболее отдаленные пастбища принадлежат роду Иргизбай, в том числе и аулам кунанбаевцев. Среди них аул Такежана — хозяина алчного, не упускающего ни малейшей выгоды, — занимает самые тучные угодья. Осенним кочевьем его многочисленных табунов служит урочище Кашама, граничащее с землями племени Уак.
И нынче аул Такежана стал здесь, на берегу небольшого озера. Юрты не были свободно разбросаны по лугу, как их ставят летом, — их придвинули почти вплотную друг к другу и соединили изгородью из переплетенных стеблей чия, образующей ночной загон для овец. Большая теплая юрта Такежана стояла на краю аула, у самого берега, за ней тянулась цепочка из восьми ветхих юрт его «соседей» — пастухов и работников аула.
У озера и возле аула не было видно ни лошадей, ни овец, ни верблюдов. Весь корм здесь был уже уничтожен, и многочисленные табуны и стада Такежана нынче паслись вдали от стоянки, в густых зарослях кустарника, в ложбинах с сочной травой. Богатый аул, не обращая внимания на холод, все еще не откочевывал с осеннего пастбища, дожидаясь, когда скот использует весь подножный корм в самых дальних уголках. Около юрт не было видно даже и собак: они разбрелись по степи, охотясь за полевыми мышами.
К этому угрюмому аулу в неприветливый, холодный день подъехали три всадника — Абай, Ербол и Дармен. Привело их сюда не очень приятное дело. Слезая с коня, Абай хмурился, как бы показывая, что приезд его вынужден.
В юрте их встретили Такежан, его жена Каражан и сын Азимбай. Юноша выглядел уже взрослым, розовое мясистое лицо его обросло густой черной бородой. Гости, входя, холодно поздоровались с хозяевами.
Такежан заговорил с братом о других аулах, расспрашивая, все ли спокойно, нет ли каких-либо смут, ссор, столкновений. Каражан и Азимбай сумрачно молчали, жестами приказывая слугам подать кумыс, поставить чай, варить мясо.
Хозяевам аула было отлично известно, что уж если Абай приехал, то их ждет какая-нибудь неприятность. Они не забывали о том, что Абай давно осуждает их семью, что он всегда с неприязнью присматривается к жизни их аула.
И Такежан и его жена были тепло и богато одеты. Юрта заботливо утеплена, стены изнутри сплошь затянуты толстым узорчатым войлоком и коврами. Яркий огонь желтого кыя пылал в очаге, но Абай заметил, что в котел положили вяленое мясо. Отлично поняв настроение Каражан, которая не нашла нужным послать в отару за бараном, Абай усмехнулся и сразу же начал деловую беседу.
Приехал он сюда поговорить о двух щекотливых вопросах.
Один из них—похищение лошадей, принадлежащих роду Бура, населяющему Семей-тау. Две недели назад тобыктинские конокрады угнали у них косяк яловых кобыл. В этом подозревают Серикбая. А Серикбай, как известно, — один из людей Такежана. Поэтому потерпевшие просили Абая повлиять на Такежана, чтобы тот заставил Серикбая возвратить лошадей.
Хотя Абай говорил об этом словами вежливыми и мягкими, не нападал и не обличал, но для всех было ясно, что они звучат тяжелым обвинением. Он как бы говорил: «Есть отъявленный вор, оголтелый грабитель, который похитил у честных людей их добро. Он прячется за твоей спиной. Иначе говоря, ты укрываешь вора и несешь ответственность за его дела. Значит, ты и призови его к порядку или отвечай за укрывательство».
Если бы с таким поручением к Такежану пришел любой другой казах, кроме Абая, то как бы осторожно ни было оно высказано, Такежан только раскричался бы. Но сейчас, изворотливый и хитрый, он не подал и вида, что в нем вскипела ярость. Помолчав некоторое время, он наконец заговорил с насмешкой:
— Кто-то из тобыктинцев украл коней. Стало быть, тобыктинцы — воры. Значит, глава тобыктинских аулов, аул хаджи Кунанбая, — аул воров. А старший по возрасту в этом ауле Такежан, выходит, и есть главный вор… И если начали искать похищенный кем-то скот, ведут следствие, стало быть, прежде всего надо взяться за Такежана! Ну, а ты, совесть нашего рода, конечно, и рад начать следствие с меня… — Он зло рассмеялся.
Абай спокойно на него посмотрел.
— Если ты способен думать, Такежан, подумай: могу ли я отделить свою совесть от твоей? Если ты совершишь постыдное дело, разве не буду и я стыдиться? Когда же перестанете вы подозревать меня в том, что, стыдя тебя, я нахожу в этом удовольствие? — И он бросил холодный взгляд на Каражан и Азимбая.
Азимбай, продолжая стругать ножом толстую палку, пренебрежительно скривил губы и ехидно усмехнулся. На лице его, вислощеком, с припухшими красными веками, можно было прочесть: «Плевать мне на тебя и на твою совесть».
Такежан снова заговорил:
— Ладно, Абай, не стоит нам залезать друг другу в душу. Ты говоришь о Серикбае. Кажется, уже больше полугода этой собаки в нашем ауле и не видно. Я не знаю ни одного человека, который сказал бы, где он сейчас шатается. Расправляйся с ним как хочешь, твоя воля, я вступаться не буду. Поймай его — и тогда хоть поджарь на костре и съешь! Вот все, что я могу сказать.
Выезжая к Такежану, Абай и сам знал, что от него многого нельзя добиться, ибо жалоба на Серикбая не подтверждалась ни уликами, ни свидетелями. Ответ заставил его отложить расспросы о похищенном скоте. Такежан дал понять, что в случае, если Серикбай будет уличен, защищать его он не станет. На сегодня было достаточно и этого.
После кумыса и чая Абай заговорил о другом деле. Оно касалось спора, возникшего между Такежаном и жигитеками по поводу сенокоса на Шуйгинсу и Азбергене.
Хмуро выслушав Абая, Такежан спросил о том, что больше всего беспокоило его:
— Кто это говорит? Люди из семи наших аулов? Видно, опять натравливает их Базаралы? Когда у него в голове не гнездятся черные замыслы, то и пища ему не впрок!
— А что же, если и Базаралы? Они самая близкая его родня, их земля — его земля, — возразил Абай. — По-твоему, если он требует возместить нанесенный ему ущерб, это тоже черный замысел?
— Какой он терпит ущерб? Я пользуюсь их землей, но я и даю возмещение.
— Разве это возмещение? И разве они по своей воле уступают тебе землю? Ты всегда отбираешь ее силой, а платишь гроши… Ни для кого не тайна то, что ты проделываешь каждую осень.
— Лучше бы ты прислал самого Базаралы с такими речами! И достойно ли тебе быть судьей в этом деле? Говорят, что Базаралы, не успев вернуться, сразу же начал хвастать, что расправится с нами, покажет себя… До меня все доходит! Я вижу, как он подымает голову и натравливает других!
— По-твоему, если тот, кого душат, кричит, он и в этом виноват, так, что ли? Насильничаешь ты, а упрекаешь того, кто жалуется на насилие?
— Базаралы желает совсем не того, чтобы ты был его ходатаем, Абай! Когда-нибудь ты припомнишь мои слова… Не думай, что я не знаю, о чем говорят в народе. Смотри, потом пожалеешь сам.
— Ты, видно, считаешь, что мало еще насолил ему?
— А ты, я вижу, берешь его себе в друзья? Нашел кого — оборванца… Правда, ты ни разу не почувствовал его зубов и когтей, хотя ты тоже из ненавистных ему кунанбаевцев. А у меня он и мясо прогрыз и до костей добрался!
— Я не видел ни одного честного казаха, которого обидел бы Базаралы! А вот ты и вязал, и ссылал, и заставлял скитаться по белу свету многих… А многих и вконец погубил. И все-таки не перестанешь твердить, что натерпелся от Базаралы! Твердишь, как знахарь свое заклинание!
Братья скороговоркой бросали друг другу эти резкие слова и наконец смолкли, хмуро поглядывая друг на друга. Азимбай, который при каждом гневном ответе Абая поворачивал к нему хмурое лицо, теперь вмешался:
— Оказывается, один лишь человек во всем Тобыкты ничего и не слыхал о грязных делах Базаралы, сеющего смуту. Это наш Абай-ага! Зато у него только и разговоров, что о добре да о нравственности!.. Если эти слова означают разврат и пренебрежение честью рода, пусть сгинет такая «нравственность»!
Строптивый и жестокий Азимбай с годами становился все более зубастым, упрямым и своенравным. Со всех сторон доносилось к Абаю мнение народа: «Он почище самого Такежана, крутой нрав у такежановского сынка». Доходили до Абая и слухи о том, что Азимбай обругал почтенных стариков, требовавших возмещения за убытки, а некоторых жалобщиков выгнал из юрты плетьми. Слова, вырвавшиеся у него сейчас, выразили сокровенные мысли кунанбаевцев о Базаралы, которыми те редко делились с Абаем: Азимбай намекал на связь Базаралы с Нурганым, все еще не забытую семьей Такежана. Воспоминание об этом жило в их сердцах, как неоттаявшая мерзлая земля. Устами черствого, тупого и злобного юноши была выражена их ненависть, обида за поруганную честь рода.
Слова Азимбая вызвали в Абае глубокое презрение к нему: видно, сын хорошо усвоил уроки родителей, он даже перещеголял старших. Резко поднявшись на подушках, Абай возмущенно крикнул:
— Замолчи! Ты решился на такую мерзость, на которую не осмеливался и твой отец! Нравственность не сгинет, а пусть сгинет тот, кто борется против нее! Шел ли ты когда-нибудь по пути добра? Когда ты успел устать от него? С рождения ты видишь только издевательства сильного над слабым, безудержную алчность, преступления, мерзости! А теперь, когда язык твой научился произносить слова, он говорит только грязные слова! Да и где видел ты добродетель? Здесь, у очага Такежана, в котле Каражан или в том сундуке, что стоит там? Добро состоит в том, что человек должен быть не только сыном отца, но и сыном народа. Нравственность требует, чтоб он был справедлив, сострадателен, честен, прям сердцем. Слышал ли ты когда-нибудь об этом? Нет, не добро пусть сгинет, а пусть пропадут ничтожные невежды и себялюбцы, вроде тебя, у которых все нутро наполнено бесчестием и корыстью!..
Азимбай, не дождавшись, когда Абай кончит говорить, пренебрежительно скривил губы и, тряхнув полами чапана, вышел из юрты.
Такежан вполне разделял чувства своего сына. Однако, не продолжая начатого тем разговора, он вернулся к делу. Ответ его был короток.
— В этом году дело уже сделано, сено я скосил, — сказал он. — Не так уж я виноват, чтобы унижаться перед жигитеками и отдавать им скошенное сено. О будущей осени поговорим после. А сена я, конечно, не верну. И если жигитеки вздумают свезти его к себе, пусть знают: возвращаясь на зимовье, я остановлюсь около их аулов и снимусь с места только тогда, когда мой скот сожрет все сено, которое они у меня увезут!
Абаю стало душно в этой юрте. Захотелось выйти на свежий воздух.
Холодное серое небо нависло над аулом. Все вокруг выглядело как-то особенно неприглядно. Абай заметил, что дети, бегающие между юртами, все босы; их грязные голые ножки покраснели от стужи. Прячась от ветра за изгородью загона, они негромко переговаривались, играли у сложенных вьюков. С одной юрты был снят большой кусок войлока, молодая женщина наклонила над ним обветренное, потрескавшееся лицо и латала прорехи. Сквозь обнажившуюся решетку юрты виднелась нищенская утварь. Дряхлая старушка, прикрыв полосатым мешком спину и надев на голову изодранный малахай, но все-таки дрожа от пронизывающего холодного ветра, взбалтывала малму — закваску из кислого молока для дубления кожи.
Глядя на эту нищую лачугу, Абай подумал: «Могут ли люди жить хуже, чем здесь? Какая нищета! Идет зима с лютой стужей, а тут полуголые люди в лохмотьях, без крова…»
Женщины, зашивавшей продырявленную кошму, Абай не знал. Лицо ее поражало болезненной худобой, сквозь бледную кожу просвечивали синие жилки, сухой кашель то и дело сотрясал ее плечи. Услышав шаги, она обернулась, смутилась, на щеках ее вспыхнул нездоровый румянец. Абай поздоровался с ней. На его голос повернулась старуха, взбивавшая малму.
Только теперь Абай узнал эту семью.
— Ойбай, разве это твоя юрта, Ийс? А я не знал, чья эта лачуга.
Войдя в юрту, он увидел, что полы ветхой, рваной шубейки старухи были раскинуты и под ними сидели, спасаясь от ветра, двое продрогших малышей. В больших черных глазах, поднятых на Абая, смешались испуг, смущенная мольба и привычная печаль. При виде постороннего дети еще теснее прижались к бабушке — худенькие, жалкие и беспомощные, как птенчики. Сердце Абая похолодело. Страшное видение нищеты, воплотившееся в этих безвинных страдальцах, поразило его. Он не слышал ни приветствий, ни жалоб старухи.
— Дорогой мой Абай, и собакам в байской юрте лучше живется, чем нам, — причитала она. — Мучаемся все эти годы… И невестка больна…
— А где же Иса? — вспомнил Абай. — Мне рассказывали, как мужественно он вел себя на покосе. Порадовался я за тебя: хорошим, честным человеком ты вырастила сына!
— Как бы не доконала его эта честность! Азимбай прощать не любит. В наказание погнал его пастухом в дальние отары. А у него теплой одежды нет…
Абай, не отрывавший взгляда от детишек, погладил их по головкам, обросшим космами волос, и спросил, как их зовут. Они ответили хриплыми, простуженными голосками. Имя старшего, пятилетнего, было Асан, а младшего, которому шел четвертый год, — Усен.
Ийс продолжала перечислять свои горести. Невестка совсем разболелась, Иса возвращается только к ночи, добывать топливо некому. Вот старая Ийс и греет собственным телом внуков.
— Так и сижу, как старая курица, прикрывая крыльями несчастных птенцов, — закончила она.
С тяжелым сердцем вышел Абай из этой юрты. Неподалеку от нее стояла другая, покрытая толстым войлоком, — такая же богатая, как такежановская, но меньших размеров. Это была Молодая юрта Азимбая. Возле нее седобородый пастух ставил на колени верблюда, навьюченного мешками кыя. Каражан раздраженно приказывала пастуху:
— Смотри не раздавай кый кому попало! Раздели между Большой и Молодой юртами. А то, как увидят топливо, так и начнут клянчить: на одну топку, на две… — И Каражан повернулась к подошедшим людям: — Убирайтесь! Проваливайте по домам! А ты еще куда приплелась? Вон отсюда! — зашипела она на жену табунщика и отогнала прочь оборванных детей.
Она распорядилась отпустить полмешка кыя только рябой старухе, которая робко подошла последней.
Абай издали наблюдал все это. Когда, сказав старухе: «Ну, и хватит с тебя этого», — Каражан пошла к своей юрте, он нагнал ее и решительно потребовал, чтобы полный мешок кыя отправили к старой Ийс. Каражан не посмела перечить. Затем он пошел рядом с невесткой.
— Ай да Каражан! — сказал он с насмешкой. — Пусть я ослепну, если видел где-нибудь байбише,[18] которая была бы так щедра к своим работникам! Неужели тебе не жаль— целые полмешка кыя отдала!
Каражан, щурясь, посмотрела на Абая.
— Почтенный мой деверь, а я не видела человека любопытнее тебя. Видно, ты всюду привык совать свой нос! — сказала она, открывая Абаю дверь в юрту.
Зрелище нищеты, окружающей богатую юрту, породило у Абая неожиданную мысль. Он быстро прошел к гостевому месту и, опускаясь на кошму, попросил у Дармена карандаш, бумагу и тут же склонился над листком.
В открытую дверь заглянули четверо дрожащих, закутанных в лохмотья детей с посиневшими от холода лицами. Они не осмеливались подойти к ярко пылавшему очагу и лишь жадно любовались издали его огнем.
— Убирайтесь вон, оборванцы! — крикнула Каражан.
Они отшатнулись от двери, а в юрту смело вошел маленький, смуглолицый, юркий Шопиш, старший внук Такежана, сын Азимбая. Это он привел к Большой юрте своих сверстников. Мясо в котле уже сварилось, и Каражан, выложив кость с кусками мяса, положила ее в ярко раскрашенную пиалу и протянула внуку. Дав ему в руки ножичек, она шепотом наставляла его:
— Сядь тут, кушай дома. Выйдешь на улицу — эти нищие выманят у тебя мясо. Не дадут спокойно поесть, приставать начнут, да будет им пища отравой… Не выходи, ешь около меня!
Шопиш с беспокойством оглядывался на дверь. За мясо он еще не принимался, но было ясно, что ему не вырваться из цепких рук бабушки. Абай с насмешливой полуулыбкой переводил взгляд с мальчика на Каражан, с нее на Такежана и потом снова опускал глаза на бумагу, где одна за другой возникали строки стихов.
Ербол и Дармен, сидя за спиной Абая, вполголоса говорили между собой. Ербол знал, что если после такой бурной стычки, какая произошла недавно, Абай начинает писать стихи, он насытит их ядом острой издевки. И он шепнул Дармену:
— Гляди, юноша, Абай взялся за стихи… Как, по-твоему, кого нынче ужалит его насмешка?
Во время разговора братьев Дармен все время думал о Базаралы, который вызывал в нем искреннее уважение. Поэтому он ответил:
— Мне кажется, Абай-ага пишет о жалобе жигитеков… Ербол, однако, предполагал другое:
— Нет, если я знаю Абая, он сейчас насаживает на копье скупость Каражан, которая пожалела барана и варит вяленое мясо… Я очень бы хотел, чтобы он писал об этом: вид этого унылого котла нагоняет на меня тоску!
Дармен негромко рассмеялся.
— Ну, вряд ли стоит обрушивать стихи Абая-ага на казанок Каражан ради того, чтобы у нас не сосало под ложечкой! Неужели мы не справимся с этой скрягой сами?
Ербол тоже не удержался от смеха. Абай, кончив писать, обернулся к ним и подозвал их поближе:
— Такежан, Каражан, послушайте и вы стихи!
Те встревоженно подняли головы. Абай начал читать:
Октябрь — ноябрь, осенняя пора… Подуют скоро зимние ветра. «В кочевье поспешишь— траву потравишь»,— И медлит бай, а в путь давно пора.Всем слушателям сразу стало понятно, о чьем ауле говорилось в стихотворении. Ербол и Дармен одобрительно закивали.
— Вот то-то и оно! — шепнул Ербол Дармену. — Что я говорил тебе, юноша? Погоди: будет и про казанок…
Дальше стихи описывали положение чабана в ауле Такежана, «соседей», зябнувших без топлива. Не были забыты и полмешка кыя. Вошли в стихи и расчеты скряги хозяина, намеревавшегося отделаться от Ербола залежавшимся мясом старого барана.
Язвительные, бичующие слова попадали прямо в цель. Слушатели узнавали и робких оборвышей, заглянувших в дверь, и Шопиша с куском мяса, и Каражан, обучающую его есть свой кусок втихомолку. Беспощадно правдиво были переданы в стихах презрение Каражан к детям бедняков, ее злобное шипение на них:
Ждут подаянья дети бедняков. Но байский негостеприимен кров — Толпятся на пригреве, не отходят От юрты дальше нескольких шагов. А мать своим любуется сынком. Пускай, как ты, он будет жадным псом, Балуй его! Он плохо ест при виде Детей, объедков ищущих кругом.Стихи хлестали Каражан, как плетью. В них говорилось также о непримиримой борьбе между богатым и бедным — даже дети разделены на два легеря…
Абай кончил читать, и только тогда к Такежану и его жене вернулся дар слова.
— Что же, ты приехал сюда, чтобы хулить нас? — начал Такежан.
— Хулить? Опозорить, осрамить нас — вот какая у него цель! — вскипела Каражан. — Старшего брата и невестку собаками обозвал!
Абай, посмеиваясь, передал стихи Дармену. Тот сложил лист и сунул в карман. Такежан, словно очнувшись, внезапно накинулся на юношу:
— Что ты прячешь стихи? Ишь какой ловкач! Кто научил вас есть в моем доме угощение и опрокидывать ногой блюдо? Дай сюда, разорву и брошу в огонь! — Он протянул руку к Дармену.
Абай и Ербол покатывались со смеху. Дармен вовсе не собирался отдавать стихи, наоборот, он еще глубже засовывал бумагу в карман. Такежан побагровел и повернулся к Абаю:
— Уничтожь стихи! Уничтожишь или нет? Тогда убирайся вон отсюда! — кричал он, бешеными глазами глядя на Абая.
— Дорогой мой, я же не о тебе писал! — ответил тот, по-прежнему весело смеясь. — Разве ты запретишь мне подтрунивать над Каражан, моей невесткой. Уж не хочешь ли ты быть для моих стихов более грозным судьей, чем сам ангел смерти Азраил? А может быть, твоя жена, вроде хаджи, превратится в неверного гяура, если ее обругают?
Абай отшучивался, но Каражан заплакала от возмущения.
— Слова, которые не осмелился бы сказать злейший враг, ты называешь шуткой? «Вся ваша семья — враг мой!» — вот что говоришь ты этими стихами! Разорви бумагу! Сейчас же!
Такежан продолжал требовать того же.
Во время этого спора Ербол взял у Дармена стихи и перечитывал их, весело улыбаясь. Видя, что братья могут всерьез поссориться, он быстро заучил наизусть те две строфы о детях, которые привели в бешенство Каражан, и, взяв из рук Абая карандаш, обернулся к Такежану.
— Такежан-ага! Уничтожить стихи было бы и насилием и несправедливостью. Но верно, что иногда слова стихов, даже шутливых, ложатся на сердце тяжелым камнем. Здесь есть строчки, которые задевают Каражан за живое, — давайте уничтожим их. Вот я зачеркиваю! — И он тщательно замазал карандашом две строфы.
3
Такежан, стараясь как можно дольше не трогать зимних кормов, все еще держал свой аул на осенних пастбищах, медленно кочуя к зимовью на Мусакуле. Спор о сене, скошенном на урочище Азберген и Шуйгинсу, перешел в открытую распрю.
Не добившись ничего от Такежана, Абай передал потерпевшим аулам жигитеков: «То, что делает Такежан, — насилие. Я убеждал его, но уговорить не сумел. Любой ваш ответ на его произвол будет справедливым. Сумейте постоять за себя, сородичи!» И жигитеки, решившись, развезли по зимовьям свое сено, скошенное Такежаном.
Тот узнал об этом, когда его аулу остался один переход до зимовья на Мусакуле. Он тотчас же разослал гонцов, вызвал к себе младшего брата Исхака и старших своих родственников Изгутты и Майбасара и, посовещавшись с ними, решил выполнить угрозу, высказанную Абаю в пылу гнева. И хотя все аулы уже расположились на своих зимовьях, аул Такежана, несмотря на заморозки, к Мусакулу не пошел: он повернул к зимовьям тех семи жигитековских аулов, которые увезли к себе сено с Шуйгинсу и Азбергена.
Впереди каравана ехали Такежан, Азимбай и Майбасар, с ними около дюжины наглых, готовых на все жигитов. Всадники остановились на небольшом холме, по склону которого тянулись низкие, сложенные из дерна загородки загонов для скота. Здесь же стояли и скирды сена, вызвавшего раздор.
За караваном на холм поднялись тысячные стада Такежана. Неумолимой лавиной они навалились на жалкие заросли чия, на заповедные пастбища небогатых аулов, сохраняемые на зиму. Овцы и коровы разбрелись по ним, уничтожая траву, верблюды и коровы покрупнее, вытянув шеи через низкие загородки, жадно пожирали сено из стогов.
У ветхих жигитековских построек показались люди. Потрясенные этим неожиданным и наглым произволом, они собирались в кучки, советовались, садились на своих кляч и скакали в разные концы, пытаясь отогнать скот. К тому времени, когда караван Такежана начал ставить юрты, около десяти всадников-жигитеков поднялись на холм к Такежану. Среди них были Базаралы, Абды, Сержан и Аскар.
Такежан и его свита в ожидании, пока установят юрты, объзжали стада. Базаралы, нагнав Такежана, заговорил спокойно, с достоинством, без крика и брани. В его скупых, но веских словах чувствовалась уверенность в своей правоте:
— Мирза Такежан, ты, видно, решил придавить коленом запуганных жигитеков? Хочешь показать свою силу, дойти до крайностей? Потравить все их корма, уничтожить все сено, может быть, и лачужки сжечь?
Такежан, положив перед собой на седло плеть и упираясь в концы ее широко расставленными руками, откинулся в седле, глядя на Базаралы с уничтожающей насмешкой. На вопросы его он ответил вопросами же:
— Разве это твое зимовье, сын Каумена? Ведь твой аул на Чингизе! Какой убыток терпишь здесь ты?
— Это мои сородичи. Моя кровная родня. У них нет смелых заступников, кто мог бы отстоять их права. Я ваш общий родственник. Неужели ты не примешь меня посредником между вами?
— Тебя же я не трогаю! К чему тебе совать нос в чужие дела? Занимайся своим делом, сородич!
— Стало быть, ты говоришь: «Не заступайся за них, даже если я растерзаю и сожгу их». Так, что ли?
— Мне не о чем с тобой говорить! Я не собираюсь состязаться с Базаралы ни в красноречии, ни в мерзостях. Я же сказал: держись подальше от меня, родственничек!
— Это все, что ты можешь сказать, мирза Такежан? Не желаешь отвечать за насилие и самоуправство?
— И не желаю и не буду!
— Так и не ответишь?
— Если и отвечу — не перед тобой!
— В самом деле не ответишь, Такежан-мирза?
— Не отвечу, не стану отвечать!
— Ну, довольно! И я спросил трижды, и ты сказал трижды. Видно, нам не договориться. Но теперь не мы уже будем виновны во всем дальнейшем. Пожалеешь! Я крепко взбаламучу твою мутную воду, Такежан, иначе не буду сыном своего отца!.. Дважды не рождаются, но дважды и не умирают! Я давно уже прозрел, терпя от тебя такое, чего и на каторге не видел… Ну что же, если ты не баба, продолжай свое!
Гневный взгляд больших выразительных глаз Базаралы переходил с Такежана на Майбасара. Громкие и внятные слова его были слышны всем. Он приказал своим спутникам повернуть коней. Кучка жигитеков, оборванных, жалких, сидящих на тощих клячах, направилась обратно.
Слова Базаралы не поколебали решимости Такежана.
Аул расположился здесь прочно, надолго; даже если повалит настоящий снег, он и не подумает сниматься. Юрты обложили снаружи завалинками из дерна, снова построили загородки из чия для защиты овец от ветра.
Сено и травы заповедных пастбищ жигитековских аулов стали безжалостно уничтожаться скотом днем и ночью. В юртах жгли заготовленные жигитеками на зиму скудные запасы кыя — Азимбай и Каражан посылали за ним по ночам отчаянных жигитов, и в хозяйских юртах горел жаркий огонь.
Новая беда, нагрянувшая на аул бедняков, и без того изнемогавших от нужды, привела их в отчаяние. Весть о наглом разбое Такежана облетела все аулы жигитеков, до самых дальних в горах Чингиза: «За горло схватил беззащитных, глумится над ними!»
В эти же дни внезапно исчез Базаралы, а с ним — около десятка молодых жигитов из ограбленных аулов Шуйгинсу и Азбергена.
Перед отъездом Базаралы вызывал к себе по ночам поочередно по четыре-пять человек, еще около тридцати жигитов из других жигитековских аулов, зимующих на Карауле. Каждой группе он давал одно и то же поручение:
— Если найдете в своем ауле хоть каких-нибудь куцехвостых кляч, годных, чтобы с них свешивать ноги, седлайте их и поезжайте к жатакам в Миалы и Байгабыл! Оттуда начнется поход. Годы мечтал я об этом. Мысль о нем давно уже горит в моей душе. Это будет поход бедняков, таких же, как я, как вы, поход мести! Не спрашивайте, чем это нам грозит. Когда я, вырвавшись с каторги, прибыл к вам, вы клялись: «Пойдем за тобой всюду, умрем рядом с тобой!» Я помню ваши слова, я принял их как клятву отважных. Если вы решительны по-прежнему, нынче настал день битвы! Не говорите, что кони ваши не годятся для нее: у вас будут лихие скакуны! Не я дам вам их — их даст нам сам поход. Не говорите, что у вас нет соилов:[19] жатаки с радостью дадут вам каждому по два соила! Но храните тайну, не проговоритесь! Пусть трусливые байские аулы нашего Жигитека, вроде аулов Бейсемби, Абдильды, Жабая, ничего не знают об этом! И второе мое требование: уезжайте из своих аулов не все сразу. Исчезайте по двое, по трое в ночь и добирайтесь до жатаков. Но чтобы через пять дней все вы, сорок жигитеков, встретились со мною у жатаков Миалы! Мы с Абылгазы будем ждать вас там.
О том, что делать дальше, как и на кого нападать, он не говорил еще ни слова. Дав наставление последним приехавшим по его вызову жигитекам, Базаралы вместе с его храбрым, воинственным другом и сородичем Абылгазы сам исчез из Шуйгинсу.
Следуя указаниям Базаралы, жигиты прибывали в Миалы к жатакам по четыре, по пять человек. Здесь их уже ждали и размещали по отдаленным одиноким аулам.
Базаралы вместе с Абылгазы жил эти дни у Даркембая, выжидая прибытия всех вызванных им жигитеков. Друзья делились сокровенными мыслями, обсуждали задуманное. Сидя у печки в маленькой землянке Даркембая, они вели беседы на самые различные темы. Пустая похлебка, сваренная женой Даркембая, казалась им изысканным и сытным кушаньем. Базаралы разговорился, беседа текла по прежнему руслу, направляясь все к той же цели — к предстоящему походу сорока жигитов. Теперь он говорил уже не о злодеяниях Такежана, не о раздорах среди тобыктинцев; он рассказывал о том, о чем еще не слышали казахи.
Базаралы вспомнил одного русского старика, с которым сблизился на каторге. У него была широкая белая борода, густые брови (такие же пышные, как и его седые усы) нависали над впалыми синими глазами, словно крылья сизого сокола. Ростом он был ничуть не ниже Базаралы. Тридцатилетняя каторга не сломила его силы.
— Редко встречал я таких людей, как Керала, — и душой и телом силен! — рассказывал Базаралы о своем русском друге, имя которого — Кирилл — он переделал на казахский лад. — Оказывается, и в России кишмя кишат свои Кунанбаи да Такежаны. Там они зовутся дворянами, помещиками. Керала рассказывал мне о том, что терпел он от своего бая — помещика Педота.[20] У Педота была свора борзых, которой он гордился перед соседними баями, а у одного из них была хорошая гончая, которую тот никак не хотел продать. Однажды этот бай увидел сестру Керала — она была красивой девушкой, еще двадцати лет ей не было. И этот бай сказал Педоту, что согласен променять свою гончую на эту девушку. Ее забрали в дом Педота. Керала тихо подкравшись, заглянул в окно. И, увидев, как бедная его сестра защищалась от старого бая, Керала кинул в окно топор и поразил бая. После этого он решил, что ему все равно несдобровать. Уж если гибнуть, так отомстив за все… У русских есть такое выражение: «красный петух» — это когда сжигают дом и имущество врага. Керала ночью пустил в дом своего помещика «красного петуха». Два месяца скрывался он, нападая на имения баев своей округи, мстил угнетателям. Два раза помещики устраивали облаву, но взять Керала не смогли. В третий раз храбреца окружили царские солдаты, поймали, заковали в кандалы. Вначале суд назначил ему смерть, но потом вместо быстрой казни сослали на пожизненную каторгу. Ему было двадцать пять лет, когда он стал мстить врагам. Вот уже тридцать лет, как он влачит на каторге свою жизнь…
— Ой, горемычный! Какая сила пропадает! — воскликнул слушавший с жадностью Абылгазы.
Даркембай пощелкал языком, сокрушенно кивая головой:
— Несчастный… Но он указал путь другим отважным!
— Да, и таких там много, — подтвердил Базаралы. — Видел бы ты, сколько молодых крестьян пригнали на каторгу за эти годы! Все они бунтовали против своих баев. И, оказывается, не только с ними вступили они в борьбу, а и с царскими слугами, с самим царством, и такая борьба кипит по всей России. Я видел отважных крестьянских вожаков, много наслышался от них. Вот кем восторгаться надо! Они борются не по-нашему, не в одиночку — собирают народ и обрушиваются на врага целой лавиной… Вот это легенды, — что там «Тысяча и одна ночь», что там «Бахта-жар!» Слушая их, я всегда терзался расскаянием: оказывается, я утонул в чашке воды — попал на каторгу, ничего не сделав… Я все время жалел о том, что не нанес врагам такого удара, который они помнили бы долгое время, который заставил бы их пожалеть о своих злодеяниях.
Даркембай слушал Базаралы с волнением, всей душой понимая, о чем сожалеет Базаралы. Жажда справедливой мести, накопившаяся в его старом сердце за долгие годы унижения и гнета, с особой силой вспыхнула в нем. Он с наслаждением слушал рассказ о дерзких бунтарях, смелых, непокорных русских бедняках и, кивая седой головой, удовлетворенно улыбался. Когда Базаралы замолчал, старик повернулся к нему.
— Я вижу, ты не зря вспомнил все это сегодня. Должно быть, ты хочешь подзадорить самого себя. А знаешь, что я тебе скажу, пока мы тут втроем? — И Даркембай в упор взглянул на Базаралы своими острыми серыми глазами. — Помнишь, мы ведь и раньше часто говорили о бедствиях народа, да говорили все без толку. Слова так и оставались словами. Одни из нас со слезами и стонами уходили в ссылку, другие безропотно давали связать себя по рукам и ногам. Известно, какая строптивость у казахов! Пошумят — и все равно аркан остается на нашей шее. Я хочу, чтобы ты наконец понял это! Подумай о себе: грозишься ты сильно, а бьешь слабо — вот эта досада и состарила меня! И сегодня опять то же? Выходит, дряхлому Даркембаю, уже свалившемуся от бессилия в постель, только и остается, что умирать без всякой надежды на будущее? Нет уж, хватит! Если хочешь действовать, так действуй! Уж если умирать, так умри, хоть раз взмахнув мечом!
Базаралы и Абылгазы удовлетворенно переглянулись. Слова Даркембая понравились Базаралы, и он даже повторил их:
— «Грозишься сильно, а бьешь слабо…» Что за слова! Метко и остро сказано! — воскликнул он.
— Это не слова, а удар дубинкой прямо по голове! И веский удар! — восхищенно подхватил Абылгазы и добавил — Что ж тут говорить, Базеке? Теперь надо только садиться на коней… Ну, доброго нам пути, да исполнятся желания наши!
И он быстро поднялся с места, словно продрогший путник, который хочет скорее согреться движением.
Абылгазы был человеком, у которого слово сопровождается делом, а подчас дело даже опережает слово. О таких людях говорят: «Впереди — гнев, а за ним — разум». Он давно понимал, что в походе, который замыслил Базаралы, его место впереди всех: кому же, как не Абылгазы вести в бой жигитов? И теперь, как бы показывая, что время действовать настало, он встал первым.
Была уже полночь. Друзья быстро оделись и вышли из землянки. Даркембай помог им сесть на коней и благословил на тот путь, о котором говорил Абылгазы. Старик взял прислоненные к низенькому забору два черных шокпара[21] и поднял их над головой.
— Я уже думал, что они истлеют вместе со мною, что никто не взмахнет ими… Возьмите их, жигиты! Пусть еще раз взлетят они вверх, пусть застывший мой гнев обрушится вместе с ними на давнишних врагов!.. Ну, доброго пути, тигры мои! Вперед! — сказал он.
И он долго еще смотрел вслед скачущим друзьям.
В это же время со стороны Байгабыла, из отдаленных аулов жатаков, выезжали и другие всадники. Двигаясь отдельными кучками по ложбинам, все они к рассвету собрались на осеннем кочевье бокеншинского рода Акеспе. Их было сорок пять смелых жигитов, вооруженных соилами и шокпарами.
Зимняя заря медленно вставала над равниной. Снег, шедший всю ночь, покрыл землю толстым покровом, доходившим коням до щеток. Абылгазы уже объяснил собравшимся, куда и зачем они направляются, и теперь давал последние распоряжения:
— Всего вас сорок пять жигитов. Пятеро — жатаки, люди из здешних аулов. Если бог пошлет удачу и замысел наш осуществится, вам, пятерым, незачем уходить вместе с нами к далекому Чингизу. Возьмите то, что каждому из вас достанется, и сразу же возвращайтесь сюда, в свои аулы. Дайте каждому из ваших домов свою долю и спокойно оставайтесь здесь!
Затем Абылгазы заговорил с жигитеками. Отделив пятнадцать всадников, он объяснил им их действия.
— Вы в схватку не кидайтесь. Ваше дело — только угнать коней. Будете гнать табун через Ойкудык, через Ералы к предгорьям Малой Орды. Не оглядывайтесь ни назад, ни по сторонам, гоните быстрей! Догоним вас после. Главным у вас будет Сержан. Слышишь, Сержан? Поняли?
— Поняли! Да будет по-твоему! — послышались быстрые ответы.
Абылгазы рассмеялся.
— Вот это ответ! Я вижу, вы нынче готовы к прыжку. Бодры, словно дикие звери, повалявшиеся на белой пороше!
Потом Абылгазы подъехал к остальным двадцати пяти жигитам. Под этими кони были покрепче, и сами они, один к одному, были молодые, сильные, рослые, как Абды и Аскар. Березовые соилы, которые одни держали под мышкой, а другие сунули под ремни стремян, глухо стукались друг о друга. Этим жигитам Абылгазы предназначил другое дело:
— Вы вступите в бой. Не попадайтесь в плен. Это — первое. Умрите, но не давайтесь в руки врагу! Если кто-либо попадется, остальные старайтесь выручить его! Врага же бейте так, чтобы никто не мог бежать и сообщить своим о набеге. Валите их подряд! Это — второе. Сбив с седла врага, не бросайте его коня: схватите поводья, ведите за собой! Чтобы ни одного коня не осталось у врагов, иначе они пошлют за помощью. Это — третье. Нападая, наваливайтесь на врага всей толпой, не рассыпайтесь поодиночке! Врагов бейте со всего размаху, бейте так, чтобы до ночи не очухались! И еще вот мое слово. Ведь под вами куцехвостые клячи бедняков, а путь наш сегодня не кончится. Не раз нам придется довести коней до седьмого пота. Поэтому, как только добьемся перелома в бою, быстро смените своих кляч на жеребцов, яловых кобыл, выбирайте коней покрепче!
Потом он снова обратился к первой группе:
— Вот еще что. Если бой будет удачен и мы уйдем без погони, берегите захваченные табуны! Путь долог, а земля покрыта снегом. Не гоните коней как попало. В табунах будут и молодняк и жеребые кобылы — им не выдержать быстрого похода. Берегите добро, которое пойдет вашим же братьям!
Абылгазы повернул коня к горам Шолпан и крупной рысью повел за собой оба отряда. Базаралы поехал рядом с ним.
За все время Базаралы не произнес ни слова. Достаточно было того, что он был здесь и что теперь скакал впереди всех. С каждым из жигитов в отдельности он говорил раньше, задолго до похода зажег пламенными словами их сердца, пробудил в них гнев и жажду мести.
Цель похода бедняков приближалась. Быстрой рысью всадники пересекли урочища Жокен-кудыгы, перевалили две-три возвышенности у подножья гор Шолпан и задержались у последнего холма, поджидая отставших. Когда все собрались, Абылгазы подал знак, и всадники стремительно взлетели за ним и за Базаралы на вершину перевала. Отсюда открылась вся долина. Множество коней паслось на снегу, растянувшись от подножья холма в направлении к горам Шолпан. Там и здесь виднелись всадники, вооруженные соилами.
Абылгазы резко затянул поводья и повернулся к жигитам. Взмыленный серый его конь, раздув ноздри, бил копытами снег, вертясь на месте. Подняв над головой черный шокпар, подаренный Даркембаем, Абылгазы указал всадникам на долину.
— Жигиты, мы добрались до цели! Вот табун заклятого врага нашего — Такежана. Восемьсот голов! Мы их сейчас угоним! Ни одного стригуна не оставляйте, ни одной самой лядащей лошаденки! Глядите, вон там такежановские табунщики. Вам ли бояться этих неповоротливых дурней с хворостинками в руках? Сшибайте их с седел, садитесь на их коней, а своим закиньте поводья на шею и гоните вместе с косяками! Ну, голытьба, вперед! Держитесь вместе, ринемся на врага плотной тучей! Да будет удачным поход бедняков! Вперед! Бей их! Бей! — выкрикнул он и ударил плетью своего серого.
Жигиты ринулись за ним. Взвихривая рыхлый снег, отряд лавиной покатился по склону холма. Топот, гиканье, боевой клич «кеу-кеу», свист, перестук соилов вспугнули мирно пасущиеся табуны. В косяках Такежана кони привыкли к вольной жизни на тихих, безлюдных пастбищах. Полудикие степняки, горячие и строптивые, не дали и приблизиться людям, храпя и фыркая, они понеслись во весь опор к горам Шолпан, развевая на скаку гривы и хвосты. Комья снега, вырвавшиеся из-под тысяч копыт, покрыли равнину белым туманом; казалось, внезапно поднялась пурга. Пятнадцать жигитеков и пятеро жатаков, выделенные Абылгазы для отгона табунов, едва поспевали за ними, гиканьем и криками наводя на коней еще больший ужас.
В то же время двадцать пять жигитов, тесной кучкой скакавшие за Абылгазы, ринулись на табунщиков, которые, завидев нападающих, тоже попытались собраться вместе. Около двух десятков их уже устремилось навстречу Абылгазы, крича и размахивая соилами.
Закутанные поверх чапанов в толстые балахоны из грубой шерсти и напялившие на малахаи для защиты от ветра широкие башлыки, табунщики казались сказочными великанами. И кони были им под стать: упитанные яловые кобылы, крупные жеребцы с волнистыми гривами, висящими до колен. Медленно шагая с самого утра в охране табунов, они ни разу не вспотели, мороз покрыл инеем их длинную шерсть, превратил челки на лбу в сосульки, и теперь они походили на огромных мохнатых чудовищ.
Среди табунщиков был и Азимбай, резко выделявшийся в своем лисьем малахае и в светло-желтой дубленой овчине. Багровое лицо его распухло от холода, веки еще больше покраснели.
Присутствие здесь Азимбая не было случайным. Еще с того дня, когда Базаралы пытался объясниться с Такежаном, он был настороже. Сын алчного, подозрительного и хитрого Такежана оказался умнее, прозорливее и своего отца и всей родни. «Если Базаралы задумал мстить, он начнет с того, что угонит скот», — решил Азимбай и принял свои меры. Он приехал на пастбище, расставил табунщиков в охрану и остался следить за ними.
Едва отряд Абылгазы появился на вершине холма, Азимбай сразу понял, что это означает. Он тотчас поскакал по косякам, собирая табунщиков.
— Это не путники, это враги! Умрите, но не отдавайте коней! Бейтесь смело!.. Нападайте сами! — кричал он.
Но табуны уже помчались. Азимбаю удалось задержать табунщиков, которые, делая вид, что пытаются догнать напуганные косяки, спасались от нападающих. Яростно ругаясь, он собрал вокруг себя больше двадцати человек.
— Не в табунах сейчас дело, пусть скачут! Надо отбить врагов! — кричал он и, вырвав из рук подростка-табунщика соил, повел своих людей навстречу Абылгазы.
Обе группы всадников, стремительно мчавшиеся друг на друга, столкнулись на снежной поляне у зарослей таволги. Базаралы раньше других узнал Азимбая и крикнул своим жигитам:
— Вот сынок Такежана скачет навстречу! Свалите сперва его, а за табунщиков приметесь после.
Азимбай скакал в середине своего отряда. С двух сторон его охраняли два огромных жигита на рослых конях — рыжем и вороном. Когда обе группы сшиблись, Базаралы и Абылгазы оказались прямо против Азимбая. Его телохранители одновременно взмахнули соилами.
Искусству биться соилами на конях Базаралы и его друг обучались с малых лет. Они легко отбили нападение обоих великанов, под могучим ударом Базаралы соил табунщика на вороном коне переломился, как тростинка. Но не успел Базаралы обернуться, как Азимбай, воспользовавшись удобным случаем, подскакал к нему, хрипло крича:
— Не успокоюсь, пока не уложу тебя!
Он со всего размаху хватил Базаралы соилом по голове и торжествующе выругался. Но тут же удар по затылку ошеломил его: это Абылгазы, справившись со своим противником, пустил в дело черный даркембаевский шокпар. Соил выпал из рук Азимбая. Потеряв поводья, он всем телом откинулся на круп коня. Базаралы, еще не оправившись от удара, врезался между ним и табунщиком, пытавшимся поддержать хозяйского сына. Крепко схватив Азимбая железной рукой за воротник тулупа, Базаралы потащил его с седла и, с силой ударив другой рукой по лицу, сбросил с коня, которого тотчас же схватили за поводья подскакавшие жигиты.
Чернобородый детина на вороном коне, тот, из рук которого Базаралы вышиб соил, теперь, подобрав другой, снова налетел на Базаралы. Это был тот самый жигит, кто на покосе в Шуйгинсу был готов ударить косой по ногам Абды. Он яростно размахнулся, но Базаралы изо всей силы стукнул шокпаром по его колену, не защищенному толстым тулупом. Чернобородый охнул, соил его скользнул по плечу Базаралы. Согнувшись от боли, словно переломившись пополам, огромный жигит свалился со своего жеребца. Базаралы сам не ожидал, что схватка с этим великаном закончится так быстро, и, несмотря на боль в голове и плече, невольно усмехнулся, обернувшись на поверженного противника. Огромный, закутанный вдобавок в толстый тулуп и балахон, он, пытаясь встать, бился на снегу, словно громадный беркут, раненный в крыло.
Рядом сражался Абылгазы. Даркембай не зря доверил ему свой черный шокпар: под ударами жигита с коней слетели еще три табунщика.
Силы противников были почти равными: табунщиков было немногим больше. Но стоило сбить с коней Азимбая и двух старших табунщиков, как остальные бросились в бегство, рассыпавшись по долине. Абылгазы приказал своим жигитам пересесть на всех оставшихся без всадников коней. Белого коня Азимбая он отдал силачу жигиту Месу.
— Не давайте никому удрать! Сбивайте с коней всех! Всех оставьте пешими! Если хоть один останется на коне, он даст знать в аулы о набеге! — кричал Абылгазы.
Он послал Меса с несколькими жигитами за одной кучкой беглецов, а сам с десятком других ринулся за остальными. Часть жигитов осталась около Базаралы.
К полудню все табунщики до единого остались без коней, часть из них лежала на снегу без памяти. К этому времени жигиты, гнавшие табуны, уже перевалили Шолпан, пересекли Ойкудык и достигли долины Ералы. Весь громадный табун, в восемьсот коней, был пригнан сюда, не оставили ни одного стригуна. Здесь их нагнали Базаралы и Абылгазы со своим отрядом и подозвали к себе пятерых жатаков.
— Получите вашу долю и раздайте своим, — сказали они и выделили для сорока семей жатаков сорок сильных коней. Кроме того им отдали двадцать отгульных кобылиц.
— Что будет дальше, увидим после. Конем больше, конем меньше — один ответ держать! — сказал Базаралы. — Своими руками я все это сделал, своей головой и буду отвечать. Пусть родичи мои, жатаки, ничего не боятся! Этих сорок коней оставьте на тягло, у вас их никто искать не станет. Будете возить на них в город на продажу сено, купите еды и одежды. А кобыл теперь же зарежьте на мясо! — закончил он и отпустил жатаков, передав привет Даркембаю.
К ночи жигиты пригнали весь остальной табун в Шуйгинсу, пройдя почти вплотную мимо спавшего аула Такежана. В эту же ночь Базаралы роздал коней беднякам жигитекам. Такежановский табун был поделен между неимущими аулами, раскинувшимися на широком пространстве урочищ Шуйгинсу, Азберген, Караул — до отдаленного Колденена у Чингизских гор. Посылая коней, Базаралы передавал каждому аулу строгий наказ: «Пусть вам и в голову не придет держать у себя хоть одного из этих коней для езды и работы! Их можно использовать только на мясо. В эту же ночь зарежьте присланных лошадей. Разорил Такежана я, один я, Базаралы. Всю тяжесть ответственности беру на себя. Пускай бедняки ничего не боятся и пользуются тем, что наконец попало им в руки!»
Начало зимы всегда бывало самым трудным временем для казахского аула: молочная пища уже сократилась, а резать на мясо скот еще не начинали — он мог еще нагулять вес. Скот резали позже, с наступлением настоящей зимы. Тогда шкуры и мясо посылали в город и на вырученные деньги покупали чай, муку, сахар. Осенью же даже богатые аулы резали только старый скот, которому трудно было перенести зиму. Про эти месяцы говорили: «Время, когда толстый становится тоньше, а тонкий и вовсе рвется».
В эти тяжелые дни, когда люди, дожидаясь наступления зимы, терпели лишения, неожиданная помощь Базаралы, приславшего бедным аулам скот, спасла их от голода. Приказ его был выполнен точно: во всех аулах жигитеков-бедняков, на Шуйгинсу, Карауле, в горах Чингиза, резали присланных коней.
Огромный табун Такежана исчез в одну ночь.
4
Весть о дерзком набеге с быстротой молнии облетела все Тобыкты. В следующие дни об этом стало известно далеким кереям и уакам, на западе — каракесекам, на востоке — сыбанам и найманам. Известие встряхнуло всю степь, как ударом землетрясения. Одни, хватаясь руками за ворот в знак удивления, слушали с нескрываемой тревогой, другие же — с удивлением, с радостью. Третьи повторяли в паническом страхе:
— Наши аулы постигло грозное несчастье, обрушилось кровавое бедствие!
Пересудам не было конца.
— Такого никогда не бывало! Ни в какие времена никто не решался на такой набег! Всегда бывали раздоры и вражда, но для такого пожара нужно неугасимое пламя ненависти…
В самом деле, не только нынешнему поколению Тобыкты, но и старикам не приходилось быть свидетелями такого разгрома. И прежде бывали жестокие набеги. Всем известны и «набег шоров», и «нашествие найманов», и «налет Буры», которые глубоко врезались в память. Но это было давно. Да и при этих набегах табуны только угоняли; никто не помнит случая, чтобы коней поголовно уничтожили, как это случилось теперь. Как бы сильна ни была вражда, как бы упорна ни была тяжба, коней обычно захватывали как залог — до вынесения приговора или до обоюдного соглашения, возвращая их после этого владельцу.
Степная знать — аткаминеры и старейшины — с возмущением говорила:
— Никто, кроме Базаралы, не смог бы решиться на это. Видно, на каторге научился он кое-чему у разбойников и убийц!
В бедных же юртах перешептывались:
— Как тигр на них прыгнул… Наконец-то побил как следует!
В глазах множества простых людей Базаралы предстал человеком, отомстившим богачам за обиды, оскорбления и лишения.
Первым узнал о набеге аул Такежана. Придя в себя, Азимбай послал одного из табунщиков на зимовку у подножья гор Шолпан с просьбой прислать трех коней. Поддерживаемый в седле двумя табунщиками, он к рассвету добрался до аула отца. Голова его была перевязана полотенцем, кровь, просочившаяся сквозь повязку, запеклась на лице. Когда бледного и ослабевшего Азимбая жигиты бережно снимали с коня возле юрты Такежана, на вопли и плач Каражан сбежались все, кто был в ауле. Такежан, обняв сына, громко зарыдал. И он и Каражан в ярости кричали о мщении врагам, об оскорблении, нанесенном не только кунанбаевцам, но и всему роду Иргизбай. Аксакалы и карасакалы[22] с гневом поддерживали их.
— Лучше б нам провалиться сквозь землю, чем терпеть такую обиду!.. Отомстите, не щадите разбойников! — кричали они.
В тот же день поскакали гонцы во все богатые аулы, ко всем крупным баям, биям, аткаминерам, старейшинам всех родов Тобыкты. Базаралы сразу же стали называть разбойником, грабителем. Такежану выражали сочувствие.
Набег вызвал гнев и возмущение не только в близких Иргизбаю родах Тобыкты: все богатые аулы соседних племен — Уака, Сыбана, Наймана, Керея, Буры, Каракесека — приняли весть о разгроме Такежана как личную обиду. Более того, злоба и зависть, которые внушал к себе и к кунанбаевцам властный и алчный Такежан, были забыты. Казалось, перед всеми этими богатыми аулами вдруг встал во весь рост один общий, равно ненавистный всем враг.
В ближайшие же три-четыре дня весть о неслыханном набеге дошла и до Семипалатинска. Городские торговцы-казахи, управители ближайших к городу волостей осаждали начальство, поддерживая прибывших из степи жалобщиков. Канцелярии крестьянского и уездного начальников были битком набиты волостными, переводчиками, торговцами, которые единодушно просили вступиться за кунанбаевцев.
Уездный начальник Казанцев тотчас выслал в аул управителя Чингизской волости «почту с пером». Прибытие русского стражника с шашкой и посыльного уездной канцелярии страшно перепугало Кунту.
Они не дали ему и опомниться:
— Садись на коня, скачи с нами в город! Уездный зовет!
В ауле Кунту находились Жиренше и Бейсемби, которых он пригласил к себе, как только узнал о набеге. Поступок Базаралы привел в смятение всех троих. Они не могли прийти в себя, не находили выхода. Кунту страшило больше всего то, что ему, как блюстителю порядка в волости, придется отвечать перед начальством.
Он пригласил также Уразбая, Абралы и Байгулака, которые еще вчера были его единомышленниками. Не они ли еще недавно подливали масло в огонь, подстрекая Базаралы? Кунту надеялся, что заправилы таких сильных родов, как Есполат, Сактогалак, Жуантаяк, будут все-таки на его стороне. Одно появление их в его ауле могло бы в значительной степени сдержать озлобленный натиск кунанбаевцев.
Однако за исключением двух-трех аткаминеров на стороне Кунту не оказалось ни одного из тех богатых и влиятельных людей, которые точили зубы на кунанбаевцев. На приглашение Кунту они не отозвались. Значит, бросили его одного. В решительный час они, вместо того чтобы показать клыки, предпочли шмыгнуть в кусты.
По правде говоря, Уразбай, Абралы, Жиренше да и сам Кунту не ожидали от Базаралы такого поступка.
— Разве на такое страшное дело толкали мы его? — негодовали они. — Базаралы начал не борьбу, а разбой! Что же будет, если завтра он натравит голытьбу на других аткаминеров и начнет поголовно резать их табуны и стада? Кого бы ни постигла такая беда, имя ей — погром, злодейство. Говорят, «от злодея сам святой бежит…»
В этот же день, еще до приезда «почты с пером», в аул Кунту прискакали двадцать человек из рода Иргизбай. Их возглавляли Исхак и Майбасар. Они говорили с Кунту грубо, вели себя вызывающе.
— Волостной — ты! За это злодейство ты ответишь своей головой, своим имуществом! — угрожали они. — Какое нам дело до оборванца Базаралы? Он хищный волк, одиноко рыщущий в поле. Но логово его здесь! За его дела мы взыщем сполна с тебя!
Не найдя ни защитников, ни опоры, не надеясь на силу своего малочисленного рода Бокенши, Кунту сразу сдался.
— Делайте что хотите! Никто не спасет меня от вас — подобострастно заговорил он. — Я не стану покрывать Базаралы… Только не судите вместе с ним, отделите меня от его кровавых злодеяний!
Майбасар и Исхак были полны давней злобы на Кунту: они не могли простить ему того, что вместо Оспана стал волостным он. И теперь они грозили ему:
— Не надейся вырваться из наших когтей! Если бы волостным был не ты, разве посмел бы Базаралы вернуться? И разве решился бы он напасть на такой могущественный аул, как аул Кунанбая, который боится одного только бога? Конечно, он рассчитывал на твою защиту!
Они требовали, чтобы Кунту выехал в город и попросил отставки. Всем было известно, что грозный Казанцев давно держит сторону кунанбаевцев. «Почта с пером» была тому лишним доказательством.
С толстого, здоровенного Кунту пот лился градом. Глаза его беспокойно бегали по сторонам, он побелел, на нем не было лица.
— Сниму с себя должность, печать отдам в ваши руки, только пощадите мою душу! — умолял он кунанбаевцев.
И тут же поскакал в город.
В самый разгар этих событий на Такежана обрушилась новая напасть. На этот раз причиной ее были не люди, а стихия.
Короткий осенний день уже клонился к вечеру, когда за далекими волнообразными гребнями Чингизских гор показались плотные черные тучи. Все выше поднимаясь тяжелыми клубами, как бы расширяясь и вспухая, зловещие облака скоро закрыли весь южный край неба.
Внезапно часть этих туч отделилась от общей массы и с угрожающей быстротой понеслась по направлению к урочищам Мусакул и Шуйгинсу, где расположились юрты и стада Такежана. Тучи, клубясь, неслись с упрямой яростью, как бы преследуя кого-то. Небо все темнеет и темнеет. По степи резкими порывами задувает пронзительный, холодный ветер. Подобно разведчику, он летит впереди наступающих туч, указывая им дорогу. Порывы его становятся все крепче, все чаще — и вот наконец начался непрерывный ураганный ветер, с каждой минутой все более и более холодный.
К этому времени весь скот уже сбился в ауле, ища защиты за тростниковыми изгородями, поставленными между юртами. Сумерки быстро перешли в ночную темень. Человеческий глаз уже не различал того, что творилось на небе. В полной темноте неистово бушевал ураган. Отчаянной жалобой стонали густые кустарники, со свистом склонялись стебли чия. Казалось, весь мир превратился во все уносящий с собой воющий поток адских звуков. Тревожный шум стоял и над самим аулом: напуганный ураганом скот мычал и блеял, возбужденно и яростно лаяли собаки, ржали кони.
Такежан и Азимбай, поняв опасность, давно уже одевшись потеплее, носились по аулу.
— Берегите скот! Смотрите, чтобы не погнал его ветер! — кричали они то там, то здесь.
— Следите за изгородями! Выходите все на улицу! Бегите к скоту!
— Главное дело, подпирайте изгороди, иначе не удержим скот!
Разогнав по отарам и стадам не только мужчин и женщин, но даже детей, Такежан скакал по аулу из края в край, беспрерывно приказывая:
— Больше шумите! Пусть скот чувствует, что его сторожат! Подавайте голос овцам, кричите: «Шайт, шайт!» Коз загоняйте!.. Громче галдите, во все горло, чтобы волки не налетели!
Пастухи, доильщики, истопники, служанки, ежась от дикого ветра в своих лохмотьях, забыв о себе, берегли байский скот. Спасать добро Такежана вышли все люди аула за исключением семьи старой Ийс. Такежан кинулся к этой ветхой лачуге.
Иса, весь день пасший на морозе овец, к вечеру свалился. Сейчас он лежал в своей дырявой юрте, стуча зубами от озноба, не в силах согреться. Стремительный ветер насквозь продувал черную лачугу; казалось, все в ней, содрогаясь от ужаса, сжалось в комок. Жена Исы, прижав к себе обоих малышей, прикрывала их подолом; старуха Ийс, собрав всю одежду и навалив ее на сына, пыталась согреть его глотком горячей воды, проклиная баев:
— Во всем их овцы виноваты!.. Почему они не сгинут, как их кони? Не умирать же тебе из-за его скота! Глотни хоть горячего!
Снаружи раздался грозный голос Такежана:
— А почему из этой юрты люди не выходят?! Что тут, все померли? Где Иса?
Старуха подбежала к двери:
— Иса свалился, обмерз! Целый день с овцами был.
— Пусть выходит скорее! Скот в опасности! Нечего тут валяться, когда беда идет!
Ийс в отчаянии крикнула:
— Я выйду за него! Не может он, лежит!
И, не слушая сына, который пытался ее остановить, на выскочила из юрты.
Иса попытался подняться, но страшная усталость сковала его. Малыши в страхе прижались к нему. Старший, Асан, испуганно заговорил:
— Отец, посмотри, как дрожит юрта! Не снесет ее бураном? Что с нами будет, если ее свалит!
В самом деле, все ветхие связи юрты угрожающе трещали, войлок то и дело с треском хлопал по остову. Казалось, эта жалкая лачуга пугливо содрогается под страшным натиском и жалобно взывает о помощи. Иса и сам подумал, выдержит ли юрта, но поспешил успокоить сына:
— Засни, родной, юрта у нас крепкая. Спи спокойно! — И, прижав к себе Асана, Иса неожиданно для себя провалился в глубокий сон.
Его разбудил тревожный голос матери.
— Ойбай, свет мой Иса! Сорвало изгородь, овец погнало бураном в степь… Азимбай там беснуется, ищет тебя, грозится… Что делать, родной мой?
Иса быстро сел и почувствовал, что сон подкрепил его. Он решительно встал.
— Ну, я пойду, а ты ляг тут! Смотри, вся закоченела! Лежи и грейся!
И, схватив черный шокпар, он выбежал на улицу и тут же столкнулся с Азимбаем и Такежаном.
— Как ты смеешь валяться дома, собака, когда мои овцы гибнут? — закричал Такежан.
— Из-за них я свалился, весь день был с ними, — попытался объяснить Иса.
— Еще оправдывается, негодяй! — возмутился Азимбай и с бранью кинулся на жигита. — Избить тебя мало!
И ударил Ису по плечу толстой палкой. Тот, мгновенно обернувшись, схватился за палку, и с силой потянул ее к себе. Голова Азимбая близко придвинулась к нему. Над широкой черной бородой, как из черной пучины зла, возникло бледное, искаженное злобой лицо с оскаленными хищными зубами, зловеще блестевшими во тьме. Белая повязка на лбу закрывала рану, полученную Азимбаем в схватке с Абылгазы; казалось, именно она и была источником бешеной ярости, сотрясавшей молодого хозяина. Всем своим обликом он напоминал хищного зверя, выползшего из ночного мрака, чтобы терзать беззащитных людей.
Невольно отшатнувшись от страшного лица Азимбая, но не сводя с него глаз, Иса крепко удерживал палку.
Такежан остановил сына, пытавшегося ее вырвать, и торопливо сказал пастуху:
— Бураном угнало много овец… Беги за ними! Догони, останови!.. Погибнут овцы…
Иса толкнул Азимбая и побежал. На нем был только ветхий, изодранный чапан, стоптанные сапоги зияли дырами. С первых же шагов он почувствовал пятками сырость и холод. Но мысль об этом уже не могла его остановить. Жалость к гибнущим овцам заставляла его бежать во всю мочь.
Он пробежал мимо загонов, где люди, окружив отару овец, крича, теснили их к юртам. Иса на бегу спросил, в чем дело. Никто не знал, сколько овец угнало бураном: среднюю изгородь внезапно сорвало, и часть овец исчезла.
Иса тоже побежал по ветру, то и дело громко крича: крик мог остановить овец, а кроме того, отогнать волков, если они учуют скот.
Только теперь он заметил, что льет сильный холодный дождь, смешанный со снегом. Лицо, шея и руки Исы чувствовали острые удары ледяных крупинок, точно сотни иголок впивались в тело. Каково же было терпеть это овцам? Опустив низко голову и подставляя урагану только спину, они стремятся спрятаться друг за друга и несутся наперегонки быстрой, неудержимой лавиной.
Наконец, запыхавшись и от быстрого бега и от непрерывных криков, Иса все-таки догнал овец. Успокаивая их окриком «шайт, шайт!», он попытался пробраться в середину, но овцы, прижимаясь на бегу одна к другой, не давали ему проходу. Задерживая шокпаром крайних овец, Иса наконец обогнал гурт и, впервые повернувшись против ветра, только теперь почувствовал всю силу урагана. Плотные ледяные струи воздуха раскрыли ворот его чапана, обожгли стужей грудь. Нельзя было поднять лица, нельзя было вздохнуть. Запахнув воротник и нагнув голову, с трудом держась на ногах, Иса стал на пути овец, успокаивая их голосом, останавливая шокпаром и руками. Испуганное стадо задержалось. Здесь было около пятидесяти овец.
Но в тот самый миг, когда Иса решил было, что овцы спасены, из снежной пелены выскочила какая-то темная масса, и все стадо испуганно кинулось врассыпную. Иса услышал лязг зубов, тяжелое дыхание и в ужасе понял, что это была стая волков. Бегущие с отчаянным блеянием овцы как будто молили у Исы защиты. Пусть это стадо злодея Азимбая, пусть эти овцы байские, но чем же они виноваты? Как можно отдать их на растерзание хищникам? Иса с детства находился среди этих мирных, безобидных животных, и сердце его сейчас сжалось. Неожиданно для себя он в порыве нерассуждающей отваги с грозным криком кинулся на волков. Безоружный, одинокий человек встал против четырех сильных зверей.
Даже не посмотрев на него и как бы не услышав его окрика, волки пробежали мимо и набросились на овец. Не успел он оглянуться, как белая матерая волчица быстро повалила рослую овцу, остальные рванулись к другим.
Поняв, что криком отогнать хищников нельзя, Иса бросился к волчице, терзавшей свою жертву. Когда он подбежал вплотную, она, разорвав горло овце, подняла морду, оглядываясь, на кого еще кинуться. Жигит изо всех сил ударил ее шокпаром по носу и тут же размахнулся для нового удара. Но, к его удивлению, волчица упала как подкошенная рядом с растерзанной ею овцой.
Исе приходилось слышать, что удар по кончику носа может замертво уложить и собаку и волка, но успех поразил его самого.
— Ага, получила! Ну и лежи!
И, стукнув для верности волчицу, еще раза два, он пустился за овцами.
А те мчались неудержимым потоком. До смерти перепуганные, они бессмысленно метались взад и вперед. И при каждом повороте волки хватали очередные жертвы, валили наземь и, торопливо разорвав им горло, прыжками кидались за новыми. Попадая в отару, волк не может удержать своей бессмысленной алчности. Он стремится убить одну овцу за другой, как будто рассчитывает забить овец про запас до конца своей жизни. Так же поступали теперь и трое оставшихся волков. Они лишь убивали овец, не отведав ни куска мяса, ни глотка горячей крови.
Овцы повернули к Исе, и один из волков, погнавшись за ними, набежал прямо на жигита. Тот снова со всего размаху опустил шокпар на кончик его носа, и хищник мгновенно перекувырнулся. Это был молодой волк, один из сыновей белой волчицы. Он и его брат сегодня впервые напали на целое стадо и поэтому расправлялись с овцами с алчной и беспощадной яростью. Добив и его вторым, смертельным, ударом, Иса снова кинулся за убегающим стадом.
Хотя ему еще не удалось спасти ни одной овцы, победа над двумя лютыми хищниками радовала его. В этой борьбе он забыл про буран и мороз, забыл и про недавнюю слабость. Сейчас он чувствовал такую стойкую, крепкую силу, такую отвагу, которых никогда в себе не знал. Ему и в голову не приходило отступить, хотя такая схватка с волками и грозила смертельной опасностью. Стиснув зубы, он был готов биться дальше, вытерпеть все, что бы с ним ни случилось.
Подбежав снова к овцам, он заметил, как третий волк повалил еще одну овцу. На этот раз Иса смог ударить зверя только по затылку. Волк зарычал, отпустил овцу и повернулся к Исе, чтобы кинуться на него. Однако ноги его подкашивались от сильного удара, и сделать прыжок он был не в силах. Иса вновь повторил испытанный удар по кончику носа, добив и этого волка.
Теперь овцы, как бы понимая, что жигит их защищает, бегали вокруг Исы, жалобно блея. В самую гущу их прыгнул огромный матерый волк, которого жигит до сих пор не замечал. Это был сам вожак стаи. Он один зарезал уже около десятка овец. Избрав себе новой жертвой крупного жирного барана, он могучим ударом повалил его на землю. Иса подбежал с поднятым шокпаром. Зверь, яростно рвавший в клочья загривок барана, не поднял даже головы. Иса изо всей силы ударил волка по темени. Грозно зарычав, хищник обернулся и мгновенно кинулся на жигита. Ударить зверя еще раз было уже поздно: он был слишком близко. Тогда Иса с внезапной решимостью протянул перед собой шокпар, зверь наткнулся на него грудью. Это ослабило яростный прыжок, и страшная пасть, лязгнув зубами, сомкнулась на левом плече жигита, не затронув тела, а лишь разорвав чапан. Иса рывком освободился от рукава и, отпрыгнув с громким криком, которого волки обычно пугаются, еще раз взмахнул шокпаром.
Но и теперь его торопливый удар пришелся не по носу волку, а по голове. Струя горячей крови залила волку глаза. Слабея, он все же снова прыгнул к жигиту, раскрыв пасть.
«Ну, видно, одному из нас не уйти, — подумал Иса. — Пусть будет так!» И, бросив бесполезный уже шокпар, он сам стремительно кинулся вперед и схватил волка за горло. Стоя только на задних ногах, огромный зверь никак не мог опрокинуть смелого жигита, а тот изо всех сил, как железными клещами, сжимал обеими руками его горло. Кровь, струившаяся из разбитой головы волка, липкими горячими струйками текла по рукам Исы; зверь хрипел, но продолжал крепко держаться на ногах, судорожно лязгая зубами перед самым лицом жигита.
Онемевшие пальцы Исы все больше слабели, он сам готов уже был в изнеможении свалиться, но страх ни на миг не закрался в его отважное сердце. Сколько времени простоял он так, сдерживая могучего зверя и пытаясь его задушить, он уже не понимал.
И когда он почувствовал, что пальцы его вот-вот разожмутся, пришла неожиданная помощь. Вслед за Исой из аула послали еще одного бедняка, чабана Канбака. Услышав крики Исы, он поспешил к нему. Иса мог только проговорить:
— Нож… бей в сердце…
Канбак вытащил свой длинный нож и нанес два смертельных удара в грудь стоящего на задних ногах волка. Огромный, величиной почти с жеребенка волк грузно повалился на землю, как срубленное дерево. Вместе с ним упал и Иса. Он и сам не понимал, каким нечеловеческим усилием воли он держался на ногах.
Увидев, что левое плечо Исы и весь бок были обнажены и закоченели на ледяном ветру, Канбак, сняв с себя свой чапан, быстро окутал им жигита. Как только Иса пришел в себя, они вдвоем собрали уцелевших овец. Оказалось, что из пятидесяти овец волки задрали около двадцати, но некоторых из них можно было еще спасти.
Уже наступило утро, ветер стал постепенно стихать. Земля белела снежным покровом. Канбак и Иса погнали овец к аулу. Убитых волков они связали попарно, каждый тащил за собой двух зверей.
Еще надавно у всех на устах был набег Базаралы на такежановский табун. Теперь все заговорили об угнанных бураном овцах и о нападении на них стаи волков. Но больше всего говорили о богатырской силе и отваге такежановского пастуха Исы, который один убил четырех волков, не имея при себе никакого оружия, кроме дубинки. Рассказ Канбака о единоборстве Исы с матерым вожаком восхищал всех; люди говорили, что ничего подобного они не слышали на своем веку, сулили Исе славу и богатство.
Но бедный люд, хорошо знавший скупость и алчную бессердечность Такежана и Азимбая, судил по-своему:
— Разве эти людоеды оценят его подвиг? Такой достойный жигит гниет у хозяйского порога!
— А что за подвиг защищать байский скот? — говорили другие. — Направил бы он свою силу против Азимбая, вот это был бы толк!
— Разве хороший пастух бросит в беде овец? Сжалился над бедными животными, забыл и самого себя, — говорили третьи, лучше других понимавшие Ису.
Но все эти пересуды уже не доходили до Исы. Сразу же после бурана он свалился в тяжелом недуге. Он лежал в тесной, узкой, как труба, землянке. Низкий потолок ее был затянут прокопченными дочерна тонкими жердями, между которыми грязными лохмотьями свисал старый камыш. Эта землянка рядом с овчарней именовалась в ауле Такежана жилищем пастуха. Ни одной свежей струйки воздуха не доходило сюда, в дверь врывался острый запах овечьего пота и вонь от навоза. Не было и пола, вместе него— сырая каменистая земля. Вместо окна — осколок стекла из байского дома, в углах вечно жили сумрачные тени, словно в мрачной камере каторги. Печи в этой землянке не было, имелся лишь полуразвалившийся низкий очаг с вмазанным в него казаном.
Но несчастная семья была довольна даже и этому жилью. По крайней мере малыши здесь были избавлены от постоянного сквозного ветра в юрте, от страшного воя осенних ураганов над головой. В эту землянку старуха Ийс попала на другой же день после бурана: боясь повторения бури и новых потерь в скоте, Такежан поспешно перекочевал на зимовку.
Еще в день перекочевки аула Иса чувствовал тяжесть во всем теле. Он едва ходил, его пригибало к земле. Сразу после переезда в землянку он окончательно слег. У него начался сильный жар, дыхание пресекалось, он корчился в мучительном кашле. Но больше, чем от болезни, Иса страдал при виде бедствий своей семьи.
Когда он находился на пастбище, ему редко приходилось заглядывать домой, а здесь все горе семьи проходило перед его глазами. Единственная кормилица семьи, тощая серая коровенка, уже перестала давать молоко. Старая Ийс утром грела воду, опускала туда затвердевший сухой творог, и это было единственной пищей на весь день. Малыши, напившись кипятку, забирались в угол и сидели молча, пугливо поглядывая то на мать, то на отца. Жена Исы кашляла все чаще и чаще. И каждый день все с надеждой ожидали возвращения Ийс из байского дома: старуха всю холодную осень дубила кожу, а теперь Каражан заставила ее трепать шерсть, вить веревки, плести арканы и недоуздки… И, приходя в сумерки домой после тяжелого, непрерывного труда, старая мать приносила в семью заработанную еду: остатки супа, обглоданные кости, испорченный творог, затхлую пшеницу, разные объедки. Но и это праздник для малышей и кое-какая поддержка для взрослых.
Порою Иса приходил в ужас при мысли о том, как живет его семья. Он вздыхал, метался на своей подстилке, в беспомощной ярости царапал грудь, терзаемую болезнью и неизбывным горем. И когда однажды Ийс присела к его изголовью, Иса не выдержал:
— Родная моя, как тяжело нам… Так и кончается жизнь, как прошла, — у чужого порога… Что станет теперь с тобой, с детьми, с нею? Неужели так и умру с этим горем? Если хотя бы знать, что оставляю вас у добрых людей, а не у этих зверей…
Женщины, напуганные словами Исы, громко зарыдали. Заплакали и малыши. Иса чувствовал горячие слезы, падающие на его руки, но сказать больше ничего не мог: он пылал в жестокой горячке, потеряв сознание.
Тяжкий бред мучил его, запекшиеся губы шептали что-то невнятное. Нагибаясь к нему, мать и жена улавливали какие-то бессвязные слова. Казалось, он с кем-то гневно борется, упорно и страстно спорит. Но понять, что с ним, они не могли.
А Исе мерещилось, что он ведет нескончаемую борьбу один на один с огромным матерым волком. Все время видит он перед собой наседающего на него лютого зверя. Пасть его открыта, зубы оскалены, кровожадный враг вот-вот схватит зубами его лицо. Потом кровь заливает всю морду волка. И сейчас же чудится, что кровавая рана на голове хищника повязана белым платком, а под раскрытой страшной пастью с острыми зубами вдруг возникает широкая черная борода… Красные губы шевелятся, волчья пасть произносит бранное слово… Кто-то ударяет Ису тяжелой палкой… он хватается за палку, тянет ее к себе, и волк превращается в Азимбая. Он ругает Ису, безжалостно гонит в холодную буранную мглу за овцами и сноза становится матерым волком… То волк, то Азимбай… То наполовину волк и наполовину Азимбай… Но все время наседает на него безжалостный, неотвязный враг, угрозы вырываются из страшной пасти…
Измученный этими ужасными видениями, Иса потерял сознание. Больше оно уже не возвращалось к нему. К утру его дыхание перешло в предсмертный хрип, и скоро он лежал без движения, безмолвный, постепенно холодея.
Так на шестой день болезни скончался безвестный человек с большим сердцем, отважный жигит.
Рядом без памяти лежала несчастная мать. Безутешно рыдала больная вдова. И надрывно плакали в углу маленькие Асан и Усен.
5
О разгроме такежановского табуна в ауле Абая узнали в тот же вечер.
Когда Азимбай и табунщики бились за коней, здесь, в Акшокы, друзья и ученики Абая с увлечением вели беседу о поэзии. В последнее время Абай часто перечитывал Лермонтова, особенно его «Вадима». Абая привлекал образ непокорного человека, пылающего мстительным гневом. И нынче он заговорил о нем:
— Казахи должны знать об этом Вадиме. Отважный, упорный, смелый герой… Я задумал воспеть его в стихотворном дастане.
И Абай прочел друзьям свои новые стихи. Мужественные, строгие, полные сдержанной силы, они начинались тревожным видением.
Темнеет свод неба. На западном крае Пожар уходящих лучей догорает, И на алеющем шелке заката Дальняя башня, как сон, возникает…Какитай, уже прочитавший «Вадима», по просьбе Абая пересказал акынам это произведение. Когда он закончил, Абай обратился к юношам:
— Просторный путь откроется перед вами, если будете писать дастаны, как Лермонтов… Магаш, Какитай, вы можете читать по-русски, так возьмите поводья других, поведите их! Расскажите о нем Дармену, Кокпаю, Акылбаю, пусть и они узнают, какой это поэт!
И молодежь, оставив Абая наедине с томом Лермонтова, до вечера просидела в угловой комнате над «Демоном». Одни прочли его сами, другие услышали поэму во взволнованном пересказе. Тотчас же возникла горячая беседа. Все новое всегда вызывало молодых акынов на споры, размышления, мечтания. Нынче мысли их занимали Демон и Тамара. Дармен и Магаш вспомнили о мусульманском Демоне — об Азраиле. Огненная страсть, которой наделила его фантазия русского поэта, поражала их.
— Какая отважная мысль… Только непокорная душа могла родить такой образ! — говорили они.
— Видно, истинное поэтическое вдохновение не считается ни с богом, ни с законами судеб! — восклицал Какитай.
Возбужденные разговоры не прекращались до самого вечера. Лишь к вечернему чаю молодые акыны вновь сошлись в камнате Абая.
Как раз в это время появился Акылбай. Он жил уже на отдельной зимовке, находившейся в урочище Миалы возле поселка жатаков, в половине дневного перехода от Акшокы, но часто приезжал к отцу. Поздоровавшись, Акылбай подсел к молодежи. Абай спросил, что слышно, все ли спокойно в аулах и на равнине.
Акылбай, как всегда, не спеша, обычным монотонным голосом сообщил поразившую всех весть:
— Да нет, не все. Нынче утром целая куча неведомых врагов напала на выпас Такежана-ага возле гор Шолпан. Всех коней угнали, до одного.
Со всех сторон на него посыпались вопросы:
— Когда?
— Откуда?
— Весь табун угнали?
Чай остался недопитым. Айгерим и Злиха, сидевшие у самовара за низким круглым столом, тоже придвинулись к Акылбаю. Жигиты нахмурились. Тревожное чувство охватило всех.
Акылбай по-прежнему медленно и не торопясь рассказал все, что знал: нападение было утром, в набеге участвовало около полусотни людей, больше двадцати табунщиков получили тяжелые ушибы, даже ранения, Азимбая нашли на снегу без памяти, из табуна в восемьсот коней на выпасе не осталось ни одной клячи. Сам Акылбай находился во время набега в шалаше такежановских табунщиков; он заночевал там по пути в Акшокы, и его конем, единственным уцелевшим в этом разгроме, воспользовались, чтобы послать за помощью. Пострадавший меньше других табунщик поскакал в ближайший аул и пригнал оттуда трех лошадей. Поэтому-то Акылбай и появился в Акшокы так поздно.
— Ну, а ты-то что делал, когда на выгоне шел бой? — спросил Абай.
Акылбай начал мямлить. Наконец выяснилось, что еще утром Азимбай, собираясь к табунам, предложил ему поехать вместе с ним. Акылбай отказался не столько из-за лени, сколько из-за своего пристрастия к горячему кавардаку — обычному кушанью табунщиков на полевом стане. Заметив, что поваренок как раз начал поджаривать в ковше мясо, Акылбай предпочел остаться в шалаше, чем мерзнуть на выгоне.
Несмотря на тревогу, которую вызвало сообщение Акылбая, молодежь не смогла удержаться от смеха.
— А как же ты узнал, что на табун напали? — спросил Ербол.
— Когда я принялся за кавардак, поваренок вышел из шалаша, но тут же вернулся и говорит: «На земле шум, на небе шум. Уж не волки ли напали на косяк? Или Азимбай вздумал гоняться за дикими жеребцами? Столько снегу подняли! Прямо как пурга!» Я хотел выйти посмотреть, но побоялся, что кавардак остынет, — больно хорош он вышел! Из бедра жеребенка… и порезан хорошо — мелкими кусочками… так в сале и плавает!
На полном лице Акылбая выразилось такое удовольствие, что Дармен затрясся от хохота. Засмеялся и Магаш.
— Ну, понятно! Куда же вам было торопиться? Должен же человек доесть кавардак! Узнаю нашего Акыл-ага!
Теперь расхохотались и остальные: вялость и лень Акылбая были всем известны. Акылбай, не обращая внимания на смех, продолжал свой неторопливый рассказ:
— Поваренок то и дело выглядывал из шалаша, видно ему не терпелось узнать, что там творится. Пришлось послать его посмотреть. Он вернулся с неистовым криком. «Акыл-ага, налетели враги, угоняют коней! На выгоне драка! — кричит. — Табун уже у гор Шолпан… Что делать?»
Абай внимательно посмотрел на него и спросил:
— Ну, и как ты поступил?
— Сели на коня и пустились в погоню? — нетерпеливо подсказал Магаш.
Акылбай откровенно ответил:
— Нет. Продолжал есть кавардак. Я ждал кого-нибудь с новостями.
Абай, потеряв терпение, грозно окрикнул его:
— Подумай, что ты там несешь? Опомнись!
— Не могу же я врать, Абай-ага. Не погнался я за ними!
— Почему? Что же, ты не мужчина?
— Если говорить правду, я поленился…
Взрыв хохота перебил его. Однако Акылбай, не смутившись, продолжал с удивительной искренностью:
— Косяки уже успели угнать за Шолпан, а снегу в степи навалило по колено. Как же мне гнаться за ними? Раньше, чем в Ералы, я их не догоню, куда же скакать в такую даль? И в зимней неудобной одежде? Это просто наказание! Ну, а потом, что я сделаю один? Смогу только умолять и просить… Да и вообще — зачем нужно мне быть лихим воякой и побеждать в боях?
Акылбай говорил то, что думал, напрямик, не беспокоясь о том, как примут его слова, не обращая внимания на смех слушателей. Магаш и Какитай первые перестали смеяться: оба они огорчились за брата, честного, но наивного, который своей бесхитростностью и откровенностью поставил себя в такое смешное положение. К тому же, заметив, как изменилось лицо Абая, они с опасением ждали, что тот сурово пристыдит сына. Но Абай с неожиданным любопытством уставился на него, как бы рассматривая его с удивлением, и вдруг от души рассмеялся.
— Услышал бы кто-нибудь чужой твой рассказ! Обязательно сказал бы: вот кто настоящий растяпа! И правильно сказал бы… «Когда один из внуков Кунанбая дрался с врагами, другой сидел в шалаше, уписывая кавардак!» Ну хорошо, а ты узнал хотя бы, кто же ограбил твоего дядю!
— Говорят, впереди нападающих видели Абылгазы и Базаралы.
— Базаралы? — переспросил Абай, быстро взглянув на сына. — Что же сразу не сказал?
Все оживление его разом исчезло. Притихла и молодежь, тревожно переглядываясь. Абай некоторое время молчал, насупив брови.
— Вот до чего довели людей насилия Такежана! — сказал он, словно раздумывая вслух. Потом поднял голову и обвел взглядом жигитов. — Ну, что вы скажете о таком набеге?
Молодые друзья Абая молчали, не зная, что ответить. Видно было, что они сами хотят спросить его об этом.
— Подобного дела в Тобыкты никто еще не совершал, — говорил он. — Оно означает многое. Это подвиг гнева. И, говоря по правде, законного гнева. Последствия будут, конечно, тяжелы. Надолго затянутся. Трудно и угадать, чем все это кончится. Но достоинства человека познаются не только по окончании дела, но и в начале его. Вы слышали, что Базаралы поклялся отомстить Такежану за ограбленных нищих жигитеков Шуйгинсу? Вот он и выполнил свою клятву. Видно, люди не могут больше терпеть насилий. Кунанбаевцы совсем бога забыли. Как же не кинуться тут в схватку? Пусть сегодня она не даст еще облегчения народу, но она как бы говорит: «Вот путь борьбы, только так в наше время можно рассчитываться с обидчиками!»
И Абай замолчал в раздумье. Ербол, слушавший его с напряженным вниманием, негромко сказал:
— Такого мы не слышали еще, Абай…
Остальные молчали, — казалось, они не совсем поняли Абая. Лишь на лице Дармена выразилось полное одобрение его словам, и Абай продолжал, обращаясь к нему:
— Вот что еще поразило сейчас меня. С каким удовлетворением читаешь в русских книгах о мужественной борьбе смелых людей против насильников, против целого общества! Я часто спрашивал себя: была ли в нашей степи такая борьба, возможна ли она теперь? Кто вел ее в прежние времена, и кто в наши дни смог бы ее вести? И всегда отвечал себе: Базаралы. И нрав его, и мысли, и дела показывают, что он может быть таким борцом за справедливость. А когда я услышал о его клятве на Шуйгинсу, я все эти дни ждал в душе, что он что-то совершит. И в этом ожидании увлекся «Вадимом», стал воспевать его дела. И поглядите: оказывается, Вадим и Базаралы — братья! Идут одним путем возмездия.
Вскипает гнев в сердце, зовет голос чести, Рука бедняка над наглым злодеем Заносит кинжал — орудие мести…—закончил Абай, неожиданно перейдя на стихи-импровизацию, и снова погрузился в раздумье.
Вскоре стало известно, что уездный начальник вызвал Кунту в город. Сообщил это Шубар, остановившийся переночевать в Акшокы по дороге в Семипалатинск, куда он ехал по поручению Такежана. Он подробно рассказал все новости: иргизбаи потребовали отставки Кунту, тот согласился передать должность Оспану. Шубар рассказал и о том, что Кунту давно уже подготовил на всякий случай приговор старшин Чингизской волости, разрешающий ему перечислиться в Мукурскую волость вместе с пятьюдесятью семьями рода Бокенше. Он заручился также письменным согласием мукурского волостного, скрепленным печатью. Теперь Кунту решил использовать свои документы. Итак, волостной, обещавший Базаралы помощь, сам бежал, спасая свою шкуру.
По словам Шубара, Кунту готов был донести начальству, что Базаралы — беглый каторжник. Однако Майбасар и Такежан на это не соглашались: если выдать Базаралы как беглого, его опять сошлют в Сибирь, но тогда Такежану не удастся получить возмещение за своих коней. Жигитеки смогут ответить: «Если ты потерял свои табуны, то Базаралы, угнавший их, сложил свою голову. Ты потерял скот, а мы потеряли сына нашего рода». Поэтому кунанбаевцы добивались того, чтобы Базаралы был признан виновником набега, тогда скот можно взыскать с рода Жигитек.
Но это же отлично понимали и аткаминеры Жигитека. Допустить такой оборот дела они не могли. Им важно было выставить виновником только одного Базаралы и предложить Такежану взыскивать убытки с него самого. Поэтому они собирались сообщить начальству, что Базаралы — известный разбойник, но скрыть от властей то, что он бежал с каторги. Для этого нужно было именовать Базаралы не Кауменовым, а Кенгирбаевым.
Однако пока что не было ясно, как обернется дело. Такежан, Майбасар и Оспан уже собирались ехать в Семипалатинск. Такежан был в большой обиде на Абая.
— Недавно Абай приезжал ко мне и нес всякую чушь, заступаясь за Базаралы. Хватит с меня слушать его поучения о «нравственности», о «добродетели»! Если вы уважаете меня, держитесь подальше от Абая, — говорил он.
Ему удалось убедить в этом и Оспана. Что же касается Шубара — тот последние годы лишь прикидывался, будто только и слушает, что Абая. На самом деле он первый посоветовал Такежану и Майбасару добиваться обвинения Базаралы.
Абай, подозревая Шубара в двуличности, ни словом не обмолвился при нем о том, что все поступки Базаралы после возвращения радостно изумляли его. Несомненно, Шубар втихомолку передал бы об этом родичам, и без того озлобленным на Абая. Это могло лишь повредить Базаралы.
Но допустить, чтобы Базаралы отправили обратно на каторгу, Абай никак не мог. Поэтому, выслушав Шубара, он твердо сказал ему:
— Я прошу тебя добиться, чтобы Базаралы не выдавали властям как беглого каторжника. Пусть Такежан запомнит: если он опять пошлет на смерть такого благородного человека, как Базаралы, а потом станет взыскивать с жигитеков скот, то меня найдет на стороне жигитеков.
Но Шубару не пришлось передавать этого Такежану: тот сам неожиданно появился в доме Абая.
Он не собирался заезжать в Акшокы, но по дороге в Семипалатинск Майбасар посоветовал ему повидаться с Абаем, чтобы самому разгадать его намерения, а если окажется возможным, попытаться привлечь на свою сторону.
Увидев у брата Шубара, Такежан раздраженно сказал:
— А, вот где тот, кого мы просили спешить в город! Я думал, ты уже там, — оказывается, ты крутишься здесь! В прятки с нами играешь? — злобно усмехнулся он.
Несмотря на всю неловкость своего положения, Шубар не смутился:
— Пришлось заехать сменить коней, вот и задержался тут. Сейчас жигиты приведут из табуна новых, на них скорей доеду…
Теперь и Абай недовольно выпятил губы. Только что Шубар говорил, что нарочно заехал в Акшокы, чтобы посоветоваться с Абаем, а теперь юлил перед Такежаном. Покачав головой, Абай насмешливо улыбнулся.
Такежан сразу же объявил, что поедет дальше, не оставаясь обедать, но что ему надо поговорить с Абаем.
— Говори здесь! — ответил тот, не желая разговаривать наедине. Он даже не выслал из комнаты молодежь — Магаша и Дармена. Видя это, остались и Шубар с Майбасаром.
Такежан начал прямо с того, с чем приехал:
— Едем со мной в город, мне нужна твоя помощь!
— А у тебя мало своих ходатаев?
— Они — одно, а ты — другое. Что тебе объяснять? Для разговора с городскими властями ты нужнее всех.
— А разве я с ними в дружбе? Тебе ведь известно, как они на меня злы.
— Злы-злы, а считаются с тобой.
— И поэтому мне надо лезть в огонь?
— А я не горю в огне? Ты мне самый близкий родственник — и хочешь бросить меня в беде?
— А какую беду ты терпишь? Спасают тех, кто терпит без вины. А разве ты можешь сказать так о себе? Подумал ли ты хоть раз: по чьей вине ты терпишь беду?
Такежан начал терять терпение.
— А что мне думать, когда есть такой, как ты — все понимающий! — сказал он раздраженно. — Ну и отчего же, по-твоему, я пострадал?
— Оттого, что ввергал в слезы народ. За эти слезы и потерпел беду.
И Абай, опершись на стоявший перед ним круглый низкий стол, посмотрел брату прямо в глаза.
— Когда ты перестанешь называть народом нищий, ничтожный сброд? — вскипел Такежан.
— Никогда не перестану, потому что эти люди и есть казахи, мой родной народ. Их множество, а вас, такежанов, горсть. На таких, как вы, приходится по сотне обездоленных, униженных, бесправных. Они и есть народ. Они и нуждаются в настоящей помощи. С кем же мне быть, как не с ними?
Дармен с восторгом смотрел на Абая. В его твердых словах юноша видел правду жизни. Шубар сидел насупясь, явно недовольный тем, что говорил Абай. Такежан, окончательно обозлившись, закричал, задыхаясь в раздражении:
— Ну, коли так, объяви тогда всем, что ты не сын предков, не сын Кунанбая! Что ты враг всем достойным людям, что не отличаешь себя от степного сброда!
— А я не раз говорил об этом.
— Тогда скажи и остальное: что ты отступил от путей отцов, что совращаешь людей в нечестие, в смуту… Не зря тебя обвиняли в этом и Уразбай и Жиренше!
— Путь отцов стал путем насилия, коварства, это путь вражды с народом. А я выбрал дружбу с народом. Да, я отступил от этого пути, отступил от кунанбайства…
— И молодежь еще совращаешь! Не потому ли твой сын Акылбай даже с места не встал, когда угоняли мой табун? Кавардак ел, злорадствовал! Я вижу, ты и сам доволен этим разбоем!
— Ну, что же! Значит, и Базаралы, отомстивший за твои насилия над народом, и я, кто объясняет тебе причину твоих бед, думаем одинаково.
— Выходит, ты мой враг!
— Если не оставишь Базаралы в покое, будешь враждовать и со мной.
— Базаралы я не оставлю! И взыщу с него и голову его получу!
— Нет, головы его не коснешься. Запомни: если укажешь на него властям, вернешь на каторгу, я открыто встану на сторону жигитеков-бедняков! Дохлого жеребенка не получишь с них! Твой табун посчитают как пеню за жизнь дорогого человека!
— До чего договорился! Будешь защищать разбойника, преступника, грабителя, вырезавшего целый табун? Разве можно щадить такого врага?
Тут не выдержал и Шубар.
— Абай-ага, ведь и по шариату поступок Базаралы — тяжкий грех…
— Если шариат за Такежана, значит это не путь истины, а путь заблуждений!
Такежан в слепом гневе ударил плеткой по лежащей перед Абаем книге.
— Ну, раз ты и от мусульманства отступаешь, от тебя остается ждать одного: чтобы ты сам выступил моим обвинителем и потребовал пеню за жизнь разбойника!
Абай нахмурил брови и бросил на Такежана гневный взгляд.
— Я и потребую пеню, но за другое. Если выдашь Базаралы властям, я взыщу с тебя пеню за Ису, погибшего по твоей вине. Понял?
Такежан растерялся. Все эти дни он больше всего опасался, чтобы кто-нибудь не заговорил об этой смерти. Справившись с собой, он разыграл удивление:
— При чем тут Иса? Человек умер по божьему велению, а я за это отвечаю? Что, я его убил?
— Да, ты. Ты и твой сын Азимбай. Вы побоями погнали его, больного, полуголого, в буран и в мороз. Он погиб от простуды, полученной в ту ночь. Из-за твоих овец погиб, а ты хоть бы глоток дал ему перед смертью! Где те четыре волка, которых убил отважный жигит? Дал ты ему за них хоть четырех ягнят? И шкуры-то забрал себе! Ты не только убил, но и ограбил мертвого!
Гневные слова Абая не на шутку испугали Такежана. Было видно, что Абай до мельчайших подробностей знает все, касающееся гибели Исы. Если кто-нибудь из слушающих это расскажет другим, дело получит огласку и свалится Такежану на голову новой бедой. Он поспешно встал и начал одеваться, чтобы тут же уехать.
Абай продолжал:
— Вот такой Иса и был человеком из народа! И сироты его горемычные, и дряхлая мать, и больная вдова — это и есть народ. А каким дорогим его сыном был Иса! Какую отвагу показал он, защищая твой скот! Ты сам или Азимбай — могли бы вы совершить это, спасая свое же богатство? Нет, пусть уж все мои мысли и желания будут вместе с такими людьми, с народом, на чьей стороне и справедливость и добро! Вы и сломанного ногтя таких людей не стоите! Их сотни, тысячи, и все они обездолены и обижены. Когда подумаешь, что Иса погубил свою жизнь ради алчности людей, кому тощий ягненок дороже человека, — сердце сжимается от гнева. Да, это был настоящий герой, батыр! До самой смерти, в горячке, в бреду, он продолжал свою борьбу с волком. А кто знает, волка ли он проклинал тогда? Не тебя ли и не твоего ли сына, безжалостного и лютого хищника, проклинал он? — сказал Абай, сам не подозревая, с какой душевной прозорливостью он разгадал предсмертные думы Исы.
Дармен слушал слова Абая, низко опустив голову, охваченный горькой жалостью к погибшему. Магаш тоже волновался.
Помолчав, Абай негромко закончил:
— И Базаралы тоже один из таких людей. С кем же мне быть, как не с ними? Запомните: если с ним случится недоброе, я начну такую тяжбу, что ты не порадуешься, Такежан!
Последние слова он сказал твердо, с угрозой. Такежан и Майбасар молча вышли из комнаты.
Смерть Исы, действительно, глубоко отозвалась в душе Абая. Он сам послал Дармена похоронить его, велел ему взять у Оспана двух овец для помощи семье. Дармен оплакивал Ису вместе с его родными, обещал заботиться о детях. Тогда же старая Ийс рассказала ему все подробности подвига Исы и его смерти.
Вслед за Такежаном собрался уехать и Шубар. Но Абай задержал его. Он хотел передать с ним письма в Семипалатинск. Одно из них было к Кунту. «Хочешь спасти себя, — писал ему Абай, — спасайся любым путем, только не топи Базаралы. Если выдашь его, берегись!» Написал он и Оспану, умоляя его: «Если хочешь быть волостным, не навлекай на себя проклятий народа. Я чувствую, что ты собираешься отколоться от меня. Единственная моя просьба к тебе, просьба старшего брата: какой бы дьявол тебя ни пугал, не давай Базаралы властям!»
С этими письмами Шубар утром следующего дня уехал в Семипалатинск.
Город был переполнен ходатаями и жалобщиками, хлопотавшими за кунанбаевцев. «Ворон ворону глаз не выклюет», — гласит пословица. Родовые воротилы, привыкшие смотреть на народ как на своих рабов, всячески поносили отважных бедняков, поднявшихся против баев, требовали суровой кары. «Отдадим на суд всего народа! Пусть не одни тобыктинцы судят, пусть все племена дадут им достойное наказание, которое сохранится надолго в памяти всех обнаглевших смутьянов!»
В разбор дела, получившего название «спор Такежана и Базаралы», ввязались волостные и аткаминеры всего Семипалатинского уезда. Все эти влиятельные и сильные люди объеденились теперь вокруг кунанбаевцев.
Что касается Уразбая, он безвыездно сидел в своем ауле. Внутренне его радовало то, что отношения между Жигитеком и Иргизбаем обострились: он даже желал про себя: «Пусть дьявол столкнет их лбами!» Но об открытом переходе его на сторону жигитеков не могло быть и речи. Наоборот, при людях, которые могли бы передать кунанбаевцам услышанное здесь, и он и Абралы старательно открещивались от жигитеков.
— Не такой уж я заклятый враг Такежана, чтобы радоваться его беде! Кто бы мог подумать, на что решится этот Базаралы? Если тобыктинцы нынче разделятся на два лагеря, то я, конечно окажусь рядом с Такежаном! — говорил Уразбай в расчете на то, что это будет передано кунанбаевцам.
Кунту сразу по приезде в город явился к уездному начальнику с повинной.
— Нет моей вины в этой смуте! Я принадлежу к небольшому маловлиятельному роду Бокенши, а те, кто подстроил набег, гораздо сильнее меня, они из сильных, многочисленных родов. Справиться с ними я не могу и поэтому прошу сместить меня с должности волостного.
Казанцев не возражал. Просьба Кунту устраивала его. Со времени прошлых выборов он чувствовал себя в долгу перед Оспаном и другими кунанбаевцами. Кунту был тотчас же освобожден от должности и получил разрешение перечислиться в Мукурскую волость, а на его место Казанцев, не дожидаясь выборов, назначил Оспана.
Итак, Базаралы и вместе с ним и жигитеки были вероломно преданы всеми теми аткаминерами, которые могли бы заступиться за них.
Собираясь в город, Кунту обратился к аткаминерам Жигитека — Бейсемби и Абдильде.
— Дело Базаралы меня губит. Если сородичи и теперь бросят меня, я окончательно пропал. Суд будет в городе, пусть аткаминеры Жигитека немедленно пошлют туда кого-нибудь, кто будет держать ответ за своевольство Базаралы, — передавал он перед отъездом.
Бейсемби и Абдильда собрали аткаминеров всех богатых и сильных аулов Жигитека на совет и вызвали на него Базаралы. Всем им было уже ясно, что жигитеки остались одинокой маленькой кучкой, беззащитной перед злобой степных воротил. Абдильда, который всегда умел найти выход из любого запутанного дела, с беспощадной прямотой заговорил о тяжелом и трудном положении рода Жигитек:
— Мы подобны теперь обгорелому пню, одиноко торчащему на пожарище. Вокруг нас нет сородичей, на кого можно было бы опереться. Они обманули, предали нас. Подстрекателей было много, а ответчиков — никого. Вот в какое положение мы попали, потворствуя коварным замыслам Уразбая и Жиренше! И степные казахи и городское начальство — все ополчились на род Жигитек. Шумят, выкрикивают боевой клич, призывают к расправе! Не только тобыктинцы — все соседние племена объединились против нас. Они и будут выносить приговор. В кого вонзят они свои когти, как решат? Заранее трудно сказать, но ясно одно: отвечать нам придется, иначе нас потопят в крови. Если не ехать на разбор, будет еще хуже. Теперь уж не один Такежан будет вязать и отправлять на каторгу: все волостные, заправилы всей области решили объединиться, чтобы совместно сокрушить нас. «Если жигитекам дорога жизнь, пусть приедут на суд и склонят перед нами головы! — вот что говорят они нам. Отвечать за содеянное придется сынам нашего рода. Но кому же держать ответ?
Здесь Абдильда прямо обратился к Базаралы:
— Если ты родился мужчиной, ты должен сам отвечать за свои дела. В город надо ехать тебе!
Слова Абдильды звучали как приговор, как приказ. Базаралы отлично понял, что Абдильда и Бейсемби прячутся в кусты. Не колеблясь, не унижаясь до спора, он ответил коротко и твердо, как отважный человек, готовый рисковать головой.
— Сам я все совершил, сам и понесу ответственность. Мне давно было ясно, что и среди моих сородичей найдутся бесчестные люди, которые отрекутся от меня, спасая свои шкуры. Оставайтесь дома. Я возьму с собой только двух жигитов, настоящих мужчин — Сарбаса и Абды — завтра же выеду в город! — гневно сказал Базаралы и вышел.
По дороге в город путники ехали гуськом — друг за другом по караванной тропе, и Базаралы то и дело погружался в длительное раздумье. Стоял легкий морозец; ветерок, дувший в спину, развевал хвосты, и гривы коней. Волнистые просторы, покрытые снегом, безмолвно лежали по сторонам, сходясь с небом. Конь Базаралы шел мягкой рысцой, не требуя понуканий и не мешая думать.
Обширные просторы, неподвижные и безмолвные, казались безжизненными. Все замерло, застыло. Тяжелые сугробы задавили под собой всякую жизнь. Но она теплится где-то под снегом, ожидая своего часа. Когда он настанет, когда горячие весенние лучи растопят снега и теплый ветер погонит здесь текучие вешние воды — могучая буйная жизнь выйдет из-под земли бесчисленными травинками и цветами. Не так ли и с силами народными? Лютая зима заледенила сейчас все, бесчисленные сугробы задавили все живое. Но не вечно же будет такой народная жизнь! И Керала и другие русские там, на каторге, говорили, что наступят иные дни. «Когда-нибудь в России победит правда, это обязательно случится, — говорили они. — И тогда свет от нее дойдет до всех закоулков, придет и в твою степь. Не ты сам, так сын твой дождется этого». Сидя в заточении, они видели свет нового солнца. Оно придет, новый день наступит. Невозможно, чтобы он не наступил. Не может же бесконечно длиться такая жизнь, такое существование!..
«Будь что будет, пусть ждет меня казнь, — думал Базаралы, — но я познал великое счастье: увидел силы народные, таящиеся под гнетом жизни. Чем был мой поступок? Не первым ли ветерком, предвестником весенней бури, которая разметает снега? Каким утешением была бы для меня мысль, что это так. Да, это так и есть! Пусть сейчас и не даст облегчения людям наш набег — никто в народе не жалеет о содеянном. Наоборот, люди почувствовали, какой великой силой они обладают, если смело встают на борьбу. Это и оправдание для меня и награда моя! Если мне суждено было постичь счастье, так это случилось теперь. Великое счастье — увидеть, как пробуждаются силы народа! Вот что я познал, а теперь будь что будет!»
Весть о том, что держать ответ от имени жигитеков приехал Базаралы, мгновенно распространилась по городу.
Местом, где собирались все бии, волостные и аткаминеры, приехавшие по просьбе кунанбаевцев в Семипалатинск, был дом Нурке, волостного управителя Кокенской волости. Кроме того, что он был одним из влиятельнейших в степи богачей, Нурке был известен и в городе как богатый торговец скотом, ведущий крупные дела даже с Китаем; с ним считались не только все волости, расположенные по берегам Иртыша, но и русское областное начальство. По просьбе Такежана и Майбасара Нурке посетил Казанцева и попросил его от имени всех волостных: «Спор в племени Тобыкты будет легче разрешить по обычному праву степи. Не доводите до суда, предоставьте решить эту тяжбу нам самим. Если с решением нашим вы не согласитесь, мы свяжем Базаралы и отдадим в ваши руки».
Любопытнее всего было то, что уездный начальник не знал, что нападение на Такежана совершил именно тот Базаралы, сын Каумена, который был сослан на каторгу. Степные воротилы, на которых опиралось начальство, обманывали царских чиновников: когда нужно было назвать чью-либо фамилию, то в ход шли имена предков, умерших сотни лет назад. Так появлялись фамилии «Жигитеков», «Каракесеков», «Найманов». Так и Базаралы именовался теперь ими не Кауменовым, а Кенгирбаевым. Эту хитрость кунанбаевцев поддержали заправилы племен Керея, Уака, Сыбана и всех остальных.
Дом Нурке стал средоточием всех событий, связанных с делом Такежана. Кунабаевцы каждые два дня пригоняли сюда стригуна или яловую кобылицу для угощения гостей. Каждый день здесь палили трех-четырех откормленных барашков, с утра до вечера рекой лился зимний кумыс. Молодые волостные и торговцы сходились по вечерам в богато убранных комнатах просторного дома, веселились, пели, играли в карты. Так продолжалось все десять дней до приезда ответчиков из Жигитека.
Нурке, близкий родственник семипалатинского богача Тинибая, считал сыновей Кунанбая немалой опорой в своей степной торговле. Тяжба Такежана была удачным поводом сблизиться с ними, и Нурке не скупился на расходы по содержанию и угощению многочисленных гостей. В дружеских беседах с Такежаном, Оспаном и Шубаром он говорил:
— Для детей хаджи я ничего не пожалею. В час испытания, я желал бы доказать вам, что я — ваш друг, близкий вам человек. Все эти гости не только ваши, но и мои! Не беспокойтесь о них: слава богу, у меня хватит достатка, чтобы достойно принять и угостить их.
Впрочем, иногда как бы по недоразумению, он распоряжался доставить к себе во двор скот, пригнанный по приказанию Такежана.
Кроме угощения кунанбаевцам приходилось еще и одаривать людей, на которых они рассчитывали. Влиятельным волостным и красноречивым биям подносились богатые лисьи шубы, дорогие бешметы и чапаны, сшитые для них у городских портных.
В это логово и прибыл погожим зимним утром преданный богатыми родичами, гонимый бедой Базаралы. С ним были только два товарища — Абды и Сарбас.
Прибытие ответчиков позволило назначить день разбора дела. Сарбас, порасспросив людей, узнал, что выступать от имени кунанбаевцев и обвинять Базаралы будет Шубар. Среди сыновей и внуков Кунанбая он был самым красноречивым, находчивым и считался самым осведомленным и умным человеком после Абая.
Такежан встретил Шубара неприязненно. Застав его у Абая в Акшокы, Такежан стал подозревать Шубара в двуличии. Разъяренный набегом, оплакивающий свои убытки, Такежан в эти дни ненавидел всякого иргизбая, который не стоял безраздельно на его стороне. Видя его озлобленное отчаяние, все родственники старались ничем не раздражать его; Майбасар, Исхак, Оспан и другие неотлучно находились при нем, и он с утра до вечера жаловался им на свою обиду.
Когда Шубар передал Такежану слова Абая, тот гневно обрушился на него:
— Абай жалеет не меня, сына Кунанбая, а кровожадного сына Каумена! Я знаю, он желает удачи ему, а не мне! И все, кто советовался с Абаем, не могут быть моими доброжелателями!
Он закончил беседу еще более тяжелыми словами:
— Все-таки вспомни, что ты — внук не Кунке, а Кунанбая! Мы — не дети матерей-соперниц, всех нас воспитал и сделал людьми Кунанбай, который завещал нам быть детьми, достойными отца. Улжан и Кунке — женщины, у них волосы длинны, а ум короток. Кто родился мужчиной, тот пусть следует заветам отца, покажет, что умеет стоять за честь рода! Перестань вилять и лицемерить, будь мужчиной, а не девкой!
Хотя Такежан и взывал к памяти Кунанбая, однако дух давнего соперничества детей, рожденных разными матерями, сказывался в его словах. Сидя рядом с двумя своими единокровными братьями — Исхаком и Оспаном, он с недоверием смотрел на Шубара, потомка другой жены Кунанбая. Кроме того, отец Шубара — Кудайберды — был единственным сыном Кунке. А их, сыновей Улжан, было трое, не считая Абая, и все они были старше Шубара. И Такежан воспользовался удобным случаем, пригрозив Шубару, подчинить его своему влиянию. Давно замечая, что красноречивый, ловкий и обходительный Шубар начинает явно выдвигаться, Такежан теперь хотел одернуть его, чтобы тот не зазнавался. В отличие от других сыновей Кунанбая Такежан был горазд на всевозможные хитрости и коварство, и сейчас он походил на ревнивого жеребца, который, заметив отбившуюся от косяка строптивую кобылицу, скачет за ней с опущенной до земли головой и загоняет обратно в табун, лягаясь и кусаясь.
Шубар не мог не почувствовать всей силы этих угрожающих слов. Он и его братья выросли без отца, сиротами-племянниками. Хотя Шубар и сумел постепенно выйти в один ряд с другими кунанбаевцами, но ему самому и всем другим было ясно, что вес его в роде неизмеримо меньше каждого из троих его дядей, сидящих тут. Шубар не смел даже ответить Такежану на его обидные и резкие слова. Он не мог и открыто порвать с ним, чтобы во всем следовать советам Абая. Если он изменит Абаю, самое суровое наказание, которое он от него получит, будет напоминание о честности, совести и человечности, упрек в том, что он их забыл. По своему нраву Шубар считал, что честь и совесть полезны в спокойной обстановке, хороши для мирной безвредной беседы в кругу Абая. Но если дело принимает серьезный оборот, лучше оставить все эти громкие слова, забыть наставления Абая и переметнуться на сторону Такежана. В руках его он видел силу, умение достичь любой цели. И когда Такежан потребовал, чтобы, растоптав свое достоинство, Шубар действовал на их стороне, тот сдался.
В конце беседы Такежан взял с Шубара клятву верности и поручил ему:
— На разборе ты будешь выступать от моего имени! Я полагаюсь на твое признанное красноречие и изворотливый ум. Честь рода Кунанбая, моя лютая обида — все вручается в твои руки!
Таким образом, в день разбора тяжбы Шубар вошел в дом Нурке как облеченный полномочиями бий, выступающий в защиту Такежана. Пойдет молва о том, думал он, что выступать от имени всех иргизбаев доверили именно ему, Шубару, потому что он лучше других, лучше самого Абая, владеет словом и искусством спора. А это означало и то, что теперь он окажется в самом тесном общении с родовитыми казахами целого уезда. Мысль эта радостно волновала Шубара, жадного к славе и почету.
Бии и волостные Семипалатинского уезда, собравшиеся для суда, находились в большой гостиной богатого дома. Базаралы вместе с двумя своими товарищами ожидал в глубине двора. С приходом Шубара приказчик Нурке — Атамбай, высокий смуглый человек с крючковатым носом, позвал Базаралы в дом. Спокойно, гордо, полной достоинства походкой тот пошел к крыльцу, ведя за собой товарищей. Они вошли в переднюю, устланную коврами и узорчатым войлоком. Базаралы направился было в комнату, где сидели аткаминеры, но Атамбай остановил его. Шубара он тоже задержал: аткаминеры хотели показать всем, что они одинаково беспристрастно относятся к обеим сторонам. И Атамбай почтительно сказал:
— Мирза, вас просили пока подождать здесь.
В комнате стояло молчание. Осматриваясь, Базаралы увидел висевшие на стене волчьи шубы, большие широковерхие малахаи. Под ними, прислоненные к стене, стояли теплые сапоги со всунутыми в них войлочными чулками. Покрой малахаев и фасон сапог сильно отличались от тобыктинских: одни сапоги были с разрезными голенищами, другие — на высоких каблуках, малахаи имели необычно широкий, срезанный верх и тупые концы. Осмотрев аткаминерские одежды, Базаралы перевел взгляд на Шубара и внезапно улыбнулся с открытой насмешкой.
— Что ж, мирза, не пускают нас с тобой к себе власти? Заставили сторожить свои сапоги! Мне-то что — чего только не повидал я на своем веку от волостных! — но каково тебе терпеть такое издевательство, Шубар-мирза?
Сарбас и Абды, забыв о непривычной городской обстановке, которая заставляла их чувствовать себя стесненно, невольно рассмеялись. Оба отлично поняли, что насмешка эта имела целью смутить Шубара, лишить его перед выступлением уверенности. Шубар тоже вполне понял это, но не посмел ответить Базаралы такой же колкостью. Он хорошо знал, что с Базаралы нелегко тягаться: насмешки вылетали из его уст обжигающим пламенем. Шубар сделал вид, что не слышит, достал из кармана серебряный портсигар, молча закурил папиросу и стал прохаживаться по комнате, сунув руки в карманы длинного черного бешмета, сшитого городским портным.
Через некоторое время Атамбай, открыв дверь, впустил их в гостиную. Весь пол от дверей до стены был застлан красными шелковыми коврами. На стенах висели дорогие узорчатые сюзане, арабские изречения из корана, вышитые золотом, вдоль стен разостланы толстые атласные одеяла, на которых сидели гости, опираясь на пышные белые подушки. Сидевшие сдержанно ответили на приветствия вошедших. Некоторых из них Базаралы узнал сразу.
Приветливее других с ним поздоровался Айтказы, управитель Балагачской волости, в сосновых лесах которой казахские аулы перемежались с русскими поселками. Он происходил из тобыктинского рода, из Кокше, и в эти края перекочевал в юности, занялся торговлей, разбогател и недавно сделался волостным. Айтказы даже поздравил Базаралы с возвращением из далеких краев.
Отношение его обрадовало Базаралы. «Кто его знает: может быть, и он терпел притеснения от иргизбаев, от кунанбаевцев, поэтому и откочевал? И теперь ободряет меня, чтобы я не размяк?» — подумал он.
Кроме него Базаралы узнал еще двух человек: чернобородого Ракиша, управителя Керейской волости, и басентийнского мурзу Темир-Гали, сына знаменитого богача. Это был важный, холеный, очень полный краснощекий человек, нарядно одетый. Он то и дело обмахивался шелковым платком. Рядом с ним сидел сам Нурке.
Хозяин дома заговорил первым, открыв разбор дела.
Базаралы следил за строгими, холодными лицами биев. С той самой минуты, как он вошел в комнату, никто, кроме Айтказы, не взглянул на него. Все держались напряженно и натянуто. Одни из них кичились своим богатством, другие — своим влиянием, третьи — властью волостного, четвертые — нарядной одеждой, в которой они красовались, высокомерно выставляя ее напоказ. Все они подчеркнуто приветливо поздоровались с Шубаром и, подвинувшись, освободили ему место. Так же приветствовали они Такежана, Исхака и Оспана, некоторые даже встали и поздоровались с ними за руку.
Когда Нурке, объявив о начале разбора тяжбы, сказал: «Выслушаем сначала обвиняемого», — Базаралы неторопливо снял с себя широкий пояс, отделанный серебром, расстегнул ворот чапана и, распахнув полы, уселся поудобнее.
— Эй, бии! — начал он звучным голосом, заставив всех невольно повернуться к себе.
Сейчас Базаралы выглядел просто красавцем. На мужественном его лице с высоким открытым лбом играл легкий румянец. Он сидел, распрямив плечи и приподняв грудь, весь его облик дышал достоинством и благородством. Живые, острые глаза со спокойной насмешкой оглядывали сидевших перед ним богато разодетых мурз, биев, волостных. Громким своим призывом он заставил всех обратить на себя внимание, а затем заговорил спокойно, негромко, чуть улыбаясь:
— Здесь большой и важный сбор. Тут и власти из низовий и казахи степей. Сородичи! Хотя многих из вас я и не знаю в лицо, но мне известны ваши предки, я знаю, из каких вы родов. Одни из вас — сыны наших соседей уаков, другие — кереев, буры, матаев. Среди вас сидят также представители близкого нам рода Басентийн. Вот сидят сыновья Кунанбая, прибывшие на разбор, богатые и властные. Против них сижу я, представитель бедняков, у которых за душой нет ни скота ни денег. Я не могу сравняться с сыновьями Кунанбая ни богатством, ни силой, ни знатностью. Кунанбаевцы богаты и деньгами, и скотом, и запасами. У них бесчисленные друзья, знакомые, сваты, братья не только в Тобыкты, но во всей степи, во всей Семипалатинской волости. Они чувствуют себя в полной силе. У них, как говорится, «и длинные петли и широкие путы». Кто «на короткой веревке, из которой и узла не завяжешь», — так это я. Если они по поговорке: «Нагнется— Иртыш к услугам стелется, откинется—Чингиз подопрет» — встретят здесь полную поддержку, то у меня здесь нет даже товарища, кому я мог бы пожаловаться. Но кое в чем я сильнее их!..
Базаралы повысил голос:
— Немалые подарки подносят сыновья Кунанбая вам, благородным судьям. Я ничего вам не принес, ничем не угостил. Но если вдуматься как следует, если взвесить, вы получили от меня такой подарок, какого и в жизни не видывали! Кого вы знавали сильней и грозней, чем Кунанбай? Могли ли вы думать, что дети его — такие же простые смертные, как мы? Осмелились бы вы поднять на них руку? Нет, никогда! Вам всегда казалось, что дети Кунанбая равны детям самого господа бога. Вы почитали их, будто они спустились с неба. Так вот мой подарок вам: я доказал вам, что сыновья Кунанбая — такие же люди, как вы, как я сам. Я доказал вам, что их можно схватить за ворот и начисто оторвать его. Больше того, я доказал вам, что если бить их крепко, по-настоящему, то и их можно избить до смерти!
И Базаралы засмеялся — весело, зло и торжествующе.
Воротилы отдельных родов, тайно соперничавшие с потомками Кунанбая, в полной мере оценили правоту его слов. Не рискуя смеяться открыто, они, опустив головы, незаметно улыбались. Но несмотря на это, ни от кого из них Базаралы не мог ожидать поддержки. Никто из биев и волостных не сказал бы ему: «Да, ты прав». Базаралы отлично знал и понимал это. Окинув сверкающим взглядом главарей родов, он закончил:
— Выслушайте еще одну правду. Не вам нужно было сказать все это. Я должен был сказать это народу. И я сказал это здесь в надежде на то, что хоть часть народа так или иначе узнает о моих словах. Больше мне говорить нечего. Я в ваших руках. Можете изрубить меня на куски.
Хотя для всех было ясно, что разбирательство не должно тянуться долго, некоторые бии стали задавать Базаралы вопросы. Кое-кто попытался выведать у него имена тех сорока жигитов, которые участвовали в набеге. Базаралы ответил коротко и резко:
— Никого называть я не буду. Перед вами я, зачинщик. Я и буду отвечать. Можете еще раз отправить меня на каторгу. Но людей народа, стоящих за мною, я не выдам!
Отвечая на обвинения Шубара, Базаралы сказал:
— Такежан — мой неоплатный должник. По его вине умер в ссылке мой старший брат Балагаз. Младшего брата Оралбая Такежан вынудил бежать из родных мест и умереть на чужбине. Я не знаю даже, где его могила. Набег я совершил из личной мести. Поэтому спрашивайте не с народа, спрашивайте с меня. Хотите — убейте, хотите — живьем закопайте в землю. Но только меня одного!
В этом и заключалась вся трудность этой тяжбы. Шубар утверждал, что за преступление должны отвечать все жигитеки. Вражда идет еще со времен Кунанбая и Божея.
— Базаралы лишь следовал этой давнишней вражде — доказывал он. — Стало быть, нельзя считать виновным его одного. Зачем мне его голова, с которой не срежешь ни куска мяса? Отвечать должны все жигитеки — своими табунами. Кроме того, он совершил такое преступление, которое мог сделать лишь чужой человек, враг, а не сын близкого рода. Как во времена джунгарского ига, он разгромил, разорил нас! Я хочу взыскать не только за уничтоженные косяки, но и за обиду. Иначе о примирении нечего и говорить. Пусть нищая голытьба наперед знает, что ожидает ее за такой поступок. Пусть никого не увлечет пример Базаралы! Нужно наказать так, чтобы жигитеки не смогли больше встать на ноги. Жалости быть не может, ущерб должен быть взыскан с лихвой. Они уничтожили восемьсот коней Такежана. Так пусть за каждого коня Такежана, невзирая на возраст, жигитеки вернут трех полноценных пятилетних коней. Вот чего я требую, — закончил Шубар.
Переговоры биев затянулись до позднего вечера. Уже к ночи бии вновь вызвали Шубара и Базаралы и устами Нурке объявили свой приговор.
Род Жигитек весь целиком был признан ответчиком. Хотя виноват был один Базаралы, но сородичей его нельзя было освободить от ответственности. «Кто ближе к огню, тот и обжигает руки», — говорит пословица. Если жигитеки не ответят за преступление своего сородича сейчас, — как можно предупредить новый разбой в будущем? Стало быть, за каждую голову разгромленного такежановского табуна жигитеки должны отдать ему по два пятилетних коня, а всего — тысячу шестьсот. Таков был приговор.
Этой же зимой и весной приговор был полностью выполнен. Из всех жигитеков не поплатились конями только те богатые аулы, которые поддерживали кунанбаевцев: аулы Уркембая, Байдалы, Жабая. На остальные аулы, главным образом на бедные, легла вся тяжесть расплаты.
«ЧЕРНЫЕ СБОРЫ»
1
В ауле Абая, расположившемся этой весной на берегу реки Барлыбай, славящейся своими сочными лугами и привольными пастбищами, нынче с самого утра стоит веселая, шумная суета. Множество людей озабоченно снует между юртами — Большой, Молодой, кухонными, гостевыми. Жигиты и женщины, сталкиваясь и обгоняя друг друга, торопливо несут к гостевым юртам одеяла, подушки, скатерти, самовары, миски, блюда, расписные пиалы. Во всем чувствуется какая-то праздничная торжественность. Молодые женщины принарядились в новые платья, повязали головы ослепительно белыми платками, обшитыми позументом, девушки разоделись в яркие камзолы, щеголяют в круглых шапочках, отороченных мехом выдры и украшенных пучками перьев филина. Детвора резвится — похоже, что ребят сегодня даже освободили от скучного ученья.
На лужайке за аулом слышны удары палок. Там выколачивают ковры, полосатые половики, стенные коврики, узорчатый войлок, а то, что уже вычищено, относят к юртам и украшают их. Две красивые гончие собаки придают всей картине удивительную живописность. Лохматые уши их отвисли, длинные хвосты бойко закручены, они весело прыгают и бешено гоняются друг за другом.
За юртами, что-то крича, то и дело проносятся вскачь молодые жигиты, исчезая в степи. Вслед за ними спешат на своих стригунах дети, но, отстав, возвращаются к аулу. У них нет определенного дела, им бы только пошуметь и пошалить. Своры собак и щенят преследуют их, добавляя лай и визг к общему шуму, стоящему над аулом. Этот шум и громкий людской говор беспокоят коней. Они вздрагивают, прядают ушами, вскидывают головы, а светло-буланый конь с черной гривой и пышным хвостом возбужденно рвется с привязи у Большой юрты, испуганно шарахаясь, когда мимо с лаем пробегают собаки или шумной ватагой мчатся ребятишки.
На вершине невысокого холма неподалеку от аула сидит на сочной зеленой траве Абай, окруженный друзьями. Глаза его устремлены в сторону Чингизских гор. Порой он с добродушной улыбкой оглядывается на аул. Возле юрт дымят самовары, висят над огнем очагов казаны.
Эти хлопоты и приготовления вызваны радостным событием: сегодня в аул приезжает сын Абая Абдрахман — Абиш. Он учится в Петербурге и уже около года не был на родине.
Молодые друзья Абиша еще с утра выехали ему навстречу. Они добрались уже до начала Бокеншинского перевала, лежащего на пути между Чингизом и Барлыбаем. Здесь были Какитай, Дармен, Муха, Альмагамбет, Акылбай, с ними напросились дети Акылбая — Аубакир и Пакизат, которых воспитывала Еркежан, жена Оспана. Сам Оспан баловал их, потакая всем их прихотям, и дети привыкли к тому, что могут делать, что хотят.
Поджидая Абиша, молодежь занялась гаданием на кумалаках — глиняных шариках, служащих для различных игр. На платок высыпают сорок один шарик и, смотря по их расположению, предсказывают будущее. Обязанности гадальщика-ясновидца нынче взял на себя Муха. Но едва высыпав кумалаки, он тут же стал поспешно их собирать.
— Суюнши! Садитесь скорей на коней, нечего больше гадать! — со смехом сказал он. — Когда кумалаки падают так, это называется: «Выйди и посмотри». Иначе говоря: «Уже видна голова лошади, на которой едет путник». И едет довольный, с удачей… Если кумалаки не врут, Абиш уже на самом перевале!
Подростки, обступившие Муха тотчас побежали к своим стригунам, крича:
— Глядите туда, сейчас покажется!
Пожалуй, впервые с тех пор, как выдумали гадание на кумалаках, предсказание «ясновидца» сбылось с такой точностью и быстротой. Едва сев в седло, Дармен громко воскликнул, показывая на перевал:
— Жигиты, наш Муха и впрямь водит знакомство с бесами! Смотрите, вон повозка Абиша! — и, ударив коня, первым помчался вперед.
В самом деле, на склоне горы показалась быстро спускавшаяся с перевала повозка, окруженная пятью-шестью всадниками. Встречающие стегнули коней и поскакали к ней что было мочи. То рассыпаясь поодиночке, то сбиваясь в кучу, они неслись по живописным холмам, покрытым травой, по болотистым ложбинам и наконец, взлетев на небольшой холмик, увидели прямо перед собой новенькую красивую повозку с откинутым верхом, запряженную тройкой саврасых. Она с грохотом катилась вниз, опередив сопровождавших ее верховых.
С трудом удерживая взмыленных коней, встречающие наперебой приветствовали долгожданного путника. Радостные крики, смех, восклицания понеслись навстречу Абишу. Впереди скакали Дармен и Какитай. Разглядев их, Абиш приказал остановиться, но не успел еще Баймагамбет удержать разогнавшуюся тройку, как Абиш с присущей молодому военному ловкостью легко спрыгнул с нее.
— Дорогой брат!
— Абиш-ага!
— Милый Абиш! — раздавались сердечные возгласы. Абиш, обнимая родных и друзей, побледнел от волнения.
Это привлекло внимание Какитая. Чуткое сердце его дрогнуло. Горячо обнимая Абиша и целуя его, он невольно подумал: «Белый как снег. С чего ему быть таким бледным, если он здоров?» За время разлуки с Абишем он не раз слышал, как пожилые женщины с опасением говорили: «Уж очень долго не приезжает Абдрахман на родину. Не нажил бы он там, на севере, какой-нибудь болезни!» И теперь Какитай не смог скрыть своей тревоги.
— Абиш-ага, как вы себя чувствуете? — заботливо спросил он, едва выпустив Абиша из объятий. — Хорошо ли доехали? Почему у вас такой исхудалый вид?
Абиш, обнимавший Аубакира и Пакизат, обернулся к нему. Сейчас на бледном, матовом лице его играл легкий румянец.
— Я вполне здоров, Какитай! — ответил он и стал расспрашивать об отце, об ауле, о родных, но прискакавшие к повозке остальные встречающие разъединили их. Спрыгивая с коней, они кинулись к Абишу, окружив его тесным кольцом и наперебой обнимая его.
Какитай побежал к повозке, где его поджидал Магаш.
Выпустив наконец Какитая из объятий, Магаш принялся подшучивать над сверстником:
— Э, Какитай, да у тебя нос совсем стерся! Когда ты улыбаешься, он теперь вовсе исчезает. Ну и непригляден же ты стал! Удивительно, как это Салиха может на тебя смотреть!
— А Салиха говорит: «Уж лучше курносый, чем безбородый, как Магаш!» — смеясь, отвечал Какитай, садясь рядом с Магашем.
Возле Абиша уселась Пакизат. Всадники окружили повозку. Баймагамбет ударил по коням. Грохоча на узкой каменистой дороге, извивающейся по ковыльной равнине, повозка покатилась прямо к аулу Абая. Медный колокольчик на дуге коренного заливался громким звоном.
Примостившись в ногах Абиша, Магаш и Какитай продолжали подшучивать друг над другом. Абиш с ласковой улыбкой наблюдал за ними. Их сердечная дружба радовала его. Видимо, Какитай сильно соскучился по Магашу, хотя не видал его только полтора месяца, которые тот провел в Семипалатинске, поджидая приезда Абиша. Да и сам Магаш все время вспоминал в городе своего друга и рассказывал старшему брату о том, что из всех своих сверстников он больше всего любит Какитая. Сейчас юные друзья вдруг прекратили свои безобидные шутки, замолкли и со счастливой улыбкой смотрели друг на друга, как бы не веря тому, что наконец встретились.
Обратившись к Какитаю, Абиш начал расспрашивать, где находятся сейчас аулы, на каких пастбищах, кто нынче кочует по соседству. Оказалось, что почти все иргизбаи уже откочевали на жайляу и на берегу Барлыбая в ожидании приезда Абиша оставался только аул Абая.
Вскоре шумный и веселый караван уже подъезжал к нему.
Все приготовления там были закончены, и множество людей собралось возле Большой юрты Абая и Айгерим. Сам Абай стоял в середине толпы. Длинный легкий бешмет из светло-желтой чесучи облегал его уже заметно отяжелевшее тело. Седеющие волосы отступили от лба и висков назад, широкий лоб стал еще более открытым. Тонкие, длинные брови по-прежнему были черны, морщин на лице почти не замечалось, лишь в бороде, не очень густой, но закрывающей весь подбородок, сильно прибавилось проседи.
Рядом с Абаем, взволнованная, бледная, со слезами на глазах, стояла Айгерим. За ней толпились женщины, старики-соседи. Молодых жигитов здесь не было: все они были на конях и сопровождали сейчас путников.
Когда аул стал уже виден, Дармен громким криком остановил шумную толпу всадников:
— Пропустите повозку вперед, пусть первым подъезжает Абиш! Не нас ведь ждет аул, а его. Да и зачем нам скакать впереди, как посыльным перед начальством? Осадите коней!
Толпа всадников разделилась, пропуская повозку. Баймагамбет, подхлестнул свою тройку и помчался прямо к Большой юрте. Абиш опять спрыгнул на ходу и быстро побежал к отцу, шедшему к нему навстречу с протянутыми руками.
Прижав к груди сына, Абай долго целовал его глаза, лоб, голову. Оба не произнесли ни одного слова, лишь этим горячим безмолвным объятием выразив друг другу тоску долгой разлуки. И когда Абай наконец отпустил юношу и поднял лицо, оно было бледно от волнения: он все еще, словно в каком-то опьянении, продолжал смотреть только на сына, ничего не видя вокруг.
Красные, с золотыми нашивками погоны Абдрахмана мелькали уже среди белых головных платков женщин. Едва Айгерим отпустила юношу, его стали поочередно обнимать пожилые женщины аула, старики. Все с любопытством осматривали юнкерскую форму, фуражку с кокардой, которую он держал в руках, блестящие пуговицы на белой гимнастерке. Высокий и стройный юноша, оживленный встречей, вызвавшей на его лице легкий румянец, был очень красив. Русые волосы были зачесаны гладко назад, открывая высокий лоб, на тонко очерченных губах играла улыбка радости.
Долгие объятия, слезы, нежные слова Айгерим, старших невесток, стариков-соседей… Каждый находит для него ласковое приветствие.
— Благополучно ли доехал, душа моя?
— Милый мой, ягненочек мой, да осчастливит твоих родителей встреча!
— С благополучным приездом, сердце мое!
Когда молодежь вошла в юрту, Абай, внимательно глядя на Абиша, спросил:
— Почему ты так похудел, Абиш? Здоров ли?..
— И вправду, ты такой бледный, — подхватил стоявший тут же Кокпай. — Видно, в Петербурге хорошо ученье, а не еда. Разве там поешь как следует!
Абай стал расспрашивать сына о столичных новостях, о жизни в Петербурге, о Михайловском артиллерийском училище, где с прошлой осени учился Абиш. Он знал, что оно было не тем учебным заведением, которое привлекало его сына: Абиш пытался поступить в Политехнический институт, но экзамен оказался для него слишком трудным. Абиш рассказал, что будет учиться еще два года, после чего его выпустят офицером артиллерии.
— Конечно, это не совсем то, о чем я мечтал, — сказал он шутливо и добавил: — Но я всегда помню ваши слова, отец:
Учись, мой сынок, — завет мой таков — Для блага народа, не для чинов…За чинами в военной службе я гнаться не собираюсь, но нужные знания и в военном училище получить смогу… Абай согласился с ним:
— Среди наук нет ненужных. Любая — бесценный клад, если только упорно заниматься ею. Будешь ли ты инженером, адвокатом или офицером — всегда сумеешь обратить свои знания на пользу родного народа. Родители твои другого и не желают, сердце мое… Важно, чтобы ты учился и был здоров. Лишь об этом и молю судьбу.
И Абай снова крепко прижал к груди сына.
Юрта заполнилась людьми, появилось угощенье, завязались общие разговоры.
Абай заговорил о своем новом русском друге Павлове, с которым он познакомился прошлой зимой в Семипалатинске. Павлов недавно был переведен сюда из Тобольска, где он отбывал ссылку. И теперь, отправляя Магаша встречать Абдрахмана, Абай передал с ним Павлову приглашение приехать в аул, обещая принять его как почетного гостя.
— Что же ты не захватил с собой Федора Ивановича? — спросил он Абиша. — Когда он приедет?
— Боюсь, что совсем не приедет. Он обратился к губернатору, а тот передал прошение полицмейстеру. Ну, а полиции лучше знать, где жить ссыльному.
Абай искренне огорчился.
— А я так ждал его… Хотел, чтобы он хорошенько отдохнул у нас.
— Я тоже был очень огорчен. Федор Иванович — очень образованный человек, глубокий ум… По-моему, он из тех людей, кто идет впереди общества. Кроме того, он настоящий ваш друг, отец. Пожалуй, лучше многих казахов ценит и понимает ваши труды. Жаль, что нынче он не с нами!
Вечером в юрте зазвучали песни и музыка. Аул Абая как бы притягивал к себе искусство — самые различные образцы его можно было встретить на дружеских вечеринках в Большой юрте. Тут бывали талантливые акыны, певцы, виртуозы-домбристы, мастера красноречия, щедрые на шутки и остроты. В этот лунный вечер над равниной Барлыбая понеслись в ароматном недвижном воздухе волнующие душу, не знакомые никому здесь мелодии: Абдрахман показывал свое мастерство в игре на скрипке.
Абиш играл русские народные песни — «Стеньку Разина», «Ермака», «Бродягу», «Не брани меня, родная», «Мой костер», — играл и оперные арии, мелодии из симфоний Чайковского, штраусовские вальсы, полные пленительного обаяния.
Игра Абиша на скрипке, манера держаться и говорить восхитили молодежь абаевского аула. Русское воспитание наложило на него свой отпечаток: каждым своим движением, всем внешним обликом, да и внутренним содержанием Абиш теперь разительно отличался от аульной молодежи. Это вызывало в них чувство гордости за него, уважение; они с нескрываемой завистью любовались им.
Наконец, устав играть, Абдрахман передал скрипку и смычок Муха.
О нем Абиш хорошо знал по письмам Магаша. В среде молодых друзей и учеников Абая Муха появился не очень давно. Сам он был не из этих мест, он происходил из рода Кандар племени Уак. Там он полюбил одну девушку, но так как родители ее противились свадьбе, Муха по совету Магаша, увез ее и поселился в тобыктинских аулах. Искусный певец, скромный и веселый, Муха понравился Абаю, стал одним из его любимцев. Увидев в Семипалатинске среди вещей брата скипку, Магаш рассказал, что Муха мечтает поучиться у него настоящей игре…
Абиш внимательно следил за игрой Муха. Было ясно, что Муха не обладал настоящей техникой, — очевидно, он лишь кое-чему подучился у какого-нибудь заурядного скрипача, — но в нем чувствовалось редкое дарование и музыкальность. Играл он какую-то своеобразную мелодию, жалобную и печальную, вкладывая в нее удивительно много чувства.
Так встретились в этот вечер с прибывшим издалека Абишем его родственники и друзья.
На следующее утро, сидя в юрте отца за кумысом, Абдрахман заговорил о том, что хочет навестить свою мать Дильду, старшую жену Абая. Было решено, что с ним поедут Магаш, Дармен, Какитай, Альмагамбет.
Когда кони были оседланы, Абай вышел из юрты проводить сына. Альмагамбет, как младший, подвел к Абишу его коня.
Абдрахман легко взлетел в седло. Конь весь напрягся, зашевелил острыми, как стебли камыша, ушами и завертелся, порываясь вперед. Все невольно залюбовались и конем и всадником — оба были достойны друг друга. Буланый гарцевал, грыз удила, бил копытом землю. Абиш, восхищенный конем, сдерживал его, заставляя играть на месте. Однако Айгерим, которая также вышла проводить Абиша, забеспокоилась.
— Что это за конь у тебя, свет мой? Будь осторожнее! — покраснев от волнения, с напряженной улыбкой сказала она.
Абиш благодарно взглянул на свою младшую мать и ласково ответил, склонив голову:
— Не бойся, кши-апа,[23] он просто важничает, хочет себя показать.
Все едущие с Абдрахманом сели уже на коней. Буланый, закусив удила, круто выгнул шею и капризно двигался боком. Видя, что он не желает идти шагом, Абиш дал ему волю. Буланый помчался ровной, плавной иноходью, далеко обогнав остальных всадников. Этому Абиш был даже рад: он соскучился по степи, по рекам и зеленым лугам, и ему хотелось побыть одному. Сердце его, истосковавшееся по родному краю и родному народу, теперь раскрывалось навстречу всему окружающему.
Живописное жайляу, покрытое свежей молодой травой, тихо дремало. Прохладный, ароматный ветерок веял над свободным простором.
В воздухе ни пылинки. Словно умытый росою, чист и прозрачен весь степной мир. Зеленый ковыль с белыми перистыми султанами, склоняясь, как бы в полусне, под вздохами ветерка, переливается на ближних склонах то серебристой, то темно-зеленой волной. На вершины холмов больно смотреть глазу, — кажется, что они излучают сияние. А далеко впереди на синеве горизонта вырисовываются зубчатые гряды. Это Шакпак, Казбала, Байкошкар; они еще покрыты прозрачной фатой белесоватого тумана, скопившегося в оврагах.
Зеленая равнина вскоре начала изменять свой вид. Всадники подъезжали к Керегетасу — дикому холму, образовавшемуся из каменных пластов, нагромоздившихся друг на друга. Еще у подножья холма начали встречаться голые бугры, а за ними — наклонно торчащие к нему длинные глыбы с острыми гранями и ребрами. В расщелинах их зеленеет можжевельник, низкий и цепкий, словно прилипший к камням. Иногда громадные скалы сплошь покрыты им, и тогда их можно принять за зеленые сопки. Вот там мелькнул архар, прижал к спине крутые рога и тотчас кинулся в чащу. Вот между камнями показалась красная лисица. Абиш вскидывает к глазам большой артиллерийский бинокль, который он захватил с собой, и все изящные и ловкие движения осторожного и хитрого зверя отлично видны ему. Длиннохвостая ведьма, быстро извиваясь, словно огненная ящерица, мечется в камнях, роясь под корнями можжевельника в поисках мышей. Вот она земерла, подняв к небу голову и тревожно следя за врагом, угрожающим с высоты: это над скалами взмыл голодный беркут, преследующий зайца, который спешит укрыться в камнях. Лисица рывком бросается вперед, исчезает и потом снова мелькает в кустах…
Некоторое время дорога идет мимо камней. Потом прохладный ветерок, пробегающий по склону, доносит до путника сильный и свежий аромат земляники. Перед ним в мягкой бархатной зелени открывается горная поляна. К аромату земляники прибавляется аромат цветов. Родной благоуханный край радостно приветствует возвращение своего истосковавшегося вдалеке сына.
Здесь стоит Большой аул Улжан, хозяйкой которого стала теперь старшая жена Оспана — Еркежан. Сама Еркежан вместе с Большой юртой откочевала на Шакпак. Туда же отправилась и Дильда. К полудню Абиш и его друзья доехали до Шакпака. Они остановились у Большой юрты, из которой слышалось заунывное пение жоктау — поминального плача. Слезы навернулись на глаза юноши. Жоктау пели обе снохи — и Еркежан и Дильда. Войдя в юрту, Абиш молча обнял сперва Еркежан, сидевшую ближе ко входу, а потом подсел к матери. Та крепко обняла его, продолжая причитание.
Абиш не стал сдерживать слез. Смерть старой бабушки была для него тяжелым горем. Но, прислушиваясь к негромким причитаниям Дильды, Абиш услышал в них кроме тоски по умершей жалобу на собственную долю, на то, что мучило ее всю жизнь. Дильда всегда была обойдена и обижена. Об этом никто не говорил открыто, но сам Абиш не раз задумывался о судьбе своей родной матери, эти тяжелые мысли волновали его и в Петербурге. Сейчас он слушал причитания матери, вполне понимая горе, которое та хотела выразить.
Видимо, поняли это и другие, и прежде всех Дармен. Со свойственной ему чуткостью он наклонился к Дильде и негромко сказал ей:
— Успокойтесь, женеше… Разве может пугать вас какое-нибудь горе, если у вас вырос такой сын? Посмотрите на него и порадуйтесь…
Плач постепенно затих.
Еркежан повернулась к Абишу и стала рассказывать о последних минутах жизни Улжан. Она умерла прошлой осенью, как только аулы прикочевали на зимовье. Еркежан говорила спокойно, не торопясь, стараясь как можно точнее передать слова Улжан, относящиеся прямо к нему.
— Твоя бабушка, милый Абиш, много о тебе думала. То и дело говорила: «Один он вдалеке от нас. А вдруг случится что-нибудь, вдруг заболеет? Все наши дети и внуки здесь, а он там один, словно веточка, оторвавшаяся от дерева». И еще она говорила: «Хоть мне и тяжело, что я его не увижу, но пусть он учится там. Я и сама хотела этого не меньше, чем его отец». Вот что говорила твоя бабушка, Абиш. Я считала своим долгом передать тебе ее слова.
И Еркежан надолго остановила на Абише взгляд добрых, умных глаз. Лицо ее было спокойным и привлекательным, и Абиш чувствовал к ней расположение.
Дильда и Еркежан поочередно рассказывали ему о последних днях Улжан. Сильно одряхлевшая за последний год, изнуренная долгой болезнью, Улжан скончалась спокойно, как будто бы заснула. В последнее время она уже не вмешивалась ни в дела своих детей и невесток, ни в их разговоры, сторонясь житейских забот и тревог. Лишь изредка она беседовала с Абаем и с Оспаном.
Воспитываясь у Дильды, в другом ауле, Абиш в детстве не часто видел Улжан. Но он хорошо помнил, как ласково она раскрывала ему при встречах свои объятия, как нежно гладила по голове, каким теплом веяло от нее. Все это воскресло сейчас в памяти Абиша, сердце его защемило. Да, забыть ее было нельзя. Опустевшая Большая юрта, где протекла вся ее жизнь, заставляла с грустью думать о ее чистом и светлом образе. Как когда-то Зере, она действительно была матерью рода, его совестью и душой.
Магаш вспомнил ее последние слова. Она умирала в полном сознании, за час до ее смерти еще нельзя было сказать, что это случится. Последние ее часы были отравлены Майбасаром. Зайдя к ней, он брякнул со всегдашней своей грубостью:
— Ну что, видно, покидаешь нас? К мужу отправляешься? Ты нас всю жизнь поучала, ну-ка, расскажи нам теперь, что такое смерть?
Улжан чуть заметно улыбнулась и спокойно ответила:
— Э-э, мой деверь, так ты и дожил до старости, ни о чем не думая. Подумай хоть теперь — разве я уже умерла? Когда будешь умирать, дорогой мой, узнаешь сам, что такое смерть… Зачем торопишься?
Больше она уже ни о чем не говорила. Всю жизнь она отличалась светлой и ясной мыслью и даже перед самой смертью не потеряла способности здраво рассуждать. Все долгие годы своей подневольной и тяжелой жизни она умела смотреть на горе и невзгоды спокойно. Так и теперь она не страшилась смерти, не трепетала в ужасе перед ней. Полная самообладания, она ушла из жизни, прикрыв ее дверь тихо и беззвучно.
Дильда два дня держала у себя Абиша, ухаживая за ним, как за почетным гостем. На третий день, когда он собрался уезжать, она высказала ему то, что, видимо, давно беспокоило ее. Она подозвала и Магаша, знаком показав ему, чтобы прислушался и он.
— Свет мой, — начала Дильда, положив ладонь на тонкие пальцы Абиша, — твоя покойная бабушка не раз говорила мне мудрые слова. Еще давно, когда ты был ребенком, Абай собрался ехать в город учиться. Мне было тяжело и грустно, но бабушка тогда сказала мне: «Не задерживай его, проводи с добрыми пожеланиями. Поддержи его душой, он едет за знаниями, едет, чтоб стать человеком. Если сбудется его мечта, тебе же и твоим птенцам в жизни будет лучше». Все эти годы, когда ты был вдали от меня, я говорила себе эти же слова. Так и сейчас я смотрю на твою жизнь в чужих краях. Да будет счастлив твой путь! — И она прикрыла лицо платком, сдерживая слезы.
Абиш понял, что она с трудом мирится с разлукой. Дильда открыла лицо и посмотрела сыну прямо в глаза.
— У меня есть к тебе единственная просьба. Ты не откажешь мне? Исполнишь? — И она обняла сына.
Мольба, прозвучавшая в голосе матери, взволновала его.
— Говори, апа,[24] я все исполню.
— У меня одно желание: чтобы ты, снова уезжая от нас, оставил здесь свое гнездо. Я хотела бы видеть возле себя человека, дорогого твоему сердцу… Засватай себе невесту!
Абдрахман, не умеющий скрывать своих чуств, искренне удивился.
— Ойбайау! Что ты говоришь, апа?
И, как бы ища поддержки, он, улыбаясь, повернулся к Магашу:
— Что я могу ответить? Ведь я как будто взрослый жигит… Об этом мне нужно думать самому…
Магаш усмехнулся:
— Ты прав, Абиш-ага. Но тебя никто и не принуждает, апа просит тебя только подумать. А сказать по правде — пора!
Ответ брата тоже изумил Абдрахмаяа. Он перестал возражать, но больше уже не смеялся, растерянно замолчав.
Дильда снова заговорила:
— Он верно говорит, никто тебя не принуждает, душа моя. Я и не жду, что ты женишься в этот приезд. Но если мне суждено иметь невестку, назови мне девушку, которая тебе по душе. Засватай ее и поезжай учиться. Одна мысль, что у тебя уже есть невеста, успокоит меня и поддержит всю долгую зиму. Твоя невеста будет моей радостью н надеждой в разлуке с тобой.
Абиш все еще сомневался, но не стал и отнекиваться.
— Подумай, посмотри сам, — продолжала Дильда. — Кто-нибудь понравится — засватаешь. Сама я никого не хочу тебе навязывать. Но вот в ауле татарина Махмуда есть Магрифа, девушка на выданье. Настоящее сокровище. Посмотри ее, свет мой. Взгляни — и скажи мне, ни о чем большем я и не прошу. Обещаешь?
Абишу стало неловко. Покраснев, он только кивнул головой. Дильда поцеловала его и взглянула на Магаша.
— Моя просьба касается и тебя, Магаш. Тебя и Дармена. Познакомьте Абиша с Магрифой.
Оба жигита промолчали, но, взглянув на них, Абдрахман убедился, что они готовы с радостью исполнить просьбу Дильды.
На обратном пути Магаш и Альмагамбет нарочно отстали, чтобы дать возможность Дармену поговорить с Абишем. Абиш узнал, что не одна Дильда мечтает об его свадьбе — это общее желание всех родных. Ничем не выдавая своих мыслей, Абдрахман молча слушал Дармена. Тот заговорил теперь о Магрифе, расточая ей похвалы со всем красноречием поэта. Ей семнадцать лет, она имеет хорошее для девушки образование, правда мусульманское, вежлива, хорошо воспитана. О внешности ее Дармен распространяться не стал, сказав лишь, что она бесподобная красавица. Ее надо увидеть, а рассказывать о ней бессмысленно даже для поэта. Абиш должен хотя бы раз побывать в ауле Махмуда, а дальше сердце подскажет само. Может быть, не понадобится никаких уговоров и просьб.
Таков был дружеский совет Дармена.
Альмагамбет, ехавший сзади них, пел во весь голос «Пламя любви…», «Любимая моя, бесценная…», «Юная любовь…». Как нарочно, все его песни говорили о молодом чувстве, и пел он их с горячей страстью.
Зеленый простор жайляу, овеянный ароматной вечерней прохладой, веселит душу, пробуждает мечты, сладко томит сердце. Сами собой, беспокойно и волнующе возникают смутные желания, надежды. Абиш молча улыбается. Кажется, его самого смущают собственные мысли и он старается убежать от них. Возникающим чувствам нет выхода, вопросы остаются без ответа. И лицо его то бледнеет, то вспыхивает жарким румянцем.
2
Абай старался проводить с сыном как можно больше времени. Ему было радостно думать, что мечта его исполняется, что его любимый сын получает русское образование. Он с удовольствием слушал долгие рассказы Абиша о том новом, что видел тот в России, и расспрашивал его сам о новостях науки, о железных дорогах, о фабриках и заводах, о русских учебных заведениях, о Петербурге и о других больших городах. Часто разговор переходил на русскую литературу, отец и сын говорили о книгах Толстого, Салтыкова-Щедрина, о стихах Некрасова. Но порой Абай вдруг становился молчаливым и задумчивым. Какие-то неотступные мысли тревожили его.
Абдрахман знал, что Абай вольно или невольно вмешивается в споры и тяжбы аульных аткаминеров, в нескончаемые степные интриги. За эти годы Абай нажил себе сильных врагов — степных воротил, которые в своей ненависти то и дело затевали против него различные козни. Братья рассказали Абдрахману, что лишь в среде преданной ему молодежи Абай отдыхает душой от окружающей его злобы и зависти. Абиш с удивлением услышал, что ненавидят отца не только известные интриганы и сутяги вроде Уразбая, Жиренше и других воротил соседних родов, но и иргизбаевские заправилы, и что даже близкие родственники, в том числе Такежан, вступили в скрытую вражду с отцом.
Все это очень мучило юношу, и ему казалось, что жизнь отца проходит в тревогах, печали. Он как на маленьком островке, который вот-вот будет охвачен пламенем бушующего кругом пожара…
И, как бы отвечая мыслям Абиша, Абай однажды сказал:
— Дорогой Абиш, если бы ты знал, как огорчают меня эти постоянные столкновения с корыстью и темными предрассудками! На долю мне выпало бороться с ними. — И, обращаясь к вошедшей в юрту молодежи, он закончил — А вот вас, друзья мои, ждет другая жизнь. Я — конец старого века, а вы — начало нового.
В этот вечер Абиш горячо говорил о людях труда в России:
— Какие стойкие силы зреют сейчас там, отец! Какие подвиги совершаются! Людей тяжелого труда в России два рода: крестьяне, живущие в деревнях, и работники фабрик и заводов, число которых с каждым годом все умножается. И те и другие выходят сейчас на упорную борьбу против насильников, за свой труд, за землю, за свои великие цели…
И Абиш с увлечением стал рассказывать о стачках на фабриках Морозова в Орехово-Зуеве в 1885 году. Когда он сообщил, что на этого бая работает одиннадцать тысяч рабочих, молодые слушатели были поражены. Он рассказал, как восемь тысяч рабочих в один и тот же час прекратили работу и вышли на улицу. Тут струхнул не только бай, но и власти. Прискакали прокурор, губернатор, привели войска, думали запугать народ. Но у восставших работников были отважные вожаки. Они призывали бедняков к стойкости, напоминали им, как бай обижал и обкрадывал их. И работники выдержали и не испугались ни начальства, ни войск. Шестьсот человек из них арестовали, но работники все равно не отступили от борьбы. Она не прекращается вот уже шестой год. Каждую неделю то в Петербурге, то в Москве, то в других больших городах России происходят такие мятежи работников, «стачки», как называют их русские.
— Вот какие пути находит трудовой народ, когда он хочет бороться за лучшую жизнь, — закончил Абиш.
Абай удивленно расспрашивал сына, как тот узнал об этих событиях. Неужели о них говорят открыто?
Абиш рассказал, что узнал он обо всем этом от старого петербургского рабочего Еремина, с которым познакомился, привезя ему письмо от Павлова. Старик всей душой привязался к казахскому юноше, впервые приехавшему в столицу. По воскресеньям, когда Абиш приходил в отпуск из училища, у них начинались долгие разговоры, из которых юноша узнавал то, чего ему не могло дать ни училище, ни общение с приятелями.
— Еремин подсчитал, что за последние десять лет произошло больше полутораста крупных стачек. Вот как борется в защиту труда русский народ! Вот с кого надо брать пример нам, степнякам! — горячо говорил Абиш.
Абай с молчаливым одобрением кивал головой, соглашаясь с сыном, и потом сказал:
— Видимо, такой род борьбы появился в последние годы. До сих пор я не читал об этом ни в одной книге. Но если вдуматься, только так и может бороться за свои права множество людей, объединенных общим трудом и общими бедами. Кажется, вот это и есть самая последняя новость, рожденная Россией! Очень хорошо, что ты привез ее к нам!
Заговорив потом о крестьянских восстаниях, Абиш решил повернуть беседу на набег Базаралы.
— Вы писали мне как-то, отец, что стихи должны воспевать труд и труженика, — начал Абдрахман. — Это правильно. Но как? Можно говорить о самом труде — это одно. А оценить по достоинству борьбу тружеников за свои права, рассказать об их силе, мужестве — другое. И, пожалуй, это еще сложнее и важнее для истинного поэта. Мне рассказали о прошлогоднем набеге Базаралы… Что вы думаете об этом?
Вопрос Абиша заставил Магаша, Дармена и Какитая насторожиться. Они и сами не раз горячо спорили об этом событии. И теперь жигиты подняли глаза на Абая, с нетерпением ожидая его ответа.
Абай слушал сына спокойно, облокотясь на подушки. При последних словах Абиша он быстро повернул к нему голову, внимательно посмотрел на него, потом достал из табакерки насыбай — жевательный табак, — заложил его за губу и погрузился в задумчивость, ничего не отвечая.
Абдрахман продолжал:
— Как вы думаете, отец, что толкнуло Базаралы на такой поступок? Сказались ли в его поступке думы, надежды и желания всех аульных бедняков, бесправных, угнетенных? Сознавал ли сам Базаралы значение своих поступков?
Абай молчал. Читая Чернышевского или Герцена, он понимал их рассуждения. Но иногда бывало, что он лишь ощущал великую правду жизни, не будучи в силах пересказать ее словами. Вопросы Абиша вызывали в нем такое же чувство, и Абай долго сидел молча, подыскивая слова, которыми он сумел бы ответить на эти вопросы.
Наконец быстрым движением он выбросил из-за губы насыбай, отхлебнул кумыса и заговорил, задумчиво двигая рукой вперед-назад свою тюбетейку:
— Сперва разберем, кто тут действовал: один человек или народ? У многих были в душе те же мысли и стремления, что у Базаралы. Вот я и думаю, что он выразил своим поступком общее желание. Однако желание — это одно, а осуществление его — другое. Поступок Базаралы, отразивший общие давнишние надежды и стремления, оказался все-таки неожиданным для большинства. Наш народ не дорос еще до того, чтобы понять всю необходимость такой борьбы. Для этого еще долго нужно сеять в его сознании плодоносные семена. Чтобы воспитать и пробудить крестьянство, нужны такие люди, как Чернышевский. Я часто вспоминаю о нем, когда думаю о поступке Базаралы. Но, видимо, гнев народа не всегда дожидается, пока справедливые люди, мыслители, думающие о нем, укажут ему пути борьбы. И, мне кажется, народ поступает правильно, если начинает действовать. Иногда чей-нибудь решительный поступок заставит всех встрепенуться и подняться на ноги. Быть таким человеком, подымающим народ, — великое дело…
Абай снова замолчал. Все ожидали, что он скажет дальше.
Собравшись с мыслями, Абай продолжал:
— Сознательно ли действовал Базаралы? Я знаю, что горькая доля бедняков-сородичей давно волновала его сердце, и уверен, что все его поступки после возвращения с каторги совершенно сознательны и обдуманны. Он отлично понимал, кому наносит удар и от чьего имени. А может быть, понимали это и все сорок жигитов, которые действовали с ним вместе. Спроси Даркембая, я высоко ценю его ум и совесть. Послушай его. Ему хорошо известны все мысли и желания нашего народа, все корни его поступков. Наконец, ты спрашиваешь, как я сам отношусь к этим событиям…
Он опять помолчал и потом заговорил взволнованно:
— Я в долгу перед этими смельчаками. Они герои. Их дела должны быть воспеты яркими, сильными словами. Если я певец народа, я в большом долгу перед ними. И не я один — все вы, мои друзья, молодые поэты, сидящие здесь. Пишите о горе народном, пишите словами, понятными для народа!
Жигиты переглянулись и опустили глаза, как бы принимая на себя возлагаемую на них обязанность.
Слова Абая глубоко тронули Абиша, но ему хотелось выяснить все до конца, и он снова обратился к отцу:
— Но ведь в конце концов Базаралы все-таки не одержал победы? Наоборот, заправилы родов показали клыки и снова прижали народ. Бедняки, которые поддерживали Базаралы, были принуждены уплатить большой штраф, как я слышал.
— Да, жигитеки лишились последнего скота. Сделались жатаками, — подтвердил Какитай.
— Не только не получили никакого облегчения, но даже лишились того, что было у них в руках, — добавил Магаш.
Абай, подтверждая сказанное, кивнул головой.
— А не вызвало это у бедняков раскаяния? — продолжал Абиш.
Абай на этот вопрос ответил не сразу. Он почему-то остановил пристальный взгляд прищуренных глаз на Дармене, как будто отыскивая ответ на его красивом лице, потом повернулся к сыну.
— Видишь ли, — начал он, — конечно, часть жигитеков живет сейчас в еще большей нужде, чем прежде. Да и сам Базаралы лишился всего. Как говорится, остался на голой земле. Но не это его мучило, а то, что многие из его друзей и сородичей потеряли последнее. Он не раз говорил мне той зимою: «Не пойди они со мной в набег, сохранили бы свой жалкий скот». Сам-то он не раскаивался в сделанном, не жалели об этом ни Даркембай, ни Абылгазы. И мне кажется, что так думают и те смельчаки, что пошли с ними в набег против Такежана. Многие из жигитеков теперь ушли в русские поселки, осели, перешли на земледелие — даже старик Даркембай, дядя нашего Дармена… А кроме того, не свидетельствует ли о росте силы народа такое крупное, небывалое в степи событие? Не говорит ли это о приближении чего-то нового? Да, эта вспышка народного гнева не дала видимого успеха. Но значит ли это, что она бесполезна? Мало ли знает история прекрасных действий народа, не увенчавшихся немедленным успехом? И разве справедливая историческая мысль осуждала их за это? Неужели действия Базаралы надо расценивать по числу прибавившихся или убавившихся у жигитеков и жатаков коней? Русская история знает силу народных движений. Восстание Степана Разина было подавлено с кровавой жестокостью. Народная война, поднятая Пугачевым, закончилась тем, что его обезглавили на Лобном месте в Москве. Что было бы, если на действия Разина и Пугачева русский народ смотрел бы глазами отцов, матерей и сирот, лишившихся своей опоры после разгрома восстания? Большая историческая правда заставляет смотреть на такие события иначе. Они сотрясают основы старой жизни. И с этой точки зрения ясно, что набег Базаралы — хотя его и нельзя сравнивать с великими народными движениями, ибо это только слабый росток, растоптанный темной силой старой степи, — все же говорит нам, что в казахской жизни родилось что-то новое, небывалое.
Слова Абая произвели на всех глубокое впечатление.
— «Из искры возгорится пламя!» — восторженно воскликнул Абиш.
Абай внимательно посмотрел на Абдрахмана и ласково улыбнулся.
3
Вскоре аул Абая перекочевал на урочище Кзыл-Кайнар. На этом жайляу кроме речки есть много источников и ключей. И нынче здесь одних иргизбаевских аулов собралось больше десятка, а рядом расположились еще и стоянки родов Карабатыр, Анет, Торгай и Топай. Стада порой сбивались вместе, и охраняющие их собаки то и дело кидались в драку.
Аулы тесно сгрудились на равнине. Теперь особенно резко бросались в глаза стоящие на краю каждого черные, дырявые юрты, а порой и просто шалаши бедняков. Жайляу как бы нарочно выставило их напоказ. Даже при первом взгляде на эти нищие юрты легко было понять, какой тяжелой нуждой придавлено к земле большинство семей каждого аула.
Далеко вокруг разбрелись по пастбищам пестрые многочисленные табуны и стада. В одних сотни голов, в других тысячи. Все они принадлежат белым юртам, но обитатели черных юрт знают это живое богатство гораздо лучше, чем его хозяева. Здесь, в дырявых юртах, живут пастухи, доильщики, табунщики, чабаны, сторожа многочисленных стад. Зимой и летом с рассвета до вечерней зари и все ночи напролет бедняки заботятся о скоте. Мысли и тревоги нелегкого пастушьего труда не оставляют их даже в беспокойном сне.
Не только на этом жайляу живет так аульный народ. То же можно видеть на всех соседних урочищах, начиная с жайляу рода Бокенши Ак-Томар, расположенного на дальнем краю Чингизской волости, на всех урочищах всех родов: и на Суык-Булаке жигитеков, и на Тонаша котйбаков, и на Кзыл-Кайнаре иргизбаев, и на Айдарлы сактогалаков — кончая урочищем Карасу, принадлежащем роду Есполат.
Сегодня на все эти жайляу обрушилась беда. Грозная буря налетела на семьи бедняков. Ни одной из белых юрт она не коснулась даже легким дуновением. Зато дырявые черные юрты и нищие шалаши она треплет, как свирепый степной ураган. Лишь доильщиков, пастухов, сторожей, табунщиков, немощных вдов и сирот выбрала себе в жертву эта беда.
Не впервые приходит она в аулы. Каждый год-полтора обрушивается на бедноту одно и то же горе. И поэтому едва сегодня весть о нем пронеслась по черным юртам, лица людей помрачнели. Тревожное, тоскливое и беспомощное чувство овладело людьми.
Имя этому повторяющемуся бедствию было «сбор налогов»: пришло время, когда начальство собирает покибиточный налог и недоимки по нему, а вместе с этим и «черные сборы».
И хоть весть об этом прилетела в аулы Иргизбая в знойный летний полдень, она заледенила сердца январским морозом. Привез ее старшина первого административного аула Отеп. Вместе с ним проскакали по жайляу и двое посыльных — шабарманов, отъявленные забияки и задиры, настоящие молодые джины,[25] — Далбай и Жакай. Спеша в Ак-Томар, они по дороге избивали табунщиков, если те не очень торопились сменить им коней. Врываясь в аулы, они скакали, не разбирая дороги, пугая детей, разгоняя стада и дразня собак. Одно их появление уже вызывало в людях и страх и смятение.
Отеп остановился в белой юрте Исхака, собрал сюда бедноту аула и объявил приказ:
— К нам в волость едет начальство. Говорит, зазнались в нашей волости люди, несколько лет не платят недоимки по царским налогам. Велено за три дня полностью собрать покибиточный сбор, недоимки и «черный сбор»! Начальство уже здесь, остановилось в Ак-Томаре. Вызвало к себе всех биев, старшин, волостного писаря. Вот туда я и тороплюсь. За вас, голытьбу, я отвечать не хочу, а недоимки все только за вами! Завтра к полудню будьте готовы отдать долги чем хотите: скотом или деньгами. От меня теперь милости не ждите, будете завтра выть — пеняйте на себя! Не соберете денег — отниму последнюю дойную корову, последнюю козу, клячу и отдам властям!
Эти же угрожающие слова он повторил и в других иргизбаевских аулах и лишь к ночи ускакал в Ак-Томар.
С этого и началось. В каждом ауле беднота — батраки и пастухи — не находила себе места. Отеп не шутит. Конечно, завтра он выполнит то, что обещал. Не посмотрит на слезы, отнимет последнее. Разве он пожалеет нынче, если не жалел в прошлом году?
И к вечеру, когда дневные хлопоты со скотом закончились, растерянные, подавленные люди потянулись к белым юртам хозяев, бредя в сумерках печальными тенями.
В ауле Исхака первым вошел в байскую юрту старик Жумыр, пастух верблюжьего стада. На голове у него свалявшаяся, почти истлевшая баранья шапка, на ногах старые войлочные чулки. Драный чапан, подвязанный прокопченным арканом, потерял всякий цвет и напоминал тряпье, год пролежавшее на какой-нибудь покинутой стоянке. В этих лохмотьях старик выглядел так, словно сорвался с виселицы.
Гостей в юрте не было, в ней сидел лишь сам Исхак, опираясь спиной о высокую кровать, и возле него, облокотясь на груду подушек, полулежала холеная, надменная Манике.
Старик повернулся к хозяйке, с надеждой подняв на нее маленькие, красные от постоянного пребывания на ветру глаза.
— Нечем мне отдать покибиточный сбор и недоимку — заговорил он. — Вы знаете мою нужду. Кроме единственной кобылки, ничего нет… А говорят, еще одна тяжесть навалилась: «черный сбор» требуют.
— Ну, а мы при чем? — буркнул Исхак.
Манике, не поворачивая головы, недовольно поджала губы.
— Волостью управляем не мы. И не мы собираем налоги. Что ты хочешь от нас? Не тревожь людей попусту.
Но в душе Жумыра еще теплилась надежда.
— Думал, вспомнят труд старика, выручат из беды.
— Какой же труд? — холодно сказала Манике. — За что тебя выручать?
— Как какой? Я же все время тружусь на вас! Даже вот этот несчастный, кого ты прозвала Борбасаром, и тот пасет ваших ягнят! — сказал старик, подталкивая вперед большеносого мальчика с растрескавшимися до крови босыми ногами.
— Разве я мало даю за твой труд?
— Что же даешь, дорогая? Хоть раз брали мы плату?
— А у кого ты кормишься и зиму и лето? Что же, это не стоит платы?
— Кормишься!.. Разве это пища? Объедки, остатки, помои! Этого и для собак не жалко.
— Э-э, оказывается, у тебя еще и вредный язык, дохлый старикашка! Коли так, знай, что хорошая собака лучше ленивого пастуха! Понял?
— Ой, байбише, вон как ты колешь глаза бедняку! Не зря, значит, ты у моих ребят отняла человеческие имена! Для тебя все собаки!
И старик, трясясь от гнева, вышел из юрты, уводя с собой мальчика.
У Жумыра — двое сыновей. Старший — тот, что пришел с ним, второй — еще малыш. Их звали Такежан и Исхак. Когда старик появился в ауле и Манике узнала об этом, она возмутилась. У казахов имена повторяются редко, а у этого оборванца, как нарочно детей зовут так же, как сыновей самого Кунанбая! «Как смеют они носить имена наших мурз? Похоже на то, когда паршивый пес носит кличку Борбасар[26] — бушевала она. И тут же заявила — А впрочем, верно: пусть отныне старший называется Борбасар, а младший — Корер,[27] как зовут наших собак… Самые подходящие для них имена!»
И самовластная байбише заставила всех называть детей старика вместо их имен собачьими кличками. Об этом то и вспомнил сейчас с горькой обидой Жумыр, уводя сына от злобной хозяйки.
В этот вечер и в ауле Такежана тоже было горе. Возле продранной, ветхой юрты старуха Ийс, обливаясь слезами, доила свою единственную серую коровенку. В юрте ждали молока маленькие внуки Асан и Усен. Одному шесть лет, другому четыре года. Это дети умершего Исы, единственного сына старухи; мать их тоже недавно умерла. У старухи голова идет кругом: что же теперь делать? Требуют недоимки, а скота у нее — только вот эта одна серая коровенка. Неужели в последний раз она доит ее! «Чем же завтра я накормлю сироток? Что я им дам?» — всхлипывая, думала она.
И, уложив ребят, Ийс поплелась к Такежану.
В Большой юрте она застала Азимбая и Каражан. Сам Такежан, как бий первого аула, тоже уехал по вызову начальства в Ак-Томар.
До появления Ийс здесь побывали уже двое других бедняков. Они так и ушли, не добившись милости от Азимбая. Один из них был ночной сторож Канбак. На его просьбу помочь Азимбай ответил ему обвинением: этим летом Канбак заснул, и волк задрал двух ягнят. А когда начали разбираться, сторож вдобавок и надерзил. Азимбай напомнил, что он тогда же предупредил Канбака: «Вот приедут за недоимками, ты попомнишь этот день! Завоешь!»
Издевательство молодого хозяина вывело из себя Канбака. Он ответил, что вот уже третий год не получает никакой платы — его утешают только тем, что платят за него недоимки. А нынче и в этом отказывают! Азимбай крепко его выругал и, угрожая плетью, выгнал из юрты.
Вторым просителем был Токсан. Много лет доит он такежановских кобылиц. Ему уже тридцать пять лет, а он все никак не может выплатить за свою невесту стоимость пяти верблюдов. Так и живет бобылем, без семьи, без крова, привязанный к байской юрте. Азимбай все обещает ему уплатить за невесту, родители которой тоже живут в батраках такежановского аула, сторожа зимовку. Азимбай подговаривает их не отдавать пока Токсану свою дочь, обещая выколотить из него настоящий калым. А самому Токсану он все не платит за службу, держа его таким образом на привязи в своем ауле. Дело в том, что Азимбай узнал намерение Токсана откочевать после женитьбы в другой аул, а лишаться такого старательного хорошего работника не хочется. И сегодня он тоже ничем не помог Токсану, ответив ему одними издевательствами.
Третьей пришла сейчас Ийс. В слезах она обратилась к Каражан, напомнила, что зиму и лето она вила арканы, веревки, поводья, недоуздки, чембуры для всего аула. Слезы старухи как будто тронули Каражан. Она обратилась к сыну:
— Разве ее юрту не вычеркнули из списка налогов? Такое мягкосердечие матери разозлило Азимбая, и он резко ответил:
— Я, что ли, распоряжаюсь списками? К чему ты об этом говоришь?
Старуха Ийс взмолилась: у нее одна лишь кормилица двух сирот — коровенка, отнимут ее — совсем обнищаешь. Но ее слезы не тронули Азимбая. Наоборот, по его расчетам, старуху нужно было покрепче приторочить к их аулу. Пусть она настолько зависит от юрты Такежана, что даже не посмеет и думать о жизни вдали от нее. Тогда она еще старательнее будет вить арканы.
Поняв холодную жестокость Азимбая, старая Ийс зарыдала в голос, вспоминая, как погиб ее единственный Иса.
— Из-за твоего же стада простился с жизнью мой сын! Разве не мог он бросить его в ту ночь и уберечь себя? А он в дырявой одежде спасал от бурана заблудившихся овец. Простыл тогда, зачах и умер мой родной! Душу положил за твой скот, а у тебя и к его детям жалости нет.
Азимбай грозно прикрикнул на старуху:
— Уж не пеню ли ты хочешь получить за него? Попробуй взыщи! Прочь из моего аула, убирайся от нас, живи где хочешь.
Выгнав наконец старуху, он решил и в самом деле оставить ее без коровы, чтобы навсегда накинуть на нее петлю неволи.
Ийс поплелась к своей юрте, проклиная хозяев:
— Погибель вам! Пусть горе мое обрушится на вас, пусть слезы моих сирот прожгут ваши сердца! У лютого врага лучше просить защиты, чем у вас!
И, обняв двух своих малюток, она проплакала всю ночь.
— Сиротинушки вы мои несчастные! Куда мы теперь с вами денемся? — Слезы обильно катились по ее изможденному лицу, тяжелые вздохи раздирали грудь.
В эту ночь такие же мольбы и гневные проклятья раздавались в аулах Майбасара, Акберды, Ырсая и других баев из рода Иргизбай. И богачи Котибака, Жигитека, Бокенши в этот вечер также не слышали от своих батраков и соседей ничего, кроме мольбы о помощи, а потом проклятий или смелых правдивых слов укора и обвинения.
В ауле Сугура из рода Бокенши уже началось взыскание недоимок. Бии и старшины угодливо и подобострастно окружили приехавшего туда крестьянского начальника Никифорова. Именем Мекапара — так произносили они фамилию начальства — они и приказывали, и угрожали, и запугивали бедный люд всей окрестности:
— Мекапар сам сказал!
— Мекапар нынче сердитый!
— Мекапар строгий начальник, попробуйте его ослушаться!
Вопли, стоны и слезы с утра стояли в окрестных аулах бокенши, борсаков и жигитеков. Здесь выколачиванием недоимок занимались урядник и пристав, которого народ за его алчный нрав и жадность ко взяткам давно уже прозвал «Кок-шолаком».[28] Нынче и урядник, который безжалостно отбирал у людей последнее, пуская в ход нагайку, получил прозвище: его фамилию — Сойкин — стали произносить «Сойкан» (хищник). Вчера он для устрашения людей избил шабармана Далбая и исхлестал до крови нагайкой пятерых бедняков борсаков, которые не к сроку пригнали свой скот. Сами аульные старшины говорили о нем: «Наш Сойкин без плетки и взяток дня не проживет». В этой своре насильников особенно отличался еще и писарь Чингизской волости Жаман Гарин. За его жестокость и бешеный нрав бедняки рода Бокенши называли его «Кабан-гарин» (черный кабан).
Все эти кок-шолаки, сойканы, кабан-гарины — волки, хищники, кабаны — впивались нынче своими клыками в живое тело народа.
Этой ночью, сидя с приставом и урядником за картами, писарь Кабан-гарин договорился с властями о том, чего хотели Жиренше, Такежан и другие воротилы. Городские власти приехали в степь для того, чтобы собрать с населения покибиточный налог этого года и недоимки за прошлый год. Но у старшин, биев и аткаминеров были и свои счеты с народом: до сих пор им не удалось выколотить из него «черные сборы». Теперь они предлагали властям вместе с царскими налогами собрать с населения и эти поборы. Пусть это не пойдет в царскую казну, зато кое-что попадет и в карманы тех, кто поможет аткаминерам получить свои доходы. Кабан-гарин намекнул, что собранное будет поделено так, чтобы остались довольны все, начиная с самого Никифорова. Ему не пришлось тратить много времени на уговаривание Кок-шолака и Сойкана. Многозначительными улыбками и кивками они подтвердили свое согласие.
Узнав об этом, так же довольно стали улыбаться Такежан, Жиренше, Бейсемби и другие аткаминеры. И, словно вороны или беркуты, завидящие издали мертвечину и слетающиеся к ней с далеких вершин Догалана, Орды, Ортена, Шуная, бии, старшины и другие властители степи съехались на жайляу Кзыл-Кайнар, чтобы начать свирепое нашествие на народ.
В степи деньги, как правило, почти не имели хождения. Они водились только в окованных сундуках богатых юрт, бедняки никогда их и в глаза не видывали. Однако и покибиточный налог, и недоимки, и «черные сборы» определялись в деньгах. А так как у бедняков их не было, то, забирая у них скот, сборщики оценивали его на деньги по собственному усмотрению.
С помощью плетей и нагаек шабарманы, старшины и стражники, предводительствуемые Сойканом, выгоняли из аулов последних овец, коров и лошадей бедняков. В юртах в страхе кричали дети, плакали матери, проклинали насильников старики. Но ничто не могло удержать этот поток, уносивший из аулов опору жизни.
Чем дальше двигалась по жайляу Кзыл-Кайнар эта лавина, тем больше становилось стадо, гонимое грабителями. И вслед за ним двигалась стонущая в горе сама степь. За отобранными кормилицами — кобылицами, коровами, овцами, — не отставая, шли люди. Уста их исторгали проклятия, в глазах горела ненависть. Это были горе и слезы народа.
Не было ни одного аула на любом жайляу жигитеков, бокенши, котибаков, где бедняков не коснулось бы это бедствие.
На отдаленном урочище Суык-Булак стоял многолюдный бедный аул жигитеков, в котором жили Базаралы, Абды, Сержан, Аскар и старый Келден. Когда сюда дошли вести о беде, постигшей окрестные аулы, люди заволновались.
— Что мы будем делать, когда доберутся до нас? Чем заплатим недоимки? Разве посчитаются они с тем, что Такежан нас только что разорил? На две семьи по одной коровенке, даже козы не у всех! Неужели последнее отдавать?
Такие мысли мучили всех. Когда об этом заговорили в юрте Базаралы, который уже несколько дней лежал в приступе жестокого ревматизма, полученного в Сибири, он решительно ответил:
— Ну что плакать заранее? Приедут — поглядим, как поступить. Я думаю, в ком есть живая душа, не так-то просто отдаст последнюю опору в жизни! Пусть из аула никуда не отлучаются такие жигиты, как Сержан, Абды, Аскар. Да не давайте разбойникам сразу грабить, попробуем сперва поговорить с ними!
Скоро и в этот аул прискакали сборщики. Их было трое: наглый и задиристый шабарман — посыльный Далбай с огромной медной бляхой на груди и с кожаной сумкой на боку, по которой он то и дело важно хлопал рукояткой плети, старшина административного аула жигитеков, туповатый и самонадеянный Дуйсен, и сопровождающий их робкий и неразговорчивый жигит Салмен.
Старшина и шабарман и начали сбор недоимок с крайних юрт аула. Они забирали коз, оказавшихся на дневном привале, тащили за повод дойных коров, стоящих между рваными юртами. Келден и Абды быстро подошли с ним.
— Подождите отбирать! — заговорили они. — Пойдемте хоть посоветуемся… Ведь вы тоже люди… Идемте к Базаралы!
— Какой там Базаралы? Что за начальник? — закричал Далбай. — Пусть сам придет сюда!
— Базаралы болен, не может стать на ноги, — объяснил Абды. — Приглашает к себе, пойдемте!
Далбай отмахнулся плеткой и схватил за повод очередную корову. Дуйсен в свою очередь поволок другую под плач и вопли женщин, столпившихся вокруг. К Абды подошел Сержан и негромко сказал ему и Аскару:
— Если не идут, Базаралы велел притащить их силком. Хватайте старшину, а я возьму этого…
И он шагнул к Далбаю, схватил его за плечо и повернул к себе.
— Эй, послушай-ка!.. — начал было он, но Далбай, повернувшись, с бранью взмахнул плеткой.
Сержан ловко схватился за ее рукоять и дернул так сильно, что петля, обмотанная вокруг кисти Далбая, чуть не вырвала тому руки. Шабарман грохнулся лицом на землю.
Старшина Дуйсен, закричав, кинулся было на помощь к Далбаю, но сзади его схватил за ворот Абды и волоком потащил за собой. Сержан тем временем поставил на ноги ошеломленного Далбая и, взвалив его на плечо, понес к юрте Базаралы. Салмен, удивленный происшедшим и перепуганный, покорно пошел вслед за своим начальством, не ожидая, когда поволокут и его.
Базаралы не стал тратить много слов.
— Слышал я, какими волками вы накинулись на народ! Довольно! Нечего с вами толковать! Валите собак! — громко приказал он.
Абды и Сержан сильным пинком свалили к очагу старшину и шабармана.
— Сорвите с них чапаны! Заголите зады! — кричал Базаралы, выпрямившись на постели. Лицо его было бледно от гнева. — Хоть отомщу вам за всех насчастных! Возьмите их плетки, жигиты!
На сборщиков накинулись молодые жигиты, заполнившие юрту, быстро раздели их и уложили ничком. Абды и Сержан, засучив рукава и плюнув на ладони, взяли в руки тяжелые плетки, которыми еще недавно орудовали Далбай и Дуйсен, и, многозначительно показав их обоим, замахнулись.
Оба сборщика взвыли. Пытаясь вырваться, они молили Базаралы пощадить их.
Базаралы, подмигнув Абды и Сержану, продолжал кричать:
— Как расправиться мне с вами, собаками? Просто убить или запороть здесь? Кто вырвет вас из моих рук?
— Виноваты, каемся во всем! Только прости нас! — кричали оба вместе.
— Простить? А потом снова приедете в наш аул и опять будете отбирать коз и коров?
— Нет, нет! Пусть умрем гяурами, если сделаем это!..
— Как же я вас отпущу? Ведь вы начальству пожалуетесь?
— Нет! Даже не скажем, что вас видели, только пощади! Клянемся, не скажем!
— Дадите клятву не жаловаться? Если нет, загоним вас плетьми в могилу!
Дуйсен первым закричал, что готов поклясться хоть на коране. Далбай со слезами повторял за ним то же. Но Базаралы не спеша продолжал выпытывать.
— Ну, а если нарушите клятву и вернетесь с властями? Чем покарать вас?
— Не будет этого! Пусть проклятья на нас свалятся!
— Если завтра измените, послезавтра ночью вас зарежут в ваших же юртах, как баранов! Согласны?
— Если станем такими собаками, режьте!
— Тогда поклянитесь сейчас же на коране! Клянетесь?
— Да, согласны!
— Вы скажите своему начальству, что наш аул откочевал за Чингизские горы и вы не могли его догнать. Это раз. А во-вторых, вы и словом не обмолвитесь о том, что здесь было. Верно ли наше решение? — спросил Базаралы, обводя взглядом собравшихся в юрте.
Абды и Келден первые подтвердили:
— Верно! Пусть так будет!
Базаралы нарочито грозно спросил запуганных до смерти пленников:
— Клянетесь в этом на коране?
— Клянемся!
— Ну, тогда давайте сюда коран, — приказал Базаралы своим жигитам.
Абды улыбнулся во весь рот.
— А где в этом ауле ты найдешь коран? Но Базаралы сердито закричал на него:
— Как где? Что ты богохульничаешь? Подайте, вот он, на сундуке!
Сержан шагнул к стенке юрты, взял с сундука растрепанную толстую книгу и, посмотрев на нее, фыркнул. Это было переписанное по просьбе Базаралы собрание стихов Абая. Все в ауле знали эту книжку, по которой грамотеи читали абаевские слова.
Далбай первым потянулся к этой книге спасения.
Базаралы раскрыл книгу и поднес к его лицу.
— Поцелуй коран и повторяй за мной: «Если нарушу данное мною слово, пусть стану гяуром, пусть сдохну, не увидев ни жены, ни детей».
Старшина и посыльный жалобно повторили клятву.
Оба сдержали ее: никто не появлялся больше в ауле, не было и никакого расследования происшедшего события.
Но бедный люд на всех остальных жайляу стонал от злодейства. Вымогатели продолжали путь, творя свое гнусное дело.
Шайка облеченных властью воров достигла и стоянки иргизбаев. Грабеж начался с аулов Исхака и Такежана. Впереди всех двигались старшина Отеп, шабарманы Далбай и Жанкай, вместе с ними Сойкан, Кабан-гарин и пристав Кок-шолак. Сам же Никифоров, сопровождаемый Такежаном и Жиренше, ехал не спеша вслед за этой волчьей стаей.
В этих аулах она задержалась ненадолго. Вскоре она покинула их, прибавив к отобранному ранее скоту новый. Здесь оказалась и кобыла старика Жумыра, и все пять коз Канбака, и единственный жеребенок Токсана, и серая коровенка старухи Ийс. Как и везде, бедняки этих аулов с криком и воплями провожали свою скотину. Шла вместе с ними и старуха Ийс с обоими своими внуками.
Как раз к тому времени, когда это печальное шествие оставило аул Исхака, навстречу подскакали Дармен и Баймагамбет. Их послал сюда Абай узнать, что проделывают с народом приехавшие городские власти. Увидев Дармена, Ийс отчаянно закричала, умоляя о защите и показывая ему на внучат, которые цеплялись за угоняемую корову.
Дармену ничего не нужно было объяснять: еще со вчерашнего дня он знал о беде, постигшей бедняков. И, едва услышав отчаянный вопль старухи: «Дармен, родной, что со мной делают?» — он быстро спрыгнул с коня и кинулся с грозным криком к шабарману Далбаю:
— Отпусти корову, злодей!
— Не пущу! Прочь! — огрызнулся Далбай, замахиваясь плеткой.
Но Дармен, выхватив нож, резким взмахом перерезал аркан, на котором тот вел серую корову. Она сразу бросилась в сторону и, вскидывая задом, побежала обратно в аул. Отеп и Жакай, увидев это, разразились бешеной бранью, а Кабан-гарин подскакал к Дармену и хлеснул плеткой по голове. Кровь полилась по щеке юноши. Он попробовал ответить ударом своей плети, но не смог достать до лица писаря, сидевшего на коне. На Кабан-гарина в ярости кинулся Баймагамбет. Отеп и Жакай бросились на помощь и оттерли Баймагамбета от писаря. Тогда Баймагамбет хлестнул коня и во весь опор помчался в аул Абая.
Абдрахман давно уже наблюдал, как гнали отобранный скот. Крики Дармена и Далбая заставили Абиша поспешить к месту стычки. Увидев на лице Дармена темную струйку крови, он возмутился. Подбежав к Кабан-гарину, он схватил рукоять его плети и с такой силой рванул к себе, что не ожидавший этого писарь вылетел из седла. Вскочив, он кинулся на Абиша, но, увидев военную форму, остановился в беспомощной злобе.
Урядник Сойкан, заметив издали какую-то свалку, скакал уже сюда, ругаясь последними словами. По дороге он огрел плетью старуху Ийс, которая бежала в аул за своей коровой. Когда он поравнялся с Абишем, тот схватил его коня за поводья и резко остановил, крикнув по-русски:
— Что вы себе позволяете!
Неожиданно услышав русскую речь и увидев человека в военной форме, урядник на мгновенье растерялся. Но тут же он накинулся на Абиша:
— А кто вы такой? Что вам тут надо?
Крик писаря, зовущего на помощь, заставил его поскакать дальше.
Узнав от Баймагамбета об избиении Дармена, Абай сел на коня и прискакал сюда. Теперь вокруг места стычки собралась толпа. Подъехали и Никифоров с Такежаном и Жиренше. Подошли сюда и ограбленные люди, провожавшие свой скот. Увидев Абая, они закричали все разом. Проклятья, жалобы, гневные упреки властям раздавались со всех сторон.
Абай повернулся к Жиренше и к Такежану.
— Вы видите, как воспламеняется народ от этого зла? — сурово спросил он. — Начнется пожар — первыми попадете в огонь вы оба! Не надейтесь, что спасетесь. Убирайтесь сейчас же прочь отсюда! Говорить с властями буду я от имени народа!
Такежан и Жиренше, поняв, что Абай готов на все, струхнули. Видя, что они молча отъехали в сторону, заколебался и Никифоров. Обычно властный и решительный, на этот раз он чувствовал себя не очень уверенно. В этом грабеже и сам он был порядком замешан: урядник и писарь еще накануне доложили, сколько скота причитается ему самому, как главному начальнику. И мысль о том, что Абай, возможно, дознается до этого, заставляла его быть осторожным. Вдобавок крики бедняков, услышавших то, что Абай сказал баям, показали Никифорову, что положение становится серьезным. Ограбленные люди окружали его с угрожающими возгласами, смысл которых нетрудно было угадать. Поэтому он резким окриком удержал пристава и урядника от дальнейшей расправы.
Абай спокойно подъехал к Никифорову. Они были знакомы и раньше. Он посоветовал начальнику остановиться у Такежана на ночлег, разобраться в жалобах бедняков и заново распределить налоги по справедливости, не допуская насилия. И хотя все это, конечно, не могло понравиться Никифорову, но сейчас он был вынужден согласиться и отправился в аул Такежана.
Абай поехал вместе с Никифоровым. Едва он заговорил о том, что нынче под видом получения недоимок выколачивали с бедняков «черные сборы», как Никифоров, сделав вид, что слышит об этом впервые, распорядился снять эти поборы с неимущих и переложить их на богатых.
Поэтому множество людей из разных аулов утром получили свой скот обратно. Однако, вынужденно согласившись на это, Никифоров тотчас же после ухода Абая написал подробный донос на него и отправил с нарочным в город.
Несколько дней после этого Абай искал уединения. Оставаясь в юрте, он сидел над раскрытой книгой, но Айгерим отлично видела, что Абай не читает, а погружен в тяжелые, грустные думы. Заметила она и то, что за эти три дня Абай несколько раз брал в руки карандаш и бумагу. Видимо, рождались новые стихи.
Всегда чуткая и заботливая, Айгерим больше всего берегла Абая в то время, когда он сидел вот так возле нее, поглощенный своим любимым трудом. Чтобы не нарушать его уединения, она никого не пускала в юрту.
Все эти дни Абаем владели долгие тревожные размышления. По ночам, не находя покоя от тяжелых мыслей, он часто стонал. Утром он подымался на ноги раньше всех и надолго уходил из аула, бесцельно блуждая в одиночестве. С вечерней прогулки возвращался уже в поздние сумерки.
Бывало и раньше немало дней, когда его терзали горькие мысли. С приездом Абиша он как будто освободился на время от своих душевных мук. А теперь они овладели им снова. То печальной думой, то горькой грустью они вплетались в его стихи. Горе многих было его горем. Мысли его были о народе, о множестве людей, томящихся в невежестве, в нужде, в позорной кабале. То, что случилось в ауле Такежана и Исхака, оживило все эти думы.
Тяжелые бедствия, обрушившиеся на степную бедноту, не давали покоя и Абдрахману. И однажды, оставшись наедине с отцом, он заговорил об этом. Он рассказал, что русское крестьянство не примиряется с насилиями царской власти, — вот почему и происходят в России ежегодные и непрестанные крестьянские волнения. Хотя царские канцелярии и стараются скрыть правду от народа, но она повсюду выходит наружу, и в России весь необъятный мир людей труда охвачен духом борьбы.
— Старик Еремин рассказывал мне, что только за последние семь-восемь лет произошло более трехсот крестьянских возмущений в России, — продолжал Абдрахман. — Шестьдесят одну губернию охватили эти волнения. Начинается открытая война против насильников баев и против царизма. В Киевской, в Черниговской, в Полтавской губерниях крестьяне просто заявили, что отказываются платить налоги — такие же недоимки, что у нас взимались вчера. И когда вспомнишь об этом, невольно подумаешь, как быстро могли бы высохнуть слезы нашего казахского народа и превратиться в яростный гнев, если бы наша беднота действовала так же смело, как русские крестьяне. Для этого надо, чтобы во главе народа встал какой-нибудь отважный вожак! Но еще не пробудился для этого наш народ. Да и таких событий, которые могли бы пробудить его, у нас еще не было, — вздохнул он.
С жадным вниманием слушал сына Абай. И с горьким сожалением он подумал о том, что ему приходится жить в такое время, когда народ еще не готов к великой борьбе. Но его надо пробудить. Какие же силы придется найти в себе, чтобы поднять людей, просветить их? Откуда взять эти силы?
Своими раздумьями Абай обычно делился только с Ерболом. Так и сейчас, когда тот зашел к нему, Абай посадил его ближе к себе и впервые за эти дни заговорил о своих ранах:
— Тяжелые мысли терзают меня, Ербол.
Тот с жалостью посмотрел на друга:
— И верно, ты осунулся!..
Он долгим взглядом окинул Абая. Старый друг действительно похудел за эти дни. Лицо побледнело, вокруг глаз залегли заметные тени, дыхание стало прерывистым. Было видно, что он глубоко страдает.
— Это проклятое происшествие родило во мне большое горе.
— Не вспоминай о нем. Чего только не переговорили и мы в своих юртах! Но что же мучиться тебе? Ведь ты помог несчастным, многих вынул из петли!
Абай грустно покачал головой.
— Многих? Горсточку, которая оказалась рядом. А как же с остальными — с народом? Ведь не только на наше жайляу налетело это бедствие! Не только в нашей волости, не только в Тобыкты: над всей казахской степью стоит в эти дни тот же стон.
— Да, да… Если подумать обо всех, это, конечно, так…
— А ведь это народ наш, казахский народ! Бедствие общее. А чем я ему помог?
Абай замолчал. Глаза его болезненно расширились, он устремил вперед неподвижный взгляд.
— С юных лет мы старались бороться со злом, какого бы рода оно ни было. И кого мы победили? Где плоды перенесенных мук? Нашел ли я путь для своего народа? Я даже для себя как следует не определил его… «Мечты по-прежнему вдали, жизнь коротка…» — вспомнил он строку стихов, написанных им когда-то в дни такого же тяжелого раздумья.
Ербол знал это стихотворение.
В скитаниях я одинок, Нет друга, нет счастья ни в ком,—продолжал он стихи и спросил — Неужели так не радует тебя жизнь?
— Дни проходят за днями, а обновления мира все нет. Беды точат мой народ, как черви. Вся степь — в позоре, в слезах, в собачьем бесправье. Волчьей стаей наскакивают на нее насильники, вражескими набегами обрушиваются правители. Что обвинять городские власти? Одним из виновников вчерашних слез, обильных, как море, и проклятий был волостной управитель. А ведь это мой родной брат Оспан! Не значит ли это, что зло, причиненное народу, исходит и от меня? Что оно сыплется из моих карманов, из-за голенища, что сам я — носитель зла?..
Как раз в это время в юрту вошел Оспан, за которым Абай посылал с утра. Он весело поздоровался, но не получил ответа на приветствие, и не успел сесть, как Абай взволнованно обратился к нему.
— Э, Оспан! Где ты там ездишь, когда волость твою грабят враги?
— Астапыр-алла! Господи помилуй! Про каких врагов ты говоришь?
— А кто же, если не враги, напал на нашу бедноту? Где же ты был?
— Я проводил волостной съезд у сактогалаков.
— Неужели для тебя мало твоего скота? Зачем ты польстился на волчью долю — на «черные сборы»?
— Ойбай, что ты говоришь? Ведь я же не для себя их разрешил!
— Разве мало берут с народа царского налога и недоимок? А тут еще и эти «черные сборы»—для волостного, для биев, для старшин, для писарей и посыльных! Не хочешь ли ты солгать мне, будто не знал, на кого они идут?
Оспан затрепетал всем своим огромным телом, как будто стоял не перед братом, а перед грозным начальством.
Конечно, Никифоров, прибыв для сбора недоимок, обратился прежде всего к Оспану, как к волостному управителю, требуя, чтобы налоги были собраны немедленно. Помня, как бедствовал народ при подобных сборах, Оспан заколебался. Тогда Никифоров прибегнул к угрозам:
— Как видно, управитель из тебя вышел плохой: за все это время ты не смог собрать даже налогов для царя! Что же, придется сообщить об этом губернатору! Ты не только потеряешь место, а еще под суд пойдешь за то, что вредишь царской казне! Еще есть время — собери полностью налоги, тогда посмотрим!
И Оспан приказал своим старшинам и шабарманам выколотить у населения любыми способами не только недоимки, но и «черные сборы». Впрочем, Такежан, сжалившись над ним, дал ему хитроумный совет.
— Зачем ты будешь заниматься делом, которое тебе не по душе? В отсутствие волостного его заменяет бий первого аула. Поезжай-ка ты куда-нибудь подальше — скажем, в Сактогалак, — проведи там волостной съезд, а я останусь с властями. Жиренше поможет мне собрать налоги, он ведь тоже бий.
Оспан, ухватившись за это, уехал и все это время, когда в здешних аулах бесчинствовали такежановские прихвостни, отсиживался вдали. Но сказать Абаю по правде, как все это было, он не решился и смущенно забормотал:
— Но я же никогда раньше не бывал управителем!.. Мне говорили, что так делали все волостные… Ну, я и разрешил…
— И хотел слопать сам свою долю?
— Да я же не для себя, ойбай! — оправдывался Оспан. — Откуда я знал, что натворят эти собаки?
— Ругай не их, а себя! — прикрикнул на него Абай.
— Ну не кричи! Скажи лучше: чем я смою свою вину? Дай совет! Кого прикажешь мне наказать?
— Накажи не бедноту, а сильных. Взыщи с них народные долги!
— А кто они? С кого мне взыскивать?
— С кого? Начни с себя, с меня, с Такежана. Все мы обязаны беднякам, батракам, взыщи с нас их долю, возьми и долю сирот и старух. Будь хоть ты честным человеком! Разве мало в народе людей, обиженных, обокраденных сильными? Накажи разбогатевших воров и насильников!
— Каким же образом?
— Ты проводишь родовые съезды по волости — преврати их в суды, карающие этих насильников.
— Вот это совет! — обрадовался Оспан. — А то схватил меня за шиворот, завертел, закрутил, а толком ничего не сказал! Теперь я так и вижу всех этих злодеев! Погоди еще, посмотришь, что с ними будет! Оспан не станет дрожать и цепляться за чин волостного. Пусть меня потом снимут, зато добрые люди скажут: «Бедняга всю свою силу приложил, чтобы покарать тех, кто грабит народ»! А из этих-то сильных я уж выберу и самых жирных, нетронутых. Поглядите еще, как я на них обрушусь!
Абай смотрел теперь на брата уже другим, мягким и ласковым взглядом. Оспан, казалось, действительно был готов сейчас же исполнить обещанное.
— Ну что же! Исполни это на деле. Дай мне порадоваться, что мы с тобой родились от одной матери. А если тебя скинут с должности, не беда. Зато станешь на путь, достойный честного человека.
— Не о чем теперь говорить. Посмотришь, что будет! — И Оспан, как бы не желая ждать других советов, быстро вышел из юрты.
ГОРЕЧЬ
1
Абай посоветовал Абишу и его друзьям осмотреть древние могилы у пещеры Конур-Аулие — «Святой Конур», а по пути побывать в знакомых аулах. Утром у коновязи, протянутой между юртами Абая и Магаша, стояли оседланные кони.
По совету Абая Абиш не носил в ауле ни форменной фуражки, ни шинели, но с белой юнкерской гимнастеркой и с лакированными сапогами, на каблуках которых позвякивали небольшие сверкающие шпоры, он расстаться никак не мог. Сейчас он накинул поверх своей формы просторный и легкий серебристый чапан с широким бархатным коричневым воротником, а на голову надел крытый алым тонким шелком малахай.
Жигиты вскочили в седла. Абдрахман сел на своего буланого, подскакал к Магашу и двинулся вместе с ним впереди кучки всадников. Сзади ехали Дармен, Кокпай, Какитай и Альмагамбет.
За аулом жигиты пустили коней быстрой рысью. Выехали они поздно, около полудня. Часа два ехали по холмистой местности, богатой травами и ручейками. Потом начались каменистые холмы, поросшие можжевельником. Поднявшись на один из них, всадники увидели перед собой широкую долину, на которой раскинулся большой аул.
Путники невольно остановились, разглядывая открывшуюся перед ними картину. Кони их, почуяв пасущиеся возле аула табуны, насторожились и заиграли под всадниками; более молодые, еще не отвыкшие от косяка, радостно заржали.
С холма аул хорошо был виден. Это был необычный аул. Главной его особенностью было то, что в центре стояло множество больших белых юрт, как будто здесь расположился не один аул, а сразу несколько. Обычно в ауле белых юрт бывает две-три. За ними стоят более скромные — из серого или темного войлока, дальше тянутся бедные юрты и, наконец, шалаши и лачуги. Здесь же ветхих и бедных юрт было очень мало, они стояли на отлете, и не на одном, а на обоих концах аула. В середине же, почти касаясь друг друга, сгрудились большие, многостворчатые юрты, соперничающие друг с другом своей белизной. Казалось, что все они покрыты совсем новыми белыми кошмами.
Подъехав ближе, путники убедились, что попали в очень гостеприимный аул. У коновязей, протянутых между юртами, стояло много оседланных лошадей. Видимо, их владельцев хозяева развели по разным юртам, угощая кумысом или обедом.
Лишь теперь, когда они въехали в аул, Дармен повернулся в седле и негромко сказал Абишу:
— Это аул татарина Махмуда. Здесь живет та самая Магрифа, о которой говорила вам Дильда-апа, — с улыбкой добавил он, хитро посматривая на друга.
Тот вспыхнул и ничего не ответил.
Вся эта затея была придумана самим Дарменом. Он подсказал Абаю мысль о поездке в Конур-Аулие, зная, что им не миновать аула Махмуда, разыскал там своего приятеля — весельчака и острослова Утегельды — и договорился с ним, что тот поможет устроить встречу Абиша и Магрифы.
— Не уезжай никуда на той неделе; вероятно, мы заедем с Абишем, — попросил он. — У вас столько юрт, что Магрифы и не разыскать. А мы сделаем так: когда увидишь нас, останови где нужно. Хорошо было бы, чтоб ты подговорил хозяев оставить нас ночевать. Тогда устроим вечеринку, вот Абиш с Магрифой и повидаются. Прошу тебя, помоги, доброе дело сделаем! Магрифу я как-то видел и скажу, что ни у одного казаха во всей степи нет такой дочери! Но зато и пары для нее у казахов не найдешь. Ее достоин один лишь только Абиш.
Услышав это, Утегельды тут же стал изображать сплетницу-женге, охраняющую честь аула невесты: он скорчил лицо, сощурился и, шамкая, затараторил:
— Фу, дорогой мой, что ты там несешь? Кто это достоин нашей Магрифы? Абаев сынок? Да ему на нашу Магрифу только молиться можно! Она же у нас небесное создание, красавица, чистая, белолицая! Нашел кого сватать! Да я тебя перед всеми высмею, за ноги в огонь стащу вместе с таким женихом!
Однако всем сердцем сочувствуя другу, Утегельды обещал ему всяческую помощь.
Как только всадники подъехали к центру аула, Утегельды, поджидавший их с утра, оказался как бы случайно возле самой большой, восьмистворчатой юрты среди пяти-шести рослых и статных, нарядно одетых мужчин. Завидев его, Дармен, ехавший вместе с Абишем несколько впереди остальных, сразу повернул к этой юрте. И здесь оказалось, что они попали прямо к хозяевам аула.
Едва они обменялись приветствиями, расторопные жигиты подхватили поводья их коней, помогли гостям спешиться и повели в большую юрту. По дороге Утегельды отвел в сторону Дармена и, снова изображая старую сваху, зашептал, шамкая и пришепетывая:
— Э-э, деверь мой дорогой, ты, я вижу, крепко взялся за дело! Только вот беда: жениха-то ты привез, а невеста наша ясноокая нынче в гости уехала.
— Ты не шутишь? — испугался Дармен, сбитый с толку ужимками Утегельды.
Но, оказалось, тот говорил правду. Дармен взмолился:
— В таком случае вызови ее как-нибудь поскорее домой! Придумай что-нибудь.
Гостей посадили на почетном месте в Большой юрте, а хозяева расположились по сторонам.
Здесь сидели трое сыновей покойного Махмуда, родоначальника аула. Ближе к гостям расположился старший — представительный и полный Жакып; за ним — Муса, тоже плотный и высокий мужчина, с широким белым лицом и большими черными глазами под темными бровями; еще дальше — самый младший, хозяин Большой юрты, румяный красавец Мусабай, молодой коренастый жигит среднего роста. Здесь же сидел их племянник Нуртаза, очень похожий на Мусабая юноша, с такими же большими глазами и крупным носом.
В юрте тотчас появилась миска с кумысом; хозяева, медленно перебалтывая его, начали наливать пиалы и подавать гостям, приветливо улыбаясь. Разговор становился все более оживленным.
Абиш сидел молча. Его положение молодого жигита, который мог стать вскоре женихом в этом ауле, обязывало к особенной сдержанности и учтивости.
Вернулись Дармен и Альмагамбет, которые выходили, чтобы стреножить коней и пустить их на траву.
— Там, за юртами, режут жирного жеребенка, — сообщил Дармен.
— Теперь уж ясно, что нас и ночевать оставят, — добавил Альмагамбет.
Всеми действиями хозяев руководил сейчас Утегельды. Когда Мусабай после чая вышел из юрты вместе с Жакыпом, Утегельды, идя рядом с ними, сказал как бы невзначай:
— А кстати появились гости! Давно уж мы не веселились. Если вы их оставите ночевать, не соберем ли мы молодежь?
Жакып уже шел к себе домой, но поддержал жигита:
— Правильно сказано, повеселиться не мешает! Утегельды тут же сообщил, что Абиш искусный скрипач, и предложил, послать кого-нибудь в аул Шубара за скрипкой. Скрипку можно было найти и в других аулах, но Утегельды думал не только о музыке: жена Мусабая и ее племянница Магрифа уехали именно туда.
Мусабай, не имевший сам способностей к какому-нибудь искусству, очень ценил острословов, шутников, хороших рассказчиков; такие люди жили в его ауле круглый год. Утегельды был его любимцем. Мусабай охотно согласился с его предложением и, подозвав брата Утегельды, велел ему тотчас ехать в аул Шубара. Утегельды пошел вслед за братом, чтобы помочь ему оседлать коня, и, оставшись с ним наедине, поручил ему передать с глазу на глаз жене Мусабая, чтобы она с Магрифой поторопилась вернуться, потому что их ждут важные гости.
Таким образом, в аул скоро была доставлена скрипка, а жена Мусабая вместе с Магрифой и другими сопровождающими ее девушками и молодыми женге вернулась домой. Однако сама Магрифа перед гостями не появилась: она проехала прямо к юрте своего отца, стоявшей в стороне. Румяная, круглолицая, очень похожая на своего брата Азимбая, жена Мусабая приветливо поздоровалась с гостями.
Из аула, где для гостей зарезали жеребенка, скоро не уедешь. Когда гости вышли на воздух освежиться, у коновязи не было ни одного их коня: все были отправлены пастись в ночное, а седла лежали в соседней юрте.
Теперь гостям было уже ясно, что их оставляют ночевать. Ясно было и другое: вечером их ожидает веселье. С наступлением сумерек, когда загнали скот и аул по-вечернему затих, из юрты Мусабая понеслись певучие звуки скрипки. Этим как бы открывалась вечеринка. Жигиты, прислуживавшие гостям, побежали по соседним юртам сзывать людей, хозяйка послала за молодыми невестками и золовками. Магрифу она пригласила отдельно от имени своего мужа.
Юрта быстро наполнялась людьми. Играл на скрипке Абиш. Сидя играть он не любил, но, опасаясь, что, если будет играть стоя, это может показаться хозяевам странным, играл, присев на высокую кровать, стоявшую справа от входа.
Скоро у дверей юрты послышалось позванивание шолпы,[29] тихие женские голоса и сдержанный смех. Дармен, Магаш и Утегельды с нетерпением посматривали на дверь, ожидая появления Магрифы. Но ее долго не было. Абиш сыграл уже несколько вальсов и начал какой-то веселый марш.
Наконец в юрту, теснясь и перешептываясь, ввалилась толпа подростков. Все они были белолицы, румяны, с большими глазами, с правильными чертами лица, хорошо сложены. За ними в юрту вошло несколько девушек.
Впереди шла высокая, статная красавица. Густые темные брови, черные волосы, собранные в две тяжелые длинные косы, подчеркивали удивительную белизну ее лица. Большие серые глаза смотрели открыто и спокойно, круглый белоснежный подбородок плавной линией переходил в стройную шею. Тонкие изящные пальцы были как бы выточены искусным мастером.
Каждая из вошедших девушек была привлекательна, но особенно красива была та, что шла впереди других. Это и была Магрифа.
Когда девушки показались в юрте, Абиш прекратил игру и опустил скрипку в знак почтительного восхищения. Слегка покраснев, он склонил голову, приветствуя вошедших. Мусабай, его жена, Нуртаза, Утегельды и другие хозяева поднялись, давая дорогу к почетному месту.
Магрифа, видимо, не ожидала встретить в юрте столько незнакомых гостей: по ее лицу медленно разливался румянец, алые губы дрогнули в смущенной улыбке, открывая ровный ряд белых зубов. Неторопливой, плавной походкой она прошла через юрту под тихий, певучий перезвон позолоченного шолпы и села возле Мусабая. Другие девушки, как младшие, сели по сторонам, ниже Нуртазы и Мусабая.
Вслед за девушками в юрту вошли старшие женге и, наконец, матери. Гости потеснились на почетном месте, усаживая их. В белых кимешеках,[30] окаймленных позументом, полнолицые, чернобровые, статные, они невольно привлекали взгляд гостей. Магаш усмехнулся про себя: «Зоркий глаз у этих татарских купцов! Сумели ведь найти в степи самое лучшее — красивейших казахских девушек!»
Когда вошедшие старшие женщины обменялись с гостями приветствиями и наконец уселись, Утегельды шутливо заговорил:
— Что такое случилось? Так хорошо мы тут сидели, слушали музыку. А сейчас все притихли, смутились. Даже скрипка замолчала! Неужели наши байбише так всех напугали?
И он с преувеличенным испугом посмотрел на младшую жену Мусы — полную, цветущую Турай.
— Не будь таким трусливым, милый Утеш, — сверкнув зубами в улыбке, ответила та. — А самое главное, пусть не пугается скрипка, мы ведь для того и пришли, чтобы послушать ее чудные звуки! Кто из вас заставил встрепенуться весь аул? Не ты ли это, дорогой Абиш? Тогда сыграй, пожалуйста, еще, милый брат!
Этот шутливый, дружеский ее тон объяснялся тем, что к гостям она могла относиться как к родичам: она сама была из тобыктинского рода Торгай.
Утегельды тут же подхватил ее слова:
— Ну и отлично! Раз наши байбише сами просят, будем продолжать веселье, дети! Начнем сладкозвучные песни сначала! — И, присев на корточки, он взглянул на Абиша и начал быстро водить в воздухе рукой, изображая игру на скрипке.
Забавный вид его вызвал общий смех, и некоторое смущение, вызванное приходом старших, рассеялось. Все повернулись к Абишу. Тот, объяснив, что в большом обществе на скрипке играть удобнее стоя, отошел от кровати, стал посередине юрты, прямо против Магрифы, и скрипка снова запела в его руках. На этот раз она звучала особенно взволнованно и проникновенно.
Игра его поразила всех. Его слушали с напряженным вниманием, соблюдая полную тишину, которую нарушали только восторженное почмокивание губами и невольные вздохи восхищения. Когда же, сыграв пьесу, Абиш остановился передохнуть, старшие матери и пожилые мужчины выразили свое одобрение вслух:
— Живи долго, дорогой!
— Какое искусство!
— Да, вот как надо играть!
А подростки, девушки и молоденькие женге перешептывались, усмехались и не сводили с Абиша зачарованных взглядов.
В один из перерывов Магаш шутливо сказал Абишу:
— Что-то, я замечаю, сегодня наш музыкант играет с особенным вдохновением…
Абиш смутился.
Подчиняясь общим настойчивым просьбам, юноша подтянул смычок и, настроив скрипку, заиграл новые пьесы. До этого он играл плавные, широкие мелодии, а сейчас снова перешел на танцевальные: веселые, легкие, понятные большинству слушателей. Быстрый их темп и постоянно меняющийся ритм оживили и самого Абиша. В этой юрте он казался каким-то особенным человеком, непохожим на других. Короткие темные волосы, гладко зачесанные назад, открывали обширный лоб. Прямой нос, хорошо очерченные губы, тонкие, как у Абая, брови, живые черные глаза делали Абиша самым красивым жигитом в семье. Он был высок и строен, но благодаря неширокой кости казался хрупким. Длинные белые его пальцы быстро летали по струнам, но в движениях их не чувствовалось никакого напряжения, самые сложные места он исполнял легко, изящно. Каждый раз, когда он заканчивал какую-нибудь пьесу, слушатели обменивались короткими одобрительными замечаниями.
Играя, Абиш то и дело поглядывал на Магрифу, сидевшую против него. Его поразила ее удивительная красота, в особенности выразительная прелесть ее больших серых глаз. Лицо Абиша то вспыхивало румянцем, то вдруг бледнело.
Сидевший рядом с Магрифой Дармен спросил девушку:
— Хорошая музыка?
Магрифа с улыбкой кивнула головой, прозвенев серьгами и подвесками шолпы.
Заметив, что, как только Абиш начинает играть, Магрифа не сводит с него взгляда, Дармен, улыбаясь, спросил ее:
— А жигит?
Магрифа живо повернулась к нему. Лицо ее вспыхнуло, брови чуть дрогнули. Дармен понял, что вопрос его смутил девушку и что ответа никакого не будет. Он приложил руку к сердцу и несколько раз поклонился с извиняющимся видом. Магрифа чуть нахмурилась и отвернулась, стараясь не смотреть больше на Абиша. Ей никогда еще не приходилось делиться с кем-нибудь своими чувствами, и этот прямой вопрос заставил красавицу смутиться и пугливо замкнуться в себе. Она была так взволнована, что и не заметила, как Абиш начал играть казахские мелодии.
Когда он звучно, широко, с мастерством стал исполнять «Бурылтай», появившуюся не так давно, Альмагамбет стал рядом с ним и запел во весь полос. Это сочетание игры превосходного скрипача и пения молодого талантивого певца, исполнявших всем понятную казахскую песню, особенно понравилось слушателям. Все были поражены новым видом искусства. По их просьбе Абиш и Альмагамбет исполнили еще несколько казахских песен, и наконец Мусабай попросил спеть какие-нибудь песни Абая. Альмагамбет начал «Письмо Татьяны».
Когда пение закончилось, Дармен снова спросил девушку:
— Вы знаете эту песню?
— Да, — ответила она и добавила — Это — письмо Татьяны к Онегину. Перевел Абай-ага. Я все его песни знаю.
Игра не мешала Абишу почти не отрывать взгляда от Магрифы. Он с улыбкой наблюдал, как Дармен разговаривает с ней, и, словно отбивая такт, одобрительно кивал ему головой.
Наконец Абиш положил скрипку. Все собравшиеся стали благодарить его.
— На славу потрудился наш гость. Спасибо, дорогой мой, что по-родственному оказал нам уважение! — с удовлетворением сказала Турай.
Поблагодарила его и мать Магрифы, представительная байбише, с красивым лицом, поражающим своей белизной. Мусабай пригласил юношу сесть рядом с собой:
— Садитесь тут, Абиш. Нам-то вы доставили большое удовольствие, а сами, наверно, устали. Отдохните.
Магрифа, которой такое внимание дяди к гостю было приятно, потеснилась, чтобы дать Абишу сесть рядом с Мусабаем. Но юноша поспешно остановил ее.
— Не беспокойтесь, спасибо! Я могу сесть и с этой стороны.
Подняв на него серые глаза, Магрифа подвинулась в сторону Мусабая, освобождая Абишу место рядом с собой. На ее алых губах играла приветливая улыбка. Была ли она выражением простой благодарности или в ней сказывалось искреннее расположение к нему, Абиш не понял, но от этой улыбки и от взгляда девушки на него так и повеяло теплом. Побледнев от волнения, он сел, даже не обратив внимания на дружеское приветствие Дармена.
Песни и веселье в юрте Мусабая, продолжались всю ночь. Поклонники искусства разошлись только перед рассветом.
Перед сном гости вышли прогуляться. Дармен, проводив немного Абиша, сел на камни у берега реки, заявив, что устал.
Юноша перешел вброд реку и, не торопясь, пошел по берегу мимо тальника и низкорослых тополей. Неширокая река текла спокойно и медленно, отражая светлеющее небо. Вдоль берега тянулись холмы, а по ту сторону рядами, как на ярмарке, выстроились многочисленные юрты необычно поставленного аула. Собаки, уставшие к утру и растянувшиеся где попало, лишь изредка подавали ленивый голос. Доносилось блеяние козлят и ягнят, которых уже разбудил рассвет.
Но эти голоса пробуждающейся жизни не доходили до сознания Абиша. Он чувствовал, как что-то новое, не испытанное до сих пор, наполняло душу. Что это было? Не надежда, даже еще не мечта. Чувство, которому он не мог найти названия, еще не осознанное, но уже неизгладимое… Он шел, глядя на реку, но не видя перед собой ничего. В глазах его неотступно стояла Магрифа, ее белое лицо, темные косы, близко, совсем рядом мелькали длинные точеные пальцы, сияли лучистые серые глаза, дрожали в улыбке алые губы. И все время звучал в ушах негромкий, мелодичный, пленительный голос…
В душе его шла жестокая борьба.
Остановись! Где твоя сила воли? Еще о многом надо подумать и многое узнать… Что думает она? Вспыхнуло ли в ней такое же чувство, как в нем? И что это за чувство? Серьезно ли оно, или это простое увлечение? Родные давно все решили, но что решит он сам? И прежде всего и важнее всего: жениться ли ему вообще?
Абдрахман привык обдумывать каждый свой шаг и умел находить правильный выход. Но эти вопросы казались ему неразрешимыми. Самым сложным вопросом был последний. И никто не мог помочь ему найти ответ.
Тем, что его мучило, Абиш не поделился ни с одним человеком в своем родном ауле. Это была печальная тайна, которую он нес в себе самом, горе, заставлявшее его часто задумываться о своей судьбе, несчастье, обрушившееся на его молодую жизнь, полную радужных надежд.
Нынче весной он впервые почувствовал недуг, гнездившийся в его теле. Не говоря никому ни слова, он показался известному петербургскому врачу. Тот нашел, что у юноши затронуты легкие. Туберкулез может вспыхнуть в любой момент. Врач запретил ему спиртные напитки, курение и сам заговорил о женитьбе: по его мнению, с этим нужно было подождать. «В вашем возрасте при таком состоянии здоровья это гибельно для вас. А если туберкулез вспыхнет, вы можете передать болезнь жене», — сказал он.
Печальная мысль о болезни не давала Абишу покоя.
«Нет, нет! Это невозможно. Решать надо сразу. Счастье с ней мне не суждено», — твердил он про себя.
Решительно повернувшись, он быстро пошел к аулу.
— Пойдем спать, Дармен, — коротко бросил он другу, перейдя реку и направляясь к отведенной им юрте.
На другой день гости проснулись поздно и покинули аул только после завтрака, от которого не могли отказаться.
То рысью, то вскачь они, обгоняя друг друга, к вечеру доехали до многоводного озера. На берегу его виднелись белые юрты богатых аулов, вокруг паслось множество табунов и стад. Абиш, ехавший впереди с Магашем, предложил повернуть в аул, чтобы попить кумыса.
Магаш отрицательно покачал головой.
— Нет, Абиш-ага! Хотя и меня мучит жажда, но заезжать сюда не надо. Это озеро называется Карасу Есполата, и тут стоят аулы Уразбая.
Они проехали по окраине аула, мимо длинного жели,[31] где были привязаны пять-шесть десятков жеребят. Когда юрты остались позади, Магаш заговорил о распрях и раздорах, происходивших этим летом.
— Было бы полбеды, если бы наши аткаминеры и воротилы враждовали только между собой, — говорил он. — Пусть бы грызли друг друга! Но всякая распря, которую они затевают, втягивает и бедняков. Как бы ни старались те держаться в стороне, все ложится на них. Вот это и мучает отца, заставляет его болеть душой за народ, терзаемый чужими распрями. Поэтому-то он и вмешивается сам в дела аткаминеров.
И Магаш, видя, что брат плохо разбирается в том, что происходит, начал подробно рассказывать ему об интригах, которые велись против Абая.
— Уразбай, мимо аула которого мы проехали, давно уже ненавидит нашего отца. Да и не только его! Он ненавидит всех детей Кунанбая. Когда Такежан в одну ночь лишился своих табунов, все наши иргизбаи были убеждены, что жигитеков исподтишка натравил на это дело сам Уразбай, а потом он попросту предал их. Теперь, когда спор уже забылся, ему опять неспокойно. Он и Жиренше снова готовят беду на наши головы. Это его так занимает, что ему и еда на ум не идет! Ну, пусть бы враждовал с Такежаном, который, как и он сам, готов на всякое злое дело. Но он считает, что с Такежаном уже расправился, проучил его, уничтожив табуны. Теперь он желает разделаться и с отцом, против которого у него давно кипит злоба. Впрочем, и Оспана-ага он также ненавидит. Никак не может простить, что тот не дал ему перебраться в другую волость: когда Оспан-ага стал волостным вместо Кунту, он сразу разгадал замысел Уразбая. Я рассказываю вам все откровенно, Абиш-ага, чтобы вы поняли, что происходит.
Абиш сказал, что он именно этого и хочет, и Магаш продолжал объяснять ему сложные переплетения здешних взаимоотношений, заставляя брата и удивляться и негодовать.
— Уйди Уразбай в другую волость, он, может быть, вступил бы на путь открытой борьбы. Но, оставшись здесь, он действует скрытно. С одной стороны, по-прежнему крепко держит в руках своих союзников, вроде Жиренше и Абралы, с другой — прилагает все силы, чтобы свалить кунанбаевцев, вызвав распри между ними. Теперь он надеется на Такежана. После набега Базаралы Такежан обиделся на отца: почему, мол, не стал на его сторону, почему не дал снова послать на каторгу Базаралы? Но тогда Такежан был во вражде с Уразбаем, подозревал, что набег устроен им, и тот не мог науськать Такежана на отца. А теперь он добился того, что Такежан готов втайне помириться с ним. Если Уразбаю удастся привлечь на свою сторону Такежана, он натравит его не на Оспана-ага, а на отца. И Уразбай и Жиренше ненавидят отца с давних пор. Это они говорят о том, что Абай совращает народ с пути предков, хочет сделать русскими и нынешний народ и будущее потомство. Но как ни ненавидят они все русское, а перед русскими властями лебезят, пишут им доносы на отца, мечтают с их же помощью посадить его в тюрьму или сослать.
И Магаш, удивляя брата ясностью суждений, продолжал объяснять ему, что представляют собой Такежан и Уразбай. Хотя они и объединились сейчас против Абая, но цели их и расчеты разные.
Для Такежана главное — власть. Он полагает, что вся власть в степи должна быть в руках у него, как у наследника ага-султана. Он не желает делить ее ни с кем, считая, что он и есть избранная богом власть, которой никто не смеет прекословить. Смилостивится — облагодетельствует, а разгневается — покарает. И если кто противится этому — пусть это будет кровный родич, самый близкий человек, — это заклятый враг. А всякий, кто согласен поддерживать его, — самый близкий человек. И поэтому для Такежана нет беды в том, что он разошелся с Абаем и стакнулся с Уразбаем.
Уразбай же совсем не собирается брать власть в свои руки. Не нужно ему, ни чинов, ни султанства, ни почета. Его цель другая — стать самой важной, самой главной опорой для власти, но зато хватать все, что ему надобно. Если ему на пользу русские власти, он с ними; если ему нужнее грабители и воры, он и тех поддержит. Такой хищник совсем не разбирается в пище: ему все равно, что глотать, лишь бы глотать. Важно лишь одно — добывать богатство. И, по правде говоря, сейчас Уразбай действительно самый богатый человек в степи. Пусть кто-нибудь попробует сказать о нем правду — сразу попадет и в вероотступники, в предатели всего степного народа, тут уж Уразбай не пощадит никого, обрушится на него со всей силой.
— А вместе с тем ни Такежан, ни Уразбай никогда не решатся на открытую борьбу на съезде или на суде. Они знают, что Абай-ага разоблачит перед народом их грязные мысли, темные дела. Эти злодеи, нажившие богатство преступлениями, сеющие вокруг себя раздор, ненавидят отца за ту правду, которую он говорит в стихах, как защитник народа. Они завидуют его влиянию, которое все растет во всем Тобыкты. Они твердят и другим аткаминерам и городскому начальству: «Абай — злодей, Абай — бунтарь. Это самый опасный враг наш. Пока мы не уничтожим его, никому из нас не будет житья». И сами клевещут и бесчисленных клеветников натравливают на отца. В такой вражде Такежан для Уразбая очень важен. Среди сыновей Кунанбая он старший, имеет на других влияние, сам не брезгает никакими средствами, не боится никаких преступлений. Вот Уразбай и стремится привлечь его на свою сторону. А добиться этого очень просто: надо только послать ему и Азимбаю побольше скота! Так Уразбай и делает: просит просватать за одного из его внуков недавно родившуюся внучку Такежана и обещает каргибау,[32] — сотню молодых необъезженных коней. И вот выходит, что Такежан готов предать родного брата! — взволнованно закончил Магаш. Абиш нахмурился и покачал головой.
— Мерзкие козни. А как смотрит на это Оспан-ага?
— Он человек упрямый, своенравный, схватит кого — из рук не вырвешь, укусит — пол-ляжки оторвет, — усмехнулся Магаш. — Но прямой, открытый. Он, наверно, и мысли не допускает, что Такежан может продать свою честь и изменить братьям… А Уразбая он крепко держит в руках: бумаг ему не выдает, из волости не отпускает, спутал, как арканом. Конечно, он видит, что Уразбай перетягивает Такежана к себе. Я как-то слышал от него, что он хочет уничтожить Уразбая до того, как тот успеет помириться с Такежаном. Правда, он тоже сын Кунанбая и аткаминер, тоже не прочь оплести других сетью, недаром сумел волостным стать, чего скрывать, хоть он нам дядя! А ведь известно, что такое управитель: немало обид и тягот терпят от него люди победнее. Но, к чести его сказать, он не таков, как другие аткаминеры, порой готов и на добро. Вот я и думаю, что Уразбая он проучит.
Магаш был близок к истине. Оспан действительно задумал взяться за Уразбая как следует. Пользуясь своей властью волостного, он решил собрать биев, старейшин и елюбасы всей волости на съезд для разбора множества жалоб, поступивших к нему на Уразбая, который, подобно другим богачам и воротилам, создавал свое богатство откровенным грабежом. Конокрады, работавшие на него, за эти годы пригнали ему около тысячи голов от соседних племен: Сыбана, Уака, Керея, Буры, Каракесека. Все жалобы потерпевших оставались без последствий: ни один волостной не рисковал привлечь Уразбая к ответственности. Оспан был первым, кто решился на это.
Волостной съезд должен был состояться в ауле самого Уразбая, у Есполатовского озера. Должны были сойтись аткаминеры всех родов Чингизской волости и представители соседних племен, приехавшие с жалобами и требующие возвращения скота. Уразбай, предвидя, что будет на съезде, уехал в город и отсиживался там.
— Вот так они и стараются перехитрить друг друга! — с горечью продолжал Магаш. — Вражда их подобна созревшему, готовому лопнуть гнойнику: того и гляди прорвется. Оспан-ага — человек смелый и жестокий, он может решиться на крупное дело. Но беда в том, что его дубинка другим концом ударит опять-таки по нашему отцу. В случае столкновения с Оспаном Уразбай обвинит во всем отца, скажет, как всегда: «Это — дело рук Абая, он подговорил Оспана, а сам прячется за его спиной…»
Магаш тяжело вздохнул.
— Теперь вы видите, в каких условиях живет наш отец, Абиш-ага. Круглый год кипит вражда — то затухает, то разгорается и все время мучает его. Ведь отец не слепой и не глухой: он не может не видеть и не слышать всего этого, — значит, не может и не отзываться сердцем… Вот они, аткаминеры! Родство у них подобно родству в стае ворон. Трудная, сложная жизнь в нашей степи. Вспыхнет пожар в одном конце — дойдет и до другого. Начнется болезнь — переберет всех до одного. Мы, молодежь, окружаем отца тесным кольцом, защищаем своими телами, пытаемся не допустить до него врагов. Мы готовы сделать все, чтобы оградить его от бед и несчастий. Пусть занимается он своим благородным трудом. Но нас маленькая горсточка… А злодеев, сеющих вокруг себя раздор, бесчисленное множество; они — как густой сосновый бор… Вот какие дела у нас в ауле, Абиш-ага, — печально закончил Магаш.
Абиш слушал взволнованный рассказ брата с глубокой горечью и негодованием.
— Да, как это ни трудно, каких бы жертв это ни требовало, надо оберегать труд отца, — сказал он после долгого раздумья. — Сочувствовать, жаловаться, даже страдать за другого — это не значит еще помогать. Надо бороться смело и открыто до тех пор, пока не уничтожим эту вражду. Правда на нашей стороне. Справедливость и добро с нами.
Солнце уже садилось. Путники приближались к аулу, где было намечено ночевать. Перевалив Чингиз, они спустились к реке Шаган и поехали по ее берегу, местами покрытому сочной травой, местами вздымающемуся меловыми скалами. Наконец, выехав на открытую каменистую поляну, они увидели прямо перед собой большой аул. Оживленный вечерний шум стоял над ним: блеяли ягнята, только что подпущенные к маткам, ржали жеребята, лаяли собаки. Это был аул Байтаса, родственника Еркежан, жены Оспана.
Кокпай придержал коня и показал Абишу на белеющий за аулом каменистый холм на том берегу реки.
— Вот эта гора и есть Конур-Аулие. Недалеко. Завтра с утра поедем туда.
Утром путники направились в Конур-Аулие. На каменистом склоне они увидели вход в пещеру. Оставив у входа лошадей, они гуськом стали пробираться следом за Кокпаем. Короткий извилистый коридор привел их в просторную пещеру.
Прохладная сырость охватила их. Каждый из жигитов зажег взятые с собой свечи или факелы. Темнота, наполнявшая пещеру, колеблясь, отступала от слабых огней. Жигиты медленно продвигались вперед. Пещера становилась просторнее и выше. Когда шаги смолкали, в пещере наступала мертвая тишина — все здесь было погружено в тихий, глубокий сон.
С каждым новым шагом подземелье тянуло путешественников все дальше вглубь. Казалось, покатая каменистая почва заставляет убыстрять шаги, увлекая людей в таинственную темноту, заманивая, как в сказке, на волшебную дорогу. Дармен, Альмагамбет, Какитай и Магаш, никогда не бывавшие здесь, шли с опаской, стараясь держаться ближе друг к другу, хотя не переставали, шутить. Магаш порой пропускал Какитая вперед, предпочитая ободряюще подталкивать его в спину.
Опередив своих спутников, Абдрахман ушел вперед, с жадным удивлением разглядывая подземелье, открывшееся перед ним в свете факелов. Наконец отставшие жигиты услышали его возгласы:
— Вода! Вода!
Молодые люди поторопились нагнать его, и скоро всё они собрались на берегу большого подземного озера. В дрожащем свете огней было видно, что вода в нем чиста и прозрачна, как хрусталь. Голоса гулко разносились над озером, четкое многократное эхо повторяло каждое слово. Дармен подобрал занесенный сюда кем-то прут и попытался измерить им глубину возле берега.
— Сразу у берега — обрыв, — сказал он. — Такой коротышка, как Альмагамбет, уйдет здесь в воду с головой!
Жигиты попробовали выяснить и ширину озера. Они начали кидать мелкие камни в темноту. Но с какой бы силой они ни бросали их, каждый раз раздавался всплеск воды — видимо, тот берег был очень далеко.
Абиш присел на берегу озера. Жигиты окружили его. Абиш начал рассказывать о том, как образуются такие огромные пещеры и какая таится в них жизнь.
— Фантазия людей населяет такие пещеры всякими чудовищами, — говорил Абиш. — Это и понятно. Вспомните, ведь и мы с тех пор, как вошли в пещеру, все время чего-то побаиваемся, чего-то ждем. Все здесь кажется таинственным…
Альмагамбет слушал его, широко раскрыв глаза, в которых был виден страх. Абиш, чуть усмехнувшись, продолжал:
— В таком огромном озере может жить любое чудовище… Кто его знает, может быть, и здесь живет какое-нибудь неведомое существо? Может быть, оно испугалось шума и спряталось на дне… Вот если б вынырнуло! Наш Альмагамбет, наверно, заверещал бы, как козленок, которого режут!
И Абиш начал подсмеиваться над юношей. Он с серьезным видом стал уговаривать жигитов убрать факелы подальше от воды, уверяя, что чудовище может вылезть из воды на свет. Вдруг, оглянувшись в темноту, Абиш вскочил на ноги, и закричав: «Вот оно!» — кинулся прочь от берега.
Не только Альмагамбет, но и все остальные, кроме Магаша, бросились за ним. Дармен быстрее других пришел в себя. Нагнав Альмагамбета, он навалился ему на спину, сбил с ног и начал молча душить. Альмагамбет, лишившись от страха голоса, мог только шептать:
— Пропал… Пропал…
Раздавшийся сзади хохот Абиша отрезвил жигитов. Они подняли факелы и, окружив Альмагамбета, возвратились к берегу. Магаш встретил их издевательствами.
Какитай не остался в долгу:
— Ну, мы-то бежали, а ты, видно, от страха просто не мог сдвинуться с места? Так ведь, Магаш?
— Я ведь не такой темный человек, как вы! — насмешливо ответил Магаш. — Я просто стоял на месте и спокойно читал «Аятыл Гурсу». Благодаря моей молитве шайтан и не мог вылезть на берег. Выходит, я всех вас спас!
Альмагамбет, придя наконец в себя, начал по обыкновению дурачиться.
— О, дорогой Магаш, прошу тебя, пожалуйста, читай эту молитву, пока мы не выберемся из пещеры! — умоляюще сказал он.
Абиш возобновил свой рассказ:
— В этих пещерах действительно встречаются живые существа. Их так и называют «пещерные рыбы», но они на рыб совсем не похожи. Длина этих тварей — аршин-полтора, кожа у них бледно-серая, как у мертвого человека. Они не знают дневного света, и поэтому у них нет глаз, они совершенно слепые.
— О создатель, так это же самый настоящий дьявол! — воскликнул Кокпай.
— Не поминайте его, Коке, а то и в самом деле накличете! — шутливо подхватил Дармен.
Альмагамбету, видимо, снова стало не по себе.
— Э, жигиты, а что, если мы покинем этот рай и выйдем на белый севт? — начал он. — Ведь мы порядочно насмотрелись всего в этой преисподней, пожалуй, и хватит…
— Вернуться, когда мы и не начинали осмотра? — оборвал его Абиш. — Мы проведем здесь весь день. Говорят, тут есть ответвления, расходящиеся во все стороны, вот мы разделимся и пойдем по ним. Торопиться не будем!
Альмагамбету пришлось покориться.
— Тогда я пойду с тобой, Магаш, буду держать твой факел, а ты читай «Аятыл Гурсу»! — сказал он умоляюще и вплотную прижался к юноше.
— А почему эту пещеру называют «Святой Конур»? — спросил Какитай. — Наука должна и это объяснить.
Абиш улыбнулся и поднялся с места.
— Раз говорится о святом, он должен быть где-нибудь здесь. Не может быть, чтобы в этой пещере не осталось его следов. Пойдемте поищем!
И он пошел вперед, освещая свечой каменные стены подземного зала. Вскоре и в самом деле показались узкие проходы, ведущие в разные стороны. Абиш с Дарменом пошли по одному из ходов пещеры. Магаш с Какитаем направились к другому. Они задержались, царапая на стене пещеры свои имена.
Абиш продолжал идти вперед вместе с Дарменом. Они вошли в одно из ответвлений и двинулись по извилистому коридору. Оба молчали. Перед Абдрахманом возник образ Магрифы. Как живое, встало ее сияющее белизной лицо. Лучистые серые глаза смотрели ему в душу открыто, чисто, доверчиво. В них жила радость, и взгляд их как бы передавал эту радость ему. Абиш сейчас представлял себе Магрифу до того ясно, что, казалось, ему стоит протянуть в темноту руку, чтобы пальцы его прикоснулись к милому лицу девушки. Единственное, что разделяло их, был мерцающий желтый огонек свечи, которую юноша держал в руке, и он дунул на него, чтобы убрать препятствие, заслоняющее его мечту. Огонек погас, и Абиша обступила полная темнота. Он остановился, невольно улыбаясь стоявшему у него в глазах видению.
Но тут его совсем некстати нагнал Дармен.
— Абиш-ага, давайте я зажгу! — заботливо сказал он и, взяв из его опущенной руки свечу, поднес к ней свою. Абиш продолжал стоять молча, как бы не замечая Дармена.
— Боже мой! — негромко сказал он. — Что за красота!
— О чем это вы? — удивился Дармен.
— О Магрифе. Я только сейчас понял, какая она красавица!
Дармен ждал, что Абиш будет продолжать, но тот снова замолчал. Тогда Дармен заговорил сам:
— Наконец-то! А я уж решил, что вы ничего не скажете. Значит, она вам понравилась?
— Понравилась?.. Что за ничтожное слово! Она меня просто околдовала!
— Э-э, вот как! — усмехнулся Дармен. — Ну, тогда, бог даст, мечта Дильды-апа сбудется. Аминь! — серьезно закончил он.
В голосе его звучала искренняя радость. Но Абдрахман покачал головой.
— Подожди радоваться, Дармен, — сказал он негромко. — Мечтам матери пока не суждено осуществиться.
— Почему так?
Абиш ничего не ответил. Тоска снова легла ему на сердце. В ушах, как голос самой судьбы, звучали слова старого профессора: «В вашем возрасте и в таком состоянии жениться нельзя. Это опасно и для жены».
Но хотя сердце его повторяло лишь эти жестокие слова, язык его произнес совсем другие:
— Это невозможно. Мне еще два года надо учиться. Не могу же я заставлять ее ждать меня. Зачем мне связывать ее и мешать ее счастью?
Дармену это не показалось даже и препятствием.
— Да ведь она еще совсем юная, посидит дома невестой, подождет! Посватайтесь и узжайте спокойно!
— Не уговаривай меня, Дармен, — твердо сказал Абиш. — Я все решил. Если когда-нибудь я женюсь, никого во всем мире, кроме Магрифы, мне не нужно. Но я уже сказал, что мне надо кончить ученье. Вы все, вероятно, ждете моего ответа? Так вот он. Кончим на этом.
И он быстро пошел вперед, как бы желая избежать дальнейшего разговора. Вскоре громкий его голос донесся откуда-то издалека:
— Дармен! Магаш! Какитай! Идите сюда! Нашел я нашего святого!
Жигиты опять вышли в подземный зал и увидели, что Абиш размахивает свечой в одном из широких углублений. Все сошлись к нему. Освещая длинный камень, лежащий в углублении, Абиш торжествующе заговорил:
— Вот он, посмотрите! Камень этот — ложе, а на нем лежит человек. Видите, вот голова, вот плечи.
Какитай и Магаш, с удивлением смотревшие на камень, действительно обнаружили в нем ясные очертания человеческого тела, вытянутого на ложе. Дармен, присмотревшись, тоже согласился с тем, что это высеченное из камня изваяние действительно похоже на лежащего человека. Абиш был вполне убежден, что находка его объясняет название пещеры.
— Правда, этот святой Конур не очень похож на настоящую статую, — шутливо сказал он, — но какая сила чувствуется в этом грубом изображении! Мне кажется, это показывает, что за фантазия была у наших предков!..
Освещая камень своей свечой, Абиш долго всматривался в него.
Жигиты повернули к выходу. Скоро вдали засияла узкая щель. Солнечный свет переливался там, как жидкое золото. Впереди всех торопливо шагал маленький, коренастый Альмагамбет. Выйдя из пещеры раньше остальных, он сел на камень и стал облегченно вытирать пот со лба, будто радуясь своему освобождению.
— Ну, вряд ли я еще когда-нибудь загляну к этому святому! — смеясь, говорил он, с наслаждением осматриваясь вокруг. — Разве я какой-нибудь Тостик,[33] чтобы искать чудеса? Волшебные красавицы мне не нужны, я вполне удовольствуюсь хорошей тобыктинской девушкой, которую выберу сам.
Сев на коней, путники начали спускаться с горы. На склоне ее оказалось древнее кладбище. Здесь было множество сложенных из камней могил, похожих друг на друга, как будто все они были сделаны в одно и то же время и одними и теми же руками. Абиш стал медленно объезжать кладбище, пристально всматриваясь в могилы. Он обратил внимание, что каменные надгробия расположены в определенном порядке отдельными группами и что на каждом из них высечены какие-то знаки. Абиш выразил предположение, что это, вероятно, тамги — условные знаки казахских племен и родов.
Подозвав Кокпая, ехавшего позади, Абиш стал расспрашивать его об этом кладбище и показал ему высеченные на могилах тамги. Кокпай, бывавший здесь и раньше, никогда их не замечал. Сейчас, сойдя с коня, он начал внимательно рассматривать надписи. На одной из могил он узнал тамгу племени Аргын — «два круга». Затем нашел «детское седло» кереев, «ковш» найманов. Рассматривая их, он удивленно щелкал языком и качал головой.
— Я впервые вижу клабдище, где похоронены представители почти всех племен Среднего Жуза.[34] Жигиты, наверно тут скрывается какая-то глубокая тайна. Как это так, что за диво? — размышлял он вслух. — Кажется, я догадываюсь, какие события оставили этот горький след на нашей земле. Посмотрите, тут не один человек похоронен, а несколько! — удивленно воскликнул он.
Жигиты наклонились над одной разрушенной временем могилой. Магаш поднял с земли пожелтевший от времени череп.
— Абдрахман, Дармен, посмотрите! — крикнул он, показывая отверстие, пробитое в черепе выше виска.
Молодежь плотным кольцом окружила Магаша. Кокпай внимательно осмотрел череп, потом бережно опустил его в могилу и негромко заговорил:
— Теперь мне ясно, в чем дело. Сто пятьдесят лет тому назад здесь была большая битва. В те года Аблай-хан воевал с калмыками. У жителей Арки есть много рассказов об этой войне, и вот я слышал такое предание. Однажды калмыки, за которыми гнался Аблай, забрались в какую-то пещеру и устроили там засаду. Казахи, думая, что враги убежали, беспечно расположились на отдых. Тогда калмыки выскочили из пещеры, внезапно напали на них и убили многих… Но казахи сумели принять бой. Калмыки опять спрятались в пещеру, укрепились там и долго не подпускали воинов Аблая, отстреливаясь из луков. У Аблая погибло много людей. Он обозлился и обратился к своим батырам: «Того, кто сумеет уничтожить калмыков в этой пещере, я сделаю главным начальником над всем войском», — сказал он. Тогда один из его батыров, Кабанбай из рода Каракерей, повел людей. Он осадил пещеру, засыпал вход стрелами, заставив калмыков уйти вглубь. Они голодали, сидели без воды и наконец сдались.
Жигиты слушали со вниманием.
— Какой же это мог быть набег? — спросил Кокпай самого себя. — Аблай делал много набегов. Самые известные — это «Ураганный набег», «Опустошение коржунов», который закончился Кандижапским миром с калмыками… Кто знает, может быть, эта резня произошла во время одного из таких походов? Ведь прошлое для нас темно.
Прищурив глаза, он некоторое время задумчиво смотрел на одинокую вершину, высившуюся вдали, словно видя перед собой давно исчезнувшую во мгле времен жизнь. Вдруг он быстро повернулся и взглянул на молодых спутников.
— Запомните, жигиты, нынче родилось во мне решение, — твердо сказал он, похлопывая по сапогу плетью. — Начинаю большую поэму об Аблае. Так напишу, что все дети казахов будут преклоняться перед его духом!
К удивлению его, слова эти не вызвали восторга, Дармен покачал головой.
— Тому ли нас учит Абай-ага, Коке? Не лучше ли написать правду, не славословие?
— На этот раз Абай-ага согласится со мной, — убежденно ответил Кокпай. — У казахов нет более чтимого предка, более великого человека, чем Аблай-хан!
Дармен не сдавался:
— Великого, вы говорите? Мы как будто научились по-новому понимать слово «великий»…
— Э, помолчи, дорогой! — уже начиная сердиться, сказал Кокпай. — Не заноси руку на высокое! Аблай — великий хан казахского народа, и я не потерплю оскорбления его памяти.
— Ну что же, Коке, — улыбнулся Дармен, — видно, ваш талант закусил удила и упрямо мчит вас вслед за ханами и султанами. Хотите воспеть ушедшую жизнь? Поглядим, какая будет поэма… Но раз вы передали поводья хану, смотрите, не оправдалась бы на вас поговорка: «Кто последует за ханом, под конец потащит седло на себе»!
Молодые люди рассмеялись. Кокпай молча повернулся к своему коню и первым тронулся в обратный путь.
Жигиты решили добраться до своего аула, нигде не задерживаясь, и поэтому не жалели коней. Впереди всех ехал на своем буланом коне Абиш. Как только выезжали на ровное место, он пускал коня вскачь, увлекая за собой остальных. Так — то размашистой рысью, то вскачь — путники успели вернутся в аул Абая, когда там только что начали готовиться ко сну.
В тот же день, когда молодежь отправилась в Конур-Аулие, Абай вместе с Ерболом поехали навестить больного Базаралы. На другое утро они были уже у него.
Аул Базаралы состоял из полутора десятков юрт его родственников и друзей, таких же бедняков, как он сам. Здесь были только серые ветхие юрты или простые шалаши. Небольшая юрта Базаралы, с потемневшей, зачиненной во многих местах кошмой, стояла посредине аула. Внутри не было ни сундуков, ни кроватей, ни тюков. Как во всех бедных семьях, у которых не хватает верблюдов для перекочевок, здесь было облегчено все, даже сама юрта.
При появлении гостей Базаралы приподнялся на низкой постели, сложенной из нескольких рядов войлока, и оперся спиной о решетку юрты. Черная его борода теперь заметно поседела, прежний яркий румянец исчез. Болезнь и тяготы жизни вызвали на сухой коже щек и широкого лба печальную желтизну. Взгляд стал холодным и грустным. Лишь в первый миг встречи со старыми друзьями вспыхнул на его лице слабый румянец и тотчас же угас.
Абай не отрывал глаз от друга. Сердце его сжималось от жалости. Воображению его вдруг представился беркут с надвинутым на глаза колпачком. Отчего-то кажется, будто острый, словно из алмаза высеченный клюв сложен какой-то страдальческой складкой. Но стоит снять с головы беркута колпачок — плененная птица тотчас кинет быстрый, мечущий искры, гордый, непокоренный взгляд, еще более отважный и выразительный, чем когда она находится на воле… И, расспрашивая Базаралы о здоровье, Абай все время возвращался мыслью к своему сравнению.
Жена Базаралы, исхудавшая Одек, разостлала для гостей одеяло и узорную кошму. Ее сожженное солнцем, будто прокопченное лицо выражало почтительную приветливость. Она расспрашивала Абая и Ербола о здоровье их детей, не забывая ни одного имени. Базаралы, видимо, одобрял ее радушие и заботливость.
Повесив над очагом перед юртой чайник, она негромко посоветовалась со старшим сыном, какого ягненка заколоть для обеда, вызвала на помощь молодую соседку; вскоре появился казан, вода, топливо — и женщины, собравшись вокруг очага, принялись хлопотать.
Отвечая на расспросы друзей, Базаралы рассказал о своей болезни.
— Ну что ж, видно, это у тебя куянг,[35] — решил Ербол.
— Все суставы схватило. Как вечер, так беда! Самые заклятые враги мои — дождь, непогода, сырость. В жаркие дни я как все люди, а вот испортится погода — корчусь, будто колдун, которого бесы скрючивают, — невесело подсмеивался над собой Базаралы.
— Для такой болезни горное жайляу совсем не годится, — заметил Абай.
— И не говори! И дожди меня здесь доконали, и кочевки по холоду.
— А почему же вашему аулу не сидится где-нибудь на одном урочище? Неужели для вашего крохотного стада на одном месте не хватит выпасов?
— За глаза хватит. Да разве людей удержишь? Только и приговаривают. «Вон откочевал аул Байдалы, вон снимается Жабай, аул Бейсемби уходит… Ну, и нам надо двигаться!» Знаешь, Абай, я за эту свою болезнь прямо возненавидел обычай кочевки! Да разве с ним покончишь!
В этих словах Базаралы Ербол почуял прежнюю непримиримость друга и, желая подзадорить его, добавил:
— Выходит, что Даркембай оказался умнее всех? Он-то давно поселился у жатаков.
— Конечно! Я себе пальцы кусаю, когда думаю, почему я не стал его соседом и по аулу и по мыслям. Злюсь я на себя и на всех, кто скитается по этим урочищам — осенним, весенним, летним…
Теперь Ербол вступил в спор:
— Чего же ты хочешь: чтобы кочевой казах превратился в оседлого мужика? Думаешь отучить его от дедовского способа хозяйства?
— Э, свет мой, дедовский-то способ и довел нас до нищеты! Кто в этом мире беднее и голее всех? Дети казахов! Посмотри на русских: у них есть города, деревни… А что у нашей бесчисленной бедноты? Одно утешение, что степи широки и пустыни безлюдны, — катись куда хочешь, как перекати-поле, пока тебя гонит степной ветер… И нет от тебя ни следа, ни добра. Как пена на озере: возникнешь и исчезнешь. Сегодня в лощине, завтра на холме… А где же следы, которыми ты можешь гордиться, где знаки давней жизни, где наследство потомкам?
Эти горькие вопросы Абай воспринимал так, словно они были обращены к нему, а не к Ерболу. Будто бы сам народ, измученный, обессиленный, стоял перед ним, надеясь на него, как на разумного сына, который один видит путь, и спрашивал: «Куда же идти?» А он — беспомощный, безответный — молчал и лишь терзался тоской.
— Как жестоки твои думы, Безеке!..Они жгут, как перебродивший яд.
— Не во мне перебродил этот яд, а в умах народа твоего. Оглянись кругом. Все души измучены этим ядом.
— Кто даст ответ, кто покажет путь к спасению от бед? Видно, не я. В малом я могу помочь, а всем исцеления не нахожу. Оттого и мучает меня горе, Базеке.
— Горемычных старцев везде полно, а ты дай мне силы, пробуди во мне волю, Абай! — осуждающе сказал Базаралы, глядя на друга ясным взглядом, в глубине которого пылал упрямый, холодный огонь.
За это время Одек принесла чайник, и мужчины придвинулись к скатерти. Задумчиво прихлебывая густой чай, Абай сидел молча. Базаралы повернулся к Ерболу, продолжая прерванную мысль:
— Значит, по-твоему, зло не в кочевке? Ну, а все эти «черные сборы», недоимки, которые вчера выколачивали из людей? На кого обрушились они лютым злом? На нищих да голодных! А если бы эти несчастные не таскались за баями по кочевьям, а жили бы вдали, у жатаков, на своих заработках, может быть, и не попали бы они в пасть этих волков?
Он помолчал, вспоминая недавнее горе.
— Видно, и тебя, Абай, разъярили! Крепкий удар нанес ты по кровавой пасти! Я так был доволен, будто не ты, а я это сделал… И жаль, что меня придавил этот тяжкий недуг… Ведь сколько народу они ввергли в горе! Будь я на ногах, я бы кинулся в бой, пусть даже нашел бы в нем смерть. Что мне жалеть, что беречь? Народ тогда бушевал в горе и в гневе; стать бы впереди них, повести к справедливой мести, покарать врагов! Лучше умереть, вспыхнув на костре, чем долго гнить во тьме.
Ербол одобрительно засмеялся.
— Э, Базеке, ты жалуешься на болезнь, а на самом деле в тебе силы и гнева больше, чем в целом десятке других!
— Верно говорит Ербол, — поддержал Абай. — Вот мы и крепки, и здоровы, и довольны собой, а ни разу не находили в себе столько воли и гнева! Тобой я сейчас горжусь, Базеке, а подумав о себе, о своих делах, только стыжусь…
— Не говори так, Абай, и не думай так! — остановил его Базаралы. — Кто я? Крикун, горлан. Все мои подвиги — на коне, в ударе соила. А ты? Ты трудолюбивый хлебороб, ты сеятель. Народ получает от тебя семена новой жизни. Только одного желаю тебе: пусть ложится твой путь все шире перед тобой, пусть идет он все выше! Пусть будет он широкой, верной дорогой, по которой потянется караван всего твоего народа.
Абай только грустно покачал головой. В долгой беседе с друзьями он снова повторил те мысли, которые стали для него привычными, которые он излагал в своих стихах. Да, он посвятил себя борьбе со злом, он показывал людям страшный лик его, разнообразный в неисчислимых проявлениях насилия, несправедливости, произвола. Но он не показал народу, что же такое само добро, благо? Не указал и светлого пути к нему, не указал пути упорной борьбы. Тяжелые мысли угнетали Абая.
До позднего вечера друзья высказывали друг другу свои думы и мечты о честном служении народу, о его счастье. Полная луна уже освещала степь ярким серебристым сиянием. Вечер был теплый безветренный. Постель Базаралы вынесли из юрты, гостям постелили тут же. Друзья улеглись рядом, молча прислушиваясь к дыханию степи и наслаждаясь спокойной, мягкой прохладой.
Луна нынче выглядела такой огромной, будто она особенно близко придвинулась к аулу. Казалось, что-то привлекало ее внимание на этом крохотном кусочке мира и она спустилась со своей невообразимой высоты, чтобы получше вглядеться в это тихое горное урочище. Зачарованный ею, Абай не отрывал глаз от сияющего диска. С дальнего края аула донеслась песня, которую пели юные голоса. Временами ее перебивали звонкий смех, возгласы и шумный разговор. Видимо, лунная ночь своим таинственным манящим призывом лишила сна молодежь аула, и та устроила качели и затеяла веселые игры.
Звуки песни пробудили в душе Абая давние дорогие воспоминания. Его охватила жаркая волна, но тут же чувство грусти, сожаления, безвозвратной утери больно сжало его сердце.
— О пора юности! — негромко сказал рядом Базаралы, как будто подслушав мысли Абая.
— Куда ушла она? — печально продолжил Абай. — Исчезла и унесла с собой все, чем жила душа. А теперь рядом — другая юность, чужая нам и непонятная.
Базаралы посмотрел на Абая с дружеским укором.
— Ну, так жаловаться можем только мы с Ерболом!
— Что же, по-твоему, Абай не с нами, а на тех давних качелях в Жанибеке? — пошутил Ербол.
— А вы послушайте оба: там поют твою песню, Абай! Поэтому я и говорю, что ты не с нашей старостью, а с той юностью. Слышите?
Ербол, прислушавшись, негромко рассмеялся.
— «Привет тебе, чернобровая», — сказал он.
Долго они в молчании слушали пение, доносившееся от качелей. «Восьмистишия», «Письмо Татьяны», «Ты зрачок моих глаз» — песни Абая, рожденные то грустной думой о народе, то порывом любящего сердца, звучали там. Строки, рожденные вдохновенным трудом многих лет, теперь воскресали в нежном, полном чувства пении девушек, в мужественных голосах жигитов, в звонких, торопливых, порой сбивающихся перекличках подростков.
Абай глубоко вздохнул от волнения. Базаралы негромко заговорил о том, что давно хотел поведать своему другу:
— Ты сам-то понимаешь, Абай, что те слова, которые родились в твоем сердце, доходят до самой души народа и живут в его устах? Я говорю о настоящем народе, о том, который ютится в этих серых юртах да лачугах, начиная от малых воронят до старых, иссохших беркутов. Ты с этим народом. С его юношами и ты юноша, с его старшими и ты аксакал. А с тех пор, когда узнали, как ты защищал ограбленных «черным сбором», все увидели в тебе своего заступника. Народ жаждет твоих слов, твоих песен!.. Хочешь, скажу и о себе? Когда я был здоров, ты был для меня опорой. А теперь, когда я лежу в недуге, ты каждый вечер делишься со мной своими душевными тайнами. Вот кем стал ты для меня.
Давно Абай не чувствовал такой полной радости, но всего того, что он сейчас переживал, не высказал. Он ответил лишь:
— Базеке, ты щедро одарил меня этими словами. Они дороже самого лучшего коня, самого сильного верблюда. Ты словно крылья мои укрепил. И если родятся еще у меня песни, они родятся для тебя.
В этих недосказанных словах был двойной смысл. Обращаясь к Базаралы, Абай говорил всему народу. В этих словах была клятва Абая жить и творить на пользу народу и в помощь ему. В беседе с Базаралы тоскующая душа Абая получила новую силу, окрепла, как бы воскресла. И, говоря о крыльях, Абай дал понять, что в этот вечер вдохновение и поэтическая сила нашли ту опору, которой им не хватало.
Базаралы понял все, что хотел сказать Абай, и, как бы принимая тайны его души, молча кивал головой, слушая его.
2
То приподнятое настроение, в котором молодежь вернулась из поездки в Конур-Аулие, сразу же исчезло после встречи с Абаем. Оказалось, что за время их отсутствия неожиданно разразилась новая беда, которая могла разгореться большой враждой. Абай коротко рассказал им, что Оспан самым жестоким образом расправился с Уразбаем. Подробности этого Абиш, Магаш, Дармен и Какитай узнали ночью от Акылбая, оставшегося в ауле.
Произошло же вот что.
Оспан, как и рассказывал позавчера Абдрахману Магаш, действительно помчался в Семипалатинск за Уразбаем, бежавшим туда из своего аула. Когда Оспан вместе с биями, елюбасы, старшинами, писарями и посыльными приехал в аул, чтобы устроить съезд, Уразбая здесь не оказалось. Мало того, уезжая в город, Уразбай зажег сразу два костра новой вражды. Во-первых, он оставил послание старейшинам всех аулов на берегу Есполатовского озера, чтобы они не разрешали Оспану проводить здесь съезд. Во-вторых, заготовив «приговоры» двух административных аулов, зависящих от него, и поставив на них нужные печати, Уразбай повез их семипалатинскому уездному начальнику, обвиняя Оспана в самоуправстве.
Между тем для Оспана было чрезвычайно важно провести намеченный им съезд. Еще не будучи волостным, Оспан везде и всюду говорил, что если ему достанется волость, то он будет справедливым управителем. Теперь жалобы народа на Уразбая и окружавших его аткаминеров, которые вместе с ним обогащались, угоняя коней у соседних племен, принуждали его выполнить свое обещание. Прежним волостным обуздать Уразбая было не под силу. Оспан понимал, что если ему удастся укротить неукротимых воров, изловить изворотливых грабителей, то влияние его в волости упрочится. Кроме того, Ойпан с давних пор ненавидел Уразбая и Жиренше, считая их источником всякого зла в Тобыкты.
Оспана порядком побаивались. Высокий ростом, мощно, как богатырь, сложенный, он производил большое впечатление на встречавшихся с ним людей. О нем ходило множество рассказов, похожих на легенды. Говорили, что он повалил на землю быка, кинувшегося на него, пинком в нос оглушил злую овчарку-людоеда, пытавшуюся его растерзать. Было известно, что он вытащил из колодца упавшего туда годовалого верблюжонка, ухватив его за горбы.
Зная, что эта могучая сила сочетается с решительным характером и порою бешеной вспыльчивостью, редко кто пытался ему противоречить. С другой стороны, многих привлекали открытый характер Оспана, его щедрость и гостеприимство. Об этом тоже ходили рассказы. Говорили, что если кто-либо проедет мимо его аула, Оспан посылал за ним вдогонку и с шутливой обидой спрашивал его: «Чем провинились перед тобой мои овцы, что ты не желаешь отведать их мяса? Скажи, кто ты такой, откуда в тебе такая гордость, что ты пренебрегаешь моим аулом?» Такежан, Майбасар и другие за глаза высмеивали его: «Люди не знают, как избавиться от разоряющих их гостей, а наш Оспан, наоборот, плачет, когда у него их нет!»
Когда Оспан приехал в аул Уразбая и узнал, что тут произошло, лицо его почернело от гнева. Не помня себя, он кричал на Спана — племянника Уразбая.
— Теперь я не успокоюсь, пока не достану Уразбая! Хотя бы он сквозь землю провалился, я его разыщу и притащу сюда связанного, как козленка!
Спан ничего на это не ответил и проводил его так же молча, как встретил. Но тотчас послал в Семипалатинск гонца. «Волостной уехал черный от злобы, помчался напрямик, как кабан с оскаленными клыками. Если попасться ему на глаза, обдерет шкуру. Пусть Уразбай не даст застигнуть себя врасплох, чтобы после не горевать», — передавал он дяде.
Оспан действительно прямо с Есполатовского озера направился в город. Ехал он в повозке, запряженной тройкой, но, чтобы не задерживаться в дороге, взял с собой шесть свежих коней на поводу у двух жигитов. Меняя поочередно запряжки, он добрался до города меньше чем за сутки, опередив гонца.
Уразбай был в городе всего два дня. Он потратил их на то, чтобы с помощью адвоката и переводчиков подготовить свою жалобу. Утром того дня, когда приехал Оспан, Уразбай пришел в канцелярию уездного начальника Казанцева с жалобой, уже переписанной на русском языке. Тотчас вслед за ним в канцелярию вошел Оспан, пыльный, в дорожной одежде.
Казанцев в канцелярии еще не появлялся, и Уразбай ожидал его в прохладной полутемной приемной. Он был очень сердит и, увидев Оспана, окинул его злым взглядом. Однако тот, к его удивлению, подошел к нему с улыбкой, отдал салем и справился о здоровье. Уразбай недоуменно посматривал на него. Неужели Оспан забыл вражду? Или просто не знает, как должен вести себя в таких случаях начальник?
— Уразеке! — сказал Оспан самым добродушным тоном. — Когда старший гневается, младший должен приходить с повинной. Я узнал, что вы уехали из аула с обидой на меня. Вы знаете, я ни перед одним казахом на колени не становился, не боюсь и вас, хотя пазуха ваша набита жалобами. А за что на меня жаловаться? Волостным я стал недавно, может быть, по неопытности и ошибся, но обвинить меня не в чем: по службе преступлений я не совершал, народ ничем не обижал, перед начальником, кому вы хотите жаловаться, ни в чем не виновен и к жене его в постель не лазил. Это и сам Казанцев хорошо знает. И если сейчас мы войдем вместе, то первым он выслушает не вас, а меня, вот увидите, хоть об заклад биться!
Говоря это, Оспан весело смеялся, показывая белые зубы.
— Мне надо кое о чем с вами поговорить, — продолжал он, — а тут душно, дышать нечем. Пойдемте на улицу, присядем в тени, побеседуем. Узнав, что вы на меня рассердились, я нарочно погнался за вами: у меня к вам просьба младшего брата к старшему. Выслушайте меня, и потом я уеду обратно. Я ведь не для того приехал, чтобы помешать вам подать жалобу. Пойдемте, Уразеке, поговорим!
Уразбай неохотно вышел вслед за ним на улицу. Оспан повел его к своей повозке, стоявшей в тени на той стороне улицы, и, подходя подмигнул вознице. Высокий, огромный, чуть не вдвое выше Уразбая, Оспан шел вплотную за ним. Подойдя к повозке, он вдруг наклонился к Уразбаю и прошипел ему прямо в лицо:
— Садись в повозку, слепой пес, чтоб тебе бороду обгадили! Залезай, пока жив!
Уразбай оглянулся, как затравленный волк. Возле канцелярии стояла его повозка. Он хотел было позвать на помощь, но Оспан, угадав его намерение, зажал ему одной рукой рот, а другой схватил за шиворот. Легко подняв Уразбая на воздух, словно беркут, вцепившийся в зайца, Оспан кинул его в угол повозки и вскочил в нее и сам.
— Гони что есть мочи! — крикнул он вознице и так ударил в грудь Уразбая, что тот потерял сознание.
Кучер вытянул коней кнутом, и они с места вскачь рванули тяжелую повозку.
Лишь когда тройка переехала на ту сторону Иртыша и помчалась по большой караванной дороге, ведущей к Чингизу, Оспан приказал остановиться. Кругом была безлюдная степь. Оспан вышел из повозки и обратился к Уразбаю, который к этому времени пришел в себя:
— Я научу тебя, как затевать вражду, негодяй! Вот тебе наказание, — и не за все, а только за одно из твоих собачьих дел! Ты меня долго не забудешь!
И, вынув Уразбая из кузова, как ребенка, он посадил его снаружи на задок повозки, приказав вознице привязать его. В таком виде лишь на следующую ночь Оспан с позором доставил в свой аул связанного Уразбая.
Слух об этом неслыханном унижении мгновенно разлетелся по соседним аулам. Иргизбаи порядком встревожились: никто и не ожидал, что Оспан может решиться на такое дело. Родичи соглашались друг с другом, что поступить так мог только один Оспан, который с одинаковой страстью отдается и дружбе и вражде. Однако никогда еще не было в степи случая, чтобы кто-нибудь так жестоко наказал своего врага, и все сходились на том, что это вызовет яростную вражду родов и приведет к большой беде.
Когда весть о поступке Оспана долетела до аула Абая, он послал к брату Ербола и Акылбая.
«Уразбай — действительно злодей, — передавал он через них. — Он самый лютый волк в нашей степи, истязатель народа. Оспан правильно решил устроить на него облаву. Но бороться надо было с ним так, чтобы он отдал чужое добро, вернул народу награбленное. А Оспан обратил все в личную борьбу, словно он борется лишь во имя своей мести. И вышло так, что сцепились во вражде и тяжбе два соперника, не поделившие власть. Все это рождает теперь только зло и лютую вражду. Пусть Оспан запомнит, что он завяз в грязи. Теперь все повернулось неверно. Наказание он уже совершил и пусть теперь отпустит Уразбая».
Что касается другого брата Оспана — Такежана, — то этот повел себя так, как и можно было ожидать от хитрого и коварного аткаминера. Как только весть о происшедшем дошла до него, он направился в аул Оспана. Ворвавшись туда с шумом и криком, он даже не зашел к брату, а прямо кинулся к Гостиной юрте, где, как ему сказали, находится Уразбай. Еще не заходя в нее, он стал кричать на весь аул:
— Что за злодейство? Где это видано, чтобы казахи так поступали друг с другом, хотя бы враждовали насмерть. С какого предка он взял пример? Где ты, Уразбай?
Уразбай лежал в Гостиной юрте, отвернувшись к стене. Хотя он слышал голос Такежана, но не ответил и не повернул головы, когда тот вошел в юрту. С тех пор как Уразбай попал в руки Оспана, он отказывался от пищи и даже от воды. Когда ему приносили что-нибудь, он отталкивал это от себя, крича: «Убери свой яд!»
Приход Такежана не заставил его изменить своего поведения. Такежан подсел к нему, повернул к себе его лицо, искаженное злобой, и крикнул своим людям, чтобы принесли кумыс. Почти насильно он заставил его сделать несколько глотков. Лишь теперь Уразбай злобно взглянул на него своими косыми глазами и сказал негромко:
— Сыновья Кунанбая! Либо вы убьете меня здесь и выпьете всю мою кровь, либо до самого судного дня я буду трясти вас обеими руками за шиворот! Самые большие враги мои — Оспан и Абай. Тебя, Такежан, я не стану называть главным врагом, раз сегодня ты пришел мне помочь, но враждовать с тобой все равно буду. Иди, больше я ничего не скажу! То, что вы задумали сделать со мной, делайте скорее. — С этими словами он снова отвернулся к стене и замолчал.
Такежан выслал из юрты своего жигита, принесшего кумыс, и, оставшись наедине с Уразбаем, зашептал:
— Неужели, если у нас был один отец, я должен отвечать за Оспана и Абая? То, что передали мне перед твоим отъездом в город, я хорошо понял. Больше здесь я ничего не могу сказать, поговорим после. — И он продолжал нарочито громко, во весь голос. — Кто ты для меня — калмык? Разве у нас исконная вражда? Садись на моего коня, Уразеке, бери с собой моего жигита и уезжай сейчас же домой! Хотел бы я посмотреть, кто остановит тебя! Уезжай спокойно, никого не бойся. Такого позора, такого злодейства я никому не прощу.
Он насильно поднял Уразбая на ноги, надел ему на голову малахай, опоясал кушаком. Потом сам вывел из юрты, посадил на собственного коня и приказал приехавшему с ним жигиту:
— Проводи Уразеке до его аула. Останавливайся там, где он пожелает. Следи, чтобы пил и ел как следует. Чтобы не уставал!
Уразбай, освобожденный Такежаном, направился прямо в свой аул у Есполатовского озера. Отправив его, Такежан пошел в юрту Оспана. Выслав женщин, молодежь и слуг, он остался с Оспаном наедине и заговорил, бросая на него гневные взгляды:
— Значит, как говорят, «уж если пугать, так до смерти». Что это за поступки, кто тебя подучил?
— Уж во всяком случае не ты! — насмешливо ответил Оспан. — Не бойся, на тебя я сваливать не буду.
— Признавайся: это — дело Абая?
— И он ни при чем. Сделал это я сам. А ты-то что волнуешься? Почему так перепугался?
— Никто и не слыхивал, чтобы кто-нибудь из наших предков решился бы на такое дело!
— Ну, они не делали, так я сделал!
— Зачем?
— Чтобы искоренить зло.
— Накинулся на одного — думаешь, всех проучил? — с раздражением спросил Такежан.
— Уразбай — самый главный злодей. Если сперва проучить его, и с другими расправиться легче.
— Тебе ли учить Уразбая? На кого ты замахнулся?
— А чем он выше меня? Своей подлостью? Если я не заставлю тебя и Уразбая возместить убытки тем людям, кто из-за вас льет слезы, что тогда говорить о справедливости.
— Тогда пусть провалится твоя власть волостного! — обозлившись, отрезал Такежан и продолжал с издевкой: — «Справедливость!» Не у Абая ли ты это перенял? Где твоя справедливость, о которой ты кричишь?
— Собака слов не понимает, ее надо бить плетью! — ответил Оспан и добавил, издеваясь над Такежаном: — Но удивительно, что ты чувствуешь эти удары на себе! Тебе тоже больно? Почему? Ты ведь был противником Уразбая! Не он ли только вчера натравил на тебя жигитеков и заставил их разграбить твои табуны? Что же сегодня ты виляешь, крутишь? Куда гнешь?
— Хоть я и был с ним в ссоре, но никогда не дошел бы до такого злодейства, как ты, — ответил Такежан. — И не буду я поддерживать тебя, если ты сам накликал беду! Мы не в жмурки играем, чтобы ты повел меня за собой и столкнул с крутого берега! Лучше я пойду своим путем!
Оспан рассвирепел.
— Э-э, Такежан, не хотел я верить, что ты можешь дойти до такой подлости, а видно, придется! Уразбай и Жиренше спят и видят, как бы разжечь огонь вражды между сыновьями Улжан — мной и тобой. И я знаю, сколько раз они подъезжали к тебе! Они понимают, что тебя легче поймать в сети. Сейчас ты изливал свои дружеские чувства Уразбаю. Я не вмешивался, с места не тронулся. Думал, наверно, ты, как старший брат, хочешь смягчить мою резкость, затушить вражду. А теперь понял, что ты, залебезив перед Уразбаем и освобождая его, продал меня и Абая. Растоптал нашу честь. Я ведь знал, что твой подлый сын Азимбай еще раньше тебя стакнулся с Уразбаем и теперь готов кидаться на всякого, на кого тот его натравит. Хочешь знать правду, зачем я так унизил Уразбая? Чтобы испытать тебя! Я хотел тебя проверить, как ты себя поведешь, когда тебе придется выбирать: на одной стороне Уразбай, на другой — я. Теперь я тебя раскусил, всю твою подноготную вижу. Но знай, Такежан, я и дальше буду следить за каждым шагом Уразбая, а за тобой смотреть буду вдвойне! Я не побоюсь проклятия не только нашего Тобыкты, но и всего казахского народа! Попробуй предать меня и переметнуться к Уразбаю — я зарежу тебя и твоего сына, как собак, своими собственными руками! Убирайся отсюда, я не хочу больше слушать твоих зловонных слов!
Такежан сорвался с места и выскочил из юрты.
Из слов Оспана он ясно понял, что рассчитывать на него больше уже нельзя. «Еще один перевал — и враги кинутся на меня не издали, а из-под бока, из самой семьи!»— зло думал он.
До сих пор он еще надеялся, что в решительный момент все кунанбаевцы будут рядом с ним, так или иначе поддерживая его, как старшего сына ага-султана. По его убеждению, кунанбаевцы так и останутся вечными повелителями: обирай, объедай все Тобыкты — кто будет перечить? Оказывается, выходит по-другому: явились отступники от пути отцов, от божьих установлений, предатели родовой чести. Это Абай, а теперь и Оспан, кинувшийся по его следам… Что же, придется бороться с ними беспощадно. Они враги не только родового дела, но и всего дорогого для казахов, всего, что берегут сильные и почтенные люди степи. Но чтобы бороться с ними, нужны помощники. А кто такой Уразбай? Только дубинка против отступников в руках его, Такежана. Такие люди, как Уразбай, ему сейчас нужнее других. Но надо быть осторожным: и другая родня может бросить такой же упрек, как Оспан. Значит, надо сноситься с ним тайно, чтобы это не бросалось в глаза.
И, думая об этом, он решил теперь же согласиться на просьбу, которую передал ему Медеу, сын Уразбая.
Медеу, хотя и молодой еще жигит, отлично усвоил все приемы отца в сложных кознях и хитросплетениях. Сразу после отъезда Уразбая в город Медеу послал к Азимбаю доверенного человека с напоминанием о том, о чем они начали договариваться: «Нужно положить конец раздорам между потомками Кунанбая и Аккулы. Может, мне и Азимбаю удастся это благое дело. Я не раз уже выражал желание породниться. Пусть Азимбай просватает свою новорожденную дочку за моего трехлетнего сына! Я повторяю эти слова в дни, когда пожар вражды вот-вот вспыхнет. Может быть, это предотвратит беду. Пусть Такежан и Азимбай дадут знать о своем согласии — и завтра же мы пошлем им каргибау в сто коней».
Именно это предложение и заставило Такежана ринуться на выручку Уразбая. Мысль о ста отборных конях и о выгоде родства с Уразбаем давно уже не давала ему покоя. Услыхав о поступке Оспана, Такежан пришел в ужас: все его расчеты могли рухнуть.
Эти события и обсуждались в юрте Магаша. Молодым людям было ясно, что если распри будут углубляться, надо ожидать, что Такежан окажется на стороне Уразбая, а не Оспана. Было понятно также, что аул Такежана не в силах что-либо предпринять сам — он сейчас был похож на змею, у которой вырваны ядовитые зубы. Но, тайно объединившись, Уразбай и Такежан могли сильно навредить Оспану.
Впрочем, не о нем думали сыновья и друзья Абая. Помимо воли Оспана костер, который он разжег в необузданном порыве ярости, раньше всего должен был обжечь Абая. Это отлично понимал и сам Абай. Вздыхая, ворочаясь с боку на бок, он провел эту ночь в тяжелых думах.
Наступало время возвращения Абдрахмана в Петербург. Аул Абая стал готовиться к проводам дорогого гостя.
Накануне его отъезда посыльный Далбай привез Абаю пакет из волости. Это была повестка, вызывающая Абая к уездному начальнику Казанцеву: Абая требовали как ответчика по делу недоимщиков Чингизской волости.
Узнав о повестке, друзья Абая сильно встревожились. Но сам Абай был спокоен:
— Вызывают по этому делу? Ну что же! Из всех моих ответов перед властями это такой, который я готов держать когда угодно. Что бы ни случилось, раскаиваться не буду.
И он тут же решил ехать вместе с Абишем.
Последнюю ночь все провели вместе, в задушевной беседе обсуждая тревожные опасения, рожденные враждой. Утром просторный тарантас, запряженный тройкой, вырвался из толпы провожающих и покатился по поросшей травой дороге, позванивая колокольчиками и бубенцами. Вслед помчалась легкая повозка Абая. В ней сидел Дармен, а Баймагамбет правил конями.
Абай и не догадывался, что вызов к начальству был следствием вражды, разожженной Оспаном.
Взбешенный Уразбай пригнал в Семипалатинск целый косяк коней, продал их и все деньги пустил на подкуп толмачей и всяких нужных людей в канцеляриях уездного начальника, мирового судьи и даже губернатора. Везде он обвинял Оспана во всех грехах, но в разговоре с Казанцевым повел дело иначе: он начал жаловаться не столько на Оспана, сколько на Абая.
— Что же, значит, ты со всеми Кунанбаевыми не в ладах? — спросил недовольно Казанцев.
Уразбай, отлично знавший, как тесно связан уездный начальник с Такежаном и его сторонниками, тут же объяснил, что на прежних управителей, Шубара или Исхака, он никогда не жаловался. Да и сейчас главный его враг не Оспан, который жестоко его оскорбил, а Абай, хотя тот и не занимает никакой должности.
Казанцев понял, что у этого хитрого и опытного степного воротилы есть какой-то сложный замысел, ведущий к далекой цели. Уразбай казался ему человеком, который не брезгая никакими средствами борьбы, умеет крепко опутать противника сетями и вцепиться в него волчьей хваткой. И когда уездный спросил, что же, собственно, сделал Ибрагим Кунанбаев, Уразбай, нетерпеливо подталкивая под локоть рябого переводчика, быстро заговорил.
— А разве господин начальник не знает, что было на жайляу Кзыл-Кайнар во время сбора недоимок? Это подстроил Ибрагим Кунанбаев. Ведь на других жайляу — скажем, у меня или у Жиренше — никто и слова не посмел сказать против налогов для белого царя. А там Абай возмутил голытьбу. Поднял против управителей. Против начальства, посланного господином уездным. Разве один я это говорю? Его осуждают все почтенные люди степи, все аткаминеры. Мы-то верные слуги белого царя, а этот Абай идет против него, против властей, сеет смуту.
— Значит, аткаминеры могут и написать об этом властям? — спросил Казанцев.
Уразбай правильно понял, что это не вопрос начальства, а его совет, и радостно закивал головой.
— Напишут! Понадобится — и приговоры составят с печатями! Не только господину уездному — и другим властям подадут жалобы. В суд подадут. Самому жандаралу напишут! Только скажите, господин начальник, можно ли нам на него жаловаться? Не осудят ли нас большие власти, что в покорном вам народе мы позволили завестись неукротимому смутьяну, дали ему совращать людей?
Теперь и Казанцев в свою очередь правильно понял вопрос Уразбая: тот, очевидно, приглашал его самого принять участие в травле Абая. Но прямого ответа он не дал.
Ему было ясно, что в случае надобности этот властный и решительный «киргиз» придумает любое обвинение Ибрагиму Кунанбаеву. Оба они: и царский чиновник и родовой воротила — один в городе, другой в степи — одинаково враждебно относились к Абаю. И не говоря прямо, они намеками, обиняком договорились действовать против него вместе. Казанцев дал понять Уразбаю, что «почтенные люди» степи могут подавать на Абая любые жалобы. И не только ему, уездному, но и другим властям, даже и губернатору. Чем больше будет поступать в различные канцелярии жалоб и родовых приговоров, тем лучше.
Казанцев отлично понимал, что Абай слишком известен и влиятелен среди степного населения, чтобы его можно было свалить быстро. Удар нужно было готовить исподволь, накапливая жалобы. И поэтому, решив для начала вызвать Абая на допрос о случае на жайляу Кзыл-Кайнар, Казанцев поручил дело своему опытному помощнику. Он приказал допросить Абая коротко, не пробуждая в том опасения, что дело может угрожающе осложниться, но так, чтобы виновность его в этой мятежной вспышке была очевидна. Лишь впоследствии, когда высшие власти будут завалены жалобами на Абая, можно будет открыть и этот козырь — обвинение в подстрекательстве к бунту.
Абай, дав помощнику Казанцева объяснения, спокойно вернулся в свой аул, не подозревая, какие грозовые тучи, гонимые ветром вражды, собираются над его головой.
Вражда, вызванная Оспаном, отозвалась и в далеком татарском ауле.
Магрифа после первого свидания с Абишем ожидала какой-либо вести о нем, жила в радостных мечтах, не поверяя, однако, их никому. Но время шло, а вестей ни от него, ни от его родных не приходило.
Да разве можно было говорить о женитьбе сейчас, когда вражда нависла над аулами? Кроме того, твердые слова Абиша, сказанные Дармену, не давали родным возможности начинать сватовство.
Через Утегельды, который ездил в аул Абая разузнать, что же думает Абдрахман, лишь половина этих слов дошла до Магрифы: «Если когда нибудь я женюсь, никого во всем мире, кроме Магрифы, мне не нужно». Это стало ее единственной надеждой.
СХВАТКА
1
На следующий год в июле Абдрахман снова приехал домой в отпуск.
Родной аул встретил его нынче совсем не так, как год назад. В начале прошлой зимы внезапно умер Оспан. Все родственные ему аулы не откочевывали в этом году на дальние жайляу, а в знак траура остались здесь. Поэтому-то аул Абая стоял не на далеком веселом жайляу за Чингизом, где следовало быть в это время, а на скучной равнине Ералы. Здесь не было ни пологих холмов, покрытых зеленым ковром, ни журчащих прохладных ручейков и речек. Пастбища возле стоянки были уже истоптаны стадами, степь желтела далеко вокруг.
Оспан заболел, как только аул его перебрался на зимовку в Жидебай. Болезнь свалила мгновенно его огромное тело, сильно потучневшее за последние годы. Не успели разобраться, чем он заболел, как наступила агония. Все это произошло настолько быстро, что Абай, выехавший из Акшокы сразу, как только узнал о болезни Оспана, уже не застал его в живых.
Аулы, державшие траур, расположились вместе. В долине Ералы, теснясь друг к другу, их расположилось около тридцати. В середине стоял аул Оспана — Большой кунанбаевский аул, а вокруг аулы Абая, Исхака, Такежана, Майбасара и других родственников.
Белые кошмы юрт, принадлежавших трем вдовам Оспана Еркежан, Зейнеп и Торымбале, — были убраны полосами материи, расшитой черными узорами и тесьмой с густой черной бахромой. Из этих юрт дважды в день — ранним утром и поздним вечером доносился поминальный плач. В это время вся жизнь и в Большом ауле и в тех, которые расположились поблизости, замирала. Детям запрещалось шуметь, чабаны и пастухи умолкали. Никто не осмеливался начать песню, громко рассмеяться, окликнуть подругу или сверстника.
В Большой юрте — в той, где когда-то жила Зере, а потом Улжан, — плач ведет Еркежан, старшая из жен Оспана. Во второй юрте — Зейнеп. Зейнеп — хорошая певица и умеет сама слагать песни. Теперь ее искусство поражает всех: она сама сочинила плач и сама же с большим мастерством исполняет поминальную песню. Третья жена, токал, — Торымбала — еще совсем молодая. Она скромна, молчалива, замкнута в себе и ничем еще не проявила своих способностей.
Каждый раз, когда Зейнеп начинала свой плач, возле ее юрты собиралась молодежь и старики. Все слушали певицу с неослабевающим вниманием.
Когда в ауле собирается много гостей, прибывших почтить память усопшего, вдовы сходятся вместе в Большой юрте Еркежан. Все три одеты в траурные платья, головные платки их завязаны, по обычаю, крепким — «мертвым»— узлом. Зейнеп и Торымбала присаживаются на согнутых коленях рядом с Еркежан и вместе с нею начинают оплакивать покойного мужа.
Зейнеп изливает свое горе в спокойном величии. Опершись руками о колени, она, медленно раскачиваясь всем телом и порой подымая красивое матово-белое лицо, облитое слезами, говорит в плавных стихах о безвременной кончине Оспана. С ним исчезло ее счастье, ушел чтимый ею человек, без хозяина остался его аул.
Слушая звучный, проникающий в душу голос, Абай с глубокой печалью думал об умершем брате. Но и в этом искреннем горе Абая не оставляли мучившие его мысли.
Смерть, говорят люди, оправдывает все. Она повелевает вспомнить о лучших качествах умершего и забыть его пороки и преступления. Но Абай, привыкший требовательно и строго подходить и к самому себе и к другим людям, невольно думал об Оспане двояко.
Оспан был решительным человеком. Еще в юности о нем говорили: «Схватит — не отпустит, пока когти его не вырвешь; вцепится — не разомкнет пасти, пока зубы держат». Но в то же время он не был ни жадным, ни скупым, и уж если кого полюбит, души в нем не чаял, готов был отдать все. Никто из родни Абая не мог сравниться с ним в этом, и это качество Оспана Абай ценил больше всего. Но Абая теперь волновал один вопрос: о каких деяниях Оспана мог бы вспомнить с благодарностью народ? Лишь однажды Оспан выступил против злодеев, но и тут он остался подлинным отпрыском Кунанбая — сильным, жестоким, неумолимым врагом своих личных соперников. Не за народ мстил он Уразбаю, а как его личный враг боролся с ним за власть. И точно так же, как задолго до него все степные заправилы оставляли в наследство распри и смуты, так и Оспан оставил после смерти эту злобную, лютую вражду.
Думая об этом, Абай винил прежде всего самого себя. Для Оспана он был не только старшим братом, он как бы заменял ему отца, — Оспан доверял Абаю, охотно слушал его. советы. И если бы кто-нибудь сейчас обвинил Абая, почему же тот не сумел повести по пути добра такого сильного человека, каким был Оспан, — то Абаю нечем было бы оправдаться.
Горюя об Оспане, Абай осыпал себя упреками. Никому не говорил он об этом, но мысль о своей вине еще более усиливала его горе.
За те два дня, которые Абдрахман провел в траурном ауле, Абай не выходил из юрты Еркежан, не отпуская от себя и сына. Он часами рассказывал Абишу о детстве, юности и зрелых годах Оспана.
Слушая отца, Абдрахман тревожно думал о нем самом. В этот приезд он нашел, что Абай очень изменился: сильно поседел, осунулся, стал немногословным, как бы угас под впечатлением внезапной утраты; подолгу молчал, погружаясь в одинокие думы. Молодые друзья Абая с тревогой рассказывали Абдрахману, что у них, в особенности у Дармена, часто возникала теперь мысль: «Неужели огонь поэзии, горевший в его груди, угас?»
Но так казалось лишь постороннему взору. На самом деле горе, пригнувшее к земле Абая-человека, не смогло подавить Абая-поэта. В мыслях его складывались задушевные стихи. Многие из них уже жили в его душе, но ни одного из них он еще не читал даже ближайшим друзьям.
Думая об Оспане, Абай мысленно перебирал всех живых родичей. Кто из них мог быть его другом, кто мог бы заменить Оспана? Уж не Такежан ли? Или Азимбай?.. С ними идут в жизнь обман и подлость, темные злодеяния…
«Кругом враги. Враги не только мои, но и всего народа… Что ждет дальше? Сколько ни думай, ни ищи, выхода не видно». Абай чувствовал себя как бы в глухом тупике. Одинокий, он безмолвно пил горькую чашу, протянутую ему жизнью, не деля своей печали ни с кем.
Именно это состояние Абая и тревожило его молодых друзей. Они возлагали большие надежды на приезд Абдрахмана, рассчитывая, что свидание с сыном рассеет мрачное состояние Абая. Но вот прошло уже три дня со времени приезда Абиша, а Абай по-прежнему был погружен в свои хмурые думы. Почти все время он проводил в траурной юрте.
Вечером Дармен увел Абдрахмана из юрты, чтобы поговорить с ним.
Солнце клонилось к закату, весь запад был охвачен багровым пламенем. Высокое чистое небо с удивительным спокойствием простиралось над широкой равниной. Дул прохладный ветерок. Абиш глубоко вздохнул всей грудью, как бы освобождаясь от печали траурной юрты.
Жигиты шли по берегу реки. Здесь росли густые заросли типчака. Земля была покрыта невысокой зеленой травой.
Беседуя, они далеко ушли вниз по реке. Дармен первый заговорил о состоянии Абая. Говорил он не только от себя, но и от имени всех молодых друзей Абая. Абдрахман внимательно слушал его.
— Мы ждали тебя, Абиш, как человека, который может принести Абаю-ага исцеление. Сами мы не можем рассеять его тяжелую печаль. Тебе надо подбодрить отца. Придумай что-нибудь!
Абдрахман, идя рядом с Дарменом, взглядывал на него сбоку. Солнце играло яркими бликами на широком лбу жигита, на смуглой коже скул. На побледневшем лице сверкали большие выразительные глаза.
Внимательно выслушав юношу, Абдрахман ответил ему очень коротко. Считая недостойным мужчины распространяться о своей собственной печали, он сказал:
— Спасибо вам всем за ваши заботы об отце, Дармен. А как отвлечь его, нам надо подумать вместе.
Такая немногословность понравилась Дармену. Он тоже считал, что настоящий человек должен проявлять себя в поступках, а не в словах, и не любил пустых разглагольствований.
Они незаметно дошли до небольшого аула, стоявшего на берегу реки. Навстречу им кинулись, забрехав, два лохматых черных пса, выбежало несколько ребятишек, впереди которых был мальчик лет семи-восьми, напоминавший чем-то Дармена. Жигит тут же подозвал его:
— Рахимтай, отец дома?
— Нет, не дома. Он у юрты сидит, — ответил Рахим.
Абиш, Дармен и спутники маленького Рахима рассмеялись, сам он тоже улыбнулся и от смущения стал ковырять песок большим пальцем правой ноги. Дармен, ласково охватив плечики Рахима, прижал его к себе. Мальчик с застенчивым любопытством рассматривал Абиша, его белую гимнастерку, блестящие пуговицы, позвякивающие шпоры на лакированных сапогах. Живые черные глаза не упускали ничего. Рахим уже догадался, что перед ним «ученый Абиш-ага» из аула Абая, о котором все дети уже слышали, но которого не все еще видели.
Абдрахману мальчик очень понравился, и он, наклонившись, погладил его по густым блестящим волосам.
— А кто твой отец, Рахимтай?
— Ата, — ответил тот; и Дармен рассмеявшись, объяснил, что малыш — последний ребенок Даркембая.
— Нашему Дакену не везло с детьми. Все поумирали маленькими. Старик в нем души не чает.
Слова эти смутили Рахима, он высвободился из рук Дармена, говоря:
— Дармен-ага, я побегу скажу отцу о вас!
И он помчался к небольшой закопченной юрте, стоявшей посреди бедного аула. Абдрахман посмотрел ему вслед.
— Зайдем, Дармен. Дакену надо отдать салем раньше, чем другим, — сказал он и добавил — У этого старца глаза еще зорки. Мне любопытно, что видели они за все время нашей разлуки, за чем следят теперь.
Даркембая они нашли возле юрты. Он сидел в тени на шкуре жеребенка и, быстро взмахивая маленьким топориком — шапашотом, — обтесывал тяжелый молоток для забивки кольев. Видно было, что это для него не труд, а скорее удовольствие. Шапашот в его умелых руках врезался в дерево, как в масло, гладко и красиво отделывая молоток.
Старик тепло ответил на приветствие Абдрахмана, не прерывая работы. Юноша подсел к нему, с любопытством глядя на точные и плавные движения его руки, и заговорил так, словно они расстались вчера:
— Даке, мне кажется, что жизнь не поскупилась для вас на здоровье и силы, а ведь это, пожалуй, самый лучший ее дар, — улыбаясь, сказал он.
Даркембай кинул на него из-под седых бровей дружелюбный взгляд и тоже улыбнулся.
— Голубчик мой Абиш, ты повторил то, что недавно сказал и твой отец. Тут как-то у одного из наших жатаков поломалась телега, я вставлял спицы в колесо. Подошел Абай, посмотрел и сказал: «Молодец, сила у тебя еще крепкая!» И еще сказал мне: «Не поддавайся старости! Уж если получил такой дар, береги его». Хороший он человек, добра желает людям, особенно нам, нищим жатакам… — говорил Даркембай, продолжая тщательно отделывать молоток.
Потом он начал расспрашивать Абдрахмана:
— Учиться кончил, Абиш? Совсем вернулся в аул или опять уедешь далеко?
Тот ответил, что зиму он будет еще учиться, а весной, вероятно, приедет домой ненадолго, пока не начнет военную службу. А где ему придется служить, он и сам еще не знает.
— Значит, опять поедешь. А когда же здесь будешь жить? — сказал Даркембай и некоторое время строгал молча, явно недовольный. Потом продолжал: — Из того, что говорит Абай, я понял, что учиться — дело хорошее. Русское ученье просветляет человека, делает его зрячим. И руку его удлиняет. Абай и наших жатаковских детей отдал в науку. Я слышал, те, кто по-русски учились, уже людьми стали. Вот сын Молдабая — Анияр, сын Муздыбая, сын киргиза — Омарбек уже постигли науку и теперь пользу приносят. Вот хотя бы Садвакас: собрал всех сыновей жатаков — таких черномазых, как мой Рахим! — и обучает их грамоте. Нам, казахам, знающие люди нужны. Вот даже и я, хоть старик, а обучился ремеслу и тоже кому-то стал нужен! — как бы подсмеиваясь над собой, сказал он, показывая почти законченный молоток.
Дармен счел нужным вмешаться.
— Даке, вы хорошо знаете, как ценят вас в ауле. — И юноша повернулся к Абдрахману. — Работа Дакена для жатаков — большая помощь, Абиш. Он и соху и телегу починит, сделает и лопату, и косу, и мотыгу, и топор…
— Могу и котел починить и любую посуду! — с шутливой важностью подхватил Даркембай.
— Словом, стал мастером и по дереву и по металлу, — продолжал Дармен. — О нем жатаки теперь говорят: «Жил, жил конь, а к старости пошел иноходью!» Да он и сам доволен, что в нем проявились такие способности. Хоть ему уже седьмой десяток, а видишь, сам зарабатывает себе на жизнь, да и люди хвалят. Потому-то наш Дакен и говорит, что казахам нужны всякие знающие люди!
Даркембай слушал его посмеиваясь. Несмотря на различие в возрасте, они обычно подшучивали друг над другом, как сверстники.
— Э, что так говорить обо мне, милый мой! — сказал Даркембай, подмигивая Абдрахману. — Что я делаю? Какие-то пустяки! Ударишь топориком — выйдут сани, постучишь молоточком — получится телега. У нас есть другие знающие казахи, вот те поистине занимаются делом! Их работа — трескучие удары по струнам домбры да всякие «ари-айдай бойдай-талай!».[36]
Дармен и Абиш расхохотались.
— Не попадайся ему на язык, Абиш! У этого старика хватка еще крепкая! — сквозь смех проговорил Дармен, поглядывая на дядю, который довольно посмеивался.
Но тут же Даркембай вернулся к серьезному разговору:
— Хорошо то, что вы учитесь, а плохо, что, обучившись, не возвращаетесь в аул, — сказал он, обращаясь к Абдрахману. — Вот сын Молдабая уехал в Ташкент, служит там. И ты так же намерен поступить. Никак я этого не пойму. Родители вас обучали, народ вас ждал, как ждут летом сочных ягод, а вы созрели и не хотите принести пользу народу. Хотите подыматься сами, получить чины, у власти стоять. А вы поглядите, как один Абай на всю нашу округу излучает свет! Да что он! Даже этот говорун Баймагамбет, который грамоту знает не лучше, чем его конь, а и тот потерся возле Абая — и набрался знаний. С ним поговоришь — и сам умнее становишься. Когда он ночует у меня и целый вечер рассказывает, что узнал от Абая, я утоляю жажду, будто к юрте подошла многоводная река… Одинокое дерево в пустыне всегда зачахнет, если вокруг не примутся его семена. Хотите достигнуть высоты — тянитесь к ней вместе со всей порослью, а не в одиночку…
Слова Даркембая поразили Абиша. У него были свои затаенные мысли, о которых он не говорил даже с отцом: Абдрахман не раз думал, как бы избавиться от военной службы, жить в ауле и самому учить молодое поколение. И теперь слова Даркембая показались ему голосом самого народа, справедливо требующим его помощи.
К юрте подошла Жаныл с двумя ведрами молока.
Она была намного моложе Даркембая. Вышла она из рода Бокенши. Когда там умер ее первый муж, родственники-жатаки советовали Даркембаю жениться на ней. Все дети Даркембая от первой его жены умирали в раннем возрасте. С рождением Рахима в семье установилось полное и спокойное счастье. Жаныл оказалась как раз тем человеком, который нужен был Даркембаю в наступающей старости. Она искренне уважала его, заботилась о нем. Даркембай, которого Абай называл раньше «печальным стариком», за последние годы как бы возродился. Трудолюбивый вообще, теперь он считал своим долгом еще больше трудиться для Жаныл и главным образом для Рахима. Несмотря на свои шестьдесят с лишком лет, Даркембай сумел научиться незнакомым для него ремеслам и в короткое время стал кузнецом, столяром, мастером на все руки.
Друзья и родственники — все заметили, как на склоне своей жизни воспрянул духом этот старик. Особенно радовались этому Абай и Базаралы. Абай каждый год давал на лето Даркембаю корову и двух-трех кобыл для дойки, зимой присылал скот на мясо.
Увидев жену, Даркембай отложил топорик и поднялся.
— Жаныл, в твой дом пришел гость, да еще какой! Иди приведи барашка, Рахим тебе поможет. Угостим как следует такого гостя!
Жаныл приветливо поздоровалась с Абдрахманом и тут же захлопотала.
— Голубчик Абиш, что же вы сидите на голой земле? Давайте я постелю вам! — И, быстро зайдя в юрту, она вынесла оттуда кошму.
Расстилая ее возле юрты, она продолжала:
— Рахимтай мне уже все рассказал, когда я доила овец. Прибежал и говорит. «Апа, кончай скорей доить, Дармен-ага привел гостя!» — и прямо потащил меня за платье.
Рахим, смущаясь, прятался за мать и подталкивал ее, как бы говоря: «Ну ладно, что там рассказывать!»
Абдрахман начал решительно возражать:
— Нет, Даке, нет, женеше, и не говорите о баране! Уж если очень хотите нас угостить, так вскипятите овечьего молока. Да я и больше люблю его чем мясо!
Дармен поддержал его:
— Женеше, угостите его «белым козленком»,[37] это он в Петербурге, наверно, не каждый день кушал.
— Какое там! Ни разу за всю зиму не ел! — подхватил Абиш, чувствуя себя здесь, как в родном доме.
Когда сумерки сгустились, Даркембай оставил работу и вместе с гостями вошел в юрту. На очаге стоял уже небольшой казанок, поставленный Жаныл, на почетном месте расстелены одеяла и расшитые кошмы.
Усадив Абдрахмана и присев сам, Даркембай продолжал разговор, начатый перед приходом в юрту: по просьбе Абиша он рассказывал ему о положении жатаков.
— Жатаки наши совсем обнищали, голубчик Абиш, — заключил он. — Последние два года навалились на нас такой тяжестью, что мы никак на ноги не встанем.
Еще из прошлогодних встреч со стариком Абиш знал, что месть Такежана жигитекам задела и здешних жатаков.
— Даке, я давно хотел вас спросить, — обратился он с вопросом. — Скажите мне: как понимали этот набег ваши жатаки и жигитековская голытьба? Что они думали, угнав табуны всесильного Такежана?
Старик одобрительно и ласково посмотрел на Абдрахмана.
— Если я правильно понял тебя, свет мой, ты хочешь знать, как себя проявляет в испытании народ? Ты спрашиваешь, увидел ли я тогда его подлинное лицо?
Он помолчал, подкладывая в огонь кизяк, а потом заговорил, все более оживляясь:
— Видел… По правде сказать, и наши жатаки и жигитековские бедняки показали, чего они стоят. Я не раз думал об этом набеге и теперь хорошо понимаю, что поход этот был особенным походом… Походом бедняков. И не Базаралы его начал. Начал его народный гнев, дошедший до кипения. Видел бы ты, как всколыхнулся тогда весь этот смиренный люд! — Даркембай выпрямился, и в глазах его засверкал огонь. — Я и сам не узнавал многих жигитов. Что они тогда говорили? «Ну, что мы сделали — одного только Такежана разгромили! А их множество! Эх, если всю эту зиму налетать нам на них грозной бурей!» — вот что они говорили! Базаралы повел разгневанный народ, отвечал за всех один, только сам. На суде никого не назвал из тех, кто ринулся за ним в набег. Мужественный и честный человек!
Даркембай с гордостью говорил об этом и высказал мысль, поразившую Абдрахмана:
— Разве может герой родиться, если народ не родит его сам? Откуда же взяться в его сердце огню мужества и смелости? Базаралы — сын своего народа. Он смел и и стоек — и народ наш таков же. Когда на суде в городе решили, что мы должны отдать за каждого коня Такежана по два пятилетних коня, стон прошел по степи. Такого жестокого решения никто из нас и не слыхивал. Целые аулы, словно поверженные бурей, не могли двинуться с места. Как же кочевать, если нет коней? Оставалось или разбрестись по другим аулам, идти в батраки, или осесть на землю, забыв о кочевках. Но никто не жаловался, не стонал. Многие из тех, у кого была в руках сила, пошли на Иртыш работать к русским, другие осели здесь, стали трудиться на полях. И как ни тяжело нам пришлось, народ выдержал все… Я старик, а только теперь понял, что если держаться вместе, то народ подымет все, как сильный, могучий нар. Это и я думаю, и все люди из народа так думают, дети мои… Вот в чем причина, почему на седьмом десятке лет я выучился ремеслу и стал мастером!
Слова старика напомнили Абдрахману то, что он слышал в Петербурге о крестьянских восстаниях в России. И юноша заговорил об этом. Он рассказал Даркембаю, что в России все чаще и чаще поднимаются гневные силы крестьян. Беднота восстает против насилия царских властей, против гнета, хозяев-помещиков. Абиш говорил и о далеком, но памятном всем восстании Пугачева, который пошел против самой царицы, и о том, что было в России за последние десять лет.
— Больше трехсот раз в шестидесяти губерниях подымались на борьбу за свои права русские крестьяне…
Даркембай, слушая его со вниманием, одобрительно кивал головой и, когда Абиш умолк, заключил:
— Хороший рассказ, светик мой! Какая же темная глушь — наша казахская степь! Что мы тут знаем? Думали, что своим набегом на Такежана сотворили небывалое, о чем триста лет никто не слышал, а оказывается, на русских полях бушует настоящий ураган! В шестидесяти губерниях — это же целое государство! Говоришь, триста раз брались за шокпары? Вот это дело! Видно, где труд, там и мужество. Сильный, смелый народ эти русские, настоящие батыры! Не зря Абай говорит: «Учитесь всему у русских, они идут вперед, далеко вдаль».
Абиш вспомнил о Базаралы и спросил Даркембая, как тот живет.
— Тяжело, светик мой. — Старик покачал головой. — Ты не слышал, он ведь сильно болен…
И Даркембай рассказал, что Базаралы все еще прикован к постели тяжкой болезнью.
Заговорив о Базаралы, Даркембай вспомнил и о Такежане. Он все еще преследует тех его родичей с урочища Шуйгинсу, которые сделались теперь жатаками. Хотя они полностью выплатили наложенную на них судом пеню, он не довольствовался этим. Такежан, Азимбай, Майбасар и другие кунанбаевцы нещадно притесняют их, словно говоря: «Почему же все вы сидите на месте, воображая себя целым народом? Почему не разбрелись кто куда? Почему не просите подаяния, стоя у нашего порога?»
— Они по-прежнему чинят над бедняками всякие насилия, травят их посевы, — говорил Даркембай. — Да и нас не оставляют в покое. Если они еще позволяют нам жить, так не потому, что боятся бога, а потому, что оглядываются на Абая. Они его все же боятся, хотя злы на него… Есть такой косой дьявол по имени Уразбай. В прошлом году, пока был жив Оспан, он собирал целую дружину, чтобы нанести ему удар. Искал увесистых дубинок не только у нас, на Чингизе, но и на Бугылы, и на дальнем Шагане. Собирал себе союзников и в Кокше, и в Коныре, и в Мамае. А теперь, слышно, он решил завладеть всем Тобыкты иным способом. Стал опять заигрывать с жигитеками, мечтает поссорить Такежана с Абаем. Подсылает и к Базаралы, пытается и его подбить на свою сторону. Ну, Базекен ему и ответил… Хорошо ответил!
Вскипел чай. Жаныл подала гостям пиалы. Дармен обратился к Абдрахману, договаривая то, чего не досказал Даркембай.
— У Даке и Базекена нет тайн друг от друга. Я думаю, будет правильно, если ты перескажешь Абаю-ага ответ Базекена. Он, наверно, этого и хотел, посылая Абылгазы сюда.
Даркембай утвердительно кивнул головой.
— Правильно говоришь. Видимо, Базекен хочет, чтобы Абай не был застигнут врасплох. Так вот что рассказывал мне Абылгазы. Базекен ответил посланному: «Передай Уразбаю, я отлично вижу, что он хочет сделать меня мартышкой, а себя — лисой. Говорят, однажды лиса предложила мартышке делиться добычей. Увидели они капкан с куском свежего мяса. Лиса и говорит мартышке: ты, мол, мой гость, поэтому уступаю мясо тебе. Мартышка полезла в капкан, он захлопнулся, придавил ей лапы, а мясо досталось лисе. Мартышка начала упрекать лису, а та сказала ей в поучение: «Есть два рода счастья: одно для головы, другое для ног. Тебя схватило железное счастье для ног, хоть топчи его — оно уже не покинет тебя». Наверно, Уразбай считает, что провел жигитеков и дает им и мне железное счастье, от которого не избавишься. Аулы наши обнищали, сам я прикован к постели. Он хочет теперь натравить меня на Абая. Мы не враждуем с Абаем. Я никогда не изменял Абаю и не изменю! Пусть Уразбай держится от меня подальше со своими хитростями».
Рассказывая это, Даркембай не забывал подкладывать гостям «белого козленка»…
Поздно вечером друзья простились с Даркембаем, вышли из юрты и пошли по равнине к своему аулу.
Ночь была безветренна, в воздухе чувствовалась свежесть. Полная луна стояла высоко на небе. Звезды мерцали слабым светом, словно где-то очень далеко рассыпались мелкие искры. Светлое небо казалось огромным. Мир как бы еще расширился, открывая весь невообразимый простор, не имеющий пределов.
Величественная картина поразила Абиша. Вселенная, которую нельзя окинуть взором и которая не вмещается в воображении, словно растворяла его в себе, как ничтожную пылинку. Глядя в волшебное лунное небо и отыскивая на нем знакомые звезды, Абиш пытался представить себе, что каждая из них — центр своего собственного огромного мира, в сравнении с которым вся наша солнечная система кажется едва заметной точкой. Он улыбнулся при мысли: как найти в этой точке нашу землю, а на ней — племя Тобыкты и в нем — его самого, Абиша?
Степная жизнь продолжала в лунной ночи свое спокойное течение. Где-то лаяли собаки, откуда-то доносились протяжные выкрики сторожей. Порой слышно было чье-то пение или далекий девичий смех. В ярком свете луны ковыль отливал серебристым светом, слабым и мерцающим, как свечение фосфора. Порой чуть двинутый ветерком воздух разносил по степи горький аромат полыни.
Абдрахман шел не торопясь. Всей душой он впитывал в себя эту лунную степь, по которой так истосковался. Не будь тех тяжелых мыслей, которые пробудились в нем после разговора с Даркембаем, он мог бы, вероятно, сейчас бездумно наслаждаться таинственной прелестью ночи, подобной прекрасному сновидению. Может быть, он взял бы коня и помчался вскачь по лунной равнине, гонясь за чем-то неведомым ему самому. А может быть, душа потянула бы его к той, о ком он не забывал все это время…
И неожиданно для самого себя Абдрахман вдруг решился задать Дармену давно волновавший его вопрос:
— Дармен… А что же Магрифа? Где она? Как живет? Почему ты ничего не говоришь мне о ней?
— Магрифа все та же, Абиш, — охотно откликнулся Дармен. — Ничего не изменилось. Я не говорил о ней, потому что думал, ты все знаешь из писем Магаша.
— Последнее письмо я получил весной. С тех пор прошли месяцы…
Дармен угадал сомнения Абиша.
— Пройдут не месяцы, а годы, а она не изменится, — быстро ответил он. — Теперь уже видно, что никто не заменит ей тебя. Она любит тебя, Абиш.
Абдрахман вздохнул.
— А я по-прежнему ни на что не решился. И в эту зиму я все еще буду птицей, отбившейся от родной стаи… Что меня ждет, не знаю… Но как бы там ни было, мне кажется, что заставлять Магрифу ждать в неизвестности несправедливо.
Дармен согласился с ним.
— Правда, ее родные, по всей видимости, мучаются тем, что она опутана без веревки. Зато наши не собираются ни от чего отказываться. Не в прошлом году, так в этом, а не в этом, так в будущем, как ты сам сказал. Во всяком случае дело решится! Однако все-таки хоть что-то ты должен нынче сказать Магрифе. Будешь молчать — снова обречешь ее на долгие одинокие страдания.
Абдрахман ничего ему не ответил, лишь молча кивнул головой и тяжело вздохнул. Что ему было ответить? Будь он даже здоров, все равно в такое время, как сейчас, нельзя было говорить о женитьбе. Аул в трауре, а сердце отца еще больше, чем прежде, изранено. Он, сын Абая, должен еще разобраться в той вражде, которая клокотала вокруг аула отца.
— Эх, Дармен! — воскликнул он, беря друга за руку. — Нет хозяина в этой огромной многострадальной степи. И нет кары на злодеев! Неужели эти Уразбаи находят союзников себе в аулах?
— Конечно, Абиш, ведь ты сам слышал. Но Дакен рассказал не все, он говорил только об Уразбае.
— А кто еще?
— Э-э, что там говорить? Найдется много. И рядом и подальше…
— Говори точнее: кто рядом, кто подальше?
— Подальше, например, Жиренше… А рядом — Такежан, чей аул виден вон там… Этот еще присматривается, куда ударить. А Жиренше, как и Уразбай, один из главных смутьянов.
— И что же они делают?
— Подбивают всех на вражду. Нынче весной, когда аулы еще не снялись с зимовок, Жиренше заехал с друзьями к Асылбеку поесть сыбага.[38] Надо сказать, что он все подговаривал Асылбека враждовать то с тем, то с другим, а тот, как смирный и разумный человек, науськиваниям его не поддавался. И вот, войдя в дом, Жиренше с насмешкой сказал: «А ты, мой сыч, я вижу, по-прежнему лежишь без движения, не шевельнешься. Все раздумываешь о будущем?» Ты слышал, наверно, у нас говорят про сыча, будто он весь день сидит не двигаясь потому, что смотрит в будущее. Ну, Асыл-ага тут же и ответил Жиренше: «А ты, мой удод, все попрыгиваешь и попискиваешь у каждой кучи навоза, подстрекая всех?»
Абдрахман, представив себе маленькую птичку с полосатыми крылышками и высоким гребешком, вечно беспокойно подпрыгивающую, невольно расхохотался.
— Вот это красноречие! Что за мастера! Как умеют они в короткой схватке немногими словами выразить многое! Так и кажется, что они посылают друг другу не слова, а отравленные стрелы… А все-таки этих мастеров красноречия можно только пожалеть. На что они расходуют свой талант? Уж во всяком случае не на то, чтобы делать добро.
Абдрахман перевел разговор на Такежана, расспрашивая Дармена, какие же козни строит тот. Вопросы эти поставили юношу в трудное положение. С одной стороны, он не желал разжигать вражду между родственниками, а с другой — не хотел оставлять Абдрахмана в полном неведении насчет замыслов Такежана. Решившись, юноша продолжал:
— Говорят, Такежан-ага строит новые козни, ищет серьезного повода, чтобы теперь же рассориться с Абаем-ага. И, говорят, он этот повод нашел.
— Какой же?
— Раздел наследства Оспана-ага.
— Раздел? — удивился Абдрахман. — Но как же можно говорить о разделе, когда не прошел еще год траура? Кто же позволит ему делить наследство, когда еще свежа могила?
— Э-э, Абиш, в этом-то все и дело! Недаром говорится, что друг, который задумал с тобой расстаться, попросит у тебя заднюю луку седла.[39] Говорят, Такежан хочет предложить такой раздел, чтобы вынудить Абая-ага не согласиться. И тогда, свалив на него всю вину, он сможет перейти на сторону врагов отца…
Дармен замолчал, Абиш тоже не стал расспрашивать дальше, решив поговорить обо всем с Магашем.
2
Приближался конец лета. Аулы, находившиеся на жайляу за Чингизом, теперь перекочевали в Ералы и на соседние урочища, переходя на осенние пастбища. И целую неделю аул Оспана каждый день снова принимал гостей, ежедневно приезжавших почтить память покойного.
Эти однообразные дни бесконечных поминок были потревожены событием, происшедшим неподалеку. Аул Оспана находился на Ойкодыке, вокруг него расположились аулы Такежана, Абая, Акберды, Майбасара, Исхака. Эти богатые аулы выделили из своих табунов молодняк для отдельной пастьбы. С большими косяками отправились молодые хозяева: Азимбай, сын Такежана, Мусатай, сын Акберды, и Ахметжан, сын Майбасара. Они разбили свои стоянки возле ручьев Большой Каска-Булак и Малый Каска-Булак, в долине за холмами Сары-Адыр.
В той же долине стояли многолюдные аулы бедняков-жатаков возле засеянных ими хлебных полей. В этих аулах люди готовились в скором времени собрать плоды своих тяжелых трудов. Лето выдалось с дождями, и урожай радовал жатаков. Особенно хорошо уродилась пшеница у подножий Сары-Адыра и на прилегающем к ним урочище Тайлакпай. Здесь на двадцати десятинах созрели посевы шестидесяти семей, в том числе и посевы Базаралы, Абылгазы и Даркембая. Тут же впервые посеяли хлеб и несколько десятков бедняков, которые лишь недавно откочевали из байских аулов, чтобы заняться хлебопашеством.
Нивы были уже желты, и в аулах поговаривали о том, что пора начинать жатву. Однако Даркембай, у которого опыта было больше, чем у других, советовал подождать еще десять — пятнадцать дней. «Пусть поля сплошь превратятся в золото! Потерпи еще, беднота», — удерживал он людей.
Но многим уже трудно было дожидаться этого. Наступала осень, козы перестали давать молоко. Поэтому голодные семьи торопились. Они выбирали на своих участках поспевшие уже колосья, растирали их в ладонях, прожаривали зерна, толкли и кормили толокном отощавших детей и стариков. Даже эта скудная пища была уже заметным подспорьем для голодных. Поле еще не созрело, но с каждым днем все чаще возле юрт разжигались очаги и, потрескивая, пеклась на них пшеница в ковшах с рукоятками. То и дело раздавался перестук ступ. Девушки и подростки, забрав с собой маленьких братьев и сестер, целыми днями пропадали на поле, собирая созревшие колосья.
Сегодня также вышли на свой небольшой участок внуки старой Ийс — Асан и Усен. Семилетний Асан — в рубашке и коротких штанах, а Усен, которому еще только пять лет, щеголяет в одной рубашонке. Но загорели они одинаково — их личики, руки и ноги совсем черны. Едва войдя в высокую пшеницу, Асан, как старший, начинает поучать брата:
— Выбирать надо только спелую. Ты не вздумай сам рвать колосья! Я умею, я и буду выбирать!
— И я! Бабушка и мне велела брать.
— Ты напутаешь. Сорвешь неспелый колос — и есть нельзя, и поле испортишь.
— А ты меня научи, Асан! Покажи. И я буду брать только спелые.
— Говорю, нельзя. Будешь приставать, никогда больше с собой не возьму. Знаешь что? Ты лучше держи подол, а я буду срывать колосья и класть к тебе. Ладно, Усентай?
— Ладно!
Договорившись, дети стали осторожно и медленно пробираться в густой пшенице. Асан, видевший, какие колосья принесла вчера старая Ийс, начал отбирать точно такие же. Срывая их, он старался не повредить стебля и, передавая Усену, приговаривал:
— Шагай тихонько, не топчи пшеницу. Поломаешь — пропадет посев. Иди по моим следам. Сломаешь хоть один стебелек — бабушка больше не пустит!
Малыш, пробираясь за братом, мечтает вслух:
— Принесем — бабушка опять напечет зерна. Воспоминание о вчерашнем пиршестве заставляет его торопиться со сбором. Он сам тянет ручку к колосу и, лишь заметив строгий взгляд Асана, поспешно отдергивает ее.
— Не трогай! — опять предупреждает тот. И тоже начинает мечтать:
— А потом, как вчера, растолчем зерна, бабушка молоко туда нальет. Вкусно?
— Вкусно! — вздыхает Усен.
— Скоро вся пшеница поспеет. Дней через десять, — важно повторяет Асан слова Даркембая, сказанные в разговоре с Ийс. — Тогда начнется жатва…
— И опять приедет сам Дармен-ага! — радостно подхватывает Усен.
— Конечно, приедет. Он позавчера был у бабушки, сказал, что обязательно приедет. И хлеб уберет и снопы свяжет.
Асан говорит о Дармене, словно о родном старшем брате. Действительно, Дармен, у которого нет еще своей семьи, принял близко к сердцу судьбу старухи Ийс и ее маленьких внучат. «Разве эти малютки не самые несчастные из всех сирот? А я, здоровый, сильный жигит, помогу им хоть чем-нибудь, стану им опорой и защитой!» — решил он сразу после гибели Исы.
И той же осенью Дармен переселил всю семью Ийс из аула Такежана к жатакам, по соседству с Даркембаем, а сам отправился к знакомым русским крестьянам, к которым он нанимался во время жатвы, когда был подростком. Так и теперь он проработал у них всю осень и смог обеспечить Ийс и сирот на зиму. Он дал ей телку и трех баранов да еще снабдил семенами на весну: пшеницы на полдесятины и проса на четверть. Этим летом он не раз приезжал осматривать маленькое поле и обещал сам его убрать.
Собирая колосья, малыши с удовольствием говорят и о просе, посеянном Дарменом.
— Скоро поспеет просо — будет и коже.[40]
— Ой, какое вкусное коже! А с молоком еще вкуснее!
Неподалеку от них, на соседних участках, собирали колосья такие же, как они, мальчики и девочки. Здесь дети Канбака, Токсана и Жумыра, тех самых бедняков, которых прошлой осенью так жестоко обидели Азимбай и Манике. Тут же и дети из семей Абылгазы и Базаралы. Даже и Рахимтай тут. У него в мешочке немало спелых колосьев. Он отпросился у Даркембая на поле, чтобы потом натолочь ему талкан.[41] Мальчик всерьез воображал себя кормильцем семьи.
Вскоре все ребята, неся колосья в мешочках, в подоле или в снятом с плеч халатике, пошли к аулу. Личики их сияли. Оборачиваясь к своим клочкам посевов, каждый окидывал их ласковым взглядом. И так же, как Асан и Усен, эти дети говорили лишь об одном:
— Скоро жатва. Вот наберем пшеницы!
— Коже сварят. Каждый день будем варить коже!
— А у нас будет просяное коже! — объявляет Усен. Просо было посеяно только на поле старухи Ийс, и мальчик необыкновенно гордился этим!
— Ну и что? А пшеничное коже даже вкуснее просяного! — обижается маленький сын Токсана—Айтыш.
— Зато у нас из пшеницы мука будет, лепешки испекут, — подхватывает маленькая Уружман. О баурсаках она мечтать не решается, для них ведь нужно сало.
Но Усен не сдается.
— Лепешки! А из проса бабушка кашу сварит. Рахимтай затягивает песенку, дети ее подхватывают. Это веселая песенка казахов-землепашцев с шутливым припевом:
Эй ты, черноногий сынок, не спи! Нашу пшеницу клюют воробьи!..Маленькая Жамал хохочет, дразня мальчиков:
— И правда, черноногие! Вон один, вон другой… А этот уж вовсе черноногий! — кричит она, показывая на Усена.
Тот обижается.
— Сама ты черноногая!
— Кто? Я?
И Жамал быстро выбегает вперед, крепко придерживая подол длинного платьица, в который она набрала колосьев. Громко визжа и торжествующе смеясь, она начинает какую-то бешеную пляску, выбрасывая в сторону стройные ножки и хвастая их белизной, резко отличающейся от смуглых и загорелых ног других ребят. Даже Усену становится стыдно своих слов.
Дети уже подошли к своим аулам на урочище Тайлакпай. И тут их поразило невиданное зрелище: между аулами растянулось множество телег, словно длинный верблюжий караван чьей-то большой кочевки.
Первым высказал свою догадку Рахимтай:
— Ойбай, это русские! Глядите, вон и матушке[42] ходят! Ребята вгляделись. Телеги все были распряжены. На некоторых из них виднелись парусиновые навесы вроде палаток. Возле обоза ходили бородатые мужчины, женщины в непривычно маленьких головных платках, между телегами бегали светловолосые дети, особенно заинтересовавшие ребят.
Однако это появление в ауле чужих людей смутило маленьких казахов. Они начали замедлять шаги, а младшие принялись тихонько хныкать. Рахимтай пристыдил их:
— Чего вы напугались? Такие же люди, как мы. Погодите, еще хлеба дадут! Пойдем! Если покажем, что боимся, вот тогда они обидятся и станут ругаться.
И он повел всех ребят за собой.
Это был действительно обоз русских переселенцев. Здесь были и никогда не виданные казахскими детьми брички, и телеги на железном ходу, и большие возы, покрытые сверху брезентом. Все это расположилось вокруг многоводного колодца, находившегося между тремя аулами землепашцев. Кони были уже распряжены и пущены на выпас. В разных местах горели костры: видимо, готовилась пища.
Урочище Тайлакпай находилось вблизи тракта, и поэтому появление обоза не удивило детей. Их поразило другое: никогда еще не приходилось им видеть сразу так много русских людей. Ни лицом, ни одеждой они не походили на тех, кого ребята привыкли видеть в своем ауле.
Большинство детей уже дошло до своих юрт. Пройти мимо остановившегося обоза пришлось только Рахимтаю, Асану, Усену и шаловливой девочке Жамал. Сбившись в кучку, они храбро пошли вдоль ряда повозок. И тут их сейчас же окликнул русский дед, отдыхавший в тени передней телеги.
— Эге, да у них пшеница! Какая она тут растет? Ребятки, постойте-ка, покажите-ка вашу пшеницу!
Дети не поняли его, но остановились. Старик поднялся и пошел к ним. Его окладистая борода, седые волосы, огромный рост перепугали их. Асан даже шепнул:
— Бежим!
Но Усен и Жамал захныкали:
— Поймает нас! Ой, сейчас поймает!
Они понимали, что раз они самые маленькие, они первыми попадутся в его руки.
Но дед, догадавшись, видимо, как перепугал он ребят, шел к ним, улыбаясь во весь рот, и, показывая на колосья, успокоительно повторял:
— Постойте-ка, ребятки, обождите… А ну, покажьте вашу пшеницу!..
Рахимтай оказался храбрее других. Видя, что дед тычет пальцем в колосья, он улыбнулся ему в ответ и сказал по-казахски:
— Это наша пшеница. Своя!
Тогда дед поманил их за собой к телеге и отсыпал с воза в шапку целую кучу сухарей. Ребята заметили, что сухари были из белого хлеба. Это обстоятельство успокоило и заинтересовало даже Усена, перепуганного больше других. И как раз из подола его рубашонки старик осторожно взял несколько колосьев, а взамен их насыпал сухарей. Потом он повернулся к другим ребятам, раздав им остаток.
— Ну, грызите сухари! А я посмотрю, какая тут растет пшеница, — загудел он себе в бороду, растирая на ладони колосья.
Дети, переглянувшись, собрались уходить. Но тут из-за телег вышло несколько пожилых женщин. Улыбаясь, они обратились к детям:
— Сють… Сють бар? — повторяли они, показывая детям сухари и куски калачей.
Рахимтай и Асан поняли их.
— Есть молоко! И у моей бабушки есть! Сут бар, сут бар… Вон аул! — отвечали оба наперебой, показывая на юрты.
Женщины пошли за ними. К ним по дороге присоединились и другие. В руках у всех была посуда для молока и узелки с хлебом. За женщинами пошел к аулу и седой дед, а с ним еще двое крестьян.
Эти трое были вожаками всего обоза. Деда, остановившего ребят, звали Афанасьичем. Второго — широкогрудого великана со светлыми усами — Федором, а третьего — низенького, щуплого старика, с острыми, глубоко сидящими под густыми бровями синими глазами, — дедом Сергеем.
Подходя к аулу, дети начали звонко кричать:
— Молока просят, дадут хлеба! Бабушка, неси молока! Белых сухарей дадут!
На их крики из юрт выбежали казахские женщины. Скоро они смешались с русскими. Среди тех выделялась высоким ростом и статной крупной фигурой пожилая женщина с крепкими, как у мужчины, руками, с морщинистым властным лицом, загоревшим больше, чем у других. Остальные называли ее Дарьей.
Дарья заговорила с казашками. Передавая им сухари и хлеб, она знаками объясняла, кому налить молока. Увидев старушку Ийс, она попыталась пошутить с ней, показывая то на хлеб, то на молоко:
— Меники-сеники,[43] — приговаривала она, улыбаясь. Старая Ийс, жена Базаралы Одек и жена Даркембая Жаныл отвечали ей такой же приветливой улыбкой, повторяя по-казахски:
— Вы гости. Берите молоко, ничего не надо! Некоторые из женщин протягивали монеты, Жаныл, смеясь, отмахивалась обеими руками, выразительно покачивая головой:
— Не надо. Денег не надо, мы не торговцы! Давай налью!
И она тут же начала разливать молоко из своего ведерка с носиком в принесенную русскими женщинами посуду, с улыбкой отстраняя руки, протянувшиеся к ней с деньгами.
— Глядите-ка, бабы! Ведь видно, что не из богатых, а денег не берут, — растроганно сказала Дарья. — Киргиз гостя уважает, а они гостями нас считают. Ну, кланяйтесь, говорите хорошим людям спасибо!
Она первая стала благодарить старую Ийс и Одек, которые, глядя на Жаныл, тоже даром разливали молоко. Мужчины стояли рядом, одобрительно кивая головами на слова Дарьи.
Афанасьич подошел к Жаныл, которая понравилась ему своей веселой приветливостью, и заговорил с ней на ломаном казахском языке:
— Аул казах жигит бар?
— Что он сказал? — засмеялась Жаныл, повернувшись к остальным. — Понял кто-нибудь?
— Кажется, спрашивает, есть ли в ауле жигиты! — догадалась Одек.
Афанасьич поспешно закивал головой, услышав ее слова. Он немного понимал по-казахски и лучше других своих спутников знал казахов. Еще в прошлом году он приезжал в Семиречье «ходоком» и пробыл там год, выбирая места для переселения земляков и присматриваясь к жизни в этих краях. Теперь он вел весь этот большой обоз переселенцев.
Поняв, что он хочет поговорить с мужчинами аула, женщины вспомнили про Базаралы, который лежал больным в своей юрте: конечно, Базаралы сумеет поговорить с русскими, он же говорит на их языке! Другие называли имена Даркембая и Абылгазы.
Одек решительно повернулась и махнула рукой Афанасьичу.
— Идите! Сюда идите. Жигит бар! — и пошла к своей юрте.
Тем временем от обоза подходили все новые женщины, некоторые с грудными ребятами. Получив молоко, они медленно пошли по аулу во главе с Дарьей, заглядывая то в одну, то в другую юрту, с любопытством осматривая их скудное убранство. Они пытались заговаривать с казашками, но, не добившись толку, ограничивались только улыбками, кивками, взглядами и смехом. Все взаимно поражало и хозяев и гостей.
Между тем Дарья, заглядывая в юрты, опытным взглядом оценила благосостояние их хозяев.
— Голь перекатная. Кибитки дырявые. Внутри одни отрепья — ни одежи, ни добра. И чем они живут? А пища-то— гляньте! — И, жалостливо покачивая головой, она показывала на подростков, встряхивающих над кострами ковши с сухой пшеницей.
Окружающие ее казашки старались понять ее слова.
— Что она говорит? Что это Жарья головой качает? — спрашивали они друг друга, по-своему переделав имя Дарьи.
Зато русские женщины сочувственно подхватывали ее слова:
— Видно, сала ни кусочка нет!..
— У них, наверно, только и пищи, что молоко!
— И поди ж ты, сами голодают, а денег не берут.
— Ох, бабы, и куда мы заехали! Одна нищета, а не деревня!
— А чем же тебе не деревня? Нужда такая же, как и в нашей, пензенской.
— Такая же голь! — решительно закончила низким голосом Фекла, рослая, как и Дарья, но еще более крепко сложенная, будто литая из чугуна, пожилая женщина. И она послала неизвестно кому крепкое проклятие.
Дарья слушала эти возгласы, кивая головой. Потом она подытожила все сказанное:
— Киргизская ли нужда, русская ли — видать, все одно! Сразу узнаешь…
Тем временем в юрте Базаралы вокруг русских гостей собрались Даркембай, Абылгазы, Канбак, Токсан, Жумыр и еще несколько мужчин. Беседа шла с помощью Базаралы.
Он все еще был болен. Болезнь свою Базаралы называл «недугом суставов» — «куянг». Боль в пояснице не давала ему встать с постели. Приподнявшись на локте, он кое-как объяснялся с крестьянами по-русски и переводил их слова Даркембаю и другим.
Апанас — так выговаривал его имя Базаралы — рассказал, что обоз заблудился в степи.
— Как из Семипалатинска выехали, так, видно, и заплутались, — объяснял он. — Не на ту дорогу попали. Нам бы на тракт.
Апанас просил казахов дать обозу проводника, обещая с ним расплатиться. Поняв со слов Базаралы его просьбу, Даркембай ответил за всех:
— Найдем человека, дадим. Вот Канбак пока свободен. Пусть поедет с ними, за день обернется.
Канбак охотно согласился, и переселенцы тут же сговорились с ним об оплате.
Даркембай решил расспросить сам, откуда и куда едут путники.
— Куда поедем, Апанас, а-а-а? — с трудом подобрал он слова, но Афанасьич отлично его понял.
— В Семиречье едем, — ответил он и тут же для понятности добавил: — Семирек… Семирек едем!
Даркембай повернулся к остальным.
— Какой это Семирек? Может быть, Ак-Ирек? — старался он разгадать, называя земли соседнего рода Сыбан.
В разговор вмешался дед Сергей.
— Лепса, Лепса, — пояснил он. Теперь Базаралы понял.
— А, Лепсы! Вот они о чем говорят: им надо на Шубар-Агач и Копал!
— Да, да, Копал! — обрадовался Сергей. — Копальск. Лепса-Копал!
— Э-э, это они про Жетысу[44] говорят. Ту-у-у, это ведь край земли! Откуда же они едут? — удивился Даркембай.
На вопрос Базаралы Афанасьич широко взмахнул рукой.
— Россия… расейские… Я из Пензы, а эти вон с-под Тамбова.
Базаралы пояснил казахам, что гости едут издалека: из самой России. Узнав о том, что обоз движется уже два месяца, Даркембай покачал головой.
— Зачем же они так далеко откочевали? Какая сила погнала их с отцовской земли? — поразился старик.
На этот вопрос Апанас только развел руками.
— Плохо там было. Голодали.
— Земли было мало?
Афанасьич с горькой усмешкой кивнул головой и, как бы насмехаясь над своей долей, ответил:
— Земли-то там много. Только для нас-то ее не было.
— А у вас сколько было земли? — расспрашивал теперь сам Базаралы.
Афанасьич показал ладонь.
— Вот сколько. А нужда была большая, как мой зипун!
Базаралы рассмеялся, оценив остроумный ответ старика, повернулся к своим.
— Слушайте, что он сказал. Говорит, земли было с ладонь, а нужды — как целый чапан!
— Ай, бедный! — Слушатели сочувственно зачмокали губами.
— Как метко сказал! Такая она и есть, нужда! Апанас между тем продолжал с той же горькой усмешкой.
— А беда нависла над головой еще больше… Как вот эта твоя юрта.
Базаралы тут же перевел:
— Он еще говорит: беда у них была над самой головой, большая беда. Как эта юрта над нами. Как же было им не кочевать? Вот и решились.
Даркембай смотрел на Апанаса со все большим доверием и сочувствием.
— Вон как… Значит, как говорится: «Если бы год был хорош, зачем архарам[45] бежать из Арки?»
А Канбак, кивая головой, добавил:
— Разве это он о себе сказал? Это он про нас.
— И верно! — подхватил Токсан. — Не то же ли самое с нами? Только у нас земли много. Зато посеяно — с ладонь. А нужда да беда — то наши постоянные знакомые. Давят, как ярмо.
Базаралы, который с дружеским расположением поглядывал на Апанаса, теперь заговорил по-казахски:
— Эти люди — отважное племя. От правды они не отступят. Родились в бедности, так не станут бахвалиться: «Мы, мол, потомки богатого рода!»
Базаралы тут же принял одно решение. Он повернулся к Даркембаю, Абылгазы и к жене.
— Много хлеба и соли съел я в ссылке у русских. А больше всего кормили меня вот такие же бедняки, как эти. Только с их помощью я добрался до родины, когда бежал с каторги. Сейчас передо мной усталые путники, утомленные тяжелой дорогой. У них и горе и слова такие же, как у нас. Я все берег своего единственного подросшего барашка; думал, заколю для какого-нибудь редкого гостя. Что ж, кого лучше я найду? Давайте заколем его и угостим этих людей! Абылгазы, пошли за ним в стадо!
Друзья одобрили его решение. Одек уже готовила чай. Базаралы обратился к Апанасу и попросил его остаться у него в гостях вместе с остальными двумя, а кроме того, пригласить на обед еще пятерых почтенных людей из русского обоза. Апанас поблагодарил за приглашение и сказал, что за остальными сходит Федор.
Базаралы поручил Токсану и Канбаку вечером пройти с гостями на поле:
— Покажите им наши посевы. Мы ведь только ковыряем землю, ничего не понимая в деле. А вот Апанас знает все. Они плачут не о том, что с хлебом много труда, а о том, что для труда мало земли. Это мы жалуемся, что хлеб требует много труда, и боимся лопаты. Покажите им нашу землю, расспросите, как надо здесь пахать и сеять!
В ожидании обеда Базаралы рассказывал гостям о жизни аула землепашцев, говорил и о том, что они решились покинуть своих баев и зажить своим трудом. Рассказал он и о том, как баи морили бедняков голодом.
Под вечер, после угощения, крестьяне вместе с Даркембаем и Абылгазы пошли смотреть хлеба. Дед Сергей, о котором Апанас отозвался как о самом знающем хлеборобе, то и дело покачивал головой. Сам Апанас, останавливаясь там, где замечал огрехи, показывал их казахам и ворчал:
— Жаман!..[46] Жалкау!..[47]
А Федор, увидав эти огрехи, попросту ткнул Абылгазы в бок и яростно плюнул, выказывая полное осуждение. И хотя он не понял смысла слов, сказанных Апанасом, укоризненно повторил их:
— Жаман, жаман! Да чего там — жаман! Просто — плохо. Уж до чего плохо, хуже нельзя! Бить тебя надо, Абылгазы, — закончил он и потряс могучей рукой жигита за плечи, показав кулак.
Однако то, что, несмотря на плохую подготовку земли, на всех этих двадцати десятинах стояла густая, рослая и ровная пшеница, явно поразило переселенцев. Взяв по горсти земли, они разминали ее на ладони, рассматривая внимательно и тщательно, словно покупали дорогую муку.
Вернувшись в юрту Базаралы, Апанас, Сергей и Шодр (так выговаривали казахи имя Федор) перечислили все недостатки, замеченные ими на полях. Оказалось, что земля вспахана неровно и недостаточно глубоко.
— И как это такой плохой труд дал такой хороший урожай? — удивлялся Апанас и шутил — Видно, просто ваш аллах очень щедрый!
Сергей усмехнулся:
— Чего там аллах! Это у них земля здесь такая. Возьми вон с воза оглоблю да посади тут — гляди, телега вырастет!
Базаралы перевел его слова остальным:
— Он говорит: урожай нам дал не наш труд, а щедрость нашей земли. Говорит: в нашей земле такое изобилие, что закопай оглоблю, телега сама вырастет. Вот как хвалит он нашу землю!
Но упрек гостей Базаралы тут же отвел, с трудом объяснив им по русски:
— Бороны только две. А семей шестьдесят. Лошадей совсем мало. Да и дохлые они. Верблюда запрягли. Дойную корову запрягли. Едва борону тащили. Люди руками поле делали. Что же говорить о плохом уходе? Как мы могли иначе сделать?
В сумерках переселенцы попрощались с Базаралы и с остальными и пошли к своим телегам. Они решили тронуться в путь ранним утром. Канбак, обещавший проводить их до самого Семиреченского тракта, сказал, что с рассветом будет уже на коне.
При этом прощальном разговоре Даркембай не присутствовал. Когда он возвращался с русскими стариками с поля, зоркий взгляд его заметил на склонах холмов Сары-Адыр огромный табун пасущихся коней. Отправив стариков с Абылгазы в юрту Базаралы, Даркембай поспешил сесть на коня. Солнце уже клонилось к закату, когда он подъехал к косякам. Из табунщиков здесь был только один подросток, дневной сторож. Подъехав к нему, Даркембай, ласково называя его и «светиком» и «сынком», попросил: — Тут поблизости есть посевы бедняков жатаков. Вон там, видишь, внизу? Уже совсем поспели хлеба, вот-вот возьмемся за серпы! Как бы не случилось так, что табунщики ночью заснут и недоглядят за конями. Не дай боже, если такой огромный табун набредет на хлеба! Передай об этом ночным табунщикам, объясни им, родной, предупреди!
Вполне поняв опасения старика, жигит обещал ему предупредить тех, кто поедет в ночное, и Даркембай вернулся в аул успокоенный.
Молодой табунщик, пригнав коней на вечерний водопой, действительно передал просьбу товарищам, которые должны были вести табун в ночное. Тут же был и сам молодой хозяин—Азимбай. При имени Даркембая лицо его помрачнело, и он, нахмурясь, слушал жигита. Когда тот закончил, Азимбай приказал гнать табуны на те же места, где они паслись днем, и добавил, что нынче поедет в ночное сам.
На урочище Малый Каска-Булак паслось много иргизбаевских косяков, которых сопровождали сыновья хозяев — молодые люди, подобные Азимбаю. Молодежь часто выезжала веселой компанией с табунами в ночное. И когда нынче Азимбай предложил им: «Садитесь на коней, поедем на ночь с табунами. Устроим ночные скачки, повеселимся!» — все охотно согласились.
В сумерки к склонам Сары-Адыра направилось больше десяти косяков молодняка. С ними ехали байские сыновья, их слуги и табунщики. Тут был сын Акберды — Мусатай, сын Майбасара — Ахметжан, забияка и смутьян вроде своего отца. Были здесь и крикливый Мака, и молодой повеса Акылпеис, и известный конокрад и бездельник Елеусиз.
Азимбай придумал эту поездку неспроста. Слушая молодого табунщика, он вспомнил, что Базаралы и Абылгазы дружат с Даркембаем и что на этих полях есть, конечно, и посевы обоих его врагов. Да и сами жатаки вместе с Даркембаем давно уже вызывали злобу Азимбая. Кругом только и говорили, что урожай у жатаков в этом году будет обильный. Не очень веря этим слухам, Азимбай на днях съездил к Сары-Адыру, внимательно осмотрел жатаковские поля и вернулся еще более озлобленным. Действительно, по всему выходило, что жатаки получат превосходный урожай.
И теперь он подвел табуны к посевам. Кони, которые все это время паслись на сухом ковыле горных пастбищ, сейчас охотно спускались в низину, отыскивая свежую зелень. Впереди всех шел темно-рыжий лысый жеребец, признанный вожак тысячного такежановского табуна. Часто пофыркивая и подхватывая на ходу траву, он вел свой огромный косяк, за которым тянулись и остальные табуны. Видимо, он уже учуял близость хорошего корма и теперь уверенно шел, не останавливаясь и даже не опуская головы к земле. Азимбай вполне оценил его поведение и, подозвав к себе своих сверстников и табунщиков, предложил:
— Ну, жигиты, давайте теперь отдохнем! Слезайте с коней, полежим тут, побеседуем. Табуны сами видят, куда идти. У скотины языка нет. Если что случится, кому кони расскажут? Соберем их с рассветом и поедем домой.
Он засмеялся с откровенной злобой. Приятели поддержали его смехом, но один из молодых табунщиков, видимо не поняв хозяина, возразил:
— Тут неподалеку посевы. Долго ли до греха?
— Ложись, не болтай! — оборвал его Азимбай. — Если одни вздумали сеять, что же, другим и пасти скотину нельзя?
— Ковыряют землю. Что выдумали: ни отцы, ни деды не занимались этим! — ворчал Мака.
— Стыдно всему народу за этих оборванцев жатаков. Выгнать их пора из нашей степи, — добавил Ахметжан.
— Это дело недолгое, — сказал Азимбай. — Стоит лишь два-три раза подряд уничтожить их поля и прикрикнуть: «Не ройте землю, словно собаки перед чьей-то смертью!» — и они сами куда-нибудь откочуют.
— Верно. А если эти мужики не откочуют, так разлетятся, как пчелы из разоренного улья! — подхватил с хохотом Акылпеис.
Слова его так понравились Азимбаю, что, устраиваясь спать, он несколько раз повторил их вслух. Рядом с ним улеглись его приятели.
Этот мирный отдых в ночной степи, такой невинный на вид, на самом деле был гнусным преступлением. Если бы эти молодые негодяи снаряжали сейчас конокрада или садились бы на коней для открытого набега, или даже разжигали пожар в степи, они совершали бы меньшее преступление, чем сейчас.
А кони?.. Прекрасные, умные животные, полные достоинства и благородства, мирные друзья человека! Если бы только они понимали, чем сделала их злая воля Ааимбая! Они становились теперь разрушительной силой, подобной степному пожару, урагану или наводнению. Сплошной темной массой, покрывавшей целое поле, табун двигался в ночи, как некий тысяченогий и многозубый ненасытный разрушитель, лютый айдахар — дракон. И в голове этого гигантского чудовища, как одинокий драконий глаз, светлела темно-рыжая грива такежановского жеребца. Он шел все вперед и вперед, ведя за собою тысячный табун. Спелая густая пшеница распространяла в ночи манящий запах. И весь табун — не только яловые кобылицы, но и жеребята-стригуны — понял уже этот призыв и двинулся на посевы, заливая их сплошной массой от края до края.
Косяки как будто нарочно сохраняют полную тишину. Не заржет ни один жеребец, даже ни один глупый стригун. В глубокой тишине ночи слышны только лишь хрустящий звук перетираемых зубами колосьев да негромкое пофыркиванье, словно кони выражают друг другу удовлетворение наконец-то найденным богатым кормом. Одни из них захватывают колосья, другие перекусывают стебли пополам, а молодняк, не разобравшись в этом корме, не столько ест, сколько рвет пшеницу с корнем; не зная, с какого конца жевать колосья, стригуны, топчут их и вырывают новые.
Уничтожая посевы, несметный табун дошел уже до самой середины хлебов. Там и здесь кони валятся в ниву и, перекатываясь с боку на бок, мнут высокие стебли. Дикий молодняк, неведомо чего испугавшись, вдруг пускается вскачь, топча и ломая стоящую стеной пшеницу. Под ударами их крепких копыт колосья втаптываются в рыхлую глину, рассыпая спелые зерна… Те самые колосья, которых нынче днем боялись коснуться осторожные руки маленьких детей, сейчас вминались в землю копытами. Спелые зерна пожирались, уничтожались широкими зубами коней. Тяжкий труд, горький пот, трепетные надежды бедноты — все это было растоптано табуном.
Обоз переселенцев зашевелился еще на рассвете. Коней запрягли в телеги, готовясь тронуться в путь. Ожидали только Канбака. Он тоже встал чуть свет и пошел за своим конем, которого с вечера пустил на подножный корм, спутав ему ноги. Поднявшись на холмик возле посевов, Канбак увидел в пшенице огромный табун и, поняв весь ужас происшедшего, громко закричал, рыдая в голос, и кинулся к аулу.
Навстречу шел Даркембай, который встал пораньше, чтобы посмотреть, не забрел ли какой-нибудь стригунок в пшеницу. За ним шла старая Ийс и еще несколько женщин, вышедших на поле, чтобы нарвать спелых колосьев для утреннего чая. К ним и подбежал Канбак, рыдая и крича.
Весть быстро разнеслась по всем трем аулам. Люди сразу поняли размеры бедствия. Из всех юрт высыпали люди. Дети, хватаясь за подолы матерей, путаясь в ногах у взрослых, плакали в страхе, увеличивая общий шум, не понимая, в чем дело, но чуя большое горе.
Громкие проклятия, горестный плач, гневные возгласы… Аул забурлил, как будто готовился отразить внезапный вражеский набег.
— Будьте вы прокляты, злодеи!
— Пусть спалит огонь весь род иргизбаев!
— Кто хозяева тубанов? Погибель им!
— Пусть их внуки и правнуки в слезах влачат жизнь!
— Да затопят тебя наши слезы, лютый враг!
— Конечно, враг! Только враг мог решиться на это!
— Подлецы… Проклятия сирот на ваши головы!
Во всех аулах раздавались эти крики. С такими же гневными словами вошли в юрту Базаралы его друзья Даркембай, Абылгазы и Канбак.
Базаралы был одет, как будто собирался куда-то в путь, но встать с места не мог, прикованный болезнью к постели. Он был смертельно бледен. Прислушиваясь к рыданьям и крикам, доносившимся в юрту, он метался по постели, но не проронил ни одного слова. И лишь теперь, когда в юрту вошли мужчины, он заговорил, пылая гневом:
— Несчастный народ мой, народ труда! Да обернутся слезы твои черной кровью в глотках врагов! Но довольно рыданий, опомнитесь! Абылгазы! Канбак! Соберитесь с мыслями, начинайте действовать!
И, обводя горящим взглядом своих друзей и вошедших с ними других мужчин, Базаралы заговорил уже тоном приказа:
— Пока косяки не ушли с поля, возьмите арканы и недоуздки, идите туда и изловите тридцать коней, самых отборных! Дело идет о жизни или смерти. Чего нам теперь бояться? Шестьдесят семей засеяли двадцать десятин, каждая десятина дала бы пшеницы стоимостью по крайней мере в полтора хороших коня. Вот и заберите тридцать коней, а потом поговорим. Да коней выбирайте посильнее — может быть, на них же придется и драться с врагами. Ступайте ловите! Не сделаете так, народ вам не простит!
Даркембай одобрил его решение. И не успел бы вскипеть чай, как в аулах уже были привязаны к юртам тридцать самых лучших коней из табуна. Даркембай не успокоился до тех пор, пока всех этих коней не оседлали.
Крики, рыдания и проклятия, стоявшие над аулом, давно уже привлекали внимание переселенцев. В обозе долго поджидали Канбака, и наконец Апанас, Шодр и Сергей пришли к Базаралы, чтобы узнать, почему задержался проводник. Здесь они услышали о бедствии, обрушившемся на аул. Они близко к сердцу приняли несчастье, постигшее казахскую бедноту. Узнав о распоряжении Базаралы задержать тридцать коней, все три старика одобрили это.
— За потраву и не так взыскивать надо, — гневно сказал Шодр. — Надо в суд подать на хозяев табуна, пускай отвечают!
Афанасьич предложил составить свидетельское показание о потраве, которое подпишут все переселенцы, и тут же старики пошли к обозу.
Сразу после их ухода в ауле появилось множество всадников. Это были приятели Азимбая, их слуги и табунщики и вдобавок еще десятка полтора жигитов, охранявших по соседству иргизбаевские табуны, — всего более сорока всадников. В руках у них были соилы и шокпары. В аул они въехали, не сбавляя рыси, показывая этим, что не считают его достойным обычных приличий.
Азимбай и его сообщники спокойно спали до восхода солнца, предоставив косяки самим себе. Первым проснулся Мака и увидел, как жатаки, поймав десятка три коней, гонят их к аулу. Он тут же поднял тревожный клич:
— Аттан, аттан! На коней!
Азимбай тотчас вызвал на помощь табунщиков соседних аулов и, когда они появились, повел всех людей к жатакам.
Едва подъехав к крайнему аулу, Азимбай, не сходя с коня, повелительно крикнул:
— Эй, жатаки! Кто тут есть, выходите ко мне!
Это было как раз возле юрты Базаралы. На вызов вышли Абылгазы, Даркембай, Канбак и Токсан. Базаралы, стиснув челюсти, попытался подняться, но боль в пояснице не давала ему двинуться. Весь кипя от гнева, он прислушивался к разговору у юрты.
Азимбай, не поздоровавшись, властно приказал Даркембаю:
— Верни моих коней! Сейчас же! Всех до одного! Даркембай ответил негодующими упреками:
— Хуже, чем во времена калмыцких набегов! И враги того не сделают!
Но ему не дали договорить. Азимбай, Ахметжан, Мака и Елеусиз закричали, перебивая друг друга:
— А что вы, жатаки, делаете! Чем вы лучше калмыков?
— Мы проспали — что же, за это грабить наши косяки?
— Как посмели угнать коней? На кого ты поднял руку?
— У скотины ума нет, не знает, что ест… А ты, видно, тоже стал скотиной, потерял ум?
— Кончай болтовню, отдавай коней! Абылгазы попытался перекричать их:
— Дадите вы сказать слово или нет?
— Вот тебе слово! — И Азимбай хлестнул его плеткой по голове.
Абылгазы схватился за плетку, рванул ее так, что петля на рукоятке лопнула, и этой же плеткой замахнулся на Азимбая. Но тут его ударил соилом Акылпеис. Посыпались удары на Даркембая и остальных. Женщины, выглядывавшие из соседних юрт, в ужасе заголосили.
Но весь этот шум покрыл громкий выкрик Абылгазы:
— Аттан!
— Это было условным кличем. Держа наготове соилы, тридцать жатаков стояли за юртами у оседланных коней. Услышав призыв Абылгазы, они вскочили в седла и ринулись на врагов с криками:
— Бей, сбивай! Сшибай с коней!
Этот отряд был подготовлен Абылгазы. В нем было и несколько отважных жигитов, которые участвовали в набеге на такежановский табун. И хотя жатаков было почти вдвое меньше, чем врагов, они смело ринулись на азимбаевских людей.
Абылгазы, петляя между юртами добежал до своей юрты, вскочил на вороного коня, который ходил под самим Такежаном, и, подняв шокпар, с грозным кличем ворвался в гущу врагов.
Даркембай упал с окровавленной головой после первых же ударов. Одек втащила его в юрту. Увидев старика, Базаралы пополз к выходу.
— О, господи… уж возьми лучше мою душу, чем мучить меня так! — простонал он сквозь зубы, пытаясь подняться на ноги.
Одек хотела остановить его, но огромным усилием воли он встал во весь рост и снял висевший на остове юрты шокпар.
— Уйди! — крикнул он и, шатаясь, двинулся к выходу из юрты. — Умру в бою с врагом… Эй, жигиты! Сметай, кроши! Свершай свою месть!
Возле двери маленький Рахимтай рыдал на плече бледного окровавленного Даркембая. С ним были Асан и Усен. Со смерти Исы они привязались к Даркембаю, как к родному деду, и теперь тоже кинулись к нему, плача от страха и обиды за него.
В начале боя все трое мальчиков прятались в юрте старухи Ийс, глядя на происходящее из-под войлока двери. Но когда Азимбай и его люди начали избивать отца, Рахимтай, не помня себя, выскочил из юрты и бросился к всаднику, хлеставшему Даркембая плеткой.
— Не смей трогать отца, злодей! — кричал он в бессильном гневе.
Жалобный плач сына заставил Даркембая очнуться. Преодолевая боль, он обнял Рахимтая.
— Не плачь, мой мальчик, не бойся. Все уже прошло, — ласково повторял он.
Рахимтай поднял мокрое от слез лицо.
— Когда я вырасту, разобью голову этому Азимбаю! Узнает он у меня!
Его поддержал и Асан:
— Ничего, и мы вырастем. Вот тогда уж отомстим за деда.
Даркембай ласково притянул к себе обоих мальчиков и положил руку на голову маленького Усена, который, сверкая глазенками, тоже пытался грозить кулачком в сторону двери, откуда доносились громкие крики, перестук соилов и ржание коней.
Бой шел в самом ауле. Возле юрт бились конные противники. Падали с седел и жатаки и их враги. Бедняки подбадривали друг друга криками:
— Не отступай!.. Не сдавайся! Держись вместе!
— Не жалей, бей насмерть! — отвечали голоса врагов. Даркембай, увидев Базаралы уже в дверях, крикнул его жене.
— Иди за ним, поддерживай!
Одек подбежала к мужу. Охватив рукой ее плечи, он, шатаясь, стоял перед своей юртой, в ярости крутил шокпаром над головой и громким криком направлял жигитов туда, где требовалась помощь жатакам.
И все же азимбаевские люди начали одолевать.
Но в тот миг, когда бой мог решиться в их пользу, неожиданно, как ураган, налетела новая сила. Это были русские переселенцы.
Когда Апанас, Шодр и Сергей пошли к обозу составлять бумагу о потраве, они заметили скачущую к аулу толпу всадников. Появление их насторожило стариков. И едва в ауле началась драка, Апанас и Шодр закричали на весь обоз:
— Распрягай коней! Вынимай оглобли! Айда на помощь!
Через несколько минут больше десятка всадников мчалось на неоседланных конях к месту боя, размахивая оглоблями. За ними, схватив лопаты и вилы, бежали на помощь своим новым друзьям Дарья, Фекла и другие женщины.
Подлетев на полном скаку к Абылгазы, Шодр, оказавшийся впереди других, кинулся в бой и тут же получил сильный удар по плечу соилом от Акылпеиса. Он ответил страшным ударом оглобли. Способы боя на конях соилами и шокпарами Федору были неизвестны. Опытные бойцы бьют соилом и шокпаром по голове или по плечу, чтобы выбить из рук оружие, или по колену, чтобы не дать врагу усидеть в седле. Федор всего этого не знал и добросовестно ухал своей оглоблей по бокам всадников. Впрочем, от его ударов враги слетали с седел, как шапка с головы.
В бой ринулся и Апанас с остальными переселенцами. Азимбаевцы дрогнули. Только что они торжествовали победу и загоняли отдельных жатаков к юртам, чтобы окончательно их избить, а сейчас они столкнулись с мстителями за слезы бедняков. Русские крестьяне налетели на них с зычным криком:
— Урра! Урра!
Подоспевшие союзники едва начали разминать свои крепкие плечи, когда бой уже закончился. Враги, спасаясь, врассыпную скакали между юртами и там попадали под удары женщин, — как только начался бой, те, схватив в руки боканы,[48] притаились, подстерегая всадников.
— Ой, спасибо вам!.. Хорошие русские люди, дай вам бог удачи!.. Будьте счастливы вы сами, и дети ваши, и внуки… — благодарили казашки неожиданных заступников.
Тут в аул прибежали, запыхавшись, Дарья и Фекла со своим бабьим войском. Они смешались с казашками и вместе с ними то и дело провожали увесистыми ударами скачущих мимо азимбаевцев.
— Звери, насильники окаянные! — приговаривала Дарья, опуская лопату на чью-то спину.
— Антихристы! — басом поддерживала ее Фекла. Мака, скакавший мимо, на ходу огрел Феклу соилом по плечу. Та с неожиданной быстротой ухватилась за чембур его коня и, крикнув: «Ах ты, сукин сын!» — другой рукой легко сдернула его с седла на землю.
— Айрылмас![49] — заорал Мака, падая навзничь к ногам Феклы.
— Чего орешь? — грозно забасила Фекла и несколько раз пнула его тяжелой босой ногой. Кругом раздались восторженные крики казахских женщин:
— Смотрите на Шоклу! Ойбай, какая Шокла! Пяткой рот затыкает, а тот все орет: «Айрылмас!»
Даже маленький Усен, перепуганный и плачущий, в страхе уцепившийся за платье Ийс, и тот рассмеялся от удовольствия.
— Так его, получай! Так, так! — кричал он, наблюдая позорное поражение Мака.
Старая Ийс тоже засмеялась долгим беззвучным смехом, приговаривая сквозь все еще льющиеся слезы:
— Да буду я жертвой за тебя, Шокла… Да осчастливят тебя сыновья и дочери твои.
Так же, как и Мака, в разных местах аула были сбиты с коней еще несколько врагов. Теперь их колотили палками, лопатами и рукоятками вил русские и казахские женщины.
Около десятка азимбаевцев еще держались вместе, отступая под напором переселенцев к крайней юрте аула — как раз к той, где был Базаралы. Здесь стоял сплошной перестук соилов, оглобель и шокпаров. Почуяв серьезную опасность, байские сыновья держались плотно друг к другу. Еще немного, и они могли вырваться из аула в степь и ускакать на своих хороших конях.
И тут Базаралы крикнул во всю мочь:
— Бей, не жалей! Налетай, жатаки! Не дайте собакам уйти!
Крик его воодушевил сражающихся. Услышав его, обернулись и те жатаки, которые преследовали бежавших врассыпную остальных врагов. Базаралы, бледный, с искаженным от боли лицом, но все же размахивающий над головой шокпаром, казался живым призывом к мести. Зычный голос его, покрывавший и стук соилов и топот копыт, властно раздавался над аулом, как звонкий клекот могучего орла. И, повинуясь его призыву, жатаки, а вместе с ними и переселенцы сильным натиском потеснили ряды врагов. Пятеро байских сынков полетели с седел, среди них Ахметжан, Акылпеис и ловкий силач Елеусиз, сбивший немало жатаков.
Потеряв их, Азимбай решительно повернул коня и пустился в бегство. Абылгазы и Шодр кинулись за ним, однако догнать его никак не могли. Давно не ходивший под седлом Такежанов конь, на котором скакал Абылгазы, отяжелел и не мог сравниться с выезженным иноходцем Азимбая. А тяжелый, громадный Сивка скакал еще медленнее: Елеусиз, поняв, что седой дед, видимо, предводитель русских, сильным ударом соила оглушил его коня.
Вскоре Абылгазы и Шодр повернули обратно к аулу. Там за это время поймали и привязали к юртам тех коней, с которых были сбиты враги, а их самих выгнали из аула пешком. В юртах перевязывали раненых жатаков.
Этот бой можно было считать победой жатаков. Ярость бедняков, вспыхнувшая при виде гибели урожая, которому было отдано столько сил, дала им победу. Помогла и неожиданная помощь переселенцев. Жатакам удалось не только удержать у себя всех тридцать коней, захваченных на потраве, но и добавить к ним около десятка тех, с которых были сбиты азимбаевские люди. Если байские аулы придут с мирными переговорами, они смогут получить обратно своих коней, оплатив жатакам все убытки. Если же нет — кони останутся у жатаков.
Придя к этому решению, Даркембай и Базаралы всячески ободряли людей.
— Будьте стойки. Впереди еще много хлопот с этим делом, подпоясывайтесь потуже, — говорил Даркембай, обходя юрты аула, и, посмеиваясь, добавлял: — Расколют череп — надень шапку! Вот и мне, старику, голову разбили, а видите, еще не помер. Только не теряйте мужества!
Днем жатаки позвали к себе русских друзей и угощали их обедом в трех юртах. Все жители аулов, даже дети, приходили благодарить Апанаса, Шодра, Жарью, Шоклу. И везде, как самый смешной случай из всего боя, вспоминали поражение Мака.
— Шокла бьет его пяткой по голове, а он только покрикивает «Айрылмас!» — смеялись женщины.
До самой ночи байские аулы никого не прислали к жатакам. За это время переселенцы под руководством Афанасьича составили бумагу, в которой свидетельствовали о потраве. Здесь было указано, на скольких десятинах уничтожены посевы, оценено качество зерна, рассказано, каким образом тысячный конский табун оказался на поле, и подтверждалось, что потрава была умышленной, заранее задуманной. Обо всем этом тридцать семей русских переселенцев доводили до сведения семипалатинского уездного начальника. На бумаге расписались все переселенцы. По совету Афанасьича с этого акта тут же сняли копию: он объяснил Базаралы и Даркембаю, что свидельство надо послать в город по начальству, а копию на всякий случай лучше хранить в ауле.
Когда это важное дело было закончено, новые друзья аула стали готовиться к отъезду. Канбак порядком потерпел в бою, но, перевязав раны, все же отправился с русскими, чтобы вывести обоз на тракт. Проститься с друзьями пришло население всех трех аулов. К вечеру обоз русских переселенцев, провожаемый благословениями и словами благодарности, тронулся в путь.
Сразу после ухода обоза жатаки устроили совещание. Было решено, во-первых, теперь же послать ходатая к начальству с жалобой и с подтверждающим ее свидетельством переселенцев. Для этого в город ночью должен был выехать ловкий жигит Серкеш, знающий русский язык. Во-вторых, Даркембаю и Абылгазы поручили сейчас же ехать к Абаю и рассказать ему обо всех событиях дня.
То, что Абай еще утром узнал о преступлении, совершенном байскими сынками, жатакам не было известно. В полдень он послал на место потравы Магаша и Дармена, чтобы те точно определили размеры ущерба, нанесенного жатакам. Отправляя их, Абай предупредил, чтобы они не заезжали в аул к жатакам: он не хотел, чтобы в дальнейшей борьбе, которая неминуемо развернется вокруг этого события, его обвиняли в тайных сношениях с жатаками. Задачей его было лишь установить истину и быть беспристрастным свидетелем.
Магаш и Дармен внимательно осмотрели все двадцать десятин и убедились, что урожай погиб полностью.
— Все посевы уничтожены начисто. Все истреблено без остатка, — с таким известием вернулись к Абаю юноши.
Новое преступление насильников вовсе лишило Абая покоя. Им овладели горькие думы:
«Что же: я так и стою на том месте, откуда начал жизнь? Чем больше сражаюсь я со злом, тем яснее вижу, что оно подобно многоголовой змее. Отрубишь одну голову — вырастают две другие. Где же выход? Когда же увижу я зарю народную? Или жизнь моя осуждена на бесплодие? Ни одной мечты не дано мне достичь? Придется ли мне когда-нибудь радоваться за свой народ? Где же она, верная дорога?»
Душная волна то слезами подкатывает к горлу, то давит сердце.
Догадываясь о тяжелом состоянии отца, Абдрахман пошел к нему под вечер, когда тот сидел один, погруженный в свои мысли.
— Я понимаю, отец, что вам вдвойне тяжело, — негромко заговорил он. — Мало того, что это зло совершено рядом с вами, на ваших глазах, виновником его вдобавок оказался сын вашего родного брата… И гнев терзает вас и стыд… Вы мучаетесь молча, про себя. Не позволите ли сказать и мое мнение?
Мягкие слова сына обрадовали Абая, и он посмотрел на него благодарным взглядом, показывая, что готов слушать.
— Вы не раз защищали мирных, трудолюбивых людей от насилия. Враги ваши это знают. Нынче, нападая на жатаков, враги наступают на вас. Не так ли?.
— Ты прав.
— А вы никогда ведь не отступите от своего пути! — продолжал Абиш, не спрашивая, а утверждая.
— Не отступлю. Умру на этом пути. Это и клятва моя и убеждение мое.
— Если так, то действуйте и сами. Решитесь на смелый поступок. Встаньте сами на защиту народа. Это поможет ему, поддержит его силы, пробудит отвагу. Посмотрите на русских: у них и борьбу работников и восстания крестьян всегда поддерживают лучшие люди. Не только словами борются за бесправных и обиженных, а сами отважно вмешиваются в борьбу. Они показывают народу, какую силу может иметь он, если объединится в общем стремлении…
— Что же мне надо сделать? — в раздумье спросил Абай. — И мне сесть на коня с соилом в руке?
— Даже и так, — решительно сказал Абдрахман. — Понадобится — сделайте и это! Насилие отступает только перед сопротивлением, зло побеждается сильной волей. Базаралы показал путь. На этом пути и Даркембай и многие другие. Покажитесь сами на коне! У вас много друзей, Призовите на помощь обиженным и бесправным жатакам — вы увидите, все придут на ваш клич. Пусть враги узнают эту силу. Только перед ней они отступят, вернут покой и народу и вам!
Абай ничего не отвечал; он обдумывал слова сына.
В этом раздумье и застали Абая Абылгазы и Даркембай. Айгерим расстелила скатерть, появился кумыс.
Абай заговорил с посланцами жатаков решительно и коротко.
— Что бы ни случилось с вами завтра, я буду на вашей стороне. Всю свою силу, все умение отдам вам в защиту. Какую бы подлость ни затеяли против вас враги, я буду с вами. Вот и все. Поужинайте и уезжайте к себе.
Тут же Абай отправил к жатакам Дармена и с ним еще троих жигитов, приказав им сообщать ему все новости.
После ужина Даркембай с Абылгазы уехали к себе.
В этот же день в ауле Такежана шел совет заправил рода Иргизбай. Из аула в аул бешено скакали гонцы, пока наконец все аткаминеры и старейшины не собрались к Такежану, как волки, со злобным воем сбегающиеся в стаю.
Решение этого совета повез жатакам Акберды. Ранним утром следующего дня он с пятью жигитами приехал в аулы жатаков.
— Сегодня к вечеру вы сами приведете всех угнанных коней. Так повелевает род Иргизбай! — холодно объявил он. — Если же нет, укажите место для боя завтра утром! Помните: все иргизбаи сели на коней. Разнесем ваши юрты, разорим аулы дотла — вот наша кара, если не придете с повинной.
Разговор этот происходил в юрте Базаралы, где собрались Даркембай, Абылгазы и еще несколько жатаков. Когда Акберды замолчал, отвечать ему стал Базаралы. Даркембай и Абылгазы одобрительно кивали головами, слушая его спокойные слова:
— Не мы начали это злое дело. Мы стали бороться лишь когда на нас напали. Разве могли мы покорно принять собственную нашу гибель? От тех, кто вырвал у нас изо рта последний кусок, мы не можем ждать пощады. Хотите добить нас, разорить совсем? Что же, мы погибнем, но не в слезах и не с мольбой на устах! Губите, душите нас — мы погибнем, хватая и вас за горло… Сами мы не пойдем на вас. А нападете вы — увидите! И так уж разоренная, голодная, голая, беднота приговорена к смерти. Погибая, мы прихватим с собой и кое-кого из вас! Поезжай к своим, передай наши слова.
Когда Акберды привез этот ответ, между аулами иргизбаев опять засновали гонцы, на этот раз собирая верховых на бой.
Дармен, приехав в аул жатаков, остановился, как всегда, в юрте старой Ийс. Он был хорошо знаком со многими из бедняков, а с некоторыми просто дружен. Разговаривая с Абды, Сержаном, Канбаком и с другими, кто вел вчера бой с самим Азимбаем, которого здесь называли «волком с аршинными клыками», Дармен чувствовал, какая крепкая решимость объединяет их в стойкую силу. Даже в насмешках Ийс над крикливым Мака было видно, что все люди аула встряхнулись, расправили годами согнутые спины. Всеми владела жажда мести.
Старуха с улыбкой рассказала Дармену и о том, как внуки ее грозили Азимбаю. Юноша подозвал к себе Асана и одобрительно похлопал его по спине.
— Вижу, ты вырастешь храбрым жигитом! Твой отец Иса был настоящим батыром, не бойся и ты никого.
Маленький Усен, обиженный тем, что хвалят одного только Асана, прижался к колену юноши и, настойчиво потянув его за рукав, заговорил:
— А я, Дармен-ага? Разве один Асан может быть храбрым? И я буду батыром, как отец!
Только теперь Дармен впервые заметил, как похож малютка на Ису: те же глаза, тот же прямой нос, тонкие брови.
— Будешь, будешь непременно, мой милый. Даже смелее будешь, — ласково сказал он.
И, прижав к себе мальчика, Дармен задумался. Был бы нынче жив Иса, с каким гневом, с какой страстью бился бы он! Вот уж кто действительно имел право на месть! Горько и тяжело было думать, что Иса погиб, не дожив до такого дня.
«Зачем воспевать героев прошлых дней? — вдруг подумал Дармен. — А что, если я посоветуюсь с Абаем-ага? Не сложить ли поэму об Исе, о его гибели? Разве не достоин уважения и любви такой человек?»
Дармен чувствовал, что в голову ему пришла счастливая мысль, однако думать о новой поэме пока не было времени: Базаралы прислал сказать о разговоре с Акберды, и Дармен послал к Абаю гонца с известием о подготовке иргизбаев к набегу.
Услышав об этом, Абай начал действовать. Он позвал к себе Ербола, Акылбая, Магаша и еще нескольких человек.
— Садитесь на коней и скачите по всем окрестным бедным аулам. Передайте мой салем беднякам: пусть за эту ночь к утру все мужчины доберутся до аула жатаков. Кто не сможет дойти до них, пусть приходит сюда, в мой аул. Пусть не горюют о том, что они без коней. Скажите им, чтобы каждый захватил с собой соил или дубинку. Пусть станут стеной около Базаралы! Я помогу людям разобраться, кого же больше в степи: иргизбаев или народа?
С этим поручением друзья Абая поскакали в разные концы. И ранним утром к жатакам потянулось множество людей из бедных аулов, расположенных поблизости, на урочищах Ойкодык, Киндикты, Корык, Шолпан, Ералы. Некоторые сидели верхом на клячах, но большинство ехало на верблюдах и на волах, забравшись по нескольку человек им на спину, а еще больше людей шло пешком. Но не было ни одного человека без соила или шокпара. И эти истощенные, оборванные люди несли в сердцах справедливый гнев и гордое сознание пробудившейся чести.
Силы жатаков таким образом неожиданно увеличились во много раз.
Узнав о том, что это сделал Абай, Базаралы воспрянул духом. Он даже сумел встать с постели, как бы забыв о болезни.
— Поднялся народ! Нищий народ мой, ты на верном пути… Не клич рода объединяет нас, а насилие родичей!
К полудню иргизбаи сели на коней. Собралось более полутораста всадников. Это были вооруженные соилами и шокпарами байские сыновья и их приспешники, молодые повесы. Были здесь и пожилые мурзы, сами хозяева табунов, окруженные своими слугами и табунщиками. Тут же оказались и участники вчерашнего боя. Эти еще вчера поручили Акберды разузнать, ушел ли переселенческий обоз, — вояки, познакомившиеся с оглоблей Шодра, не очень-то хотели снова встретиться с ним. Зато, узнав об уходе обоза, они пылали теперь воинственным задором, бранили жатаков, хвастая и захлебываясь угрозами.
Все это войско двигалось к аулам бедняков неторопливо и грозно. Было видно, что иргизбаи действительно решились выполнить свое обещание — разметать аулы жатаков. Соилы зажаты под мышкой, малахаи со спущенными наушниками туго завязаны, как это полагается в бою. Лица у всех бледны, и на каждом можно прочесть беспощадную ненависть.
Жатаки тоже оседлали всех коней, которые у них нашлись, прислонили соилы к седлам и ожидали начала событий. Возле этих всадников, которых оказалось вчетверо меньше врагов, собралась большая пешая толпа вооруженных соилами людей. Став перед юртой Базаралы, они тоже ожидали нападения. Толпа эта совсем не походила на войско — казалось, что народ собрался на какое-то мирное сборище. Но люди смотрели на грозно надвигавшуюся конную лавину со спокойной решимостью.
За аулом, возле потравленных посевов, высился продолговатый холмик. Внезапно на нем показались вооруженные всадники. Их было не менее сотни. Появление их поразило обе готовые к бою стороны. Кто это? К кому они примкнут?
Не задерживаясь на холмике, верховые решительно повернули прямо к жатакам. И тут во всаднике, едущем впереди, люди узнали Абая.
Вся толпа бедняков с восторгом зашумела:
— Абай! И он сам приехал!
— Будь счастлив, опора моя! — крикнул Даркембай, кидаясь навстречу Абаю.
Тот остановил коня и наклонился к нему.
— Вот, Даке, я с тобой. Пусть попробуют взять нас!
Радостные крики раздавались в толпе. Иргизбаи, которые приблизились уже к аулу, невольно придержали коней. Акберды, Такежан и Исхак, ехавшие впереди, обменялись злобными восклицаниями:
— Неужели Абай?
— Вчера молчал, а сегодня вот на что решился! Такежан издали крикнул Абаю:
— Что же это будет? Два сына Кунанбая начнут воевать…
Абай не спешил с ответом. Он стегнул коня и выехал вперед. Следом за ним двинулись и приведенные им всадники и верховые жатаки, предводительствуемые Абылгазы.
Подъехав ближе к иргизбаям, Абай остановил коня и властно закричал, отчетливо выделяя каждое слово:
— Уходи прочь, не заносись! С тобой иргизбаи, а здесь бесчисленный народ! Это мой народ, мои родичи! Не позволю насильничать! Опомнись! Иначе схватимся с тобой в бою, хоть ты и сын Кунанбая!
Слова его смутили многих иргизбаев. За спиной Такежана поднялся ропот:
— Разве можно допустить такой грех? Сражаться иргизбаям между собой? Абай душу положит за жатаков! Видно, на все готов.
Первый боевой порыв иргизбаев был сломлен. Бой не мог начаться немедленно. Заметив это, Абай подъехал еще ближе. На лице его не было той ярости, с которой человек кидается в бой. Нет, это было холодное, спокойное лицо справедливого судьи, выносящего приговор.
— Э-э, иргизбаи! Вы видите этих людей? Они готовы умереть, но никогда не покорятся. Попробуйте кинуться на них — будете опозорены. Ускачете с окровавленными шапками на головах, с выпоротыми задами, с позорным клеймом на теле. Так угостит вас разгневанный народ! Отступите и пришлите сейчас же троих людей для переговоров!
Слова его были встречены глубоким молчанием. Часть иргизбаев уже поворачивала коней. За ними последовали остальные. Отъехав подальше, они начали совещаться.
Наконец к аулу выехали три всадника. Это были Исхак, Акберды и Шубар. Узнав их, Абай слез с коня. Сопровождавшие его, так же как и всадники Абылгазы, отступили назад и спешились. С Абаем остались только Даркембай, Ербол и Дармен.
Подъехавшие первыми приветствовали Абая, как младшие по возрасту, и, сойдя с коней, подошли к нему.
Он встретил их гневной усмешкой.
— «Абай не сядет на коня, не возьмет в руки соила, мужчинами, воинами рождены только мы?» — так думали вы? Ошиблись! Довели меня до того, что я кинулся в битву! Даже из гроба поднял бы меня нынче гнев, если б я услышал, до каких гнусностей вы дошли. Да и лучше было бы мне умереть раньше, чтобы не видеть такого позора. Но раз я жив, не уймусь, пока вы не возместите жатакам того, что натворили! Если есть у вас хоть капля совести, скажите вы сами, Исхак и Шубар, как решить? Не таитесь, скажите мне прямо в глаза вот тут же!
Так начались переговоры. Они затянулись до самого вечера. Абай оставался упрямым, несговорчивым и суровым. Он настаивал на своем, ни в чем не уступая.
Только под вечер было достигнуто соглашение: все тридцать задержанных жатаками коней перешли в пользу разоренных аулов.
3
Нынче утром к юрте Еркежан подскакал посыльный волостного молодой жигит Бегдалы. После смерти Оспана должность волостного временно исполнял Шаке, племянник Абая, который числился «кандидатом». Бегдалы передал Абаю несколько писем, казенный пакет и сказал, что у него есть поручение от волостного на словах. В юрте было полно народу — здесь были сыновья Абая, сама Еркежан и другие женщины. Бегдалы, окинув их взглядом, добавил, что поручение это Шаке просил передать наедине.
Абай накинул на плечи чапан, надел легкий тымак из белого каракуля и вышел вместе с Бегдалы из юрты. Там он молча поднял на жигита свои большие глаза.
— Шаке поручил мне сказать вам, Абай-ага, что вам тут есть повестка из канцелярии уездного, — начал посыльный. — Об этом уездный написал и волостному. Пишет, что вызывает вас на какой-то допрос, а волостному и старшине приказывает проследить, чтобы вы выехали вовремя. Шаке хочет вас предупредить. «Видимо, на Абая-ага есть какая-то жалоба, а начальство стоит на стороне жалобщиков», — вот что велел вам сообщить Шаке…
Абай молча повернулся и пошел в юрту.
«Молчит, ни слова не ответил. Что это он? — думал Бегдалы, глядя ему вслед. — Неужели так привык к вызовам начальства? Или делает вид, что ему все равно?»
Когда Абай вошел в юрту, Абиш успел уже просмотреть все письма.
— Вам повестка от семипалатинского уездного начальника, — сообщил он отцу. — А это письмо вам от Федора Ивановича, он и мне написал.
Упоминание о Павлове сразу изменило настроение Абая. Он улыбнулся и, видимо, повеселел, однако под впечатлением только что сказанных слов Бегдалы прежде всего протянул руку к повестке. Но, вспомнив, что оставил очки дома, попросил Абиша прочесть ее.
Абдрахман, не желая, чтобы слышали все, наклонился к отцу и негромко прочитал ему повестку.
Уездный начальник Казанцев по приказанию канцелярии губернатора вызывал Ибрагима Кунанбаева на чрезвычайный съезд представителей Семипалатинского, Усть-Каменогорского и Зайсанского уездов, который состоится пятого сентября на территории Карамолинской ярмарки. Повестка кончалась угрозой, что в случае неявки Абай будет привлечен к ответственности.
В повестке упоминалась и причина вызова: «…по делу недоимщиков Чингизской волости в качестве ответчика». С прошлого года Абай трижды давал показания по этому делу в канцелярии уездного начальника. Теперь было видно, что дело перешло в канцелярию губернатора. Возможно, им заинтересовались и власти повыше. Абай вспомнил, как при последнем разбирательстве этой весной чиновник намекал на то, что канцелярия генерал-губернатора в Омске требует выслать дело туда.
Вслед за этим Абиш начал читать отцу письмо Павлова. Федор Иванович провел лето на Иртыше, занимаясь обследованием жизни переселенцев. Он вернулся в Семипалатинск недавно, и один из его друзей в канцелярии губернатора сообщил ему, что в последнее время на Абая поступило много жалоб.
«Похоже, что и ваши степные сутяги и чиновники губернатора единодушно сошлись на том, чтобы потребовать от вас жертвоприношений не Аполлону, а богине правосудия, которые иначе именуются взятками, — писал Павлов с обычной своей шутливостью. — Мой совет вам: с самыми высокопоставленными чиновниками держитесь смело, с гордо поднятой головой. У вас есть на это право. Ваша популярность среди степного народа велика, я понял это в беседах с казахами Зайсанского и Усть-Каменогорского уездов. Я рад этому и горжусь за вас. Народ ваш с вами, а может ли человек мечтать в своей жизни о большей награде? А то обстоятельство, что жизнь есть борьба, — это мы с вами, кажется, отлично поняли…»
Слушая письмо Павлова, Абай словно освобождался от того оцепенения, которое все это время владело им. Горе, давившее его, наводило его на мрачные мысли и порой даже заставляло думать: зачем жить? Павлов своей умной и деятельной дружбой и на этот раз поддержал его. Способность Федора Ивановича глубоко и вдумчиво относиться ко всем жизненным событиям давно привлекала Абая. «Мудрость побеждает любое зло. Если будешь опираться на нее, подымешься над подлостью и злобой. Лишь тогда рассыплются в прах низкая зависть, коварные замыслы, завистливое соперничество. И тогда, превратись в крошечных муравьев, они не всползут выше твоей щиколотки», — думал Абай.
Павлов, давший размышлениям Абая новый толчок, поистине был его верным другом. Эта мысль согревала сердце Абая.
В письме Федора Ивановича к Абдрахману, которое Абиш тоже прочитал, было радостное и счастливое известие. Многолетняя преграда, стена, которую возводили жандармские канцелярии, рухнула: Павлов наконец официально женился на своей любимой Саше. Абдрахман знал из прежних бесед с Федором Ивановичем, что она была отправлена вместе с ним в ссылку из Харьковского университета, прошла множество этапов и пересыльных тюрем.
Все эти испытания не сломили ее смелого духа настоящей революционерки. Когда Саша была вместе с Федором Ивановичем в ссылке в Тобольске, они соединили свои жизни. Но Павлов, высланный в Семипалатинск, вынужден был с ней надолго расстаться.
Рассказывая сейчас о тяжелой жизни Павлова, Абиш, как бы обращаясь к своим молодым друзьям, сделал вывод, что умному, сильному духом и волей человеку никакие страдания и муки не могут помешать отстаивать свою свободу.
— А как же Федор Иванович был сослан вторично? — спросил Магаш. — Разве за один и тот же проступок можно дважды наказывать?
Абдрахман рассказал, как это произошло:
— Федор Иванович, попал в Сибирь еще до убийства Александра Второго. И когда в России стали приводить народ к присяге на верность новому царю, Александру Третьему, Федор Иванович оказался одним из тех немногих людей, которые на деле показали верность своим убеждениям. Когда от него потребовали принести присягу новому царю, он ответил: «Моя молодая жизнь проходит в ссылке, на которую обрек меня умерший царь. Если один царь подверг меня такому наказанию, как же можно думать, что я могу быть верным слугой другого царя? К чему же брать с меня клятву? Для меня и новый и старый царь — одно и то же. Лицемерно клясться в верности ненавистной мне власти я не могу. Ссыльный Павлов останется ссыльным, преступником, которому нет дела до царей».
— Молодец! Вот это ответ! — восхищенно восклицали Магаш и Какитай.
— Да, для этого нужно было иметь мужество, — продолжал Абиш. — Далеко не все находившиеся в ссылке решились на такой смелый шаг. Но так же поступил и крупный русский писатель Короленко. Он был в ссылке на Урале, а за это попал в Сибирь. Павлова же из Тобольска выслали сперва в Омск, а потом в Семипалатинск. А Саша так и осталась в Тобольске, несмотря на ее просьбу выслать и ее вместе с ним. Жандармы не признавали ее женой Федора Ивановича: ссыльные могут вступать в брак лишь с разрешения властей, а им не удалось получить его. Больше того, когда срок ссылки Саши кончился, долгое время ей не разрешали жить в Семипалатинске в качестве ссыльнопоселенки. Жандармы издевались над ней. Но теперь Федор Иванович пишет, что она добилась распоряжения из Петербурга, приехала в Семипалатинск и они наконец официально поженились…
Рассказ Абиша вызвал искреннее сочувствие всех, кто был сейчас в юрте. Молодежь оживленно обсуждала упорство и настойчивость Саши. «Неукротимый дух! Верная душа!» — слышались восклицания.
Магаш, обеспокоенный вызовом Абая к начальству, завел было разговор о поездке, но отец перебил его, снова заговорив о Павлове:
— Вот я слушаю о нем и думаю: что знают о России и о русских наши казахи, все эти уразбаи, которые преследуют меня кляузами? «Белый царь», «корпус», «уездный» — вот все, о чем они твердят! Русских они представляют себе только чиновниками, урядниками, стражниками… А кем считают они таких русских людей, как Павлов?
Лицо Абая побледнело, глаза расширились. Давно уже молодые друзья не видели его в состоянии такого подъема.
— А между тем стоят ли сами эти чванливые людишки одного лишь волоска Павлова, которого они именуют «преступником»? — продолжал он. — Благодарение создателю, что рядом с нами оказалась Россия! В ней и сила мысли, движение вперед и поистине богатое искусство. Когда наш народ, разоренный, несчастный, претерпевший «Актабан шубырынды»,[50] кинулся на север, он нашел у России защиту. Но потом жил рядом, в своей глухой степи, темный и забитый. Первым посланником его к русским, первым глашатаем был Алтынсарин. Я пошел по его пути. Мне посчастливилось встретиться с хорошими русскими людьми. На них и стал я опираться. Да и не один я. И вы, получая от русских свои знания, тоже опирались на этих людей. Они помогли нам, открыли глаза на жизнь… Но какое счастье ждет те поколения, которые сменят мое и ваше! Они пойдут к русскому соседу всеми кочевьями. Сойдется народ с народом. История повернет свой путь… Верно ведь я говорю, Абиш? — сказал он, стремительно поворачиваясь к сыну.
Абдрахман, взволнованный, молча кивнул головой. Остальные молодые люди жадно вслушивались в слова Абая, следя за ходом его мысли.
— Если сумею я быть проводником каравана, кочующего на те прекрасные жайляу, труд мой не будет напрасен! — продолжал Абай. — Даже мытарства мои будут моими успехами: быть может, по ним другие поймут, что добро отыскать не легко, что путь к нему — это путь мучений и страданий. На примере лучших русских людей вы видите это своими глазами. Чего только не пережили великие русские поэты Пушкин и Лермонтов, которые для меня были первыми русскими друзьями! А Герцен и Чернышевский?.. А рядом с нами Павлов, жизнь которого проходит в гонениях и в ссылке? Разве услышишь от него жалобу, ропот? Мужество, которого не знавали легенды, величайшее упорство проявляют русские герои! На истории их жизни надо воспитывать наше молодое поколение.
Абай замолчал, погрузившись в думы, и потом снова заговорил, медленно и негромко:
— Я-то на своем веку не увижу этого. Но время, которое ждет вас впереди, изменится необычайно. У людей будет другая жизнь, новые законы. Народ достигнет большого счастья. И это прекрасное время придет! Если я сумею положить хоть один кирпичик будущего здания, которое я уже вижу в мыслях, мечта моей жизни будет исполнена. Если ты можешь сказать, что хоть чем-нибудь помог своему народу приблизиться к счастью, можешь считать себя бессмертным. Пусть наши, мусульманские проповедники сотни лет твердят, что наступает конец мира, что близко светопреставление! Нет, близок не конец мира, а конец зла. Нам надо только суметь подготовить к этому свой народ.
Даркембай и Какитай не отрывали взгляда от Абая, ожидая, что он будет говорить еще. Но Абай замолчал. Он встряхнул свою черную шакшу, высыпал на ладонь насыбай и, положив щепотку его за губу, обвел глазами молодых людей. Те тоже молчали. На лицах их выражалось глубокое волнение. Они давно не слышали таких слов Абая, такого вдохновенного излияния дум.
— Федор Иванович разбудил вашу мысль, Абай-ага, — сказал восхищенно Какитай. — Да исполнятся все его желания!
— Ваши слова заслуживают того, чтобы сохраниться запечатленными на бумаге. Вы словно разговариваете с будущим, перекликаетесь с потомками, — проговорил Абдрахман.
Магаш и Какитай, вполне разделяя его мысль, одобрительно переглянулись. Но Абай отрицательно покачал головой.
— Не я первый их говорю, ты ведь сам знаешь, Абиш, — сказал он, проводя ладонью по раскрытой тетради, лежащей рядом с ним. — Вот здесь у Пушкина написано:
Товарищ, верь взойдет она, Звезда пленительного счастья…— Это верно, — возразил Абдрахман, — но у нас, казахов, не было еще ни одного человека, кто, обращаясь к будущему, высказал бы эту мысль, полную такой веры в него.
Абай не ответил, и Абдрахман, взяв в руки письмо Павлова, заговорил, обращаясь ко всем:
— Послушайте, что еще пишет Федор Иванович. Он как будто развивает эту вашу мысль, отец. — И он начал переводить на казахский слова Павлова — «Ибрагим Кунанбаевич, всякий труд, особенно ваш поэтический труд, делается во имя будущего. Ваши стихи служат будущему, где народы ждет небывало прекрасная жизнь. Это время настанет, не может того быть, чтобы оно не пришло. Никакие цепи, наказания, никакие грозные силы не будут ему преградой! Готовьте к нему свой народ, его молодежь, потому что, чем больше будут люди подготовлены к будущему, тем полнее оценят они все его блага, тем больше плодов вкусят!»
— Прекрасная мысль! Эти слова Федора Ивановича можно считать заветом настоящего революционера — борца за народ, — с глубоким чувством сказал Абай.
Он взял письмо Павлова, бережно сложил его, спрятал в карман и встал, чтобы ехать в свой аул.
Были сумерки, когда Абай спешился возле юрты Айгерим. Огня в юрте не было, никто не вышел его встречать. Он сам привязал коня и, откинув дверь, негромко окликнул:
— Айгерим, ты здесь?
Из темноты отозвался мягкий, красивый голос:
— Абай, это вы?
Тон, которым Айгерим произнесла эти слова, говорил о нежданной радости. Она спросила так, как будто короткая разлука измучила ее. И у Абая опять потеплело на сердце. Он быстро переступил порог и вошел в юрту. Айгерим встретила его у самых дверей, протянув к нему маленькие руки. Абай горячо ее обнял.
— Как я соскучился по тебе, Айгерим!.. Такие мрачные стоят дни, печальные и тяжелые. А сейчас ты произнесла мое имя так, как будто запела какую-то нежную, прекрасную песню! Свет мой, я печален и озабочен. Успокой меня, согрей своим нежным дыханием, целительница моя…
И в ответ ему донесся чуть слышный шепот, похожий на шелест тальника:
— И я стосковалась, солнце мое. И мне было тяжко.
И, как будто стыдясь своих слов, она спрятала лицо на его груди.
Со времени смерти Оспана Айгерим тоже часто приходила к Еркежан и, сидя рядом с ней, порою начинала и свой поминальный плач. Абай все еще не оправился от тяжелого горя, постигшего его. Но вместе с этой общей печалью горячее чувство, которое они питали друг к другу, как бы окрепло. Видясь теперь редко, на людях, они передавали свои сокровенные мысли друг другу движением бровей, взглядом, полуулыбкой. Их давняя большая любовь и верная крепкая дружба теперь еще больше усиливались. Всю эту неделю разлуки Айгерим провела в одиночестве, тоскуя об Абае. Теперь он возвращался домой, как в давние годы первых лет их любви.
Полное взаимное доверие и прочное счастье тех времен вернулись к ним во всей силе. И это помогло Айгерим спокойно выслушивать сплетни, ходившие в ауле.
Судьба трех вдов Оспана не давала покоя тем, кто любит влезать в чужие дела. Таким людям доставляет огромное удовольствие делать свои заключения, строить разные догадки, решать за других, как заблагорассудится. Аульные сплетники — сварливые старухи и досужие старики, которые умели распустить слух не только по аулу, но и по всему Тобыкты, — целыми днями судили и рядили о наследстве Оспана и об его овдовевших женах. То обстоятельство, что на вдов приходилось как раз три брата Оспана, усиливало их интерес к этому делу. «Три вдовы и три аменгера[51] — кто на ком женится? Вот в чем главный вопрос!» — рассуждали о них, почмокивая губами и покачивая головами, и жадно ловили все слухи и новости. И чем ближе подходил день годовщины смерти Оспана, когда судьба трех вдов должна была решиться, тем больше росло любопытство сплетников.
Эти все усиливающиеся пересуды не могли не доходить до Айгерим. Но она только посмеивалась, пропуская сплетни мимо ушей. Красивое ее лицо, до сих пор не тронутое ни одной морщинкой, оставалось спокойным. Уверенная в любви и душевной привязанности к ней Абая, она не боялась будущего, и все разговоры о его новой женитьбе никак не затрагивали ее.
И когда Айгерим, так тосковавшая об Абае, нашла в нем сейчас такой искренний отклик, это наполнило ее благодарностью. Сердцу, которое было горячим и светлым, как солнце, можно было верить. И если в словах Абая «целительница моя» звучала глубокая нежность, то в словах Айгерим «мое солнце» были вера и преклонение.
Выпустив Айгерим из своих объятий, Абай ласково попросил ее распорядиться по хозяйству:
— Айгерим, я позвал нынче Магаша, Абиша и молодежь, чтобы кое о чем поговорить без посторонних. Вели зарезать барашка, приготовить чай.
Айгерим зажгла большую лампу, придвинула к Абаю низкий стол, постелила перед ним одеяло и положила ему под локоть две белые подушки, которые она сняла со своей высокой кровати. Она собиралась уже уйти, когда Абай, поблагодарив ее, попросил:
— Дай мне Лермонтова.
Айгерим быстро нашла эту книгу среди остальных и протянула ее Абаю. Тот раскрыл ее на заложенной странице, положил перед собой и углубился в чтение.
Молодежь, появившись в юрте, внесла в нее оживление. Айгерим начала разливать чай.
Магаш был озабочен и, видимо, расстроен. Мысль о повестке Казанцева не оставляла его. Что мог означать такой вызов? «Наверно, начинается новая распря, вражда, которая лишь растравит его раны. Как уберечь от этого отца, как избавить его от лишних мучений?»
Он был совершенно уверен в том, что Абай позвал их всех к себе именно для того, чтобы поговорить о надвигающейся неприятности. Но неожиданно для него Абай заговорил совсем о другом:
— Дорогие мои, я хотел рассказать вам о предложении нашей родни. Нынче утром ко мне приезжал от Такежана и от Исхака Есиргеп. Оба за моей спиной уже договорились, теперь хотят и моего согласия…
Услышав имя своего отца рядом с именем Такежана, Какитай сильно встревожился. Неужели отец его задумал что-то такое, что может огорчить Абая? Хотя он был родным сыном Исхака, но все его слова и поступки оценивал со стороны, привыкнув глядеть на жизнь так, как его воспитал Абай. Он мало о чем разговаривал с отцом и не знал ни его дел, ни замыслов, однако тревога, что Исхак может поступить по отношению к Абаю предательски, никогда не покидала его.
Заметив, как юноша изменился в лице, Абай поспешил докончить, чтобы успокоить его:
— Я ожидал, что он заговорит опять о потраве. Думал, они снова начинают дрязги. Оказывается, сейчас они говорят о мирном деле, общем для всей нашей семьи. Такежан и Исхак собираются справить поминки по Оспану еще до зимы.
— Э-э, почему же такая спешка? — как всегда, первым отозвался Магаш. — Ведь до годовщины еще болъше трех месяцев.
— Для этой спешки у них есть причины довольно веские, — ответил Абай. — Год со дня смерти Оспана исполнится в конце ноября. К этому времени все будут уже на зимовках, — где же справлять поминки? А сейчас все аулы в сборе, нет никаких неотложных забот. Поминки можно вполне успеть справить в течение этих двух-трех недель. Потом наступит осеннее ненастье, аулы начнут откочевывать на зимовки. Вот они и говорят: «Не все ли равно — сейчас ли справлять годовые поминки, или через три месяца? Лучше сейчас, если это удобнее для всех».
Абай выжидательно обвел сидящих глазами. Все молчали, обдумывая сказанное. Наконец первым заговорил Кокпай.
— Абай-ага, мне кажется, они правы. Называть ли этот сбор асом[52] или годовыми поминками — суть одна: нужно принять множество людей. А конечно, это удобнее сделать тут, на просторе, чем в тесной зимовке. Я не вижу более подходящего времени, чем сейчас.
Абдрахман и Какитай поддержали его, и Абай поручил Кокпаю сообщить Такежану и Исхаку его согласие. Но тут вмешался Магаш. Он не был против решения отца, но присущая ему справедливость заставила его подумать о тех людях, которых оно прямо касалось.
— Решение это, конечно, правильное, — сказал он, в раздумье поглядывая на Абая. — Но не лучше ли будет обо всем дальнейшем говорить без всяких посредников, вроде Есиргепа. Мне кажется, будет правильнее обсудить вопрос на семейном совете в ауле Оспана-ага, пригласив и наших аксакалов, и всех трех вдов, и детей — Аубакира и Пакизат.
Это действительно не приходило в голову Абаю, и он охотно принял справедливый совет. Слова Магаша, который поправил его, очень ему понравились. Впрочем, то, что именно Магаш первым подумал о том, как бы не обидеть и так уже опечаленных женщин, не удивило Абая. Чуткость Магаша и его способность проникать в самую душу человека, угадывать его состояние по малейшему движению бровей были теми качествами, которые особенно любил в нем отец. И сейчас, ласково взглянув на невысокого, хрупкого юношу, он одобрительно кивнул ему.
Решив, что на этом разговор о поминках закончился, Магаш заговорил о том, что волновало его с самого утра.
— Отец, мне кажется, что стоило бы обсудить и другое событие: повестку уездного. — Он посмотрел на Абиша, как бы ища его поддержки, и закончил — Может быть, поговорим об этом сейчас?
Абдрахман поддержал его, сказав, что и он не может понять, почему отец так спокоен.
— Может быть, вы уже пришли к какому-нибудь решению, отец? — И он выжидательно поднял глаза на Абая.
Тот сразу же ответил спокойно и решительно:
— А о чем же советоваться, что обсуждать? Письмо Федора Ивановича показывает, что ехать надо. Поеду, встречусь с начальством, узнаю, в чем меня обвиняют. Если можно будет, — встречусь с самими клеветниками. Решать тут нечего, надо ехать.
Услышав это, Магаш просветлел. Тревога, которая мучила его, исчезла при этих словах Абая. И остальные молодые люди, молча переглянувшись, тоже внутренне одобрили спокойную твердость Абая.
Из его слов было понятно, что он решился встретить опасность лицом к лицу и что и на этот раз он готовился выйти в схватку один, привыкнув к своему одиночеству. Видимо, предстоящая схватка, которая молодым людям казалась такой опасной, самого Абая не пугала и не тревожила. Он предпочел даже и не говорить о ней с неокрепшей еще молодежью.
Высказав свое решение, Абай сделал неожиданный вывод:
— Пожалуй, поминки по Оспану лучше будет справить до поездки в Кара-Мола. Ведь до этого целый месяц.
Абай, видимо, не хотел высказываться откровенно, и каждый понял его слова по-своему. Ближе других к правде был Дармен, который подумал, что Абай до поездки на допрос к начальству хотел сделать так, чтобы у Такежана не было никаких поводов к новой вражде.
На другой день в Большой юрте Оспана собралась его ближайшая родня — все три его вдовы, приемные дети — Аубакир и Пакизат, братья — Такежан, Абай, Исхак. Из племянников Оспана старшие пригласили только Абдрахмана.
После встречи в ауле жатаков Абай сегодня впервые увиделся с братьями. Но сейчас они как будто вовсе забыли о том событии. Ни выражением лица, ни своим поведением они и не напоминали о вражде, возникшей между ними и Абаем. Но чем тщательнее скрывали они свои чувства, тем недоверчивее смотрел на них Абай и тем яснее становилось ему, что они таят какие-то замыслы. Однако он старался не подавать и вида, что понимает это. «Разве бывали они когда-нибудь искренними?» — подумал он и вспомнил Оспана. Любил ли тот или ненавидел, он открывал свои чувства. А с этими своими братьями Абай был как будто среди чужих. Но делать нечего: нужно обсуждать вместе с ними все, что касается памяти Оспана. Абай хотел только одного: решать все вопросы без споров, молча соглашаясь с ними.
Обычай устраивать в первую годовщину смерти пышный и торжественный ас за последнее время в этих краях постепенно исчезал. Даже не было аса в память Кунанбая. И хотя многие и осуждали за это его сыновей, однако сами тоже ни разу не созывали людей на ас в память своих умерших родственников.
Такежан, который в своих тайных целях всячески старался возможно скорее справить поминки по Оспану, лучше других знал, что аса никакого не будет. Однако, для того чтобы оправдаться перед невестками и в будущем избавиться от обвинений, что об асе даже не вспомнили, он долго объяснял, почему нужно решиться на скромные годовые поминки, а не на ас: на такое большое торжество гостей приглашать надо за полгода, зимой же справлять большой ас невозможно — значит, его следует отложить на весну. Таким образом все пришли к решению устроить не многолюдный ас, а годовые поминки и назначить их через три недели.
Тут же было установлено и число приглашаемых и количество скота на угощение.
Гостей предполагалось созвать много. По словам Такежана и Исхака, все иргизбаи были так или иначе обязаны Оспану и теперь охотно примут участие в расходах на поминки. Было уже договорено, сколько скота дает каждый аул.
Абай и вдовы Оспана не возражали против этого. Однако Абдрахман не смог промолчать.
— Чем же тогда эти поминки будут отличаться от аса? — задал он вопрос. — И в том и в другом случае соберутся не одни только родные. Наедет множество людей, скучающих от безделья. Что для них память об Оспане-ага? Они приедут сытно поесть, поглазеть на байгу, на состязание в борьбе. Для них это не поминки, а развлечение, они и не будут думать об умершем, чтить его дух, вспоминать его дела. Может быть, из ста только один подумает об этом. А скота на них уйдет множество. Так не лучше ли как-нибудь иначе использовать этот скот? С большей пользой, чем на угощение бездельников…
Слова Абдрахмана не удивили Такежана. Он снисходительно улыбнулся, как бы прощая то, что, воспитываясь у русских, племянник перестал понимать родные обычаи.
— Э, милый мой, при таких обстоятельствах расход скота вполне уместен! Уж если где проявлять щедрость, так на поминках. Это и предки наши делали, это и шариат поощряет.
— В шариате говорится, что на поминки приглашают нищих, нуждающихся, — возразил Абиш. — Что же понуждает нас поить кумысом и кормить мясом сытых людей, которые любят повеселиться? Не лучше ли весь этот скот, который вы выделяете на поминки, раздать тем, кто рядом с нами голодает? Вот так мы действительно почтим память умершего, люди с благодарностью о нем вспомнят. И такое поминовение — не пустое бахвальство, не честолюбие, а добро.
— Ну и кому же, по-твоему, раздать этот скот? — спросил Абай лишь для того, чтобы и другие поняли справедливость необычной мысли Абиша.
— Как кому? Разве мало вокруг людей, которых извела нужда? Почему не раздать этот скот хотя бы жатакам Ералы, поддержать их разоренное хозяйство? Если говорить правду, так и сами они, и отцы, и матери их долгое время работали на нас, были пастухами, слугами, табунщиками нашего аула. Разве нет у них права на долю этого скота, хотя бы в награду за давний труд? По-моему, нет ничего плохого в том, что такие уважаемые люди, как вы, воспользуются удобным случаем, чтобы помочь оборванным, измученным и голодным.
Абдрахман говорил волнуясь, искренне, и слова его неожиданно для него самого были красноречивы. Абая поразило и другое: в речи сына он услышал голос нового поколения.
Но для его братьев слова Абдрахмана звучали странно. Такежан, не собираясь спорить с «русским воспитанником», ответил, неодобрительно усмехнувшись:
— А что ты беспокоишься об этих жатаках, Абдрахман? Если поискать бедняков, то их найдешь и в наших аулах. О них мы подумаем, это всегда делается. — И он взглянул на Исхака, ожидая его поддержки.
Тот ограничился также коротким замечанием:
— На милостыню будет выделено нужное количество скота. Незачем об этом сейчас говорить.
Абай ничем не отозвался на слова сына. Но когда, договорившись обо всем, родичи стали расходиться и Абай пошел вместе с Абдрахманом в свой аул, он обнял его.
— Мне понравилось то, что ты сказал, Абиш, — начал он. — Твои слова о бедняках жатаках — слова правильные. Но скажи мне: что тебе внушило эти мысли? То ли, что ты прочел в книгах, или действительное положение наших жатаков?
— И то и другое, отец. То, что я читал в книгах, совпало с тем, что видел у жатаков.
— А ты был у них? И Даркембая видел?
— Видел и говорил с ним. Да я и без него знаю, как живут жатаки, я часто захожу к ним в юрты.
— Хорошо делаешь, мой Абиш! А с Даркембаем говори почаще. Многое из того, что мы с тобой узнали из книг, он узнал из самой жизни. Он и горькое пробовал и тяжелое таскал — вот откуда его знания. Голова у него умная, опыт большой. Говоришь с ним — и слышишь голос народа.
Абай помолчал и потом с горечью продолжал:
— Предположим, мы выделим какое-то количество скота и в память Оспана раздадим жатакам. Конечно, это было бы гораздо полезнее, чем угощать любителей повеселиться, о которых ты говорил: все-таки каждая такая бедная семья проживет некоторое время не голодая. Но как они будут жить остальное время? И что делать с нуждой множества тех семей, которым мы не сможем дать даже и овцы? Ведь наша помощь будет крупинкой, которой не накормишь всех голодных. Хорошо, что ты подумал о нищих, разоренных людях. Но не видишь ли ты другого способа, как помочь огромной массе народа? — И Абай пристально посмотрел на сына.
— Я ведь еще не закончил учиться… — ответил Абиш, не успев собраться с мыслями.
— Конечно. Но скоро закончишь! — перебил Абай. — И я говорю не об одном тебе: ведь есть и другие молодые люди из наших казахов, кто уже закончил учебу. Я слышал, начали появляться образованные люди, вышедшие из Каркаралы, Омска, Акмолинска, и жигиты Малого Жуза — из Оренбурга, Троицка. Вы, как перелетные птицы, несете с собой весть о новой эпохе. И должны вы подумать о своем народе, о тяжелой его доле сейчас, о будущности его? Вот о чем надо спросить всех вас, молодых казахов, получивших русское образование!
— Не всех, отец, — возразил Абдрахман. — Множество из этих жигитов, получив образование, перестает учиться дальше…
— Это верно, — снова перебил Абай. — Не только перестают, но, став толмачами, забывают и то, чему их учили. Многие из них самое большее — могут стать ловкими чиновниками. Но, пожалуй, лучше вовсе ничему не учиться, чем сделаться такими мастерами кляузы и взятки, каких высмеивал Салтыков-Щедрин.
— Узнаю ваши слова, — улыбнулся Абиш. — Ведь об этом вы писали в стихотворении «В интернате»? Оно очень нравится многим нашим казахам, которые учатся в русских школах. Мне рассказывали об этом и в Омске и в Семипалатинске.
— Ну вот, если и они и ты сам понимаете мои мысли, какой же дадите ответ на мой вопрос?
— Ответ может быть только один, — с уверенностью сказал Абиш. — Кончим учиться — будем работать на пользу своему народу.
— А где работать? В канцелярии уездного? В суде? Кто же будет искать новые пути и указывать их своему народу? Есть ли среди вас такие, которые, как русские мыслители, думают о народе и живут только для него?
— Еще нет, отец. Для этого нет у нашей молодежи достаточных знаний.
— Да, ты прав, таких образованных казахов мы еще не видим. Если я окажусь отцом, у которого вырастут такие сыновья, не будет для меня большей радости.
— В нашем поколении и я не вижу таких, — сказал Абдрахман. — Но были два передовых и образованных человека из наших казахов. Они действительно могли помочь народу.
— О ком ты говоришь?
— Один из них — Чокан Валиханов, который умер совсем молодым двадцать пять лет назад. А второй — Ибрай Алтынсарин из-под Оренбурга.
Абай слышал об Алтынсарине, но о Чокане Валиханове он не знал, и Абиш долго рассказывал о нем, приводя восторженные отзывы многих выдающихся русских сибирских деятелей.
— Я не мог достать его трудов: они не напечатаны, — говорил Абиш. — Но от многих людей, которые его знали, я слышал, что этот человек оставил хорошее наследство казахскому народу. А Ибрай Алтынсарин оставил не только книги. Он обучал казахскую молодежь в открытой им русско-киргизской школе, по его примеру такие школы открыли и другие. Эти люди действительно отдали народу свои знания, посвятили всю жизнь благородной цели!
— Конечно, прекрасный пример… — задумчиво сказал Абай. — Если все наши казахи, которые учатся в городах, вернутся в аулы, в степь — это было бы началом огромного и нужного дела.
Абдрахман сказал вдруг, решившись:
— Если хотите, отец, я скажу вам, как я хотел бы построить свое будущее.
Абай молча поднял на него глаза.
Абиш заговорил о том, как тяготит его военное училище. Вынужденный поступить в него помимо своей воли, он и не предполагал, как жестока система воспитания в военно-учебных заведениях. Они готовят лишь слепую, бездушную силу для защиты царского трона, в стены училища не проникает ни одна светлая мысль о народе, всякая критическая мысль здесь душится. Вот почему Абиш и мечтает избавиться от военной службы сразу же после производства в офицеры.
— Я думаю, — говорил Абиш, — как мне вернуться в наш край, сюда, в Ералы, в Акшокы. Как-то Даркембай сказал мне: «Не уезжай опять далеко, спрятав свои знания за пазуху. Просвети свой народ. Сделай наших детей такими же, как ты сам, обучи их по-русски». И, мне кажется, это слова не только Даркембая. И сегодняшний день и будущее требуют от меня этого. Когда я предлагал аксакалам иначе использовать скот, выделенный на поминки Оспан-ага, я не мог сказать всего, что думал. А думал я о том, что на такие средства, которые будут выброшены на поминальный пир, можно было бы построить школу. Что скажете об этом?
Абай привлек к себе сына.
— Чем же кроме благодарности, я могу ответить тебе, мой Абиш? — растроганно сказал он. — Пусть теперь и ученье твое и все твои мысли ведут тебя к этой цели. Если наступит такой день, когда осуществится твоя мечта, ты оправдаешь перед народом не только свою жизнь, но и вернешь ему долг своего отца, — закончил он дрогнувшим голосом.
Слова отца сильно взволновали Абиша. Он гордился тем, что в душе его отца, не ослабевая, жила великая забота о народе.
Взволнован был и Абай. Он слушал сына с глубоким удовлетворением. Еще в прошлом году Абай увидел, что его сын близок к передовым идеям лучших людей России. И теперь он начал расспрашивать Абиша, каким же образом тот пришел к своим вольнолюбивым взглядам, несмотря на то, что военная школа в самом зародыше губит мысли о справедливости и свободе. Кто сейчас заменил собой в новом русском поколении Герцена и Чернышевского, есть ли у них последователи и как они борются за счастье народа? Встречается ли с ними Абиш? Откуда у него появились новые мысли?
Отвечая на вопросы, юноша с благодарностью вспомнил Павлова. В Петербурге Абиш нашел его старых друзей и родных, сблизился с ними. Все новое, лучшее, что появилось в России, почерпнуто им именно из этой среды. Друзья Павлова далеко шагнули вперед. Революционное движение обновилось, все идет сейчас по-новому. Борьбу против царизма взяло в свои руки сильное, молодое, упорное и смелое поколение. Революционеры опираются теперь на несметный трудовой люд, на рабочих русских фабрик и заводов. Новое, революционное, учение, озаряющее путь в будущее, распространяется в народе все шире, ряды борцов множатся с каждым днем, крылья их крепнут ото дня ко дню.
Абиш рассказал, что сам он не знаком с руководителями этого нового движения, а знает лишь тех, кто распространяет их наставления и указания, но он жадно читает их книги, призывы, обращения к народу, тайно распространяемые среди передовой молодежи.
— Теперь борьба стала совсем иной, — закончил Абиш. — Новый путь ведет вдаль, к высокой цели. И она будет достигнута, потому что на борьбу выходит великая сила неисчислимого народа, которому суждено владеть будущим. И он не обманывается пустой надеждой, будто убийством одного царя можно чего-нибудь добиться. Нет, эти люди хотят вырвать с корнями старые порядки. Только так можно добиться свободы и равенства всех угнетенных, всех бесправных нынче народов.
Теперь Абай в свою очередь с гордостью смотрел на сына, открывшего ему то великое новое, что происходило в жизни.
— Абиш мой, ты для меня — вестник новых времен! Слушая тебя, я вижу зарю нового мира. Я всегда чувствовал себя беспомощным, бессильным поводырем, который заблудился во мраке. Как мог я вывести к свету свой народ, обреченный на несчастье! Какое благо, что ты видишь перед собой путеводный свет! И если ты слил свои мысли с новыми людьми, иди, не оглядываясь, не раскаиваясь, иди только этим путем!
Они уже подходили к аулу. Абай, помолчав, вдруг решительно сказал:
— О школе думать еще рано, но другое твое предложение осуществить можно. Завтра я поговорю об этом. Когда будет выделен скот на поминки, распределять его будем мы все вместе — я, Такежан и Исхак. Думаю, мне удастся заставить их выделить часть скота для жатаков.
Абдрахман ничего не ответил. Он вдруг замедлил шаги и отстал от Абая, и тот, обернувшись, увидел, что юноша стоит держась за грудь. Отец подошел к нему и заботливо спросил, что с ним.
Абдрахман справился с болью и успокоил его:
— Ничего, отец. Закололо в груди… Наверно, продуло, ночью был легко укрыт…
Он ни слова не сказал отцу о том, каким грозным признаком был его сухой кашель. За все лето у него ни разу не было приступа, и объяснение сына вполне успокоило Абая.
4
Прошла неделя. Как-то вечером к Дармену приехал Утегельды и сказал, что ему нужно серьезно поговорить с Абдрахманом.
Такого поручения ему никто не давал, но он сам хорошо видел, что неопределенность мучает Магрифу и что все старшие в ауле тоже сильно озабочены. На сватовство с ними всегда охотно шли самые знатные и богатые казахи, и в этом году из дальних родов уже дважды приезжали сватать Магрифу. Но еще осенью Дильда тайно присылала сказать своей племяннице Турай, а через нее — матери Магрифы: «Пусть о других женихах не думают. Если бог позволит, у меня нет другого желания, как видеть счастье Абиша и Магрифы. Прошу терпеливо ждать, когда все решится». Сватам пришлось отказать.
Всю зиму никаких новостей больше не было. Магрифа была как бы связана без пут. Весной, когда траур по Оспану не давал возможности и думать о сватовстве, родные Магрифы вполне понимали, что нужно ждать еще. Но когда Абиш приехал домой, а Магрифа не получила ни слова привета, в ауле заволновались. И старшие и молодые ее родственники тревожно обсуждали создавшееся положение.
Утегельды прекрасно понимал все. Он знал также и то, почему Магрифа ничем не выражала своего беспокойства, — он был одним из немногих, кто знал о письме, полученном девушкой от Абиша зимой.
Беседуя как-то с Магашем о Магрифе, Дармен и Утегельды попросили его, как брата, написать о ней Абишу.
Из Петербурга пришло письмо Абдрахмана. Он отвечал не только Магашу, но через него обращался и к Магрифе с учтивыми и сдержанными словами. Дармен тотчас же вызвал Утегельды, и Магаш поручил ему передать письмо девушке.
Но жигит тут же начал шутливо возражать:
— Что хотите, а я не могу быть простым посыльным! Где это видано, чтобы наперсница невесты не была посвящена в тайну?
И он тут же превратился в разбитную и хитрую молодую женге, хлопочущую о подружке.
— Что это такое? Как вы скрываете такие дела от женге?.. — затрещал он. — Прочтите письмо сперва мне, тогда я уж, может быть, соглашусь отвезти его моей красавице!..
Так, балагуря и шутя, уморительно изображая обиженную женге, он все-таки добился того, что письмо было ему прочитано. Но оно принесло ему сильное разочарование. Он ждал, что там будет сказано что-нибудь вроде того, что Абиш собирается жениться на Магрифе, что просит ее дать ему слово ждать его. Но в письме было только написано: «Благородная моя сверстница, я не забыл вас. Сердце мое полно уважения и почтения к вам. Пусть мой привет выразит вам это».
С такой тонкой учтивостью Утегельды никогда не приходилось иметь дело, и он даже растерялся.
— О чем этот ваш русский тюре[53] пишет? Почему бог не внушил ему настоящих слов: «Я жажду тебя видеть… я люблю тебя… скоро пришлю свата, дай мне слово быть моей верной супругой»? Скажи он вот так прямо, разве кто-нибудь обвинил бы его? А теперь что такое? Опять ни то ни се! Снова всякие волнения в ауле! — Утегельды скорчил обиженную гримасу, и заговорил плаксивым голосом, хватаясь за голову и изображая отчаяние: — С чем же я вернусь? Что мне ответить нашим байбише? Говорить, что женится? Или же сказать, что пока что только кланяется, а свататься не хочет?
Но все-таки он отвез Магрифе это письмо и был поражен тем, как оно обрадовало ее. Девушка словно ожила. То и дело раздавался ее негромкий смех, которого он давно не слышал. Магрифа не расставалась с тетрадью стихов Абая, и теперь она часто напевала своим тихим мягким голосом те из них, в которых говорилось о волнении молодого сердца. Особенно нравилось ей письмо Татьяны, в котором, казалось, были выражены ее собственные чувства. Порой, проходя близко от Утегельды, она пела так, чтобы он услышал:
Когда б надежду я имела, Хоть редко, хоть в неделю раз, В деревне нашей видеть вас…Наблюдая все это, Утегельды внутренне негодовал на Абиша. Ничтожный призрак надежды, мелькнувшей в его письме, девушка приняла со всей радостью чистого, доверчивого сердца. Прямой и решительный жигит не мог простить Абишу его непонятной уклончивости и начал уже сам волноваться и терять терпение.
И теперь он, ни с кем не советуясь, приехал к Дармену и сказал ему, что намерен поговорить с Абдрахманом с глазу на глаз и объяснить, как мучается девушка. Дармен оставил его ночевать в своей юрте, а сам пошел вечером к Абишу и откровенно высказал ему все, что думал.
Абдрахман и на этот раз уклонился от всяких объяснений, сказав только:
— Из слов Утегельды я понимаю, что Магрифа по-прежнему верит мне и ждет моего слова. Но я ничего не могу передать ей через него. У меня есть тайна, которую я могу открыть только ей самой. Я хочу говорить с ней наедине. Если я чем-нибудь обидел ее, я же сам и должен просить прощения. Поэтому прошу тебя и Утегельды: устройте так, чтобы я мог повидаться с Магрифой без посторонних.
Утегельды отлично понял всю необходимость такой встречи и, вернувшись к себе в аул, передал это пожелание Абиша Магрифе, посоветовавшись сперва с женой Мусабая. Было решено устроить свидание через три дня. Жигит снова прискакал в аул Абая, сговорился с Дарменом о месте и часе встречи и вернулся обратно.
На третий день к вечеру, когда скот возвращался с пастбища, Абдрахман и Дармен незаметно выехали из аула, никому не сказав о предстоящем свидании. К татарскому аулу они подъезжали уже поздно вечером. На каменистой тропе, где их должен был встретить Утегельды, они остановили коней.
Луна светила ярко, низкорослые осенние травы тускло белели в ее лучах. Стояла полная тишина.
Утегельды не впервые был посредником между влюбленными, он даже любил говорить, что это — его основное занятие. Готовясь к поездке, он надел серый чекмень и сел на светло-саврасого коня. В мглистой лунной ночи ни Абдрахман, ни Дармен так и не смогли его заметить. Лишь по топоту копыт Дармен понял, что ловкий жигит, сохранявший тайну этой поездки, уже приближается. Увидел он его лишь когда тот подъехал вплотную.
— Э-э, Утегельды, из земли ты вырос, что ли? — воскликнул юноша. — Уж не колдун ли ты? Мы тебя и не видели!
Утегельды, довольный, рассмеялся и, упав головой на гриву коня, лукаво посмотрел снизу на обоих жигитов.
— Ну, разве я не гожусь в конокрады? Про такого, как я, говорят: «И собака не почует!» Вот въеду сейчас в аул — и ни один самый чуткий пес не тявкнет! — похвастал он и повернул коня. — Ну, сейчас самое время: в ауле почти все улеглись. Поезжайте оба потихоньку прямо на ту желтую звезду. — Он показал плетью на запад. — А еще лучше — вон на ту гору.
На светлом горизонте жигиты ясно различили высокую гору Догалан. Над ее черными зубцами, вырисовывавшимися четкой ломаной линией на бледном небе, мглистом в лунном свете, сияла желтая звезда. Прямо под ней выделялась одинокая скала. На нее и показал Утегельды.
— Поезжайте на эту скалу, двигайтесь не торопясь, шагом. Чуть заметите аул, остановитесь. Я поскачу вперед, предупрежу, что вы здесь, и снова встречу там вас.
И он умчался, сразу растворившись в неверном лунном свете.
Час спустя жигиты привязали своих коней по-калмыцки друг к другу и пошли в аул, уже спящий крепким сном. Утегельды вел их в Гостиную юрту возле юрты Мусабая, где, как оказалось, было безопаснее всего устроить свидание.
На круглом столе в юрте горела большая лампа, на почетном месте разостлано корпе. Магрифа и жена Мусабая стояли справа от входа возле кровати с костяными украшениями.
Девушка была в черном бешмете из толстого шелка, наброшенном на яркий камзол, на голове ее была шапочка с золотым шитьем и с украшениями из перьев филина, та же, в которой Абдрахман увидел девушку в прошлом году.
От волнения Магрифа была бледна. Нежная мягкость черт лица, свойственная первой поре юности, уже исчезла, точеные линии теперь приобрели совершенную законченность. Большие серые глаза по-прежнему притягивали к себе взгляд. Они как бы излучали свет и выражали все душевные движения девушки.
Абдрахман, подойдя к ней, поздоровался по-городскому, за руку. Магрифа мгновенно залилась горячей волной румянца. Жена Мусабая приходилась Абишу старшей родственницей, и поэтому он приветствовал ее свободно и тепло, называя просто по имени.
В юрте кипел самовар, женге тут же начала угощать чаем Абдрахмана и его друзей, расспрашивая, надолго ли Абиш приехал домой, сколько ему остается учиться, где он думает жить после. Вызывая друзей на шутки и ведя непринужденную беседу, она быстро сгладила первую неловкость встречи. Кроме того, умная и ловкая женге, пользуясь своим правом старшей родственницы, расспрашивала молодого жигита о нем самом, задавая именно такие вопросы, которые могли интересовать Магрифу. Напившись чаю, Утегельды и Дармен пошли к коням под предлогом, что надо позаботиться о них. Женге, убрав посуду, тоже вышла из юрты.
Оставшись наедине с Магрифой, Абдрахман повернулся к ней.
— Я просил о встрече с вами, Магрифа, и благодарен вам, что вы согласились, — начал он чуть дрогнувшим голосом.
Магрифа не ответила. Она лишь со смущенной улыбкой бросила на Абиша быстрый взгляд. С чем он пришел? Что она услышит от него сегодня? Никогда еще не приходилось ей беседовать наедине ни с одним жигитом. А этот — и по своему поведению все это время и по таинственности сегодняшнего разговора — был для нее совершенной загадкой. Юная красавица смутилась и опустила глаза.
— Магрифа, дорогая… Прежде всего я должен просить вас о прощении…
В начале этой необычной ночной беседы Магрифа не проронила ни слова. Все, что могла бы она ответить юноше, которого жадно слушала, теснилось в ее мыслях и чувствах, но в слова не облекалось. И когда он заговорил о прощении, она подумала, как бы отвечая ему: «Почему о прощении? Чем он передо мной виноват?»
Абдрахман продолжал:
— Я прошу простить мне, что я так долго заставил вас ждать каких-нибудь моих слов, какого-нибудь решения…
«Разве я когда-нибудь обвиняла вас?»—снова в душе ответила ему девушка, с участием видя, как вспыхнуло его лицо. Что-то мучило его: он нахмурился. Сердце Магрифы дрогнуло.
— И за нынешний разговор вынужден просить прощения. Если бы сегодня я пришел к вам с каким-то твердым решением, можно было сказать: «Доброе дело никогда не опаздывает». Но я пришел к вам с моей правдой. Я принес вам свою тайну, которую ношу в себе, не делясь ею ни с братьями, ни даже с отцом. Правда моя в том, что и сегодня у меня по-прежнему нет никакого решения…
«Зачем же вы тогда приехали?» — закричало все внутри девушки. Кровь снова отхлынула у нее от лица. Она стиснула руки так, что побелели суставы ее точеных пальцев.
— Вы услышали правду, Магрифа. Теперь выслушайте и мою тайну. Едва увидев вас в прошлом году, я тотчас понял, как достойны вы уважения. Вы для меня лучшее, что есть на свете. Если бы не одно непреодолимое препятствие, я не колебался бы ни на миг. Но сейчас я не могу позволить себе решить наше будущее. Не могу и сказать нашим родителям, чтобы они начинали сватовство. Вот я и пришел к вам, чтобы сказать об этой моей тайне.
Сердце Магрифы сжалось от ревнивого подозрения. Теперь она, не опуская глаз, смотрела на него взглядом, полным горького укора. «Я знаю эту тайну: это ваша возлюбленная! Как же может быть иначе? Разве я одна на свете могла полюбить такого жигита? А препятствие — это слово, которое вы дали ей. Если так, зачем же мне все это открывать?» Эти мысли жгли ее душу. Но лицо юноши кажется таким искренним, таким чистым. Оно то вспыхивает, то бледнеет.
— И тайна моя и препятствие — это одно и то же, Магрифа.
«Конечно, одно и то же! Другая девушка. Сейчас я услышу ее имя… Пусть говорит, пусть кончает все скорей!»
Она замерла, сердце ее как бы остановилось, по всему телу пробежал холод. Она не могла больше смотреть на Абиша и снова опустила глаза, ожидая его слов, как удара ножом.
— То, о чем я говорю, Магрифа, — это моя болезнь.
— Болезнь? — вскрикнула девушка.
Лицо ее снова порозовело, глаза заблестели. Она не знала, пугаться ли ей или радоваться. Совсем другого ожидала она и теперь обвиняла себя: как могла она подумать, что Абиш изменил ей. А болезнь — какое же это препятствне? Она внутренне торопила юношу: скорей, скорей, надо узнать, что ему грозит! И взгляд, который она не сводила теперь с Абдрахмана, был полон любви и тепла.
Он негромко продолжал:
— Петербургские доктора говорят, что легкие мои поражены опасной болезнью. Это чахотка. Один известный врач сказал, что о свадьбе мне думать пока что нельзя. Он говорил, что своей болезнью я могу убить жену… Вот, Магрифа, и мое препятствие и моя тайна… Вот моя правда. Вот все, что я хотел сказать вам и с этим уехать.
— Только это? Только это, Абиш? — спросила девушка.
С какой радостью, доверчивостью и нежностью она вскинула на Абиша глаза! Юноша с изумлением смотрел на нее, не понимая ее вопроса.
— Болезнь, опасная болезнь, — повторил он. — Поймите, каким препятствием встала она между нами… Для меня это — тяжелое горе…
Решение возникло в душе Магрифы мгновенно. Но эта быстрота не была легкомыслием. Магрифа не узнавала себя самое — так твердо, непоколебимо, безвозвратно сердце ее сказало свое слово. Это решение было решением сердца, а не ума. Если бы девушка стала раздумывать, взвешивать, она никогда не позволила бы себе такого искреннего порыва.
— Ваша болезнь, Абиш, — и для меня горе. Но если препятствие только в этом, что вы опасаетесь за меня, хотите сберечь меня, — значит, и решать надо мне самой. Вот мое слово: лишь тогда жизнь будет настоящей жизнью, когда она сольется с жизнью любимого, когда все радости и печали ты разделишь вместе с ним. Если я правильно понимаю стихи Абая-ага, так говорит о любви и он. Я не понимаю ни любви, ни дружбы, если они отступают перед жертвой. Сама я хочу лишь одного: прожить жизнь вместе с вами, делить с вами все, чем бы ни угрожала вам судьба.
— Магрифа, милая… Неужели вы так любите меня?
— Для моей любви ничего не страшно.
— Дорогая Магрифа, думаете ли вы, что говорите? Ведь смертью грозит моя судьба — и мне и вам… Если болезнь моя вспыхнет, она убьет и вас!
— И только?
— Как — только?.. Ведь между нами — смерть.
— Если умрете вы, зачем же жить мне? Тогда смерть будет для меня счастьем… — Крупные слезы покатились из глаз девушки.
Девушка протянула жигиту свои прекрасные руки. Препятствие, сдерживавшее влюбленных, рухнуло, и чувство прорвалось, затопило их своим неудержимо хлынувшим светлым потоком.
Юноша не заметил и сам, как очутилась Магрифа в его объятиях. Он понял это лишь тогда, когда почувствовал на губах соленый вкус слез, заливших ее лицо.
Когда наступило время расставаться, Абдрахман сказал:
— Поминки по Оспану-ага родные решили справить раньше, не ожидая годовщины. Сразу после них в ваш аул приедут для сватовства. Магрифа, вы моя возлюбленная, дороже вас у меня нет никого в жизни.
Магрифа и не догадывалась прежде, что можно быть такой счастливой.
Под утро жигиты сели на коней, и Утегельды без шума вывел их из аула. Абиш обратился к друзьям:
— Всей душой благодарю вас обоих. Я счастлив! Мы все решили. Сразу после поминок наш аул начнет сватовство.
— Э-э, дорогой зятек, вот это настоящие слова, да будут они благословенны! — воскликнул Утегельды. И все-таки не удержался от шутливого укора — Давно бы тебе взяться за дело по-нашему, по-степному.
Дармен всей душой разделял его радость. Утегельды, попрощавшись, весело поскакал обратно в аул, куда Абиш в следующий раз вернется уже зятем.
В КОЛЬЦЕ
1
На поминки Оспана съехалось так много гостей, что долина Ералы оказалась уже непригодной для стоянки: вся трава вокруг была истоптана. Поэтому сразу после поминок аулы кунанбаевцев ушли на другие места.
При этой перекочевке аул Исхака по настоянию его жены, своевольной, надменной Манике, верховодившей и своим мужем и всем аулом, расположился неподалеку от аула Такежана. Это отвечало и желанию самого Такежана: вопрос о дележе наследства Оспана требовал частых встреч и обсуждений, и братьям нужно было теперь держаться рядом. Именно поэтому он пригласил семью брата и людей его аула на «ерулик».[54]
После обеда братья ушли в Гостиную юрту для переговоров, а Манике, окинув сидевших в Большой юрте мужчин и женщин ее аула властным взглядом, приказала:
— Ну что же, погостили в доме Такежана-ага — пора и к себе в аул! Попили, поели — надо и на скот свой взглянуть!
Выпроводив так своих людей, Манике осталась в Большой юрте наедине с Каражан.
Худая, высохшая, суровая, Каражан казалась теперь почти старухой. Манике — полная, красивая черноволосая женщина с крупными чертами лица — наоборот, выглядела еще очень молодо. Ее умные карие глаза, готовые вспыхнуть опасным огоньком издевки, чуть вздернутый прямой нос, капризные губы, то и дело складывающиеся в насмешливую улыбку, резко выделяли ее среди других. Держалась она надменно, гордо, одевалась со вкусом на зависть всем остальным. Первая в этих краях она начала подсинивать кимешек и подкрахмаливать платья, которые трещали и шумели на ней при каждом ее движении.
Она была второй женой Исхака. Первая умерла, оставив двух сыновей — Какитая и Ахмедбека. Несмотря на то, что у Манике была только одна дочь, она сумела полностью забрать власть над своим мужем и стала его единственной и любимой женой, не позволяя ему и думать о новом браке. Красноречивая, решительная, избалованная, она делала все, что взбредет в голову. Так в последние годы она придумала себе новое развлечение, неизвестное в степи: она начала курить опиум, приучив к этому самого Исхака.
Привыкнув вертеть своим мужем, она и с другими обращалась так же, как со своими домашними, — надменно, властно. Не только женщины, но и многие мужчины Иргизбая отступали перед ней. Лишь Оспан, видя, какой самовлюбленной и заносчивой становится его женге, незадолго до смерти жестоко высмеял ее.
— Вполне понятно, что ты верховодишь не только мужем, но и всем аулом, — сказал он как бы в шутку. — И по уму и по красоте ты выше всякого земного существа! Где уж нам, неуклюжим казахам и глупым их бабам, равняться с тобой, — все мы знаем, что ты не простая смертная, а неземное воздушное существо, ангел, сошедший к нам с неба. Только открой нам, милая, свою тайну. Скажи, пожалуйста: когда ты ходишь на двор, остаются там какие-нибудь следы, как от нас, грешных, или отбросы выходят из твоего желудка благовонным ароматом, как у гурий?
Эта злая насмешка над самоуверенной Манике быстро полетела по степи. Много людей, потерпевших обиду от высокомерной и властной Манике, повторяли эти слова, на свой лад переделывая и приукрашивая их. Однако и это не уменьшило надменности Манике. Злопамятная красавица, сама умеющая владеть острым оружием насмешки, не отомстила Оспану только потому, что тот вскоре неожиданно умер.
Манике вообще умела постоять за себя. Лишь один человек был ей не по зубам — Абай. Будь он младшим братом ее мужа, она, может быть, сумела бы справиться и с ним. Но Абай был старше Исхака, и Манике поневоле должна была, хотя бы внешне, относиться к нему с уважением. В душе же она сильно недолюбливала Абая. За его спиной она зло издевалась над тем, что делается в ауле Абая, над его сыновьями, пристрастившимися ко всему русскому. Она не стеснялась высмеивать Абая не только перед Исхаком, но даже и перед пастухами и слугами своего аула. Стихи Абая и его поучительные слова, доходившие до нее, не вызывали в ней ничего, кроме злобы. Скривив тонкие губы, она обычно с презрением говорила:
— Ладно, хватит, не повторяйте эту чепуху! Удивительно, если это в самом деле сказал такой почтенный человек, как Абай-ага! В чем здесь выразилась его мудрость? Где тут его знания? Оказывается, и умные люди могут ошибаться!
Все это, конечно, доходило до Айгерим, но та относилась к словам Манике с откровенной насмешкой.
И вот сейчас эта самая Манике, сидя наедине со своей невесткой Каражан, начала разговор о том, что волновало сейчас обе семьи, — о наследстве Оспана.
Обе эти невестки были и умны, и властолюбивы, и корыстны, обе подчинили своему влиянию мужей, и обеих мучило честолюбие, которое было развито в них не по-женски. Благодаря сходству своих характеров они легко договорились о том, что надо делать. Еще задолго до годовщины смерти Оспана они начали торопить своих мужей поскорее устроить поминки, чтобы можно было наконец приступить к разделу наследства. Они сошлись даже и на том, что обе прикажут своим мужьям жениться на вдовах Оспана, чтобы не упустить его богатства.
Однако и внезапно вспыхнувшая дружба двух невесток и их решения — все это было подсказано Азимбаем.
Хитрый, дальновидный, расчетливый сын Такежана все продумал. Дружба матери с Манике нужна была ему для того, чтобы сблизить отца с Исхаком. Если из трех наследников имущества Оспана двое будут держаться вместе, то они сумеют заставить Абая согласиться на такой раздел наследства, который будет выгоден обоим. Не особенно рассчитывая на мать, Азимбай решил привлечь для своих целей Манике. Он то и дело появлялся в ауле Исхака и наедине с ней разговаривал. Однажды Азимбай сказал:
— Женеше, неужели ваши не видят, что происходит? Поглядите-ка, Абай днюет и ночует у Еркежан в Большой юрте Оспана-ага, а наши беспечно дожидаются, когда исполнится год траура. А между тем абаевцы и внучат своих— Аубакира и Пакизат — держат в ауле под видом детей Оспана. Не кажется ли вам, что они хорошо обдумали, что делать? Как бы к тому времени, когда мы начнем говорить о наследстве, не оказалось, что Большая юрта и все ее стада уже перешли к нашим бескорыстным абаевцам? Как вы думаете?
Манике и в голову не приходила такая мысль. Но она не могла показать этого и, снисходительно взглянув на племянника, начала со своего обычного присловья, показывавшего ее проницательность и ум:
— Э-э, что тут говорить, я давно знала об этом! Абай только делает вид, что горюет и сочувствует Еркежан. На самом-то деле он просто ее обхаживает! Тебе это еще в голову не приходило, а я уже спрашивала: почему это Абай не выходит из Большой юрты? Ведь он же — не вдова, кому нужно днем и ночью оплакивать умершего? Я всем говорила: неспроста!
Азимбай тут же начал превозносить ее мудрость и дальновидность.
— Иногда я жалею, женеше, что создатель не наделил вашим умом моего отца, — беззастенчиво льстил он. — Ни он, ни Исхак-ага не видят того, что вы давно видите своим проницательным взором! А попавшись в западню, будут разводить руками и негодовать. Доверчивы они очень, вот и поплатятся за свою наивность!
Он отлично знал, что отец его вовсе не наивен, но слова его дышали такой убежденностью, что даже Манике приняла их за правду.
— Ну, и ты от них недалеко ушел! — сказала она с покровительственной насмешкой. — Я-то думала, что ты передаешь отцу все мои подозрения, а ты только вздыхаешь о том, что он наивен и беспечен.
Азимбай добился своего. Слушая самодовольные поучения Манике, он сокрушенно кивал головой, притворяясь, будто только сейчас понял, что происходит в юрте Еркежан, и, прикидываясь беспомощным, ответил:
— Хорошо было бы, чтобы вы сами объяснили свои догадки моему отцу и матери. Я этого не сумею.
Говоря все это, Азимбай имел в виду еще одно серьезное препятствие. Оно заключалось в том, что Каражан могла решительно возражать против женитьбы его отца на одной из вдов Оспана. Между тем, по обычаю аменгерства, если родственник умершего не женится на его вдове, он не может предъявить свои права на наследство. Вот это-то и беспокоило Азимбая. Отец его, как старший из трех братьев, вполне мог рассчитывать на брак с Еркежан — и в этом случае к нему переходила Большая юрта Кунанбая со всем имуществом и огромным количеством скота, что и было главной целью Азимбая.
Поэтому-то, следя с таким подозрением за пребыванием Абая у Еркежан, Азимбай опасался и того, что мать из ревности не даст отцу согласия на брак с Еркежан и весь план рухнет.
Говорить с родителями о таком щекотливом деле он сам, конечно, не мог. И ему пришло в голову сделать орудием своих замыслов Манике. Одним из качеств ее было умение хранить тайну. Она никогда не позволяла себе проговориться о том, что было ей доверено.
Через Манике Азимбаю удалось добиться того, что Каражан обещала не возражать против женитьбы Такежана на одной из вдов Оспана. Теперь задачей его было сделать так, чтобы отец женился именно на Еркежан, владелице Большого аула.
И нынче Азимбай незаметно руководил угощением, заботясь о том, чтобы Исхак и Манике чувствовали себя почетными гостями. Он же устроил так, чтобы его мать и Манике могли начать беседу, которую он сам тщательно подготовил.
Оставив их вдвоем, Азимбай вышел из юрты и, усевшись возле нее, вынул нож и занялся обстругиванием палки, как бы весь углубившись в это занятие. Увидев свою жену, смуглую и молчаливую Матиш, он подозвал ее и, нахмурясь, приказал строгим шепотом:
— Никого сюда не пускай! А в Гостиной юрте сидят отец и дядя. Смотри, чтобы и туда никто не заходил!
Расставив сети, Азимбай спокойно ожидал, когда добыча сама попадется в них. Широколицый, румяный, с пухлыми красными веками, прикрывающими холодные и хитрые глаза, он иногда с довольным видом гладил свою красивую, окладистую черную бороду, отливающую синевой, как воронье крыло, поглядывая исподлобья на Большую юрту. Порой он еле заметно улыбался, видя в мечтах то, что может дать ему сегодняшний разговор матери и тетки. Перед глазами его уже проходили тысячи саврасых, гнедых и серых коней, как бы говоря ему: «Мы твои!»
В юрте в это время Манике подсела поближе к Каражан и негромко заговорила:
— Женеше, что говорит ваш муж? Когда наши мужчины начнут разговоры о наследстве?
— Кто их знает? — пожала плечами Каражан. — Мне кажется, они никак не могут решиться на это. Боятся, наверно, что абаевцы или вдовы упрекнут их, зачем так торопятся.
— Э, я давно знала об этом! — по привычке подхватила Манике. — Ваш Такежан такой же простачок, как и мой Исхак! Оба они ни на что не решатся сами! Они и за еду не сядут, пока не взглянут на Абая и не убедятся, не хмурится ли он!
— Так думаешь, он их обойдет?
— А как же! Человек, который еще до поминок залез в юрту, на все решится, вот увидите!
— А что там у них творится? Слышала что-нибудь об этом?
— Разве они позволят ходить слухам? Абай позаботился, чтобы у Большой юрты не шныряли собаки, а над ней не летали птицы. Но уж, конечно, он подумал: «Пусть они заставили справить поминки раньше годовщины, а остальное я сам устрою!» Наши еще только почесывались, а он все уже сделал. Перетянул на свою сторону весь аул, всех табунщиков, соседей, чабанов. Сразу двоих внучат там держит, чтобы ухватить наследство, и сам оттуда не выходит и сыновей своих таскает. Другим туда и носа не просунуть… Ведь покойник и сам всю жизнь преклонялся перед Абаем, своих людей делал его сторонниками… Теперь Абай, как всегда, сам молчит, а других заставляет защищать себя.
Беседа подходила к тому главному вопросу, из-за которого Азимбай и устроил это свидание женщин.
Натравить друг на друга соседей и поссорить их, напоить двоих чабанов и заставить их подраться, подзадорить двоих болтунов, подбить их на насмешки друг над другом и привести к разрыву — с самого детства было любимым занятием Азимбая. Двуличничая, прикидываясь другом, он часто заставлял людей делать то, что ему хочется, заранее рассчитывая ходы, как опытный игрок.
Чтобы заставить двух женщин, умных и хитрых, выполнить его собственные корыстные расчеты, он напряг теперь все эти свои способности. Главной задачей Азимбая было подстроить так, чтобы отец женился на Еркежан. Для этого нужно было добиться, чтобы того же не потребовал Исхак. И он нашел способ воздействовать на Манике. Накануне, разговаривая с ней о дележе наследства, Азимбай как бы вскользь заговорил о том, что Каражан никогда не допустит этого брака.
— Хотя матери и очень хочется получить скот и имущество Большой юрты, однако она согласия не даст, — огорченно говорил он Манике. — Подумайте сами, женеше: Еркежан — женщина красивая, с покладистым характером, умеет нравиться людям. Какой же мужчина не увлечется такой женщиной? Всякий, кто женится на ней, так и будет кружиться возле нее, ни на шаг не уйдет, забудет прежнюю семью и жену. Разве моя мать этого не видит? Понятно, что она боится Еркежан.
Азимбай говорил все это как бы о Каражан. На самом же деле все его слова были рассчитаны на Манике. И они попали в цель. Лицо ее изменилось. Широко раскрыв глаза, она в упор уставилась на Азимбая. Неожиданное открытие заставило ее даже удивленно зачмокать губами. Но потом, спохватившись, она по привычке заговорила:
— Э-э, я давным-давно это знала, — и тут же махнула рукой, сделав вид, что не стоит даже и говорить об этом.
В действительности же соображения Азимбая поразили ее, как громом. До сих пор она совершенно не думала об этой опасности, наоборот — сама готова была бороться за то, чтобы Исхак взял в жены Еркежан и получил этим право на Большую юрту. Теперь она не на шутку взвол-новалась.
Азимбай, внимательно следивший за нею, продолжал, как бы ничего не замечая.
— Зейнеп или Торымбала, конечно, совсем другое дело, мать сумеет сразу поставить их на место! А Еркежан привыкла быть первой, она знает, что с ней муж получает и Большую юрту. Разве непопытается она стать любимой женой? А отец, вы сами знаете, человек увлекающийся, его такая женщина легко приберет к рукам, — закончил он.
Слушая его, Манике думала не о Такежане, а об Исхаке и заволновалась больше: прежнего.
— Единственно, чем можно успокоить страхи моей матери, — это то, что у нее все-таки есть взрослый сын, — говорил между тем Азимбай, будто доверчиво делясь своими мыслями. — Она имеет право требовать уважения к себе. Но все же уговорить ее согласиться на этот брак будет трудно. Правда, она не такая молодая, как вы. И, может быть, чувство ревности в ней уже притупилось.
Каждое из этих слов впивалось в сердце Манике отравленной стрелой. У нее-то не было «родного сына», о котором нарочно упомянул Азимбай. Если Исхак женится на Еркежан, что будет с Манике? В каком положении она очутится, если вдобавок у Еркежан будет сын? Поняв, какой страшной опасности она не замечала, спокойно думая о выгодном браке Исхака с Еркежан, Манике ужаснулась. Теперь она решилась не испытывать судьбу. Зачем ей лишаться своего положения в семье, зачем вводить в дом соперницу?
Увидев, что слова его достигли цели, Азимбай успокоился: теперь самолюбивая, ревнивая Манике никак не позволит Исхаку жениться на Еркежан. Значит, Исхак уже выпал из игры. Здесь была еще и другая выгода: спасая себя, Манике, наверно, постарается уговорить Каражан согласиться на брак Такежана с Еркежан. Сам отец, как бы ни хотелось ему получить Большую юрту, конечно, не рискнет заводить об этом разговор.
Манике именно об этом и начала говорить с Каражан:
— Женеше, скоро, наверно, пойдет уже разговор о вдовах. Как вы думаете, кто на ком женится?
— А что ты об этом думаешь? — ответила Каражан, желая знать сперва ее мнение.
— Право, не знаю, — начала хитрить Манике. — Конечно, если наши захотят избежать спора, так они выберут двоих младших. Ведь спор пойдет только об Еркежан, раз у нее Большая юрта. Конечно, если решать справедливо, первым выбор должен делать, по старшинству, Такежан-ага. Разве другие могут оспаривать его права? — И сказав это, она выжидательно посмотрела на Каражан.
Та молчала, нахмурив брови, внешне спокойная. Однако внутри у нее происходила настоящая буря. С одной стороны, в ней давно уже жило жадное желание заполучить скот и богатство Большой юрты, с другой — опасения, о которых Азимбай говорил Манике, и ей самой приходили в голову. Не раз уже думая об этом, она пришла к выводу, который и высказала сейчас Манике.
— А почему бы нашим просто не разделить имущество Большой юрты? Тогда не надо никому и жениться на Еркежан!
Манике тут же возразила:
— Ну, о чем вы говорите, женеше? Положим, наши женятся на младших вдовах, тогда они и получат с каждой ее долю. А скот и имущество Большой юрты так и останется у Еркежан. Сначала там будет хозяйничать Аубакир, а потом и сам Абай. Нет, женеше, не надо нам отступаться от борьбы!
— Ты так думаешь? — неуверенно спросила Каражан. И Манике, следя за малейшими изменениями ее лица, вкрадчиво заговорила:
— Конечно! Чего же вам бояться? У вас есть такой сын, как Азимбай, опора и надежда отца. Ведь это же ваш родной сын, кровь от вашей крови! Вы — счастливая и гордая мать. А что такое Еркежан? Пусть она богата, но все же знают, что она бесплодна, как высохший пень! Никогда она и не посмеет соперничать с вами! Да, по правде говоря, и Такежан уже вышел из того возраста, когда вы могли бы его ревновать. Нет, женеше, не делайте опрометчивого поступка! Ведь вы сами знаете, все зависит от вас: если вы не благословите Такежана на этот шаг, считайте, что своими руками отдали и Большую юрту и все богатство! И всем этим будут владеть абаевские сынки, а ваш родной сын Азимбай останется нищим. Я ведь давным-давно вижу, чего дожидается Абай!
Каражан напряженно слушала ее, в отчаянии повторяя про себя: «Конечно, так. Конечно, так».
Ее всегда называли скаредной, расчетливой, жестокой. Почему же она была такой? Ради чего она и хитрила, и жадно берегла всякое добро, и придиралась к слугам? Только ради того, чтобы создать Такежану богатство, а вместе с ним и влияние. Разве заботилась она о чем-нибудь кроме благополучия его самого и его детей? Всю свою суровую, невеселую жизнь она прожила только ради Такежана, не думая, что есть на свете кто-либо другой кроме него. И вот теперь, когда красота ее увяла и молодость ушла, она сама должна подсказать мужу, чтобы тот взял в дом токал, которая и моложе, и красивее ее, и вдобавок несет с собой богатство.
Каражан долго сидела, мучаясь этими мыслями, и вдруг разразилась слезами так внезапно, словно внутри у нее что-то лопнуло. Она плакала, вся содрогаясь от рыданий, громко всхлипывая. Наконец она с трудом успокоилась.
— Покойная старая мать, — вспомнила она Улжан, — однажды говорила с горечью: «Проклятая женская судьба! Как бы ни была ты избалована и любима, в тот день, когда муж охладеет к тебе, цена твоя будет не дороже старой, истоптанной стельки!» И правда, когда взоры мужа обратятся к токал, о тебе будут думать меньше, чем о щенке, забытом на старой стоянке при откочевке аула… Вой, плачь, обливайся слезами, а муж и не взглянет на тебя, увлеченный красотой новой подруги…
И Каражан снова зарыдала.
Манике не прерывала ни ее причитаний, ни слез. Видно было, что Каражан уже готова дать согласие. Пусть поплачет, попричитает…
Манике, умная, хитрая и красноречивая, отличалась какой-то странной бесчувственностью. Чужое горе не только не трогало ее, а, наоборот, раздражало.
Конечно, плачущий человек не может показаться привлекательным, а слезы и чужое горе не могут доставить другому никакого удовольствия. Но понимать их, разделять горе, быть сострадательным—свойство каждого сердечного и честного человека. Что же касается Манике, то она не могла без отвращения наблюдать плачущих людей. Право на слезы она признавала только за собой и, с некоторым недовольством, — за своими домашними. Но рыдания чужих просто озлобляли ее. И поэтому, когда у пастухов или слуг умирал кто-либо в семье — старик ли, ребенок ли, — себялюбивая байбише не разделяла их горя. Больше того, она позволяла себе даже кричать на женщин, проливающих слезы, и бранить их.
Горе Каражан никак не затронуло черствого сердца Манике. Наоборот, видя в этих слезах свою победу, она даже чуть улыбалась, скривив свои тонкие губы. И, вполне уверенная, что теперь Каражан даст согласие, как бы сейчас она ни рыдала, Манике встала и вышла из юрты.
Увидев Манике, Азимбай направился к ней из тени Большой юрты. Березовый шест был уже оструган и превратился в красивый курук. Громкие рыдания матери были хорошо слышны Азимбаю, но никак не взволновали его. Наоборот, услышав их и поняв, что Манике добилась своего, он спокойно встал, сбрасывая с колен стружки, как будто стряхивая с себя слезы родной матери, и пошел рядом с Манике. Показывая в улыбке белые зубы, блестевшие под черными усами, он, довольный, слушал ее рассказ о беседе в Большой юрте.
Беседа же, которую в Гостиной юрте, также наедине, вели Такежан и Исхак, закончилась раньше. Вопроса о женитьбе на вдовах братья не касались: с одной стороны, ни один из них не пришел еще к твердому решению, а с другой — начинать разговор прямо с этого было и неудобно и преждевременно.
Поэтому беседа их пошла о том, как лучше вести переговоры с Абаем. Встретиться ли с ним самим или, может быть, лучше будет говорить через посредников? А если так — кого для этого выбрать? В конце концов они решили, что для начала надо послать к Абаю посредников, а личную встречу устроить лишь в том случае, если он сам ее предложит, как это было при обсуждении срока поминок.
Целью этих переговоров было решить, когда и как делить наследство Оспана и как быть с его вдовами. И Такежан и Исхак вполне соглашались с тем, что говорили им жены: конечно, Абай не зря кружит около Большой юрты — вероятно, он хочет завладеть ею через своих внучат. И поэтому он будет стараться затягивать переговоры о дележе. Конечно, он сумеет найти для этого какую-нибудь причину; наверно, станет уговаривать и вдов.
Раз так, то посредников надо было найти таких, чтобы Абай считался с ними. Перебрав множество людей, братья остановились на Ерболе и Шубаре. Ербол был давнишним другом Абая, а о Шубаре оба думали, что тот, конечно, станет на их сторону и сумеет повлиять на Ербола. К тому же Шубар — близкий родственник, и его нельзя оставлять в стороне при разделе наследства его дяди.
На следующий же день Ербол и Шубар были приглашены в аул Исхака. За обедом братья объяснили им, чего от них хотят. Ни тот, ни другой не возражали быть посредниками: годовые поминки уже состоялись, и разговоры о разделе наследства были вполне уместны. Ербол подумал: «Не обрадует это Абая, еще больше усилит его печаль. Но могу ли я отказаться? Лучше разделить с ним его горе и заботы; может быть, чем-нибудь пригожусь ему».
Манике, выбрав время, отвела Шубара в сторону и сообщила, что все сходятся на том, чтобы Такежан взял в жены Еркежан. Это его право. Исхак поддерживал его, Каражан дала согласие. Раз из троих аменгеров двое пришли к такому решению, третий не должен препятствовать ему, и Абаю нужно об этом твердо сказать.
Таким образом в интригу, затеянную Азимбаем, захватившую сперва Манике и Каражан, а потом Такежана и Исхака, оказался втянутым и Шубар. Хитрый замысел уже переходил в поступки. Черная туча, увеличиваясь и сгущаясь, нависла над головой Абая, угрожая ему.
Но какой бы грозной она ни казалась, сам Абай не выказал ни малейшего волнения, когда Шубар и Ербол, приехав к нему, заговорили о желании его братьев начать раздел наследства.
Прежде чем идти к Абаю, Ербол повидался с Магашем и Акылбаем, сообщил им о цели своего приезда и предложил присутствовать при беседе, чтобы помочь своим советом. Акылбай, не любивший никаких деловых разговоров, наотрез отказался:
— Ну зачем я пойду? Абай-ага сам придумает что-нибудь. Лучше уж пусть Магаш идет!
Сообщение Ербола возмутило Магаша.
— Что они так торопятся? Не могут подождать с разделом, пока отец вернется из Кара-Мола с допроса? Опять впутывают его в свои дрязги!
Идти к Абаю вместе с Ерболом он счел неудобным.
— Это дело касается отца и его братьев, нам вмешиваться нельзя. Другое дело вы, Ербол-ага, вы его друг, и вы, подобно опытному старому верблюду, знаете, где в реке сыскать брод. Этот проклятый раздел приведет лишь к новым осложнениям. Уж вы помогите отцу избавиться от них.
Проводив Ербола до юрты отца, Магаш и Акылбай вернулись к друзьям.
Гостиная юрта Абая, как всегда, была полна молодежи. Последнее время жигиты стали снова часто собираться, с увлечением беседуя о новых стихах и поэмах.
Над бездымно горящим очагом стоял котел, где варилось мясо. Молодежь расположилась на разостланных на полу белых шкурах баранов и архаров, окружив дорогого гостя: на днях, к общей радости, из города приехал Павлов. Он, как и все, был одет по-казахски: в бешмете, в легком тулупе с лисьим малахаем тобыктинского покроя на голове. Поглаживая волнистую русую бороду, он добродушно смотрел сквозь очки на молодежь. В натопленной юрте Павлову показалось жарко, и он снял малахай, стянул высокие сапоги с войлочными чулками — байпаками, отороченными черным бархатом. Однако вскоре холодный воздух, пробиравшийся понизу, дал о себе знать. Абиш, Дармен, Альмагамбет и остальная молодежь с улыбкой посматривали, как, разговаривая, Павлов то и дело совал ноги в снятый малахай.
Павлов приехал в аул Абая два дня назад. Искрение соскучившись по нему, Абай не отпускал его от себя, и Федор Иванович до глубокой ночи сидел со своим другом. Им было о чем поговорить.
Абай расспрашивал, какие вести привезли в Семипалатинск новые русские ссыльные. Что делается нынче в России? Есть ли успехи в борьбе фабричных рабочих против хозяев? Что слышно о крестьянских бунтах? Кто из передовых русских людей показал себя как защитник народа? Какие интересные книги появились? Что интересного пишут в журналах? Есть ли новые русские поэты и писатели? Можно ли достать их книги в Семипалатинской библиотеке?
Ответы Павлова превращались в долгие рассказы о рабочем движении, о литературе, о жизни России. У него была способность к метким и злым характеристикам людей, напоминающим острые сатирические портреты Салтыкова-Щедрина. И когда Федор Иванович рассказал несколько анекдотических случаев, происшедших в канцелярии губернатора, в областном суде, героями которых были взяточники-чиновники, Абай искренне хохотал, видя их как живых.
В свою очередь, Павлов забрасывал вопросами Абая. Заметна ли перемена в жизни трудовых людей степи, в особености оседлых жатаков, занявшихся земледелием? Какие формы принимает борьба бедняков против степных воротил — аткаминеров? Его интересовала также и судьба степной бедноты, ушедшей на заработки в город. Как они там устроились, что дает им непривычный труд? А как с образованием? Охотно ли отдают родители своих детей в русские школы?
Отвечая другу, Абай сам приходил к новым мыслям. Расспросы Павлова заставляли его невольно задумываться над тем, что раньше проходило мимо его внимания. И теперь многое в жизни степи он сам видел по-новому.
И Абай все с большим уважением смотрел на Федора Ивановича. Вопросы того показывали, какого заботливого и верного друга получил в этом русском ссыльном трудовой люд казахской степи. Порой Абай угадывал в его словах свои собственные мысли и поражался, как мог прийти к ним Павлов, живущий в городе, вдали от степной борьбы.
Лишь на третий день Абай отпустил своего друга к молодежи, нетерпеливо ожидавшей его. Беседа велась с помощью Абиша и Какитая, переводивших Павлову слова друзей.
Густой, хорошо перебродивший кумыс подогрел настроение собравшихся. Здесь были и Кокпай и Муха. Появился нынче и Баймагамбет, который все лето разъезжал по аулам, где он был почетным и желанным гостем. В последние годы слава о нем как об отличном рассказчике и сказочнике распространилась по всей степи. На чьем бы жайляу, на какой бы зимовке он ни появлялся, везде его встречали с радостью, приглашали из одной юрты в другую, угощали и просили рассказывать романы и сказки, перенятые им от Абая.
Иногда он подолгу не возвращался в аул, совершенно не думая о жене и детях, оставшихся дома. Абай с нетерпением ожидал его возвращения, скучал по нему и даже ворчал на него, когда он появлялся.
И сегодня, когда Баймагамбет наконец вернулся в аул после долгой отлучки, Абай даже не ответил на его приветствие, молча подняв на него недовольный взгляд. Длинная рыжая борода, закрывающая рот и половину лица, придавали Баймагамбету весьма степенный вид. Лишь острые синие глаза, быстрые и живые, выдавали его настоящий характер — непостоянный, взбалмошный, как у ребенка. Подумав об этом, Абай невольно рассмеялся.
Баймагамбет насторожился:
— Э-э, над чем это вы смеетесь?
В юрте, кроме Айгерим и Злихи, угощавших их чаем, никого не было, и Абай позволил себе пошутить над Баймагамбетом.
— Вспомнил, что услышал однажды у тебя в юрте, когда ты шатался по гостям, — сказал он. — Оказывается, твоя Каракатын не уступит нашим акынам. Подошел и слышу: поет поминальный плач. Я и слова запомнил:
Меня мой родимый хвалил, баловал, Да взял меня в жены обманщик бахвал, Когда порешил он очаг мой покинуть, Зачем он желанной меня называл? И бросил он, рыжий бродяга, семью, Омыла слезами я долю свою. Грешно, говорят, не оплакивать мертвых…Это она не тебя, а твое бродяжничество поминала, — смеясь, закончил Абай и, глядя на ощетинившегося Баймагамбета, добродушно засмеялся, трясясь всем телом.
Айгерим тоже не могла удержаться от смеха, прыснула и Злиха, отвернувшись к двери. Смех их еще больше рассердил Баймагамбета: как, и женщины смеются?!
— Говорят, «у всех, кто носит малахай,[55] общая честь», Абай-ага. Неужели у вас не нашлось ни одного слова для ответа?
Абай еще громче рассмеялся:
— Конечно, нашлось! Вот что я ей ответил:
Что тебе шариат? Смелей! Порадей о судьбе своей! Каракатын, спал ли муж твой дома Хоть одну из летних ночей? —прочел Абай только что пришедшие ему в голову стихи и закончил — Что ты на это скажешь?
— Ну и оказали услугу! Для всех у вас найдется добрый совет, а для моей жены вы лучшего не нашли?
И, допив чашку чаю, Баймагамбет поставил ее на скатерть донышком кверху и тут же поднялся с места, подчеркнув этим свою обиду. Из юрты Абая он прошел прямо к молодежи, чтобы попросить кого-нибудь сочинить для него ответные стихи. Но высказать свою просьбу при Абише и Павлове постеснялся и сейчас сидел, безучастно слушая других.
Павлов с любопытством осматривался по сторонам. Веселая, приветливо встретившая его молодежь удивительно ему понравилась. Он внимательно рассматривал этих новых для него людей. Все они были очень разными, и каждый привлекал к себе его внимание.
Рыжебородый, синеглазый Баймагамбет, которого Павлов хорошо рассмотрел еще в Семипалатинске, совсем не похож на Акылбая, чей продолговатый череп, крупный прямой нос, серые глаза, светлая кожа, жиденькая бородка и усы представляли совершенно иной тип. А Какитай — круглолицый, смуглый, с небольшим вздернутым носом и острыми, сверкающими глазами слегка навыкате — также казался человеком совсем другого племени. Пакизат, приемная дочка Оспана, своим темно-коричневым плоским лицом, которое оживлялось быстрыми черными глазами, напоминала больше калмычку.
Совершенно своеобразными были Абиш и Магаш. Тонкие черты и светлая матовая кожа их лиц, темные брови, как бы вырисованные острой кисточкой, некрупные изящные губы, над которыми пробивались маленькие каштановые усики, — все это отличалось каким-то спокойным благородством. А Дармена, с его черными, отливающими синевой бровями, с небольшими карими глазами, горбатым носом, смуглым лицом и красивыми, коротко подстриженными густыми усами, вполне можно было посчитать представителем кавказских племен.
Это удивительное разнообразие типов среди сыновей одного и того же народа поразило Павлова, который до сих пор видел только городских казахов.
Магаш и Акылбай вернулись в Гостиную юрту, когда Дармен уже начал новую песню. Накинув на плечи чапан и сдвинув набекрень малахай, юноша склонился над столом с домброй в руках. Перед ним лежала раскрытая тетрадь со стихами. Дармен с жаром, с настоящим вдохновением пел недавно законченную им поэму об Енлик и Кебеке. Стихи взволновали Магаша — он почувствовал в них искренний гнев и глубокую горечь. Не желая мешать Дармену, он присел возле дверей, слушая с восхищенным вниманием каждое слово молодого поэта. Так же слушали его и все находившиеся в юрте. Абдрахман, склонясь к уху Павлова, пересказывал ему содержание поэмы.
Дармен пел долго. Поэма подходила уже к концу, когда в юрту вошел Шубар, приехавший в аул вслед за Ерболом, и остановился у дверей, не снимая пояса и не выпуская из рук плети. Песня продолжала литься широкой волной, полная гнева, скорби и вдохновенной силы:
…В покое дни бесплодны, песни спят, Но в скорбный час бегут за рядом ряд И мечут жемчуг мысли, будто волны, Слова, подобно молниям, блестят. …Я видел смерти яростный оскал, Я боль и стоны прошлых дней собрал. Зло раскрывать и обличать пороки Акын — учитель мой — мне завещал. …Я видел муки дедов и отцов. Минувшего я слышал властный зов. Я помню: бий не пожалел младенца, Угасшего под вечер средь холмов. Я слышу плач влюбленных до сих пор, И до сих пор им вторит эхо гор. В их ледяных объятиях прочел я Проклятие — и руки к ним простер. Я помню бия-кабана, и вот С тобою говорю, о мой народ! Абай дал слову мощь, а песне — душу, И голос мой в тебе не пропадет.По просьбе Павлова Абдрахман стал подробно переводить ему заключительные строки поэмы. Магаш и Какитай, Муха и Альмагамбет наперебой выражали Дармену свое восхищение.
Один Шубар сурово нахмурился. Хотя он не знал всей поэмы, но с него было довольно и того, что он слышал. Тыча рукояткой плети в тетрадь Дармена, он заговорил холодно, словно произносил приговор:
— Это не искусство, а яд. Того, чью память, как святыню, чтит целое племя, песня называет «бием-кабаном». Куда ты тянешь? Что мелет твой язык? Ты хочешь, чтобы сердца людей, которые услышат это, содрогнулись? И зачем ты говоришь, что такую песню сложил по совету Абая-ага? У него и так много влиятельных и яростных врагов, а ты хочешь вызвать этим новые потоки злобы, раздуть еще сильней пламя вражды!..
Шубар был старше других, пользовался среди родичей уже большим влиянием, и никто из молодежи не рискнул ему ответить. Только Абдрахман, который слушал его, едва скрывая раздражение, не удержался:
— С каким гневом вы обрушились на бедного Дармена! Неужели его поэма так возмущает вас?
— Конечно, возмущает! Нынче поносят почтенных биев, завтра начнут обливать грязью ханов и султанов, а потом подымут руку на законы отцов, на мудрость ислама! И все это с глупой приговоркой: «Правда — у русских, кааба — у русских… Жизнь и счастье — все у русских». Куда мы идем наконец? Куда ведем и наше поколение и будущие? Во что же превратился в самом деле этот аул?
Абдрахману было понятно, что все эти обвинения направлены не на Дармена и не на «этот аул», а на самого Абая. И, отвечая Шубару, он тоже не назвал имени отца.
— Значит, по-вашему, этот аул ведет народ в пропасть? Нет, он ищет для народа выход из невежества и нищеты! — горячо сказал он и добавил с насмешкой — И что вы так накинулись на русских?
Шубар пожал плечами.
— Если все русское плохо, — насмешливо продолжал Абиш, — зачем же наши степные воротилы лебезят перед царскими чиновниками? Готовы на все, только бы получить печать волостного и сесть на спину своим сородичам. Лижут у городских властей пятки, а перед народом клянутся в верности исламу, обычаям предков! Вдвойне лгут — и вдвойне давят народ — и законами старины и именем царя. Как же должен называть народ таких людей?
Абдрахман даже побледнел от негодованя.
— Вон до чего ты договариваешься… — угрожающе протянул Шубар.
— А что же мне, молча слушать ваши слова? Ни у Такежана, ни у самого Уразбая еще и в мыслях этого нет, а у вас такая ядовитая клевета на «этот аул» уже на языке!
Гневные упреки Абиша смутили Шубара. Не в его расчетах было открыто рвать с Абаем, и он предпочел промолчать, чтобы не обострять разговора.
Абдрахман взволнованно продолжал:
— Да, и этот аул и я сам, мы говорим: «Правда — у русских, кааба — у русских». И говорим верно. Но у каких русских? Не у Казанцева и Никифорова, не у губернатора и урядников, а у других русских. У тех, кто хочет помочь нашему отсталому, несчастному народу… Кто принесет в нашу невежественную степь просвещение, знания… И сами мы тоже должны помогать народу понять, кто у него друзья и кто — враги. Надо говорить ему правду о темных силах степи, и Дармен сказал эту правду! Он на верном пути!
Шубар, хмуро смотревший на Абиша, ничего не ответил и вышел из юрты.
Федор Иванович, выслушав перевод Абдрахмана, потянулся к Дармену и, взяв его руку, долго ее тряс, приговаривая:
— Жаксы, Дармен! Жаксы, акын, молодец! — И, повернувшись к Абдрахману, закончил — Именно так песня и должна говорить правду — смело и гневно!
Абдрахман перевел его слова и добавил от себя:
— Вот так и рождается новый певец новой эпохи. Поэт должен бороться со злом, невежеством, с насилием. От имени народа он выносит справедливый приговор насильникам. Прямо, не таясь, нужно высказывать в песне гнев и презрение народа. Лучшие песни поэтов уходят корнями в народ. В них голос совести народной. Они выражают гнев его против биев, ханов и царей. И такие песни народ будет хранить, как золото, почитать и передавать из поколения в поколение!
Павлов тоже продолжил свою мысль:
— Дармен! И вы, Магаш! Вокруг вас и сейчас кипит захватывающая борьба, рождаются примеры отваги. Почему бы вам не написать, например, о подвиге Базаралы, совершенном на ваших глазах? Каким умным, сильным и стойким показал он себя в недавней схватке жатаков с иргизбаями! Ведь он болен, но нашел в себе силы руководить людьми, поднявшимися на борьбу!.. В его поступках я вижу будущее вашего трудового народа. Рассказать об этом людям—самая почетная обязанность акына!
Дармен ответил сразу и Абдрахману и Павлову.
— Ваши слова глубоко отозвались в моей душе, — взволнованно сказал он. — Вот Шубар возмутился сейчас, услышав мои стихи о Кенгирбае. Он возмущен как потомок Кенгирбая. Почему же мне, потомку Кодара, чья безвинная кровь была пролита Кунанбаем, не возмущаться преступлением, погубившим моего предка? Вы кстати напомнили мне об этом, Федор Иванович! А героев, как Базаралы, я буду воспевать с особенной любовью и жаром. Я и сам давно задумал написать поэму о нем. Ведь не только с ним — со всеми обездоленными жатаками слита моя душа! И когда я вспоминаю о том, что пережили Базаралы и жатаки и что видел я сам, моя кровь начинает клокотать во всех шестидесяти двух жилах. Если я не спою об этом, я не буду достойным сыном народа!
Глаза Дармена горели. Сын народа, поэт, только что создавший правдивую песню, выразившую гнев народа и защищавшую его честь, теперь, как отважный боец, был готов к новой открытой битве. Его состояние глубоко почувствовали Абиш, Магаш и Какитай.
Но с особенной теплотой смотрел на него сейчас Абдрахман. Для него Дармен стал за последнее время ближе всех остальных. В тот тяжелый миг, когда счастье его готово было рухнуть, именно Дармен помог ему преодолеть все препятствия. А совсем недавно, после поминок по Оспану, Дармен отправился в татарский аул в качестве свата вместе с Акылбаем и Ерболом и повез Магрифе письмо Абдрахмана. Он же привез ответ девушки.
Акыны горячо обсуждали совет Павлова писать о том, что происходит вокруг. Магаш начал рассказывать друзьям новости, привезенные Ерболом из аула Такежана. Его особенно поражало то, что в раздел наследства вмешались обе байбише — Манике и Каражан.
— Что скажет на это Федор Иванович? — обратился он к Абдрахману, который пересказывал Павлову его слова. — Не стоит ли написать и об этом?
— Конечно! — живо откликнулся Павлов. — Говорят, что у степной жизни свой ход, медленный, как движение каравана. Но так ли это? Разве то, о чем сейчас говорил Магаш, не показывает огромных перемен? Посмела бы какая-нибудь байбише еще недавно, при ага-султане Кунанбае вмешаться в дела рода? А теперь в этих женщинах таятся корни вражды. Степная жизнь резко изменилась, появились новые способы борьбы, о которых раньше никто не смел и думать. Семья ага-султана вышла из повиновения одному владыке, стала подчиняться нескольким помельче. Именно так всегда и разваливались всякие султанства и ханства. Писать об этих женщинах, конечно, необходимо! Их надо высмеять, показать их жадность и властолюбие. Вот знал бы об этом Салтыков-Щедрин!.. Ох, как он был бы вам сейчас нужен! Он сумел бы показать вам, как нужно бичевать насмешкой!
Абиш переводил слова Павлова. Магаш и Какитай ответили, что высмеивание пороков, насмешка над злом и несправедливостью широко распространены и у казахов. Акылбай, как всегда, вмешался в разговор не сразу. Он долго обдумывал и наконец высказал то, что никому не пришло в голову.
— Неужели вы считаете, что они сами решились на такие дела? — спросил он и тут же сам ответил — Не ошибусь, если скажу, что обеих ловко подбивает Азимбай.
Все понимающе засмеялись. Магаш, Дармен и Какитай поддержали Акылбая.
— Конечно, для него это самое важное! Если не столкнет кого-нибудь лбами, ему и еда в горло не пойдет!
— И ведь всегда молчит. Он — будто темная вода, которая течет без всякого шума.
— Стравить двоих в драке — на это он мастер, — вставил Альмагамбет.
— Да, в этом деле он, пожалуй, самому Калдыбаю не уступит, — отозвался Какитай.
Это имя вызвало новый взрыв смеха.
— А кто такой Калдыбай? — спросил Павлов. Какитай, прищурившись, начал рассказывать:
— Есть у нас такой человек. С виду степенный, неразговорчивый, смирный и тихий. А сосед его славится как забияка. Вот однажды к Калдыбаю приехал еще один такой задира, вдобавок считавший себя силачом. Калдыбай стал его угощать чаем, а тут в юрту вошел сосед. Не успел он войти, Калдыбай говорит жене, но так, чтобы услышали оба жигита: «Япрай, что теперь будет? Как бы они у меня тут не сцепились, ведь оба такие батыры!» Гость тут же повернулся к вошедшему и говорит: «Эй, куда ты лезешь? Видишь, я здесь сижу?» Тот в долгу не остался: «А кто ты такой, что я и войти не могу?» — и крепко его выругал. Калдыбай тотчас подхватил: «Ну, говорил же я! Сейчас полезут драться!» Гость вскочил с места и закричал вошедшему: «Что ты там болтаешь?» А Калдыбай край скатерти заворачивает: «Ой, смотри, жена, уже сцепились! Пай-пай! Убирай живей посуду, всю перебьют!» Те и в самом деле кинулись друг на друга, а Калдыбай отскочил и опять говорит жене: «Ну, нам с тобой их не разнять — оба силачи, давай лучше отойдем». Таким образом и место для драки было освобождено. Начали они тузить друг друга как следует, а Калдыбай в стороне приговаривает: «Ойбай, жена, беги позови длинноногого Мусу, пусть вступится! Да скажи: пусть скорей идет, а то, пока он их разнимет, они друг друга вовсе измолотят!» А юрта длинноногого Мусы была на краю аула, в полуверсте оттуда. Калдыбай сидит и любуется, как забияки лупят друг друга. Никто их не разнимает, Мусы все нет и нет, а остановиться ни один не хочет: ведь тогда можно будет подумать, что он побежден! Длинноногий Муса добрался до Калдыбая, когда у них последние силы иссякли, — стоят, едва дыша, и держатся друг за друга. Не успел Муса войти в юрту и крикнуть: «Что вы делаете?» — оба драчуна рухнули на землю.
Насмеявшись вволю над тем, как проучили забияк, молодежь снова перешла к беседе о том, что более всего занимало ее умы: Кокпай уже закончивал поэму о походах Аблая, Акылбай продолжал давно начатую большую поэму из жизни зулусов. Потом зашел горячий спор и о поэме, задуманной Магашем.
В юрте Абая в это время шел разговор, далекий от того, что волновало молодежь. Абай молча слушал Шубара, который передавал ему предложение Такежана и Исхака начать переговоры о разделе наследства Оспана, и когда тот замолчал, поднял на него холодный, испытующий взгляд.
— Ну, это они предлагают. А что ты сам об этом думаешь? — спросил Абай.
Шубар отлично знал, что как ни увиливай от прямого ответа, Абай все равно добьется правды. Поэтому он и не пытался скрывать своих мыслей:
— По-своему они правы: поминки совершены, можно подымать разговор и о наследстве. Конечно, лучше было бы подождать до годовщины. Но раз такой разговор начался, затягивать его нет смысла.
— Что же, если оба считают, что начинать раздел уместно, могу ли я возражать? Пускай начинают переговоры, — спокойно согласился Абай и некоторое время сидел в молчаливом раздумье.
Горько было сознавать: только что умер Оспан, и уже идет этот непристойный разговор о дележе. И поэт все яснее понимал, что и Оспан и он сам всю жизнь были для Такежана и Исхака не родными братьями, а чужими людьми. И вот Оспана нет, а те двое еще в полном расцвете сил и здоровья. Если они и вспоминают о нем, то только тогда, когда думают о наследстве. И Шубар, приехавший от них, видимо, не считает их мысли и действия неправильными.
Абай снова почувствовал себя совершенно одиноким. Потом взял себя в руки и поднял на Шубара суровый взгляд.
— У меня одно условие: говорить будем лицом к лицу. Конечно, вы оба должны быть с нами до конца переговоров. Надо пригласить еще Шаке и Смагула, они ведь такие же родственники Оспана, как и мы.
На следующий день все близкие родственники собрались в ауле Оспана. Если в недавнем споре о деле жатаков Абай держался непримиримо, то сегодня он вел себя миролюбиво и сговорчиво. Он предложил Такежану, как старшему, говорить первым.
Тот завел речь издалека: жизнь не считается с горем, она заставляет думать и о делах; не могут же все родные сойти в могилу вслед за умершим… После долгих вступительных слов он перешел к тому, что настало время решить вопрос о наследстве. Двое из трех родных братьев, оставшихся после Оспана, согласны приступить к разделу его имущества и скота. Он попросил Абая высказать свое мнение.
Абай начал с того, что через неделю он должен быть в Кара-Мола на чрезвычайном съезде, на дорогу нужно два-три дня.
— Я буду здесь еще четыре-пять дней, — сказал Абай. — Нет такого разговора, который за это время нельзя было бы окончить. Нужно лишь открыто высказать свои мысли и намерения. На вопрос Такежана я отвечаю: пусть раздел состоится, я не возражаю. Дели как хочешь, будь хозяином! Подсчитай весь скот, все имущество, зимовки, угодья — и раздели все сам!
В этот первый день сородичи и занялись учетом наследства.
Три вдовы Оспана владели тремя зимовьями. Зимовье Еркежан, владелицы Большой юрты, находилось на Жидебае. В трех-четырех верстах южнее стояла зимовка Зейнеп — Мусакул. Когда-то Мусакул принадлежал Такежану, но, построив себе большую зимовку у Чингиза, Такежан передал Мусакул во владение Оспана. Третье зимовье, где жила младшая жена Оспана Торымбала, находилось на расстоянии перехода ягнят к западу от Жидебая, в местности Барак.
Эти три зимовья, как все весенние и осенние пастбища, покосы, а также жайляу, колодцы, родники, озера, реки, посевы, покосы, а также все косяки лошадей, стада верблюдов и коров, отары овец были взяты на учет.
Каражан и Манике, услышав, что Абай не только согласился на раздел, но и предоставил Такежану, как старшему, разделить наследство по его усмотрению, от удивления зачмокали губами.
— Искренне это или какая-то уловка? — недоумевала Манике. — Ну, посмотрим, что будет… Но, коли так, пусть Такежан-ага открыто скажет, что возьмет себе главную долю! Зачем ему скромничать! Раз братья отдали поводья ему в руки, пусть он крепко держит их!
Каражан такая мысль пришлась по душе. Она передала мужу слова Манике как добрый совет всей семьи, всех родичей.
На следующей встрече Такежан объявил, что, как старший, берет себе самую большую долю. Абай не возражал и против этого.
Тут же было решено, какие из осенних, весенних и летних пастбищ отойдут к Такежану и Исхаку, какая доля скота перейдет к каждому из них. Потом Такежан обратился к Абаю, попросив его сказать, что именно рассчитывает он получить из угодий и скота. Абай не захотел брать сейчас никакой доли наследства.
— Аул Оспана — аул моих родителей, он не должен исчезнуть. Как бы мы ни делили наследство, Большая юрта останется. А остальное решайте сами. Сохраните мое право на долю наследства, но не выделяйте мне пока ни скота, ни земель. Но сами-то вы берите свое, не оглядывайтесь на меня.
Это решение Абая заставило других родственников призадуматься. До самого вечера они уговаривали его взять все-таки свою долю. Но Абай не соглашался. И когда Такежан стал утверждать, что его отказ мешает и им самим начать дележ наследства, Абай снова пояснил:
— Я делаю это не по обиде на вас и не для того, чтобы навредить вам. Я хочу только одного: чтобы Большая юрта не исчезла. Через два-три года она снова восстановит свое богатство, вот тогда я возьму свою долю. Лишнего просить не буду. Возьму только то, что вы сами назначите мне сейчас, и буду этим доволен.
Вечером, когда в юрте Такежана обсуждали эти слова Абая. Азимбай решился наконец заговорить открыто.
— Надо воспользоваться тем, что Абай предоставляет вам право выбора, — сказал он отцу. — Скажите ему, что в Большой юрте вы будете жить сами. Все ваши обсуждения ни к чему не приведут, пока не начнется разговор с Еркежан.
Родителей не удивила такая смелость сына, заговорившего о новом браке отца. Оба уже привыкли к тому, что хитрый, коварный и осмотрительный Азимбай дает им дельные советы. И на следующий же день, снова встретившись с сородичами, Такежан заговорил откровенно и властно.
— Если вы, Абай и Исхак, в самом деле предоставили все решать мне, то вот мое слово. Самый важный вопрос — это вопрос не об имуществе и зимовьях, а о вдовах. Если решить его, все остальное разрешится само собой. После Оспана осталось три жены. Нас тоже три аменгера. Но пока что мы не решили, кто из нас на какой вдове женится. Вот о чем нужно сейчас говорить. Скажите свое мнение.
Исхак поспешил заявить, что вполне согласен с Такежаном.
К удивлению обоих, Абай не стал возражать и против этого предложения. Больше того, он попросил братьев сказать, какую из вдов каждый изберет себе в жены.
Такежан, помня вчерашний разговор с Азимбаем, сказал, что сам он женится на Еркежан. Услышав это, все взглянули на Абая — кто со злорадством, кто с любопытством. Ербол тревожно следил за Абаем, ожидая, что тот скажет.
Абай и на этот раз не задержал ответа. Спокойным, негромким голосом он повторил, что Такежану было дано право решать все дело. Раз он пришел к такому решению, следует согласиться.
Таким образом, основной вопрос был разрешен неожиданно быстро и гладко. Упрощался и раздел наследства; нужно было установить, какая доля его идет с Большой юртой, а все остальное решалось уже легко.
Оставалось переговорить с самой Еркежан, хозяйкой Большой юрты. Первым заговорил об этом Исхак, его поддержали Шубар и Ербол. Но Шаке, который до этого сидел лишь в качестве слушателя, выразил другое мнение:
— Почему же только с Еркежан? — спросил он. — Поговорить надо со всеми тремя. Плохо, что они не участвуют в этом обсуждении с самого начала.
— Э-э, зачем же со всеми разговоривать? — неодобрительно сказал Исхак. — Разве у женщин спрашивают о том, что решают мужчины? Вот сейчас зашел разговор о том, что Такежан-ага женится на Еркежан, ее и надо уговорить на это. А остальные при чем?
Шаке этот ответ не понравился.
— Что вы говорите, Исхак-ага? — сказал он, сдерживая возмущение. — Неужели вы собираетесь поделить их заочно, даже не поговорив с ними? Это похоже на дележ добычи! Ведь они же для вас не чужие, да им и не по шестнадцати лет. Разве нет у них своей воли, своих желаний?
Шаке был одним из немногих сородичей Абая, кто старался брать пример с него. И сейчас он понял сердцем, что Такежан, добиваясь выгодного для себя раздела, готов защищать любые дикие и невежественные обычаи старины.
Хотя слова его пришлись не по вкусу Такежану, Исхаку и Шубару, однако резко ответить на них было нельзя, и они, пробормотав что-то невнятное, замолчали. Абай с любопытством переводил взгляд с одного на другого, молча наблюдая за ними. Поддержал Шаке только Ербол. Он почувствовал, что слова того понравились Абаю, и смело высказал свое мнение:
— Шаке прав. Эти женщины — ваши невестки, жены вашего брата, кровные ваши родственницы. И ваш долг — посоветоваться с ними. Только так и надо решать.
Такежан посмотрел на Абая.
— Что ты скажешь?
— Я соглашусь со всем, что ты делаешь, кроме одного — насилия, — по-прежнему спокойно ответил Абай. — Как бы ты ни решал, ты не должен делать этого помимо воли самих женщин, Такежан. А вот всем остальным распоряжайся, как считаешь нужным.
— В таком случае переговорим со всеми тремя, — тут же объявил Такежан. — Шубар и Ербол, поезжайте и расскажите им наше решение!
Он сказал это твердым тоном, но в глубине души подумал: «Если где-либо таилось препятствие, то оно, наверно, здесь». И, обдумав положение, он перед отъездом сказал Шубару и Ерболу:
— Со всеми тремя вдовами говорите пока что только об одном: шариат велит трем аменгерам брать в жены трех вдов, пусть сперва они дадут согласие на это… — Помолчав, Такежан выразительно посмотрел на Шубара и добавил — Каждая из них будет следовать примеру другой. Поэтому начните с Торымбалы. Она моложе других, пусть скажет свое слово первой.
Посредники так и сделали. Но как ни уговаривал Шубар Торымбалу, она не дала никакого ответа.
— Опережать Еркежан и Зейнеп я не могу, — упорно повторяла она. — Ответят они, тогда скажу и я, — пока меня не невольте!
Шубар и Ербол поехали к Зейнеп. По дороге Шубар поделился с Ерболом своими сомнениями.
— Самый тяжелый разговор будет с ней… Ведь она больше всех их горюет об Оспане. Ербол согласился с ним. Всем было известно, как трогательно оплакивала Оспана в течение всех этих месяцев Зейнеп. Те, кто побывал в траурной юрте, говорил о ней с уважением и сочувствием: «Как искренне горюет она о муже! Какая верная была у Оспана подруга! И слова на ее устах, и слезы на ее глазах, и тоска в ее сердце — все доказывает это. Умирать никому не хочется, но если тебя будут оплакивать так, как Зейнеп Оспана, можно умирать спокойно». Зейнеп была против преждевременных поминок, а когда все-таки их решили справлять, она с этого дня до самых поминок оплакивала Оспана не дважды, а уже трижды в день.
Поэтому-то Шубар начал свою речь издалека, заговорил об обычаях, о шариате, и говорил долго, мастерски, прибегнув ко всему своему красноречию. Зейнеп слушала молча и внимательно, переводя с Шубара на Ербола взгляд своих красивых глаз, в которых светился ум. Лицо ее не выражало ни удивления, ни горя. Ербол даже подумал: «Она слушает так, будто с ней не раз об этом говорили. Неужели вдовы, узнав о переговорах у Такежана, посоветовались между собою и уже что-то решили? Если так, не станет ли и она, как Торымбала, кивать на Еркежан?»
Но когда Зейнеп заговорила, ответ ее поразил обоих посредников.
— Дедовских обычаев я не нарушу, спорить с сородичами не стану, — спокойно сказала она, выслушав Шубара. — Поступайте как знаете, я приму ваше решение.
Шубар, искоса взглянув на Ербола, с трудом удержался от улыбки. Однако Зейнеп удивила их еще больше, неожиданно заговорив и о том, чего они еще не хотели касаться. Прямая, дальновидная и решительная, Зейнеп не любила крутить вокруг да около и всегда подсмеивалась над тем, что мужчины, ведя переговоры, говорят намеками и обиняками.
— Скажу еще об одном, — продолжала она так же спокойно и рассудительно. — Хотя сейчас вы молчите, но завтра опять приедете ко мне с новым вопросом: «А кто из вас за кого пойдет замуж?» Так вот я отвечаю сейчас: и это решайте сами! Если нас осталось три вдовы, то, благодарение богу, есть и три деверя. И все они люди еще не старые, до земли не согнулись. А я — не в расцвете молодости, мне не семнадцать лет. Если один будет старше другого на семь лет, а другой на четыре, стоит ли об этом говорить? Да и кто скажет про этих трех мужчин: старый, а тот молодой? Все они между сорока и пятьюдесятью годами, все средних лет. Стоит ли рассуждать о том, что суйем меньше карыса?[56] Решайте сами.
Теперь Шубар не мог уже удержаться от улыбки. «А я-то думал, что она будет отказываться! Видно, ей не терпится слопать еще одного мужа!»— подумал он, но, боясь, что улыбка его может обидеть Зейнеп, сейчас же сказал вслух, продолжая улыбаться:
— Женеше, милая моя! Как хорошо, что вы откровенно сказали то, что думаете1
Но как только они отъехали от аула Зейнеп, Шубар не удержался от шуток.
— Ты видел, как она встрепенулась? Я так и думал, что она вцепится в меня: где, мол жених, подавай его сюда скорей!
— Правда, — согласился Ербол смеясь. — Другие молчат, а она уже выбирает себе мужа.
— Хитрая лиса! Так и юлит, так и мелькает, показывая аменгерам красный мех: вон глядите, мол, я здесь!
В тот же день они приехали к Еркежан.
Учтивая, немногословная, хорошо владеющая собой, Еркежан встретила их сдержанно, почти холодно. Всем своим обликом она не походила на казахских женщин. Она была рослая, прямая, с тонким станом; сильно удлиненный овал лица, большие, глубоко запавшие глаза, белая кожа, прямой с небольшой горбинкой нос — все показывало, что в ней смешана различная кровь.
Не успел Шубар договорить до конца то, что было ему поручено, как Еркежан заплакала.
— Не надо дальше ничего говорить, — перебила она. — Я все уже поняла… Разве словами ты уменьшишь горе, которое приносишь ко мне?.. — Разрыдавшись, она упала на подушку, уткнулась в нее лицом.
Посредники молча ожидали, когда она успокоится. Наконец она подняла голову.
— В день его смерти я дала клятву, — начала она решительно. — Оспан взял в дом двух птенцов — Аубакира и Пакизат, которых мы воспитывали сызмальства. Я не считаю себя бездетной женщиной. Я поклялась жить только для этих двоих моих детей, жить, вспоминая мужа и забыв все другие желания. Я не выйду замуж, даже если меня выкинут из Большой юрты. Одно из двух: или я сама уйду из нее, или добьюсь того, что в этой Большой юрте буду жить одна с моими детьми и ее по-прежнему будут называть домом Улжан и Оспана.
Продолжать разговор она не позволила. Ее твердый тон свидетельствовал о непоколебимой решимости, слезы на глазах высохли. И когда она сказала Шубару, чтобы больше он не приезжал к ней с такими поручениями, это звучало почти приказанием.
На обратном пути посредники снова заехали к Торымбале. Ничего не говоря о неудачном посещении Еркежан, Шубар рассказал ей лишь ответ Зейнеп и добавил, что придется согласиться и ей. Торымбала была молода и неопытна, и настойчивый Шубар заставил ее дать согласие.
Услышав от Шубара, что ответили вдовы, Такежан, Азимбай и Исхак были ошеломлены. Все их расчеты были разрушены словами Еркежан. Если она не согласилась, что же можно делать дальше?
В подозрительное и лукавое сердце Такежана закралось сомнение, и на первом же обсуждении он обратился к Абаю:
— Все-таки нам надо было бы решить, кто на ком женится. Я свое желание высказал. Ты следующий по старшинству. На ком ты хочешь жениться?
— Ни на ком.
— Э-э, что ты говоришь? Что за слова!? — одновременно воскликнули Такежан и Исхак.
Ответ поразил всех. Шубар, Смагул и Шаке удивленно подняли глаза на Абая.
— Я пришел сюда на раздел наследства, а не на сватовство, — продолжал тот спокойно. — Разве я обещал жениться?
— А где же твой долг аменгера? Как можешь ты не жениться, если мы берем вдов себе в жены? — резко заговорил Такежан.
Абай насмешливо улыбнулся:
— Уж не хочешь ли ты меня женить силком?
— Придется, если ты нарушаешь обычай… Не нами он установлен, а дедами, а они не справлялись, насильно или по своей воле женится на вдове аменгер.
— Времена меняются, меняются и обычаи. Если бы ты держался только за дедовские законы, тебе пришлось бы теперь пить кровь… Многие обычаи уже устарели и для нас негодны.
— Что же, выходит, мы говорим впустую? Брось, Абай. Твои слова лишь разрушают наше гнездо.
— А чем они его разрушают? — по-прежнему спокойно возразил Абай. — Ты предложил разделить угодья и земли — разве я был против? Захотел получить скот — разве я возражал? Ты решил поделить жен — разве я остановил тебя? Ты хотел жениться по своему выбору— разве я тебе запретил это или соперничал с тобой? Я и раньше на все соглашался и теперь молчу. Чем же я разрушаю наше гнездо?
— Если ты искренне соглашался со мной, так женись!
— Нет, дорогой! Не все же твои прихоти мне выполнять. Уж не считаешь ли ты Абая бесправной вдовой, которую можно насильно положить на постель? Подумай, что ты говоришь! — И Абай окинул брата уничтожающим взглядом.
— Значит, ты не женишься?
— Нет.
— Тогда скажи: почему?
— Потому что у меня есть любимая жена. Другой я искать не хочу. Вы хотите взять жен — берите, а я не буду.
Такой решительный ответ заставил Такежана замолчать. Потом он сказал, поглядывая на Исхака:
— Если Абай несогласен, его воля. Но не может же из-за этого остановиться все дело. Давайте говорить о вдовах! Что вы скажете об их ответах?
Исхак, поняв его намерение, стал резко осуждать Еркежан. Вместе с Такежаном они наперебой стали твердить, что ее нужно уговорить или даже просто заставить выйти замуж. Исхак ссылался на то, что редкая женщина соглашается на брак без слез и причитаний. Шаке, отстаивавший свой взгляд, по-прежнему возражал против такого решения. Смагул тоже заявил, что Еркежан никому не чужая и что приневоливать ее нельзя. Даже и Шубар согласился, что принуждать Еркежан невозможно, — и в прежние времена такое насилие применяли лишь к очень молодым женщинам. Здесь же шел разговор о всеми уважаемой вдове, которая была главой целого аула, хозяйкой Большой юрты, матерью детей. Ее нельзя рассматривать как добычу и обращаться с ней как с переметной сумой.
Мнение Абая было известно.
Таким образом, только Такежан и Исхак оказались сторонниками резких мер. Все остальные родственники думали иначе. Сегодняшнее обсуждение ни к чему не привело.
Такежан, весь потемнев и насупившись, молча злился, лишь этим выказывая свое недовольство. Зато вечером в юртах Такежана и Исхака происходили тайные переговоры. До самого утра там шептались и сговоривались то Азимбай с Манике, то Исхак с Азимбаем, то Такежан с Исхаком. Оставался лишь один день: послезавтра Абай должен был уехать на съезд в Кара-Мола.
На следующий день, когда Шубар и Ербол приехали в аул Такежана для продолжения переговоров, им объявили решение, к которому родичи пришли ночью.
Прежде всего было решено продолжать переговоры не в прямой беседе с Абаем, а через посредников. Объяснялось это тем, что сказанные сгоряча, необдуманные слова могут в таком остром споре стать причиной распри. На самом же деле Такежан и Исхак боялись прямых и откровенных слов Абая. Кроме того, Абай всегда умел убедить остальных сородичей, и те переходили на его сторону.
Братья тут же поручили Ерболу и Шубару передать Абаю то решение, к которому пришли все родичи.
Посредники пошли к коням. Там же оказался и Азимбай, по-видимому собравшийся куда-то ехать: молодой жигит подвел ему оседланного коня.
— Куда это ты собрался? — спросил Шубар.
— Тошнит уже меня от всех этих переговоров, — нахмурившись, отвечал Азимбай. — Уезжаю, чтобы не быть свидетелем их.
— Куда же ты едешь?
— Медеу все просит свести с ним дружбу. Вчера прислал сказать, что достал для меня хорошего беркута, вот и еду за ним.
И Ербол и Шубар отлично понимали, что Азимбай говорит все это неспроста. Было видно, что и возле коней-то он задержался только затем, чтобы дождаться посредников и сообщить им о своей поездке. Это была скрытая угроза. Медеу — сын Уразбая, а аул Уразбая всегда готов был оказать помощь кому угодно, если дело шло против Абая. И, говоря о своей поездке, Азимбай хотел, чтобы слух о ней дошел до Абая. Это должно было заставить его взвесить свой ответ: если мир с родными ему дорог, он согласится на то, что ему предлагают сегодня через посредников. Если же он не согласится, это будет грозить тем, что Такежан открыто перейдет на сторону Уразбая.
Азимбай вскочил на коня и поскакал из аула.
Ербол, приехав к Абаю и беседуя с ним наедине, не стал скрывать того, что видел. Рассказ об отъезде Азимбая заставил Абая задуматься. Он некоторое время сидел, опустив голову, что-то взвешивая в мыслях, затем выпрямился с таким видом, как будто пришел к твердому решению. Быстро повернувшись к Шубару, вошедшему в это время в юрту, он коротко бросил ему:
— Ну, рассказывай, чего теперь хочет Такежан?
Братья предъявили Абаю два требования на выбор: или он сам возьмется переговорить с Еркежан и уговорить ее выйти за Такежана; или же, если Абай не согласен на это, все три брата, действуя вместе, должны силой принудить ее выйти замуж за Такежана.
На оба эти предложения Абай ответил отказом.
Целый день между аулами Такежана и Абая посредники скакали взад-вперед. В ответ на требование братьев Абай ответил:
— Сам я на Еркежан не женюсь, пусть Такежан не беспокоится. Но принуждать ее я не буду, не позволю и другим приневоливать ее. Других слов у меня не будет, не беспокойте меня больше.
Совет родичей, собравшийся у Такежана, вынес новое решение. Оно было направлено и против Еркежан и против Абая: «Если Еркежан не хочет выходить замуж, пусть она остается в своей Большой юрте. Но надо, чтобы имущество ее было и в самом деле общим для всех детей Кунанбая и Улжан. Сейчас, когда в доме Еркежан живут внуки Абая, нельзя считать ее дом общим для всех нас. Она несомненно находится под влиянием Абая. Пусть Еркежан вернет Аубакира и Пакизат Акылбаю, тогда она может не выходить замуж и жить в Большой юрте одна».
Абая возмутило такое дерзкое требование. Кроме того, он отлично понимал, что означает для Еркежан разлука с детьми. Ни он сам, ни кто другой из родственников не считали Аубакира и Пакизат детьми Акылбая: они с малых лет воспитывались у Оспана и Еркежан, как их родные дети.
— Не хочу даже и слушать о таком деле, — ответил через Ербола Абай. — Никогда на это не соглашусь. Спросите Еркежан, что скажет она на это?
Казалось, чем больше ударов обрушивалось на Еркежан, тем крепче она становилась. Услышав об этом решении, она даже не заплакала. Видно было, что она была готова на любую борьбу.
— Это уже прямое насилие, — ответила она. — Значит, родичи хотят, чтобы я ушла из Большой юрты. Хорошо, я согласна. Уйду. Поставлю на краю аула какой-нибудь шалаш. Но я была возлюбленной моего мужа; пусть во имя этой любви мне дадут немного скота и имущества. Детей же, которых мы с ним воспитывали как своих родных и кровных, я возьму с собой!
Таким образом, долгие переговоры всех этих дней не привели ни к чему. Такежану и Исхаку пришлось отложить начатый ими раздел наследства. О женитьбе на вдовах Оспана они больше не заговаривали. Но все же посредники привезли Абаю последнее решение братьев: «Пусть аул Оспана остается как был, пусть Еркежан по-прежнему живет в Большой юрте. Но нельзя, чтобы в этом ауле жили только потомки Абая. Пусть потомки двух других братьев будут участвовать в управлении хозяйством Большой юрты, а для этого Еркежан должна усыновить кого-либо из детей Исхака и Такежана».
Этому решению Абай уже не противился. Согласилась на него и Еркежан. Она попросила, чтобы, ей отдали сына Исхака — Какитая. Со своей стороны, Каражан не пожелала отпустить единственного сына Такежана — Азимбая.
Итак, споры о дележе были отложены на неопределенное время, а Какитай ради временного затишья переехал в аул Оспана, чтобы управлять хозяйством.
Абай наконец собрался ехать в Кара-Мола и вечером созвал в юрту Айгерим молодежь.
Теперь, казалось, к нему вернулось душевное спокойствие. Обо всем том, что пережил он в эти четыре дня, Абай вспоминал с отвращением. Он почти не говорил об этом с сыновьями и друзьями, сказал лишь коротко:
— Такежан нарочно заторопился с поминками, узнав о моей поездке в Кара-Мола. Я хотел всячески удержать его от вражды, уступал во всем, чтобы он не присоединился к моим врагам. Теперь я вижу, что Такежан в союзе с Уразбаем. Значит, тот, ободренный поддержкой, усилит свой нажим на меня. Наш спор из-за наследства отзовется там, в Кара-Мола.
Утром Абай выехал в Кара-Мола.
В то же утро из аула Такежана выехал к Уразбаю Азимбай, везя с собой тайное поручение отца.
2
В Кара-Мола Абай взял с собой Ербола, Кокпая и Баймагамбета, а из молодежи Магаша и Дармена. Хотели поехать также Какитай и Абдрахман. Но хотя Абай раньше всегда брал Какитая с собой, сейчас он оставил обоих в ауле.
— Ты очень помог бы мне там, как всегда, — сказал Абай Какитаю. — Но родня решила, что ты должен быть в ауле Оспана. Если поедешь со мной, пересуды снова начнутся. Оставайся и управляй аулом.
Абишу он отказал по другой причине:
— Ты приехал отдыхать. Не вчера начались и не сегодня кончатся распри и козни врагов против меня. Чем ты сможешь помочь мне? Брызгая водой с крыльев, ласточка не потушит пожара. Лучше я понесу свою ношу сам. А ты оставайся здесь, отдыхай, набирайся сил.
Абай не хотел втягивать Абиша в степные кляузы и в свои личные дела. Но он не знал, что Абиш за последнее время немало поработал для того, чтобы помочь отцу в предстоящих ему испытаниях. Абиш действовал по совету Павлова, взяв себе в помощь молодых друзей.
И ему и Павлову было ясно, что ответ, который Абай будет держать перед губернатором, чреват опасными последствиями. Поэтому нужно было иметь оправдывающие свидетельства, ходатайства и другие бумаги, которые чиновничьи канцелярии предпочитали всему. Конечно, там уже заведено дело на Абая и, наверно, накопился ворох кляуз, прошений, донесений и прочих бумаг. Опорой и оправданием Абая были признаваемые всеми его справедливость, честность и дружеское доверие всего народа. Но все это никак не расценивалось на канцелярском рынке: мысли и чувства людей для чиновников цены не имеют.
Именно поэтому Абиш и приступил к составлению некоторых бумаг. В них было написано обо всех злодеяниях и преступлениях, которые вызвали в прошлом году гнев недоимщиков. Все это сообщалось самим пострадавшим народом. В заявлении особенно подчеркивалось то, что Абай боролся только против незаконных «черных сборов». Упоминалось и о том, что лишь вмешательство Абая предотвратило опасное столкновение между уездными властями и степной беднотой. Мирное население степи по многим примерам знает, что Абай всегда справедливо и законно заступался за народ, а поэтому и теперь он оправдывает его перед властями. Подтверждая это, люди всей Чингизской волости и скрепляют бумагу своими подписями.
К жатакам с этой бумагой приехал Дармен. Он обошел все юрты — побывал у Ийс, у Жумыра, Канбака, Токсана, Серкеша и других. К прошению приложили руки не только мужчины, но и женщины. Подписывая его, Даркембай, Базаралы, Абылгазы и все остальные жатаки приговаривали: «Для Абая не только подписи — крови нашей не пожалеем».
Посоветовавшись с Дарменом, Даркембай решил послать с Абаем на всякий случай молодого расторопного жигита Серкеша, который не раз бывал в городе и, зная привычки русских властей, мог помочь ему. Кроме того, он снарядил на съезд в Кара-Мола любимого Абаем старого акына Байкокше, давнишнего его друга.
Когда подписи под прошением были собраны, Абдрахман отправил его с Альмагамбетом в Семипалатинск, в канцелярию губернатора. Копию же вместе с копией акта, составленного русскими крестьянами-переселенцами, он вручил Байкокше и Серкешу, чтобы подать их самому губернатору, когда тот появится в Кара-Мола.
Павлов в день отъезда Абая предложил ему:
— Ибрагим Кунанбаевич, вы едете по неприятному делу. Не могу ли я вам чем-нибудь помочь? Вы и ваш аул стали для меня близкими. В Семипалатинске я просто скучаю, не видя никого из вас. И приехал-то просто потому, что захотелось всех вас повидать. Жаль, что не вовремя попал. Зато для себя я получил много нового — и поминки впервые видел и впервые узнал, что у вас в степи есть свои собственные Салтычихи и Кабанихи… — Он рассмеялся, вспомнив интриги Манике и Каражан. — В разделе наследства я, конечно, ничем не мог вам помочь, — с улыбкой продолжал Павлов. — Но, может быть, теперь вам пригодятся мои советы? Спрашивайте о чем хотите, с удовольствием вам помогу.
Абай поблагодарил Федора Ивановича за дружеское участие и тут же воспользовался его предложением.
— Нынче в Кара-Мола приедет семипалатинский губернатор, — начал он. — Мне никогда не приходилось встречаться с ним. Что это за человек? Как вы советуете с ним разговаривать: лично или через кого-нибудь из его чиновников? А может быть, защищаться самому мне и не стоит? На меня так много подано жалоб и доносов. Не лучше ли взять адвоката?
Павлов, подумав, ответил:
— Он человек новый, приехал не так давно. Говорят, если он видит, что перед ним трепещут, он и грозен и беспощаден, но едва почувствует решительность и смелость— резко меняет тон и даже может отступить. Вот что говорят о нем чиновники и адвокаты. Может быть, вам это пригодится.
— Конечно. Хорошо, что вы сказали.
— У вас есть свое сильное оружие, Ибрагим Кунанбаевич. Воспользуйтесь им. Все эти чиновники считают казахскую степь дикой и темной, а людей ее — невежественными. С кем бы вам ни пришлось встретиться и говорить, — покажите им, что в этой степи есть настоящие люди. Пусть знают. Покажите им, что Ибрагим Кунанбаев, который и родился и вырос в этой степи, лучше их знает, что такое поэзия и искусство, глубже понимает, что такое человеческое достоинство, справедливость. Держите себя с достоинством. Помните, что вы представляете честь вашего народа.
Павлов разгорячился и взволновался. Его большие синие глаза сверкали, он выпрямился. «Ссыльный, скованный, а как он горд, как смел!.. — подумал Абай. — Ни страха, ни робости…» Ему невольно припомнились те русские, о которых читал он в книгах: рассеянные по тюрьмам, ссылкам, каторгам, гордые, непреклонные сыновья русского народа.
Разговор был прерван внезапно. Тяжелые шаги и позвякивание шпор возвестили о появлении в ауле постороннего. В дверях юрты показался рослый жандарм с красными витыми шнурками, спускающимися с левого плеча, с шашкой в блестящих ножнах.
— Господин Павлов? — обратился он к Федору Ивановичу. — По личному приказанию его высокоблагородия полицмейстера города Семипалатинска прибыл за вами. Вы привлекаетесь к ответственности за самовольную отлучку в киргизскую степь. Потрудитесь немедленно следовать за мной.
Это неожиданное появление взволновало Абая. Но Павлов, насмешливо сощурив глаза, спокойно посмотрел на усатого толстяка, который напыщенным тоном, казалось, хотел придать себе важности.
— Ну, немедленно я никуда двинуться не могу, — с явной издевкой сказал он. — Вот закончу свои дела, соберусь — тогда и отправимся.
— Мне приказано доставить вас сейчас же… — начал было жандарм.
Павлов перебил его.
— Если вы торопитесь, поезжайте один. Я же сказал, что мне нужно закончить здесь свои дела… Пойдемте, Ибрагим Кунанбаевич, — он повернулся к Абаю, — угостите меня кумысом в последний раз в этом году.
Только в середине дня Павлов смилостивился над жандармом и объявил, что готов ехать.
Абай, прощаясь, крепко обнял друга. Молодежь с грустью проводила дорогого гостя.
Когда тележка с Павловым была уже далеко от аула, Абай и его спутники сели на коней и тоже двинулись в путь.
Эти дни Базаралы проводил на коне, объезжая аулы.
Теперь он был почти здоров. С того самого дня, когда во время боя с Азимбаем он нашел в себе силы встать на ноги, Базаралы как будто забыл о своей болезни. Успех, хотя и временный, помог ему воспрянуть духом. Видя, что он может уже садиться на коня, Даркембай уговорил его поехать на урочище Гайлакпай. Там находилось соленое озеро Ушкара; говорили, что грязь этого озера — самое верное средство против «куянга». Даркембай продержал Базаралы там две недели, каждый день укладывая друга в деревянное корыто и обмазывая теплой грязью его ноги. Леченье это действительно сделало свое, и Базаралы сам подшучивал над собой.
— Оказывается, зря я дрожал перед своей болезнью, — говорил он друзьям. — Вел себя как глупый жаворонок, который, боясь взлететь, прячется от лисы в траве. Давно надо было полечиться грязью![57] Когда на меня валились всякие беды, я никаких болезней не знал. Спасибо Азимбаю и Даркембаю: помогли мне нынче стать на ноги: один — бедой, другой — грязью!
Базаралы пустился в эту поездку ради Абая. Он посещал один за другим все бедные аулы, везде собирая приговоры в защиту Абая. Решение это было вызвано тем, что незадолго до отъезда Абая в Кара-Мола рассказал ему Дармен.
Тот говорил, что число врагов Абая все растет. Такежан и его прихлебатели давно уже объявили Абая отступником от пути Кунанбая и предков, называли его совратителем, обвиняли в кощунстве. А нынче появился новый ядовитый змей — Уразбай. Этот молит о каре Абая уже не бога, а городские власти, обвиняя Абая не в кощунстве, а в непослушании царю. Сейчас Абая хотят судить за то, что в прошлом году он поднял народ против сбора недоимок.
Выслушав Дармена, Базаралы начал раздумывать вслух:
— «Не сын Кунанбая», «не потомок предков», «отступил от пути отцов»… А что же, они ведь правду говорят! Только плохо ли это? Да, он отпал от всех этих такежанов и ушел к народу. Ради народа он сцепился сейчас с волками-сородичами. Вот за это его и тянут в суд… Но теперь надо и народу вступиться за него. Ты ничего не говори Абаю, а я вот сяду на коня и по-своему попробую помочь ему.
Надежды его оправдались.
Во всех бедных аулах он рассказывал о том, что Абай попал в беду. Имя Базаралы после его отважного набега на табун Такежана было хорошо известно, и слушали его с доверием и уважением. И везде— в аулах Кокше, Мамая, Жигитека и отдаленного рода Жуантаяк — Базаралы находил сторонников Абая.
— Разве мало помогал нам всем Абай? А можем ли мы сказать о себе, что хоть раз помогли ему? — говорил Базаралы, убеждая решиться на составление приговора.
В другом ауле он говорил:
— Царские власти и наши степные воротилы объединились против Абая, у них один общий клич: «Пусть погибнет тот, кто заступается за народ!» Наши на него клевещут, а те готовят ему кару. А что же народ не заступится сам за Абая?
Там, где его окружали такие же бедняки, как он сам, Базаралы говорил яснее:
— Абай стоит за народ, а народ — за Абая. Если есть за кого поднять шокпары — так за него. Он давно показал нам светлый путь славной борьбы. Не было в степи ничего лучше того, к чему он зовет, есть за что пролить кровь.
Вскоре обе его переметные сумы были набиты бумагами с печатями волостных старшин — приговорами, в которых аульные сходы просили начальство не допустить несправедливости в решении дела Ибрагима Кунанбаева.
Абай не очень торопился на кара-молинский «шербешнай».[58] В дороге он рано останавливался на ночевку у друзей в разных аулах, поздно выезжал по утрам. Лишь на четвертый день путники выехали на берег реки Чар.
День выдался ясный и теплый. Дул легкий ветерок. Узкая река вилась между крутых берегов, которые порой переходили в широкие поймы, зеленевшие сочными травами. Прозрачная, удивительно чистая вода бежала по крепко слежавшемуся песчаному дну, колыша травинки, залитые ею. Степь почти вся еще была зеленой; лишь далекие холмы и перевалы покрывал побелевший ковыль. Вблизи же было видно, что сквозь него уже пробивались вспоенные дождями осенние травы, зеленея между белыми или соломенно-желтыми стеблями.
Путники уже дважды пересекли Чар. Кони, идя берегом, фыркали, тянулись к воде. Когда, проехав широкий луг, покрытый низкой ярко-зеленой травой, всадники снова очутились на пологом берегу Чара, им еще раз пришлось перебираться через реку. Кони, вступив в воду, настойчиво потянули поводья, пытаясь опустить губы в прозрачную струю. Байкокше, строго следивший в пути за длиной перегонов и сроками привала, теперь приказал:
— Здесь будем поить коней. Больше нам переходить Чар не придется.
Всадники, не слезая с седел, разнуздали коней. Абай тоже нагнулся к удилам, но его опередил Ербол, остановивший коня рядом с ним; быстро перегнувшись с седла, он разнуздал коня Абая.
— Ну вот, сейчас начнут надо мной издеваться: не может, мол, сам напоить своего коня! — шутливо подосадовал Абай и ласково добавил — Видно, ты до самых седин не перестанешь обо мне заботиться.
— Э-э, наверно, эта привычка в меня вросла, — ответил Ербол. — Сколько уже лет я о тебе думаю: «Бедненький, беспомощный. Надо его пожалеть, ему с таким делом не справиться».
Все расхохотались: слово «беспомощный» трудно было применить к плотному, дородному Абаю.
Конь Байкокше, опередив остальных, пил чистую, незамутненную воду на самой середине реки. Старик, повернувшись в седле, с улыбкой смотрел на Абая и Ербола. Большой нос резко выделялся на его высохшем и сморщенном лице с побелевшей бородкой клином. В прищуренных глазах, спрятавшихся под нависшими бровями, сверкал бодрый и веселый огонек; казалось, они мерцали, как очень далекие, но яркие звезды.
— Что это значит? Что это вы вдруг разнежились? — окликнул он друзей. — Вас ждут споры и обвинения, разгорающийся огонь, а вы… Я-то думал, что вы нынче прямо с седла кинетесь в борьбу. Поглядите-ка: два таких батыра, а хнычут, как друзья-калеки, — слепой и хромой.
Напоив коня, Байкокше стегнул его и по стремя в воде двинулся к другому берегу. Абай, поглядев ему вслед, обернулся к Ерболу и Дармену.
— Вы заметили, как засверкали у него глаза? В нем проснулся задор. Вот увидите, он сейчас что-нибудь споет.
Дармен не раз говорил своим друзьям, что у Абая особое чутье на вдохновение; по огоньку, вспыхнувшему в глазах, он умеет распознать его. «Неужели Абай угадал? А если да, что же сейчас подхлестнуло старика?» — с любопытством подумал Дармен, нетерпеливо ожидая начала песни. Сам легко вдохновляющийся поэт, Дармен всегда с наслаждением следил за тем, как внезапно и быстро вспыхивает пламя поэзии в других.
Байкокше остановился у зарослей ковыля на берегу реки. И пока остальные догоняли его, он успел сойти с коня и пустить его на траву, держа на длинном чембуре.
— Спешивайтесь, дайте коням отдых! — приказал он всадникам, и Дармен с удивлением услышал, что голос старика стал более звучным и бодрым, чем раньше.
Едва коней пустили пастись, Байкокше, сбросив с головы тымак, надтреснутым, но еще сильным голосом запел быстрый и бодрый зачин.
Теперь его слегка раскосые прищуренные глаза горели еще ярче. С первых же слов песня захватила внимание слушателей. Она лилась свободно и быстро, как река. Акын пел ее, повернувшись к Абаю, но глядя выше его головы.
Он пел о том, что в прошлую ночь видел во сне Абая, который одиноко стоял в бескрайной степи. Было ли то утром, или вечером, Байкокше не помнит. Где это было, не знает. Лишь, как туманный мираж, видна была одинокая фигура Абая. Казалось, тот, насторожившись, чего-то ожидал… И вдруг пасмурный сумрак вокруг него зашевелился. С разных сторон на Абая, кинулись рычащие хищники. Один был похож на свирепого черного пса, второй — на голодного волка с провалившимися боками. Третий был как лиса, которая, чуя запах крови, облизывалась, подкрадываясь. Темные крупные тела не то кабанов, не то леопардов кольцом окружали Абая… И снова все затянулось мглой, крутящейся в вихре. И Абай и чудовища исчезли. У Байкокше защемило сердце. Глаза его наполнились слезами. «Абай!» — изо всей силы закричал он. Настала тишина. Когда же он в страхе взглянул туда, где был Абай, там все совершенно изменилось. Светило солнце, сияло ясное небо, а в кольце хищников вместо Абая стоял лев. Он зарычал, вскинулся в прыжке, снопы огня брызнули от него. Лев прыгнул в самую гущу зверей. Он разорвал в клочья и черного пса, и жадного волка, и коварную лису, и кабана с кривыми клыками, и леопарда. Шерсть летела с них, кровь текла струями. Еще недавно грозные, хищники лежали с переломленными хребтами, с окровавленными головами, визжали и стонали в предсмертных судорогах, зализывая раны. И лев, одиноко стоящий на высоком холме, грозно вопрошал: «Остался ли где-нибудь еще враг?» Когтями он царапал скалу, хвостом, как соилом, бил себя по бокам и рычал…
— Вот весь мой сон, жигиты. А теперь по коням! — воскликнул Байкокше, закончив песню, и первым зашагал к коню.
Уже вечерело, а до ночевки надо было сделать еще один переход. Байкокше, то и дело подстегивая своего рыжего коня, быстро ехал впереди, не давая другим поравняться с собой. Всадники растянулись длинной цепочкой, подгоняя коней.
Только теперь, ускакав перед, Байкокше улыбнулся себе в бороду. Четыре дня тому назад Даркембай, к которому он заехал в гости, рассказал ему, что Абая вызывают на допрос в Кара-Мола. Он сообщил также и о том, что делалось в ауле Такежана. Даркембай предложил старому акыну сопровождать Абая в поездке. «Против Абая нынче объединились все: в степи — подлые аткаминеры, в городе — чиновники и любители взяток, — с волнением говорил Даркембай. — Поезжай с ним, поддержи чем-нибудь Абая, придай ему сил. Пришло время, когда и мы с тобой должны помочь Абаю». Этот совет верного друга и вызвал вдохновенную песню старого акына.
В тот день вечером путники доехали до Кара-Мола. Абай вместе во всеми остановился в Гостевой юрте, которую выставил для него Айтказы.
Днем раньше в Кара-Мола приехал и Уразбай. Хотя он выехал из аула на другой день после Абая, но опередил его в пути, делая длинные переходы. Юрты и скот для угощения и взяток были доставлены сюда за неделю до его приезда.
От шербешная Уразбай ожидал многого. На этот раз он надеялся окончательно сломить Абая, объединив против него и степных казахских воротил и русских городских чиновников. Если бы он мог, он приехал бы еще раньше, но ему пришлось выжидать, чем кончится борьба за наследство Оспана. По его расчетам, она должна была привести Такежана к открытой вражде с Абаем. Уразбай все откладывал свой отъезд в Кара-Мола, надеясь, что Такежан перейдет на его сторону. Однако тот отделывался только короткими сообщениями: «решится завтра», «узнаем сегодня…»
Наконец в ауле Уразбая появился Азимбай. Уразбай и Медеу, радушно приняв его, постарались поскорее остаться с ним наедине, чтобы разузнать о намерениях Такежана. Но от хитрого и расчетливого внука Кунанбая добиться чего-нибудь было не так-то легко.
— Абай обидел и отца и Исхака, — рассказал он. — Он не дал разделить наследство, не посчитавшись с тем, что отец старше его. Хитрыми уловками оставил в своих руках Большую юрту. Отец прекратил пока переговоры.
Уразбаю стало ясно, что Такежан обиделся на Абая. А то, что Азимбай приехал с этой вестью сам, означало, что Такежан уже готов на все.
Не показывая вида, насколько все это его занимает, Уразбай пристально следил за Азимбаем, жадно ловя его скупые слова. Поняв, что тот ничего больше не скажет. Уразбай оставил его с сыном, а сам вышел из юрты.
Уразбай любил уезжать в степь один, чтобы обдумывать свои дела и замыслы. И в этот раз он поехал к озеру мимо длинной привязи для жеребят (ради хвастовства он приказывал привязывать их сразу сотню, чтобы показать гостям, сколько доится кобылиц). К озеру уже двигался на вечерний водопой огромный табун светло-серых пугливых диких жеребцов и кобыл-пятилеток.
Мысли Уразбая были радостны. Возможность осуществления мести возбуждала и подбадривала его. Самым непримиримым врагом, которого он мечтал раздавить, был Оспан. Когда он умер, Уразбай всю свою злобу перенес на Абая, которого давно ненавидел. Мстительный, жестокий, решительный, он считал, что если уж враждовать, то враждовать надо так, как Кунанбай, — прибегая в борьбе к любым средствам. Последнее время он только и был занят тем, что расставлял сети против Абая. Он не жалел скота и коней на взятки городским начальникам и толмачам. В степи он привлекал к себе сторонников не только в Тобыкты. За последние годы Уразбай добился того, что его имя было на устах всех волостных, биев и аткаминеров Керея, Матая, Уака, Наймана, Буры. Представители этих племен должны съехаться на кара-молинский шербешнай из Семипалатинского, Усть-Каменогорского, Зайсанского уездов. Там же должны были быть и городские богачи, со многими из которых Уразбай или породнился или был связан делами.
Но лишь сегодня эта сеть, готовая захлестнуть Абая, была сплетена до конца. Уразбай давно мечтал, как бы разжечь вражду в самой семье Абая, оторвать его от сородичей. Новости, привезенные Азимбаем, крайне обрадовали Уразбая: стало ясно, что теперь можно действовать, ни на что не оглядываясь.
Обдумывая это, Уразбай рыскал возле аула, пока табуны не напились воды и не ушли в ночное. За это время в юрте его собралось множество гостей. Это были его сторонники, вроде Абралы, Молдабая, Жиренше, Байгулака, которых Уразбай пригласил с собою в Кара-Мола. Их встречал и угощал чаем племянник Уразбая Спан.
Весь этот вечер Уразбай говорил со своими единомышленниками только об Абае.
— И когда это наши казахи перестанут заблуждаться, называя его справедливым, умным? Вы слышали, на какое злое дело решился этот «справедливый Абай»? Он ограбил всех своих родственников, даже родных братьев — Такежана и Исхака. Из наследства Оспана никто ничего не получил. Абай выгнал всех из Большой юрты Кунанбая, завладел ею сам, забрал себе все богатство. Что же, в этом его справедливость? Видите, как наш праведник насильничает над живыми и над умершими. Я ведь всегда говорил, что, когда дело дойдет до дележа наследства Оспана, сказка о неподкупности и честности Абая развеется, как дым. Так оно и вышло. Вон он какой, ваш Абай! И родных ограбил, и честь рода попрал, и кунанбаевское гнездо разрушил. И сам он сбился с пути, проложенного дедами, и молодежь сбивает…
То, что сказал Уразбай о разделе наследства Оспана, оказалось новостью для всех его гостей. Но даже Молдабай, который тоже ненавидел Абая, не смог этому поверить и, подозрительно взглянув на Уразбая, подумал: «Наверно, врет. Неужели Абай на это решится?»
Его сомнения выразили вслух Абралы и Байгулак.
— Неужели это правда, Уразеке?
— Верно ли это?
Уразбай, выпрямившись, окинул их суровым взглядом и нахмурился.
— А зачем мне говорить неправду? Мы сидим за скатертью, бог — свидетель правдивости моих слов…
И пока пили чай и кумыс — а кумыс пили очень долго— и потом, когда лакомились мясом молодого жеребенка, — а его подали уже к ночи, — воротилы племени Тобыкты усердно обливали грязью Абая.
— И почему это наши казахи хвалят Абая? — сказал Байгулак. — Удивительно, что многие сразу принимают его сторону, стоит им только послушать его самого!
Уразбай махнул рукой и отвернулся. Что же касается Жиренше, он не удержался, чтобы не подзадорить Уразбая. Хитро поглядывая на него, он протянул своим обычным насмешливым тоном:
— Абая называют мудрым, красноречивым, а нас — темными людьми, невеждами. Видно, у него и впрямь большой ум и талант!
Уразбай чуть не взвыл от злости.
— В чем его ум, в чем талант? В том, что он везде и всюду кричит: «Предки — плохие, обычаи казахов — плохие, отцы — плохие?» Разве в этом мудрость? Какая же мудрость в том, чтобы твердить: «Волостные — грабители, бии и аткаминеры — вредные люди, муллы, проповедующие религию, — обманщики»? Или мудрость в том, чтобы отбивать детей от отца, толкать людей с пути, проложенного предками? Почему ты не говоришь, что такая мудрость распространяет не благо, а зло? Что она — яд, что она мутит воду, разжигает пожар вражды?
Жиренше, слушая, подмигивал другим. Ему хотелось и дальше злить Уразбая.
— Э-э, Уразеке, а где ж ты найдешь сейчас людей, которые скажут все это? Сейчас все, кто мало-мальски грамотен, читают и его стихи и его поучения, гордятся тем, что учат наизусть всю эту чепуху, называя ее «словами Абая». Ничего не сделаешь, Уразеке, они все хотят слушать не твои умные слова, а его, способные лишь вызвать пожар.
— Будто болезнь какая-то на них на всех нашла, — подхватил Абралы. — К хорошему это не приведет… Действительно, и от молодежи, и от домбристов, и даже от детей только и слышишь, что стихи да песни Абая.
Абралы говорил правду: в этом году до него дошли стихи Абая, в которых тот издевался над ним. Мысль о том, что эти насмешливые слова поэта повторяет множество людей, бесила его.
Его поддержал и племянник Уразбая Спан.
— Уразеке, вы все не хотите обращать на это внимания, надеясь на свою силу и влияние. Но разве слова этого Абая не оказались в книгах у ваших же внуков, которые этим летом учились в Молодой юрте? Как вы тогда бушевали, помните? — улыбнулся он.
Уразбай даже выругался вполголоса.
— Да, взял я тут из Жуантаяка какого-то муллу обучать детей читать молитвы и совершать намаз. А он, видно, оказался из тех людей, у кого от чрезмерного учения мозги прокисают. Раз я сидел возле юрты и прислушался, чему он учит детей. Оказывается, заставляет их учить наизусть какую-то абаевскую дребедень. Дети орали стихи на весь аул, а в них Абай издевается над волостным. Кажется, там говорилось про Молдабая. — И Уразбай насмешливо взглянул на Молдабая, сидевшего рядом. — Я как послушал, какой грязью обливает Абай людей, стоящих во главе аула, вскипел от гнева. В руке у меня была камча — так я этого муллу исполосовал вдоль и поперек и в тот же день выгнал из аула пешком. Вот так и нужно пресекать зло, не давать ему расползаться в народе! — сказал он, с гордостью поглядывая на гостей. — Если аткаминеры не будут с этим бороться, немудрено, что народ испортится! Разве не говорят: «У всякого времени свой дьявол»? А дьявол нашего времени — это и есть Абай. И если я борюсь с ним, то разве я хочу отбить у него скот или извлечь для себя какую-нибудь пользу? Вот — над скатертью — я утверждаю, что борюсь с ним только для того, чтобы спасти от его дьявольского искушения и молодых и старых людей нашей степи. Я борюсь с ним как с врагом мудрых обычаев наших отцов и дедов. И посмотрите: завтра эти мои слова повторят все казахи — и не одни тобыктинцы, но и уважаемые люди всех племен, которые собрались на шербешнай. Вы слышали, что наш уездный ояз[59] Казанцев вызывает Абая держать ответ? Я получил весть от его толмача, моего доброжелателя. Толмач говорит, что не только Казанцев, а все большие начальники злы на Абая. Можно думать, что на этот раз Абай кувыркнется, словно перекати-поле, гонимое ветром. Вот я и еду в Кара-Мола посмотреть своими глазами, как пошлют в ссылку Абая. Поезжайте со мной, кто хочет, будем с проклятьем бросать ему в спину горсти пыли…[60]
Во время этой речи гости то и дело одобрительно кивали головами.
— Это верно: и все достойные казахи и русские начальники объединились против Абая, — добавил Жиренше. — Но ему грозит не только ссылка… Я прямо скажу: на этот раз Абаю не миновать проклятия предков…
Уразбай и Абралы быстро повернулись к нему. Он возмущенно продолжал:
— Вчера Шубар сообщил мне еще одну мерзкую новость. Верить ему можно: хотя он и трется возле Абая, но человек надежный… Что творится в этом ауле? Там настоящее жилище джинов. В нем найдется приют и для русского ссыльного, врага белого царя, и для всякого сброда — шутов, певцов, акынов. Один из них, какой-то Дармен, сочинил отвратительные стишонки. В них он глумится над духом нашего предка Кенгирбая. Назвал его «взяточником», «кабаном», «волком, сожравшим собственного волчонка». И все это громко пелось в ауле Абая. Шубар, услышав, просто остолбенел… Вот какие дела там творятся! — хмуро закончил Жиренше.
Уразбай возбужденно заговорил:
— Ну что, видите, кто такой Абай? Ничего нельзя жалеть, чтобы избавиться от него! Надо сделать все, что в наших силах!
Утром Уразбай со своими приспешниками выехал в Кара-Мола. Остановившись на ночевку только один раз, он прибыл туда на день раньше Абая. Уразбай торопился встретиться с союзниками, такими же коварными и хитрыми интриганами, как он, сам, договориться с ними о действиях против Абая и перетянуть на свою сторону тех, с кем давно не виделся. Поэтому в первый же день он созвал гостей, которые едва поместились в двух его юртах. Это были его сторонники из волостей Семипалатинского уезда. Для них были зарезаны жеребенок, баран и несколько упитанных ягнят. Уже к вечеру по всем юртам, выставленным на съезде, из уст в уста полетело имя богача Уразбая из Тобыкты.
На следующий день Уразбай кроме вчерашних гостей пригласил аткаминеров и богачей Усть-Каменогорского и Зайсанского уездов — из племен Сыбан, Найман, Керей. На этот раз ему пришлось попросить у своего приятеля, аршалинского волостного Ракиша, еще две белые юрты для гостей. С утра сюда привезли изрядное количество кумыса, а в полдень к юртам подвели упитанную серую кобылу. Самый старший из гостей Байгулак по просьбе Уразбая благословил кок-каска. Кобыла была тут же зарезана, мясо ее заложено в котлы.
Ни вчера, ни сегодня гости Уразбая ни словом не обмолвились о тех надеждах, которые возлагал народ на этот чрезвычайный съезд, хотя карамолинский шербешнай был назначен именно для разбора бесчисленных жалоб на волостных и степных воротил. Почти все собравшиеся в юртах Уразбая и были виновниками злодеяний, которые обличались в этих жалобах. Но они не собирались ни отвечать за это, ни возвращать награбленное. Если бы на шербешнае был действительно справедливый суд, все эти мурзы, бии, аткаминеры, волостные оказались бы ответчиками. Но они приняли свои меры. На съезд должны были приехать начальники трех уездов и губернатор Семипалатинской области. Зачем они приедут, никто из степных воротил не знал. Но все эти заправилы уже заранее объединялись, крепко держась друг за друга. Жалобы простых аульных казахов должны быть снова положены под сукно и лежать там годы, как лежали и до этого съезда.
Хотя о таком союзе никто не говорил вслух, но самое появление всех этих людей в юрте Уразбая на угощении мясом кок-каска показывало, что они, забыв недавние раздоры, молчаливо согласились держаться вместе. Беседа шла о начальниках, приезд которых ожидался завтра, или о сопровождающих их толмачах, но не о жалобах народа.
Улучив подходящий момент, Уразбай осторожно перевел разговор на Абая. Оказалось, что стихи и наставления его были известны даже в самых дальних племенах и родах и что там они не вызывали возмущения, которого он ожидал. Тогда Уразбай решил напугать аткаминеров, трепещущих перед начальством и мечтающих выслужиться.
— Не знаю, выпутается ли Абай из тяжелого положения, — заговорил он так, что нельзя было понять, радуется ли он этому как враг или сочувствует Абаю как сородич. — Говорят, семипалатинский ояз очень зол на него и нарочно его сюда вызвал… Видно, его будет судить волостной суд. Наши толмачи писали, что и сам губернатор недоволен Абаем.
Говоря это, Уразбай зорко следил за гостями. Он не увидел в них никакого сочувствия Абаю; наоборот, судя, по довольным поддакиваниям многих, было видно, что слова эти их обрадовали. Тогда Уразбай, откинув притворство, заговорил уже откровенно. Он начал обвинять Абая и в том, что тот против белого царя и властей, и в том, что он сбивает людей с мусульманского пути, нарушает дедовские законы и обычаи. Он поразил слушателей сообщением о том, что на днях Абай отнял у родных братьев наследство. Не забыл он также обвинить Абая в скупости и корыстолюбии.
— Можно ли поверить, что он даже поскупился на поминки по своему отцу Кунанбаю?! — воскликнул он.
Теперь аткаминеры зашумели и сами начали обвинять Абая. Один из чванливых заправил Сыбана, уже захмелевший от кумыса, взял домбру и, побренчав на ней, спел коротенькую песенку, злобно высмеивающую Абая.
— Может ли сын ставить себя выше отца? — спросил волостной Ракиш, оглядывая всех. — А вот Абай считает, что он выше Кунанбая, хотя тот, подобно минарету, возвышался при жизни над всеми казахами и пользовался огромным влиянием. Абай и при жизни отца постоянно схватывался с ним, враждовал, а под конец совсем отрекся от него. Немудрено, что после смерти отца он старается уничтожить самую память о Кунанбае. Именно поэтому он не устроил поминального аса. Тут причиной и скупость и гордыня. Что можно сказать о человеке, который глумится над могилой своего отца?
— Э-э, правильно говорит Ракиш, — одобрил Уразбай. — Этот Абай так загордился, что думает: «Имя мое стало широко известным, значит никто не посмеет осуждать меня. Что бы я ни сделал — все сойдет». Но если дурной человек совершает дурной поступок, на него есть управа. Неужели власти станут терпеть такого выродка, который нарушает мирное течение жизни народа, грабит родных, глумится над памятью отца и все это называет «добром», «справедливостью»? Какое же это добро, если все вы, почитаемые народом аткаминеры, готовы изгнать его?
Так Уразбай расчищал себе путь, давая понять, чего он хочет. Когда гости разошлись, он, сидя один перед юртой и прихлебывая в вечерней прохладе кумыс, самодовольно разглаживал свою длинную черную бороду, любуясь искорками седины, видя в них как бы сверкание зрелой мудрости.
Во-первых, было уже ясно, что ни один из влиятельных аткаминеров всех трех уездов не заступится за Абая. Во-вторых, когда завтра Уразбай подаст свою жалобу на Абая, каждый из бывших у него воротил поддержит его перед начальством на любом допросе. И в-третьих, после двух этих угощений кругом стали говорить: «Теперь самый значительный человек в Тобыкты — Уразбай. Слово его — закон». Таким образом, степные воротилы будут делать то, чего хочет он. Что же касается городских начальников и чиновников, то, подкупленные взятками, они давно были на его стороне.
В этот вечер и приехал в Кара-Мола Абай. Хотя он появился без всякого шума, сопровождаемый лишь небольшой группой друзей, о приезде его тотчас же стало известно Уразбаю.
Обычно на подобных съездах аткаминеры других уездов, опасаясь, как бы Абай, пользующийся таким уважением народа, не стал главным бием съезда, приходили к нему «поздравить с приездом», «выразить свое уважение». Но сегодня у него появлялись лишь простые аульные казахи, услышавшие о его приезде.
В день открытия шербешная возле белоснежных юрт, приготовленных для приезжающего начальства, с полудня выстроилась большая толпа степной знати всех трех уездов. На груди у волостных блестели большие медные знаки на медных же цепях — знак их власти. Некоторые из аткаминеров были одеты в расшитые галунами кафтаны, другие накинули на плечи богатые парчовые халаты, полученные в награду. Такие же халаты и старинные мундиры надели на себя и потомки султанов, тюре и прочих высокопоставленных особ.
На таких сборах казахи привыкли сидеть, расположившись полукругом. Сейчас же, встречая начальство, они вынуждены были стоять. Прошел уже час с тех пор, как волостные и аткаминеры выстроились в ряд, а грозное начальство все еще не показывалось. Однако никто не ворчал, не жаловался на усталость, все стояли покорно и терпеливо, как во время намаза. У больших юрт, покрытых белоснежной кошмой, не было заметно ни малейшего движения. Истуканами торчали возле них стражники в красных шапках, заранее приехавшие из города, да старшины, которых кара-молинский пристав назначил сторожить юрты, поставленные для начальства.
Наконец, вздымая пыль и звеня бубенцами, мимо выстроившейся знати промчался шумный поезд начальства. Скакали десятки всадников, гремели колесами закрытые кареты, катились повозки, в которые были запряжены тройки. Большинство встречавших должно было признаться, что такого внушительного прибытия начальников еще не приходилось видеть. Даже когда на съезд приезжал один уездный и три крестьянских начальника, и то бывал немалый переполох. А сейчас на шербешнай приехало сразу три уездных начальника, с каждым из них по пять-шесть крестьянских начальников, подчиненных им, приставы, урядники, стражники, толмачи, посыльные. И, кроме того, нынче на съезд прибыл сам новый жандарал — генерал, военный губернатор, начальник всей области. Полицмейстер, который придавал особенное значение этому первому выезду генерала в степь, добавил к обычной свите еще множество жандармов и полицейских. Вместе с жандаралом приехали и его советники, переводчики, секретари. Толпа чиновников и полиции затопила всю территорию карамолинской ярмарки.
Увидев столь пышный и блестящий поезд, волостные и аткаминеры оживленно загудели, выражая свой восторг. Они продолжали стоять, ожидая, когда прибывшее начальство выйдет из юрт для встречи с ними. Однако это произошло очень нескоро. Видимо, начальство приводило себя в порядок после долгой пыльной дороги.
Абай, которому следовало быть среди встречающих, пошел к ним тогда, когда начальство уже прибыло. Подходя к толпе аткаминеров, он встретил знакомого толмача и спросил его, приехал ли с губернатором Лосовский. Тот, зная, как дружески относится Лосовский к Абаю, ответил, что он здесь, и взялся передать ему просьбу Абая о свидании.
Лосовский, действительно, вышел из юрты и подошел к Абаю. Но сегодня чиновник особых поручений при генерал-губернаторе совсем не был похож на прежнего советника Лосовского. Он поздоровался с Абаем сухо и надменно и тут же, не дав ему раскрыть рта, холодно сказал:
— К сожалению, нынче я ничем не могу быть вам полезен. Ваши дела плохи. Очень плохи. Вы сами должны понять почему. Человек вы знающий, опытный, умный. И даже образованный человек. Пожалуй, именно поэтому с вас больше и спросится. Больше ничего вам сказать не могу, желаю всего лучшего.
Это было все, чем встретил Лосовский Абая. Абай подошел к Баймагамбету и Дармену, поджидавшим его в стороне.
— Видели вы, как он перепугался? Даже не спросил, чего я от него хочу, — сказал Абай внешне спокойно, но отлично понимая, что может означать такое отношение к нему Лосовского. — А я-то надеялся на него, считал честным человеком, не лишенным справедливости! Оказалось, он терпел меня, когда я не был ему опасен, а теперь, когда от меня стали шарахаться даже уездные, и он изменился ко мне.
Он двинулся к толпе ожидающих. Аткаминеры сосредоточили все свое внимание на белых юртах, и почти никто не заметил прихода Абая. Каждый думал только о том, будет ли он на этот раз замечен начальством, услышит ли хотя бы два слова. Мечтая об этом, все они вытягивали шеи, проталкивались вперед, нетерпеливо топтались на месте.
Поведение Лосовского не столько встревожило, сколько огорчило Абая. Кое-кто поздоровался с ним, он ответил только кивком головы.
Наконец возле юрт начальства началась суматоха. Появились полицейские, стражники, засверкали на солнце блестящие пуговицы, ножны шашек, галуны погон. По ряду волостных, как ветерок, пробежал тревожный и подобострастный говор:
— Вот идут…
— Начальство идет…
— Оязы вышли! Все трое!
— Глядите, глядите, сейчас выйдет жандарал…
— Умеет начальство придать себе внушительность…
— Поглядите на жандармов: как глаза пялят, как тянутся!
— Кого хочешь напугают! У меня по спине мороз…
Свита губернатора выстроилась двумя рядами от юрт до толпы встречающих, образовав посредине проход. В этом проходе показалась группа надменных гостей, сверкающих мундирами, эполетами, крестами, медалями.
Впереди шел пожилой генерал — военный губернатор Семипалатинской области. Это был тучный, самодовольный человек с седой окладистой бородой. Из-под густых эполет, серебряных аксельбантов, широкого золотого пояса, орденов, крестов и медалей, закрывающих всю грудь, его мундира почти не было видно. Свита шла шагах в трех-четырех позади него. Здесь были все три уездных начальника в полицейских мундирах, крестьянские начальники, советники, чиновники в черных вицмундирах или сюртуках.
Льстивый шепот, похожий на шум камыша, пригибаемого порывом ветра, пролетел по толпе ожидающих:
— Жандарал… Жандарал…
— Белый жандарал…
— Какая осанка!.. Как идет!..
Губернатор подошел к шеренге волостных. К нему подскочил низенький и кругленький толмач-казах с беспокойными раскосыми глазами. Но переводить ему ничего не пришлось.
Первым поздоровался с губернатором волостной Ракиш. Прижав к груди остроконечный малахай, подбитый черной мерлушкой, он быстро кланялся в пояс. Казалось, будто хребет его перебит пулей и он никак не может выпрямиться. Ноги его трясло мелкой дрожью. Хотя он был еще в расцвете лет, но сейчас выглядел дряхлым стариком, не владеющим ни своими движениями, ни языком. Он мог только пролепетать почти шепотом: «Здарасти, господин!..»
И все остальные волостные прижимали к животу или груди свои малахаи и шапки, низко кланялись, у всех был такой вид, будто у них внезапно схватило живот, и все, так же как и Ракиш, повторяли: «Здарасти, господин… Здарасти, господин…»
Глядя на это, уездные начальники, шедшие за губернатором, не могли удержаться от высокомерных улыбок. Ряд волостных уже заканчивался, но никто не назвал своего имени, не представился губернатору, не сказал ни одного путного слова. Только и было слышно пыхтенье кланяющихся аткаминеров и полузадушенный испуганный хрип: «Здарасти, господин…»
Теперь губернатор подошел к Абаю, на котором не было ни мундира, ни кафтана в галунах, ни знака на шее, ни медали. Одетый в хорошо сшитый из тонкого серого сукна длинный бешмет городского покроя, Абай, стоявший спокойно и свободно, не изменил своей полной достоинства позы и тогда, когда генерал подошел к нему вплотную. Губернатор окинул его быстрым взглядом. Этот дородный, красивый казах со спокойными, умными глазами, так резко отличавшийся от всех остальных и одеждой и поведением, невольно привлек его внимание. И когда генерал протянул руку, казах, к его удивлению, не сломился пополам, как другие, а лишь наклонил голову и не спеша проговорил:
— Здравствуйте, ваше превосходительство! Ибрагим Кунанбаев, — назвал он себя.
Генерал, отступив на шаг, снова посмотрел прямо на Абая.
— Кунанбаев?.. А-а, тот самый Кунанбаев, который мутит народ? Почему вы так себя ведете?
— Причина простая: закон жизни, которому подчиняюсь не только я, но и вы…
— Какой закон? — Генерал нахмурился.
— Борьба. Разве не в борьбе развиваются все живые существа? Борюсь не только я, но и вы, ваше превосходительство.
Губернатор отступил еще на шаг и с нарастающим гневом оглядел Абая с ног до головы. Его раздражало независимое поведение этого казаха. «Видимо, доносы и жалобы имели под собой почву, — подумал генерал. — Может быть, надо тут же приказать арестовать этого вольнодумца?»
И генерал заговорил сурово и резко:
— Против чего же вы боретесь? Я слышал, против власти?
— Нет… Против зла.
— Если так, почему же вас многие недолюбливают?
— А что тут удивительного, ваше превосходительство? Чего больше в жизни — зла или добра? По-моему, зла и злодеев, творящих его… Значит, и голоса их слышнее…
Разговор их привлек общее внимание. В кучке возле Уразбая тревожно зашептались:
— О чем они там говорят?..
— Уж не выкрутится ли он, если жандарал его слушает? — пробормотал Молдабай.
Урзбай обеспокоенно тормошил Жиренше, который тоже не понимал по-русски.
— Что он, уже допрашивает? Ругает, что ли? Не видишь?
Между тем губернатор по-прежнему стоял возле Абая.
— Итак, вы полагаете, что зла в мире больше, чем добра?
— К сожалению, так, ваше превосходительство…
— Значит, вы еще и обвиняете других, вместо того, чтобы защищаться от множества обвинений? И вы думаете, что сможете что-либо доказать?.
— Уверен, что сумею.
— Что ж, посмотрим! Идите за мной, — коротко бросил губернатор и пошел вперед.
Абай, выйдя из ряда казахов, твердой походкой последовал за губернатором.
Никто не понял, что произошло. Абай и сам не мог понять, о чем, собственно, хочет говорить с ним губернатор. Ему было ясно только одно: своими ответами он заставил губернатора обратить на него внимание. Готовый к любому допросу, Абай, гордо подняв голову, шел за генералом, решив, что и в дальнейшем будет держаться так же независимо.
Между тем за это время произошли выгодные для Абая перемены. Хотя до сих пор еще никто не знал, с каким намерением повел за собой Абая губернатор, новые ряды волостных и биев, изгибаясь вначале перед губернатором, теперь точно так же протягивали руки и Абаю, выражая угодливое почтение и приговаривая: «Будь счастлив, мирза!», «Да снидет слава на тебя, мирза!» Абай шел, не произнося ни слова. Но губернатор невольно обращал внимание на то, как относятся эти люди к Абаю.
Абай едва удерживался от насмешливой улыбки, видя, что творится вокруг. Рассчитывая напугать Абая, губернатор, сам того не замечая, насмерть перепугал всех этих смутьянов и мастеров интриг. Так создалось вовсе неожиданное и действительно комическое положение, спутавшее все карты и многих приведшее в полное смятение.
Церемониал встречи закончился. Генерал обошел всех, поздоровался с каждым и теперь шел мимо волостных обратно. Встречавшие, сложив руки на груди, снова низко кланялись ему. И мимо них спокойной и полной достоинства походкой шел Абай.
Толпа встречавших видела, как губернатор, уже удаляясь, обернулся, снова сказал что-то продолжавшему следовать за ним Абаю, и оба пошли к белым юртам, сопровождаемые свитой. Уразбай и Жиренше, подавшись вперед, выглянули из ряда аткаминеров. Куда они идут? К себе ли ведет его генерал, или возле белых юрт передаст жандармам?
Вдруг Жиренше ударил себя по ляжке сложенной вдвое плетью: губернатор вместе с Абаем вошел в восьмистворчатую белую юрту, отведенную только для жандарала. Вся свита остановилась перед входом, нерешительно постояла возле него и вскоре разбрелась по соседним юртам.
Начали расходиться и аткаминеры. Но Жиренше и Уразбай не могли сдвинуться с места, молча ожидая, что будет дальше. Неподалеку от них стояли Дармен, Баймагамбет и молодой жигит Серкеш. Они тоже не отрывали взгляда от губернаторской юрты.
— Хороший знак. Теперь враги полопаются от зависти! — говорил Серкеш, прищурив маленькие раскосые глаза.
Баймагамбет радостно подтолкнул Дармена и показал ему на полицейского, идущего к юрте.
— Э-э, Дармен, погляди-ка: видишь, урядник несет на подносе чай? Ну, наша взяла!
Дармен и Серкеш расхохотались, а Жиренше с Уразбаем нахмурились и отвернулись, делая вид, что ничего не слышат, хотя все в них кипело от злобы и досады. К ним подошел Ракиш, которому не терпелось посплетничать, и с ним еще двое волостных.
— Куда увели Абая? Как вы думаете, что это значит, Уразеке?
Дармен и Баймагамбет переглянулись и, без слов поняв друг друга, наперебой заговорили, как бы обмениваясь мнениями, но так громко, чтобы и Жиренше с Уразбаем и другие аткаминеры слышали их:
— Э-э, не зря люди говорили, что Абай и жандарала уговорит!
— Да, так оно и вышло. Видно, этот жандарал других казахов и за людей не считает.
— А ты видел, как он с нашими волостными здоровался? — рассмеялся Дармен. — Никому ни слова не сказал. Наверно, ни во что их не ставит, а бляхи их считает вроде собачьих ошейников…
— Так оно и есть, — поддакнул Баймагамбет. — Сам советник сказал: «Что там волостные? Над всеми ними начальником будет Абай!»
— Советник еще говорил, что если Абай-ага будет беседовать с жандаралом, он станет главным бием на шербешнае.
— А что же? Вот увидишь, что из этой юрты он сегодня и выйдет главным бием!
— Конечно! Ведь это не наши казахи говорили, а сам советник. А он уж все знает, о чем думает власть.
— Смотри-ка, все еще сидят вдвоем… — значительно протянул Баймагамбет. — И чай уже выпили, а все еще разговаривают.
Дармен кивнул головой.
— Ну, а как же?
Ракиш и его приятели с самого начала разговора остановились, прислушиваясь, и знаками подозвали к себе еще нескольких волостных. Не выдержал и Жиренше. Как ни был он зол и раздосадован, он тоже подошел сзади к Дармену и, наклонив голову, словно козел при виде собаки, стоял, стараясь не пропустить ни слова.
Дармен и его друзья, сделав вид, что только теперь заметили волостных, замолчали, как бы не желая делиться новостями с другими. Ракиш и еще один молодой волостной стали приставать с расспросами:
— Э-э, родные мои, значит, сам советник так думает?
— Тту-у, какие наши казахи невежды! — протянул Ракиш. — Завидуют Абаю… Есть и такие собаки, которые ему зла желают!
Еще вчера в юрте Уразбая он первым начал чернить Абая. А теперь, почуяв, что ветер дует в другую сторону, мгновенно переметнулся. Зная, что Дармен — один из любимцев Абая, он всеми силами старался завоевать его доверие. Жиренше и Уразбай отлично это поняли. Презрительно взглянув на него, они молча отошли, мрачные и настороженные.
В юрте же в это время между Абаем и губернатором шел необычный разговор.
Губернатор говорил с явным раздражением. Оставшись с Абаем наедине, он не стал скрывать этого.
— «Бороться», «бороться», — гневно повторил он слова Абая. — Я вижу, что вы действительно опасный человек. Недаром на вас пишут жалобы многие уважаемы люди из многих волостей. Вас следует убрать из степи! Я вызвал вас сюда, чтобы вы сами признали свою вину. Не рассчитывайте легко отделаться. На основании того, что мне о вас известно, я могу прямо отсюда отправить вас в семипалатинскую тюрьму, а потом и дальше — на каторгу, в такие места, откуда ваш голос никогда не дойдет до этой степи!.. Отвечайте мне: что вам надо, чего вы добиваетесь, разжигая в степи смуту? Почему со всеми степными властями, поставленными мною, вы враждуете?
Увидев губернатора впервые там, перед волостными, Абай на его лице не прочел ничего хорошего для себя. Теперь он понял, какая опасность нависла над ним. Но та твердая решимость к борьбе, которая возникла в нем, когда он смело пошел вслед за генералом в его юрту, сейчас только укрепилась. Ни боязни, ни волнения он не чувствовал. Вспышка губернаторского гнева его не смутила. Абай сам понимал, что в уменье владеть собой, в убежденности и в сознании своего достоинства он гораздо сильнее этого кричащего генерала. И поэтому он ответил хладнокровно и спокойно:
— С этими людьми, ваше превосходительство, я борюсь совсем не потому, что они назначены вами, а потому, что они просто злодеи.
Губернатор снова вскипел и постучал пальцем об стол.
— Вы ответите и за это! Какое вы имеете право называть должностных лиц злодеями?
— Если бы вы знали всю правду о них, ваше превосходительство, то не только назвали бы их злодеями, а просто отдали бы их под суд.
— Приведите доказательства! Но помните: если вы занимаетесь пустой клеветой, если вы порочите людей, которым мы доверяем, то вы отсюда же отправитесь в тюрьму!
Абай и тут не потерял спокойствия. Смело глядя в глаза губернатору, он ответил:
— Позвольте мне высказаться полностью и выслушайте меня.
Губернатор резко обернулся к Абаю. Потом он заложил руки назад и начал молча шагать по юрте.
Абай рассказал ему о преступлениях, от которых давно уже страдает простой аульный народ: о барымте и набегах, вызываемых распрями степных воротил, о несправедливостях и насилиях, чинимых ими, о грабежах, конокрадстве.
Еще при первой встрече Абаю стало ясно, что губернатор знает о нем. Конечно, сведения его основывались на доносах Уразбая и других. Но Абаю было неизвестно то, что губернатор, готовясь к поездке, потребовал дела, которые могут оказаться нужными на съезде в Кара-Мола, и тогда ему попались на глаза кипы прошений, поданных на его имя. Это были «приговоры» всех старшинств Чингизской волости, привезенные Альмагамбетом. То, что заявления были подписаны людьми почти всей волости, говорило, насколько в этих ходатайствах заинтересован весь народ. Во всех этих «приговорах» упоминалось одно лишь имя — Ибрагима Кунанбаева.
Приняв сперва эти бумаги за обычные прошения, губернатор отстранил было их. Но взгляд его остановили грамотно, красивым почерком написанные строчки. Он машинально начал читать их и тогда понял, что с ходатайством обращается огромная часть степного населения. Вдобавок тут же было и свидетельство русских крестьян-переселенцев.
Все жалобы на Абая полностью сходились с фактами, которые указывались в прошениях казахов и переселенцев, только причины его поступков здесь объяснялись совсем по-другому. Это обстоятельство поневоле заставило губернатора задуматься об Абае Кунанбаеве.
Губернатор понимал, что расправиться с этим выдающимся степняком будет, видимо, не так-то просто.
И сейчас, говоря с Абаем, он хотел получше разглядеть этого человека, разгадать его образ мыслей и его намерения. Поэтому-то губернатор и заставил Абая говорить, часто задавая такие вопросы, которые вынуждали его высказывать свои мысли.
— Преступления — повседневное дело в степи, — говорил Абай. — Уездные начальники прекратить их не могут, а мировые судьи не умеют найти настоящих виновников. Поэтому все споры и тяжбы между родами, живущими в пределах трех уездов, перешли в областную канцелярию, и вы были вынуждены сами приехать для разбора на месте множества этих жалоб. Но и в этих жалобах тоже не все справедливо. Наши влиятельные и сильные люди часто сами поддерживают злодеев, составляют даже ложные приговоры, не останавливаются и перед лжесвидетельством, перед клеветой на противника. К сожалению, городские власти часто не распутывают эти дела, а, наоборот, запутывают их незаконным, неправильным решением. Тут конечно, помогает взятка. Если вы спросите, кто же все это делает, придется назвать и многих наших степных богачей, владеющих большим количеством скота, придется назвать и волостных, пользующихся казенными печатями. Те ссорятся, мстят друг другу набегами и барымтой, а страдает от этого основная масса степного народа, мирные люди аулов. Они хотят лишь спокойной жизни и честного труда, а на самом деле постоянно терпят насилия и притеснения со стороны этих смутьянов, или, как говорится по-русски, интриганов…
Абай ни минуты не думал о том, что может воспользоваться этой неожиданно беседой для своей личной выгоды. Он не стал ни обелять себя, ни чернить своих врагов. Он даже не назвал их имен. Видя перед собой главу целой области, Абай решил рассказать ему о трудной жизни народа.
Губернатор же, слушая Абая, думал о своем. Он давно уже понял, что этот «киргиз» действительно считает себя защитником народа, борцом за его дело. Это заставило генерала насторожиться: «Да не связаны ли рассуждения Абая с освободительными идеями?» Но тут же успокоил себя: «Нет, это поветрие, конечно, еще не дошло до степи. Вряд ли эти «идеи» понятны даже такому развитому киргизу, как вот этот».
И, пытаясь разобраться в том, кто же такой Абай, он задал ему вопрос:
— Ну хорошо, Кунанбаев, а почему же все те люди, которых вы считаете причиной зла, завоевали наше доверие? Как это получилось, что ваших судей и волостных управителей мы назначили из среды таких преступников? Вы даете себе отчет в том, что вы говорите? Мы назначаем в Киргизскую степь правителей, а вы всех их считаете злодеями? Я правильно понял вас?
Он задал эти вопросы холодным тоном, испытующе глядя на Абая, как бы говоря: «Если это так, стало быть, и мы, кто назначил этих людей, тоже преступники?» Абай почуял ловушку. Откровенный и прямой разговор с этим сановником мог оказаться опасным. «Что надо было, я уже сказал, — подумал он, — а сделать выводы уже его дело».
— Ваше превосходительство, — сказал он, — может быть, я позволил себе что-либо лишнее, что не принято говорить сановнику. Но я считал необходимым рассказать вам о тяжелом положении степи, находящейся под вашей властью. То, что я говорю правду, вам подтвердит любой из аульных казахов, которого вы спросите. Я хочу сказать вам одно: от встречи с вами для себя лично я не жду ничего, я не собираюсь сам быть одним из правителей. И ищу лишь справедливости.
Это не удовлетворило губернатора. Он выслушал Абая настороженно и холодно. Кроме того, что ему не нравилась речь этого «киргиза», самый его вид и спокойное достоинство, с которым он держался, заставляли генерала хмуриться. В его представлении степняки-«киргизы» были людьми дикими и темными, которые перед начальством могли лишь боязливо преклоняться. А этот говорит, как просвещенный человек, держится свободно, как равный по положению и воспитанию. И даже то, что на нем был не чапан или халат, а бешмет из тонкого дорогого сукна, сшитый, видимо, хорошим городским портным, раздражало губернатора. И он нетерпеливо пошевелился, переведя взгляд к двери. Но тут же на его лице выразились негодование и гнев.
Желая понять, чем это было вызвано, Абай тоже повернулся к двери — и не поверил своим глазам. В юрте, держа под мышкой тымак и большую кипу листов, стоял Базаралы, а возле него — русский человек средних лет в скромном городском костюме. По холеной, красивой бороде Абай сразу узнал в нем часовщика Савельева из Семипалатинска.
Савельев (фамилию которого казахи переиначили в «Сабелей») прекрасно владел казахским языком и пользовался в степи широкой известностью. Он помогал составлять заявления, прошения и всякие «приговоры». У него были обширные знакомства во всех городских канцеляриях — и среди толмачей и урядников, и среди письмоводителей и чиновников. Говорили даже, что у него есть ход к советникам, а может быть, к самому полицмейстеру. Многие из степных казахов именно ему поручали и написать прошение и проталкивать его по канцеляриям, утверждая, что Сабелей знает такие легкие дороги, которые неизвестны лучшим городским адвокатам.
Пока Абай с изумлением смотрел на Базаралы, к губернатору подошел жандармский офицер и, почтительно склонившись, начал что-то шепотом объяснять. Губернатор слушал его недовольно и наконец спросил:
— Ну хорошо. И чего же они хотят? — И он повернулся к вошедшим.
Савельев, поклонившись, поспешил объяснить:
— Ваше превосходительство, у этого киргиза множество прошений почти из всех волостей Семипалатинского уезда. Все эти просители тоже здесь, но господин офицер разрешил пройти только нам: вот ему, с бумагами, и мне, чтобы перевести их просьбы.
— А о чем просьба? — сурово спросил губернатор.
— Все они просят не за себя, ваше превосходительство. Ходатайствуют за уважаемого ими человека, за своего поэта Ибрагима Кунанбаева.
Губернатор негодующе повернулся к Абаю. «Уж не сам ли этот загадочный киргиз подстроил все это!» — подумал он. Но лицо Абая выражало только искреннее изумление. Генерал перевел взгляд на Базаралы, внимательно вглядываясь в него. Однако этот высокий и стройный человек с привлекательным и умным лицом и не смотрел на Абая, как будто даже не узнавал его. Он спокойно подошел к столу, положил на него свои бумаги и заговорил сам.
— Таксыр,[61] — начал он, прикрывая указательным пальцем, красивым и длинным, свой левый глаз. — Таксыр, кыргыз степ — слапой, адин клазес е — Ибрагим Кунанбаев…
Базаралы прикрыл большим пальцем левое ухо и продолжал:
— Кыргыз степ — глухой, таксыр, адин ух е — апят Ибрагим Кунанбаев. Не можно Ибрагим Кунанбаев брать ат степ. Не можно! Степ слапой, глухой будет. — И он закрыл пальцами другой руки правое ухо и глаз и, жалобно качая головой, изобразил на лице страдание.
Савельев собрался разъяснить слова Базаралы, но губернатор жестом остановил его, продолжая с негодующим любопытством смотреть на Базаралы. Тот с огромным трудом продолжал изъяснять свою мысль:
— Каспадин кубернатыр нобай шалабек. Не знаит, какой шалабек Ибрагим Кунанбаев… Наш степ много пригаур послал. Много, много просит. Пускай наш пригаур пайдет санат, министр, белый сарь. Степь просит пустить нас Петербор, министр, сарь. Всё найдом!
Базаралы замолчал. Губернатор снова нахмурил брови и молчаливым движением руки показал Савельеву и Базаралы, что они могут идти. Савельев дернул Базаралы за рукав. Оба попятились и вышли из юрты.
Слова Базаралы заставили генерала задуматься. За сегодняшний день он несколько раз менял свое мнение об Абае. Сейчас он окончательно пришел к мысли, что если с таким необыкновенным для степи человеком поступить обычным способом — то есть просто выслать или посадить в тюрьму, — то это не останется без последствий. На церемонии встречи губернатор убедился, с какой почтительностью относятся к этому киргизу знатные люди степи. А теперь оказалось, что за него горой стоит и простой народ. Вероятно, этот человек имеет гораздо больший вес, чем многие из управителей. Как знать: накажешь его, а эти акты, «приговоры» съездов, всякие другие петиции, а вместе с ними, может быть, еще и новые бумаги дойдут до сената. Пошлют их и на высочайшее имя. Не очень-то лестно для губернатора, тем более для нового человека в области, если из управляемого им края поступают такие донесения, которые можно истолковать как свидетельство его неумения наладить порядок самому.
В юрту вошел советник Лосовский, держа под мышкой несколько папок с делами.
Приход Лосовского не был случаен. Увидев, как губернатор повел Абая к себе в юрту, он решил, что генерал хочет лично допросить человека, чье имя прожужжало уши чиновникам всех канцелярий и в Семипалатинске и в Омске. Поэтому Лосовский тут же приказал немедленно принести ему дело Кунанбаева, привезенное из канцелярии уездного начальника, и, не дожидаясь, когда губернатор потребует, сам понес дело к нему.
Думая, что Абай уже обречен, Лосовский подобрал бумаги, обвиняющие его. Это были доносы и кляузные прошения, поступившие в Омск, в канцелярию степного генерал-губернатора. Зная только эти жалобы, Лосовский и не подозревал о тех прошениях и документах, которые генерал получил здесь. Впрочем, и тот, сообразно некоторым своим расчетам, сознательно не рассказывал Лосовскому об этом. Дела своей области, конечно, нужно было решать ему самому. Присутствие генерал-губернаторского чиновника особых поручений уязвляло его самолюбие и казалось оскорблением его служебной чести. Поэтому-то он ни слова и не сказал Лосовскому о новых обстоятельствах в деле Кунанбаева.
Сейчас, поняв, что губернатор не допрашивает Абая, а о чем-то беседует с ним, Лосовский растерялся. Однако он все-таки положил дело перед губернатором, молча показав ему обложку так, чтобы этого не видел Абай.
Генерал отстранил папку и, довольный смущением Лосовского, резко сказал:
— Это пока не понадобится, можете взять. Холодно кивнув головой, он отпустил Абая. Оставаться на съезде генерал не собирался — вполне достаточно было и того, что он показался его участникам. Всю работу должен был вести Лосовский вместе с уездными начальниками. И, беседуя с ним перед отъездом, генерал удивил его неожиданным для того решением: назначить Ибрагима Кунанбаева одним из биев чрезвычайного съезда.
К этому решению генерал пришел вынужденно. Ему было теперь ясно, что Абай — очень крупная и влиятельная фигура в степи и что обойти его при назначении биев съезда означало вызвать новые жалобы и прошения, которых и так было достаточно. Но тут же он твердо решил, что в Семипалатинске займется судьбой этого неприятного и беспокойного человека.
В тот же вечер, совещаясь со всеми тремя уездными начальниками о завтрашнем открытии чрезвычайного съезда, Лосовский предложил назначить одним из биев съезда Ибрагима Кунанбаева.
Его предложение не вызвало споров. Наоборот, Казанцев, семипалатинский уездный начальник, даже поддержал его. Оказалось, что к нему поступило множество заявлений, где жалобщики просили назначить биями таких людей, которые могли бы справедливо разрешить тяжбы и помочь людям получить возмещение за свой труд или насильно отобранный скот. В этих заявления чаще всего называлось имя Абая, как человека, который пользуется доверием казахов всех трех уездов, знает их нужды, хорошо известен им всем. Именно ему и просили поручить разбор жалоб люди, вступившие в тяжбу с богачами и волостными.
Конечно, эти просьбы вряд ли были бы уважены, если бы все трое уездных начальников не были свидетелями того интереса, который проявил к Абаю губернатор, а Лосовский не имел бы его приказания.
Решение начальников почти тотчас же стало известно волостным — через писарей и толмачей уездных начальников. Сам Абай узнал об этом позже от Ербола и Баймагамбета, вернувшихся с ярмарки, где они целый день провели в беседах с жалобщиками. Известие это не произвело на Абая большого впечатления.
Зато Дармен принес ему новость, которая искренне обрадовала Абая: оказалось, что в степи возле ярмарки собралось много людей, пожелавших поздравить Абая с избавлением от опасности. Дармен рассказал, что сбор этот получился как бы сам собой, никто из друзей Абая его не устраивал: люди собрались, вызвали Базаралы и Байкокше и попросили их пригласить Абая.
Когда Абай, сопровождаемый Ерболом, Баймагамбетом и Дарменом, подъехал к небольшому холмику, покрытому пожелтевшей травой, его встретило здесь неожиданно много народу. Было похоже, что происходит многолюдный той, устроенный каким-нибудь богатым племенем. Но весь вид собравшихся показывал, что здесь были только те люди, кто по полному праву именуется народом.
Одни кони их говорили о многом. Почти все они были худые, заезженные, с выцветшей за лето шерстью — истинные помощники своих трудолюбивых хозяев. А седла их и сбруя еще красноречивее свидетельствовали о скромном достатке их хозяев: разодранные потники, истрепанные войлочные подушки, треснутые луки, погнутые стремена из черного железа. Среди всей массы этих всадников взгляд не нашел бы ни одной бархатной седельной подушки, ни посеребренной уздечки или сбруи с черненым серебром, нет здесь и потников, украшенных кожей или разноцветным сукном. И сами люди одеты в серые домотканные армяки или в старые, подранные чапаны. Их головные уборы, которые свидетельствуют о принадлежности к тому или иному роду, оторочены ветхой, вытершейся мерлушкой и покрыты или дешевым ситцем, или материей, безнадежно потерявшей цвет.
Эта многолюдная толпа встретила Абая как родного. Его быстро окружили, все с радостью приветствовали его, поздравляя с одержанной победой над врагами. На вершине холма, спешившись, Базаралы и Байкокше с группой почтенных стариков ожидали Абая. Подъехав к ним, он слез с коня. Друзья подошли к нему и обняли его, словно после долгой разлуки.
Абай шутливо обратился к ним:
— Базеке! Уж если я вылез из глубокой ямы, то только благодаря тебе! Сам я на этот раз не только не спасся бы, но увяз бы еще глубже. А твоя сегодняшняя речь по мастерству превзошла речь лучшего адвоката, а по красноречию — знаменитейшего бия! Но скажи, пожалуйста, как же ты пробился в губернаторскую юрту? Как тебя пустили?
— Ойбай! — расхохотался Базаралы. — Да разве есть у семипалатинских властей дверь, которую Сабелей не сумел бы открыть? А ключ, который ему для нее понадобился, помогли сделать вот эти же люди. Собрали кое-что — цену, примерно, двух коней, — он и сунул их жандармскому офицеру. А уж как тот сумел убедить губернатора — это его дело… Ты не видел, как он ему на ухо шептал?
С новым глубоким чувством благодарности Абай посмотрел с холма на множество людей, окружавших его. Толпа уже разбилась на две части, было видно, что стороны сговариваются, каких силачей-борцов выставить друг против друга. Тут же группа всадников готовилась начать скачки. Дармен сообщил, что будет и борьба на конях и другие состязания. Словом, было все, что полагается на всяком многолюдном торжестве, кроме угощения и выставленных цепочкой юрт.
Глядя на силачей, схвативших друг друга за пояс, Базаралы рассказал Абаю, что собравшиеся здесь люди направили губернатору множество просьб о том, чтобы одним из биев, которые будут разбирать на съезде тяжбы, был непременно и Абай.
Тем временем состязание по борьбе подходило к концу. Победителем оказался Абды. Положив одного за другим трех противников, он получил приз — не слиток серебра и не кусок сукна на одежду, как это бывает на богатых пирах, а новый тымак, купленный тут же, на ярмарке. Красивый смуглый жигит, широко улыбаясь, поднялся на холмик к Абаю.
— Абай-ага, — заговорил он, протягивая платок с завязанной в нем шапкой, — я боролся не за себя, а за вас, и победил потому, что боролся, как вы. А еще потому, что уж очень обрадовался за вас! Это и придало мне сил. Значит, и награда принадлежит не мне, а вам!
Абай с благодарностью принял подарок и добавил, смеясь:
— Хорошо, что друзья мои крепки не только телом, но и умом! Хотел бы и я поучиться у тебя, как валить наземь одного за другим своих врагов!
Поступок Абды понравился всем. Вслед за ним и остальные жигиты, кто побеждал в скачках или в борьбе на конях, тоже подъезжал к холмику и с веселыми шутками передавал свои призы Абаю. Некоторые из этих людей совсем не были ему знакомы, но каждый из них, отдавая Абаю свою награду, с душевной искренностью провозглашал свои добрые пожелания. И это и то, с какой радостью подходили к Абаю разнообразные люди, доказывало, каким доверием и любовью народа пользуется он.
Это понимал не только сам Абай. День уже клонился к вечеру, когда Байкокше, сидевший на холмике в кругу почтенных стариков, неподалеку от Абая, заговорил громко, так, чтобы его услышали многие:
— Э-эй, люди! Какое драгоценное торжество у нас получилось, какая истинная радость народа сказалась! И не одна радость, а две. Первая радость — за Абая, за то, что мы спасли его от опасности. А вторая радость — за нас самих, за то, что мы сумели все вместе отстоять благое дело, что смогли добиться своего! Это дорогой пример для всех честных людей! Пусть же всегда будет подобная удача в народном деле!
Все вокруг одобрили эти слова. Громкие возгласы поддержали мудрые слова старого акына.
Вечером в юрте Абая стали появляться люди, которых ни Абай, ни его друзья не предполагали увидеть у себя. Это были те самые волостные с цепями и бляхами на груди, которые утром встречали губернатора. Первым вместе с пятью-шестью аткаминерами пришел Ракиш. За ним пришли трое-четверо волостных Усть-Каменогорского уезда, потом двое — из Зайсанского.
Все они заискивающе здоровались, повторяя один за другим: «Пришли выразить вам свое почтение», «Не могли прийти раньше, были заняты встречей начальства, только сейчас можем пожелать вам удачи!», «Все время ожидали вашего приезда, наконец-то выпало счастье повидаться с вами!»
Для них и советник был уже не советник, и уездный — не уездный: всех из заслонил Абай. Казалось, он внезапно превратился в какого-то властелина, который при желании мог возвысить человека или обратить в ничто.
Абай холодно отвечал на приветствия. Гостям подали кумыс. Глядя перед собой и как бы не замечая всех этих людей, Абай вдруг заговорил, словно думая вслух:
— Глубоко несчастен наш казахский народ. Нужд его не перечислить, несчастий его не рассказать. Его притесняют и городские начальники — донимают насилием, разоряют взятками. Всякие толмачи и чиновники держат за горло. А дома, в степи, его кусает за ноги свора волостных, аткаминеров, беков с биями, всяких вельмож. Есть ли среди них такие, кто кроме своего личного богатства, силы и благополучия думает о нуждах народа, о его благосостоянии?
Абай перевел теперь взгляд на сидящих вокруг него волостных.
— Высокое положение не всегда зазорно. Деятельность, направленная на благо, должна облагораживать человека. Этого не дано тем, кто по-собачьи лижет подметки начальству. Если народ будет тебе верить, то признание твоих достоинств придет само и окрылит тебя. На вершину высокого утеса взлетает орел, случается, что заползает туда и змея! Кому из них подобны вы, сидящие здесь люди? Если не можете быть орлами, то, значит, стали змеями для своего народа?
Слова Абая ошеломили волостных, словно тяжелый удар плеткой по лицу. Не было ни одного, кто бы не понял их. Такой открытый вызов, такая горькая правда, сказанная прямо в глаза, словно отняли язык у этих мастеров удара из-за угла. Абай встал, накинул чапан и, позвав Баймагамбета, вышел из юрты.
Слух о том, что Абай осрамил волостных, пришедших выразить ему свое почтение, мгновенно разнесся по всем юртам аткаминеров, приехавших на съезд. Ракиш первым побежал к Уразбаю жаловаться. Тот стал издеваться над ним:
— И поделом! Так всем вам и надо, не будете больше лебезить перед Абаем. Жаль, мало он вас отхлестал! Ну что же, идите опять к нему, унижайтесь, еще и не то увидите. Абай вам себя покажет! — Уразбай весь трясся от бессильной злобы.
Казалось, всю ту паутину, которую он сплел вокруг Абая, тот нынче разорвал одним движением. Нечего было больше и думать, что на этом съезде удастся оклеветать и опорочить Абая, столкнуть его в пропасть.
Успокаивала, правда, одна мысль: все эти волостные и аткаминеры, которых Абай так беспощадно обвинил и оскорбил, теперь вступят в открытую вражду с ним. И если сегодня на шербешнае Абай не будет уничтожен, то Уразбая не оставляла надежда, что это может случиться в другое время.
3
Зима задержалась. Хотя наступила уже середина декабря, настоящие холода еще на начинались. Дни стояли солнечные, теплые, зима напоминала о себе лишь выпавшим недавно пушистым снегом и порой легкими утренними заморозками.
На зимовке Абая в Акшокы убой скота начали только на днях. Айгерим хлопотала в кладовых, торопила Злиху и Баймагамбета:
— Хоть бы успеть все кончить до приезда гостей! Ведь нашему Абаю-ага безразлично, что в хозяйстве все вверх дном. Нахлынут гости — он не даст отпустить их без угощения!
Опасения ее подтвердились: вдруг со всех сторон стали съезжаться гости. Из Байгабыла приехал со своими молодыми друзьями Акылбай, из Мукыра ожидали Кокпая с двумя товарищами, из родов Керей и Топай по приглашению Абая приехали прославившиеся за последние годы акыны Уаис и Бейсембай.
Айгерим, которая только что шутливо сетовала на возможность такого нашествия, когда гости действительно понаехали, приняла их с обычным радушием и приветливостью.
— Ну вот, нужно было мне говорить о гостях! Как раз их и накликала, — смеясь, говорила она Злихе. — Что же, теперь надо принимать их как следует!
Всю минувшую осень и начало зимы акыны сочиняли новые поэмы. Абай с любопытством расспрашивал приехавших, кто из них что написал. Магаш всю осень работал тут, в Акшокы, воспевая подвиг раба, отомстившего на берегах Нила жестокому плантатору. Об этой поэме узнали и в окрестностях Акшокы. Ее переписали, выучили наизусть и теперь распевали и в Корыке, и в Шолпане, и в Киндыкте.
К этому времени поэма Дармена «Енлик и Кебек» была уже широко известна. Дармен пел о казахах, а Магаш в своей поэме «Медгат и Касым» говорил о народе, казахам совершенно неизвестном. Посвященные разным эпохам и двум народам, далеким друг от друга, обе поэмы все же казались ростками, выросшими из одного корня: и та и другая воспевали справедливость и человеколюбие, с гневом клеймили насилие и зло.
Нынешняя осень оказалась удивительно плодотворной. Этому была своя причина. Вернувшись с чрезвычайного съезда в Кара-Мола, Абай напомнил молодым акынам о той беседе, которая была у них с Павловым и Абишем минувшим летом. Он расспрашивал каждого, чем увлечена его поэтическая мысль, о чем хочет он спеть, как собирается ответить на слова Павлова и Абиша. Кое-кому он сам подсказал темы новых поэм.
Айгерим не знала, что Абай тогда же пригласил акынов съехаться в Акшокы с новыми работами и указал срок: «Когда начнут зимний убой, приезжайте ко мне с законченными поэмами».
И теперь, выполнив желание Абая, акыны читали и пели свои новые поэмы и песни. Абай еще раз прослушал «Медгат и Касым» Магаша, новый пересказ «Козы-Корпеша», сделанный Бейсембаем по его поручению, дарменовскую поэму «Енлик и Кебек». У Дармена была в запасе еще одна новая поэма, о которой никто не знал, но он берег ее напоследок, ожидая приезда всех.
В сумерки, когда акыны собрались у Абая и Айгерим, в комнату вошли новые гости. Это были Кокпай и Базаралы — они встретились недалеко от аула Абая.
Неожиданное появление старого друга обрадовало Абая. Он встретил Базаралы с приветливым радушием, посадил рядом с собой.
— Путь был далеким, ты, наверно, устал, Базеке, устраивайся поудобнее!
И Абай, сняв с высокой кровати две большие подушки, заботливо подложил их под локоть гостя.
Базаралы нынче был весел и оживлен. На этот раз он заехал к Абаю не по делу, а просто для того, чтобы послушать новые песни акынов, о чем сказал ему при встрече Кокпай. Устраиваясь поудобнее на толстом атласном одеяле, которое расстелили на полу нарочно для него, он шутливо ответил:
— Конечно, я должен был бы устать, но на пути такое повидал, что не заметил и скучной дороги.
— Ну, так рассказывай, — видишь, все готовы тебя слушать! — сказал Абай и облокотился на низкий круглый стол, стоявший перед ним.
Действительно, необычно веселый вид Базаралы обратил на себя внимание всех. Все с любопытством ждали, что он расскажет.
Базаралы не заставил себя ждать. Он приподнялся на подушках. Лицо его, ярко освещенное светлой лампой, горевшей на столе, еще больше оживилось. В комнате было тепло. Базаралы уже отогрелся, на бледных щеках выступил легкий румянец.
— Что же это выходит? — сказал он смеясь. — Я приехал сюда послушать акынов, а оказывается, они хотят слушать меня!
— Акыны охотно уступают вам очередь, Базеке, — ответил за всех Магаш. — Рассказывайте, пожалуйста!
— Я сел на коня еще до зари, от подножий Чингиза путь далек, — начал Базаралы. — Когда подъзжал к Кольгайнару, было уже светло. Еду по землям Жумана и вдруг на одном холмике увидел такой сбор, который ни во сне не приснится, ни в бреду не привидится. Как бы вы думали, кто собрался на этот съезде? Четыре козла и Жуман…
Все невольно рассмеялись. Базаралы продолжал:
— Все четыре козла привязаны к кусту, а он сидит против них, как мулла перед учениками, и поучает, помахивая палкой. Так увлекся, что и топота моего коня не услышал. Я подъехал поближе — дай, думаю, посмотрю, что это за необычайный съезд у иргизбаев?
Теперь все уже громко расхохотались, засмеялся и Абай, колыхаясь всем своим грузным телом. Но на лице Базаралы не было и тени улыбки.
— Ну, я решил, что грешно не подслушать. Надо же понабраться ума, ведь у иргизбаев Жуман, пожалуй, самый старший! Я тихонько слез с седла и подкрался сзади…
И Базаралы, то и дело прерываемый взрывами смеха, рассказал, что он услышал.
Оказывается, нынче утром, когда Жуман подъехал к своему стаду, Мескара пожаловался отцу на этих четырех козлов, которые не давали козам пастись. Жуман, обругав пастухов, что они не надели на козлов вовремя фартуки, приказал изловить всех четырех и привязать их. То, что ни один из них, видимо, не чувствовал за собой вины, возмутило Жумана, и он привычно многословно начал ворчать. Козлы слушали, наклонив головы, тупо глядя на бороду Жумана и целясь его боднуть. Это окончательно возмутило Жумана, и он разразился бесконечной болтовней, упрекая козлов и порознь и всех вместе.
Когда Базаралы подсел за его спиной, Жуман говорил, размахивая своей длинной палкой:
— Эй, вы, четыре дурных козла, попробуйте сказать, что вы не мутите всего стада! Бесстыдники, постыдились бы вы бога! Чего ты на меня уставился, черный дурак? Ты из них самый молодой — значит, должен быть и самым скромным. А ты первый смутьян, первый развратник, негодяй!
И Жуман стукнул палкой по рогам молодого черного козла. Тот в ответ яростно затряс бородой и рванулся на привязи, пытаясь боднуть Жумана.
— Вон ты какой! Поглядите-ка на него, выходит, он еще и первый драчун! Молод, молод, а вон какую бородищу отпустил, впору самому Азимбаю!
И Жуман, обрадовавшись своей удачной остроте, сам засмеялся, покряхтывая от удовольствия. Стоило ему назвать черного козла Азимбаем, как и остальные три превратились в его воображении в людей.
Рядом с молодым черным стоял старый рыжевато-желтый козел, его отец. Поэтому он получил имя Такежана. Серый козел, давно известный своей хитростью, был назван Жиренше, а бурого огромного козла с высокими острыми рогами, злобного и драчливого, Жуман окрестил Уразбаем. И тогда началось то, что заставило Базаралы смеяться всю дорогу от Кольгайнара до Акшокы: Жуман начал обличать неукротимый нрав всех четырех козлов — Азимбая, Такежана, Жиренше и Уразбая — и склонность их ко всякого рода смуте. Старик, словно на холме суда, произнес целую обвинительную речь. Выяснилось, что с утра до вечера эти четыре смутьяна не дают покоя мирным козам, мешают им пастись, разбивают стадо. Укоряя козлов, Жуман находил все более гневные и горькие слова. И, все повышая голос, он громко обличал Уразбая, Жиренше, Такежана и Азимбая в склонности к разврату, любви к насилию, перечисляя их преступления, и дошел до того, что даже вспомнил Абая.
— Сколько проклятий народа на вашей совести! Прав Абай, когда обвиняет вас, негодяев, смутьянов, насильников! Подождите, будет и на вас управа, понесете господню кару, поплатитесь за слезы несчастных!..
Базаралы рассказывал это, искусно подражая и голосу и повадкам Жумана. Слушатели давно уже хохотали без умолку; Абай задыхаясь, вытирал глаза.
Базаралы закончил:
— Семьдесят пять лет болтал попусту наш Жуман-пустослов, наконец все же доболтался до чего-то путного. Ну, скажите сами, кто из ваших иргизбаев додумался до таких справедливых слов? Вот вам и Жуман-болтун!
— Базеке, а видел он вас? — спросил Акылбай.
— Беда в том, что едва начал он говорить так толково, меня схватил кашель. Он оглянулся и как закричит: «Ты откуда взялся, негодный сын Каумена?» И уж не знаю, растерялся ли старик, или просто нрав его взял верх, только он вдруг опять стал самим собой. Показал на гору Догалан и спрашивает меня: «Вот ты много в жизни повидал, в далеких краях был. Скажи-ка, сколько, по-твоему, весит та гора?»
Снова раздался взрыв смеха. Базаралы продолжал:
— «Ой, Жумеке, говорю, вот на это-то у меня ума не хватило, не знаю, что сказать. А как вы думаете?» Он надулся от важности и говорит: «Глаза — весы, а разум — судья: по-моему, вершина Догалана весит пять тысяч пудов…»
Молодежь долго еще продолжала подшучивать над болтливым стариком. Айгерим и Злиха начали приготовления к чаю. За круглым столом все не смогли бы уместиться — его вынесли и прямо на ковре постелили большую скатерть. Круг гостей широко раскинулся, началось чаепитие.
Пора было начинать песни и чтение стихов. Базаралы, как самый старший среди всех, взял домбру и протянул ее Кокпаю. Самовар, уже почти опустошенный, вынесли, чтобы вскипятить вновь, и Кокпай начал петь свою поэму.
Она оказалась очень длинной. Кокпай восхвалял в ней деяния хана Аблая. Самовар уже успел снова закипеть, его внесли в комнату, а Кокпай все еще продолжал перечислять дела знаменитого хана. Потом он перешел к славословию предков Аблая, но тут Базаралы похлопал увлекшегося акына, по колену. Подняв глаза на Абая, Кокпай заметил, что тот слушает поэму со скучающим видом.
Кокпай прервал пение и опустил домбру. Базаралы быстро заговорил:
— Не осуждайте меня, жигиты, что я первым начинаю разговор. Кроме меня, все здесь — акыны, начиная с Абая. Но, как сказал Хожа Насреддин: «Когда кругом много куриц, нужен хоть один петух». И раз я нынче только один слушатель среди вас, певцов, то я и скажу свое мнение.
Абай одобрил его намерение. Базаралы, недовольно поглядывая на Кокпая, начал:
— Ну что ты пел, Кокпай? Величаешь Аблая «драгоценным ханом», «мудрым», готов быть жертвой его духу. Покончил с Аблаем, перешел к его предкам. Если б я тебя не остановил, ты повел бы нас на поклонение к их могилам. Сказать по правде, не нравится мне все это, Кокпай! Разве мало прославляли ханов и султанов невежественные акыны? Они и прошлые времена истоптали и загадили своими песнями. Не лучше ли нам забыть про это? Не могу я слушать такую поэму после стихов Абая. Не идет она мне в сердце. Может быть, я заблудился, иду неверным путем? Скажите мне сами!
Молодые акыны с первых слов Базаралы внимательно слушали его. Абай задумчиво покачивал головой в знак согласия. И когда Базаралы замолчал, Абай заговорил:
— А ведь эти слова справедливы и верны. Наурызбай, внук Аблая, многих толкнул в беду и в горести. И несчастья его — только кара судьбы за бедствия, которые сам он причинил людям. Не следовало тебе так оплакивать его! А за что ты прославляешь потомков Аблая? Хвалишь за то, что они воевали с русскими? Называешь их заступниками казахского народа? Ложь все это! Легенды о них — яркие обманчивые краски на гнилом дереве. Никогда такие люди не были заступниками казахского народа! Наоборот, они были маленькой кучкой, продававшей и предававшей народ, пеклись только о своем султанстве, дрожали за свое ханство. И если нынче кто-нибудь из нас сеет вражду между казахами и русскими, он плохую услугу оказывает казахскому народу. Казахи не увидят в жизни света, пока не поймут всей мудрости тех великих идей, которые несут нам лучшие сыны русского народа. К истине нет иного пути кроме этого. А твоя песня ведет назад, к мрачной, дикой старине. Такая песня лежит камнем на моем пути, препятствует моим стремлениям. Не могу я принять этой песни ни душой, ни умом! — закончил Абай, сурово глядя на Кокпая, и потом повернулся к остальным. — По счастью, не все мы складываем такие песни. Но то, что сказал сейчас Базаралы, и к нам относится.
Чай остывал, никто из молодежи не притронулся к своей пиале. Все молча ждали, что еще скажет Абай.
Он, помолчав, заговорил негромко и медленно, хотя побледневшее его лицо выражало сильное волнение.
— Вы пишете о героях батырах, о красавицах девушках, о всевластной любви, — начал он, — но этого мало. Безмерно мало. Это стихи не о жизни и ее горькой правде. Это стихи о сновидениях, сладких мечтах и грезах. И не вы одни в этом грешны. Многого не высказал я сам. Кругом нас и над нами нависла черная, зловещая мгла. Дни наши— в горести и в беде, лютое зло торжествует. Словно увал за увалом, лежит на нашем пути невежество, злоба, насилие. А мы не помогли народу увидеть свой путь, не зовем его на борьбу. Лучшие сыны русского народа, отважные в мыслях и решительные в делах, находят эти пути, показывают их народу. Мы же, акыны, в беспечном покое поем лишь песни забавы. Нет, не борцы мы! Не сумели стать впереди каравана. Не сумели пробудить народ к борьбе. Вот на что нужны ваши силы! Ищите, берите пример у того нового, чем живут сейчас новые люди в России! Вот главнейшее наше дело!
Он замолчал. Слова его ясно показали, что ни одна пропетая им за эти дни поэма не получила его одобрения.
Кокпай, жалуясь на головную боль, пошел к дверям. Глядя ему вслед, Абай понял, что он уходит в обиде, и это вызвало в нем раздражение. Остальные акыны сидели молча.
Дармен с трудом сдерживал волнение. Наконец обычная смелость заставила его заговорить, хотя он с опасением посматривал на сурово сдвинутые брови Абая.
— Абай-ага, у меня есть одна новая песня. Пока я не читал ее никому. Что, если бы вы послушали ее и сказали, на правильном ли я пути?
Абай с надеждой посмотрел на Дармена.
— Спой! Спой, мы послушаем!
И Дармен начал нараспев читать свою поэму. От сильного волнения он побледнел, глаза его сверкали.
С первых же строк поэмы все стали слушать с нарастающим вниманием. Поэма начиналась с описания знакомых всем урочищ Азбергена и Шуйгинсу. Непроглядная поздняя осень, грозящая людям тяготами и бедствиями, зловещие тучи окутали небо. Аул жадного бая стоит еще на осеннем пастбище. В дырявом шалаше на краю аула иссохшая больная мать крепко прижимает к себе двух полуголых дрожащих малюток. Это Асан и Усен. Тут же горемычная бабушка Ийс. В углу лежит пастух Иса, целый день проходивший вокруг байского стада и продрогший до костей.
Ветер все свирепеет. Начинается буран. Жестокий бай и его злодей сын избивают Ису. Больного, закоченевшего, они гонят его за стадом, увлеченным бураном. Леденящий ветер, то ливень, то снег. Сквозь бурю пробирается Иса, спасает стадо. Вдруг волк — один, другой… Целая стая… Отважная борьба смелого жигита…
Отчаянная схватка безоружного человека с матерым волком…
Все в юрте слушали теперь Дармена затаив дыхание, боясь шевельнуться. Порой были слышны прерывистые вздохи Айгерим и Злихи. Люди и события этой необычайной поэмы были близки и знакомы слушателям — еще так недавно все это волновало их в самой жизни. Теперь искусный поэт рассказывал об этом словами, острыми, как кинжалы, проникающими в самое сердце, покорял людей чувством, пылающим, как огонь.
Неслыханную отвагу проявил Иса, любимый брат, неоценимый сын. Но зачем, ради кого? Ради бесчеловечных, алчных хозяев? Защищая их богатство? За кого боролся с волком отважный батыр? За волков в человеческом обличье! Зачем ты это сделал, родной?
И вот Иса болен. Недуг все тяжелее. Притихли дети. Стонут в муках жена и мать. А в доме нищета, в семье голод. Горькое горе вместе с болезнью разрывает грудь Исы. Сиротами останутся малютки, нищенками — старая мать и тающая на глазах вдова. Не с людьми, а с волками оставляет он их.
Айгерим не смогла сдержать рыданий. Слезы выступили на глазах Абая. Дармен продолжал, не замечая, что плачет и сам.
… Предсмертный бред. Последние проблески мысли. Снова идет борьба с волком. Нет, не с волком — с Азимбаем схватился Иса. И в этой последней схватке с вечным врагом гибнет Иса. Погас жаркий пламень могучего сердца. Бесцельно исчезла великая сила. Человек умер.
В ужасе плачут Асан и Усен. Недетская скорбь в их чистых глазах. Их молящие взоры устремлены на людей, на тех, в ком есть человеческое сердце, человеческая совесть… Люди, помогите им!..
Дармен не смог дочитать конца своей поэмы. Закрыв глаза платком, он замолчал. В комнате стояла глубокая тишина. Казалось, будто все только что навеки попрощались с Исой, умершим тут, у них на глазах.
Абай тоже низко опустил голову, не подымая наполненных слезами глаз. Дыхание его прерывалось, плечи вздрагивали. После долгого молчания он овладел наконец собой и сказал коротко и отрывисто:
— Некрасов… Голос Некрасова… Он так же правдиво раскрывал душу обездоленного русского крестьянина… Пусть не я, пусть другой первым из нас стал на его путь… Будь счастлив на этом пути, брат мой Дармен! — взволнованно закончил он, поразив всех таким обращением к юноше.
Абай верно угадал исток последней поэмы Дармена. Этой осенью, перебравшись на зимовку в Акшокы, Абай часто и много читал Некрасова. Бывали дни, когда, увлеченный русским поэтом, Абай пересказывал его поэмы Дармену, строка за строкой переводил некоторые его стихи. Он объяснил юноше, что самые правдивые и волнующие слова о горькой доле русских крестьян нашел лишь этот акын. Слушая некрасовские стихи, Дармен снова вспомнил свои мысли, с которыми он ласкал маленьких сирот Исы. И в эти же дни он начал свою поэму.
Задумчиво глядя на Дармена, Абай унесся мыслями далеко. Его поэтический взор видел перед собой голую вершину высокого уединенного утеса. На такой вершине кладет свои яйца могучая и сильная орлица. В народе говорят, что, положив их зимой, она оставляет их на морозе до весны. Ледяной ветер обвевает лежащие на голой скале яйца. Не выдерживая мороза, лопается одно, потом второе, третье. Но четвертое порой выдерживает это испытание стужей, и тогда в теплый вешний день орлица начинает греть своим телом уцелевшее яйцо. Бывают годы, говорит народ, когда у орлицы не остается в гнезде ни одного яйца, и она летает до осени, одинокая, бесплодная.
Не так ли и с ним, с Абаем? Многие ли из его птенцов выдержали испытание суровой стужей жизни? Разве мало яиц лопнуло? Вот Шубар: из этого лопнувшего яйца выползли гадкие черви — дети гнили, несущие духовную заразу другим. Не таким ли будет и Кокпай, который ушел сейчас в самолюбивой обиде, не выслушав даже стихов Дармена? Кто из сидящих здесь юношей станут теми орлятами, о которых мечталось всю жизнь? Может быть, и они рано или поздно не выдержат гнета жизни? Единственная мечта: хотя бы один остался. Мечта страстная, самозабвенная, как мечта матери-орлицы.
«Не Дармен ли это? Не он ли? Может быть, суждено тебе долететь до пределов, до которых доносили меня мои слабеющие крылья. Может быть, суждено тебе промчаться дальше, в заветные края, которых сам я не знаю… Лети же дальше, лети вперед, в бескрайнюю даль. Познай больше, чем постиг я. Познай для того, чтобы повести в те края народ твой, потомков твоих. Ты на верном пути. Ты сам почуял его своим правдивым сердцем. Желаю тебе достичь тех пределов. Лети, Дармен!»
Часть четвертая
ВО МРАКЕ
1
Сытые вороные кони понесли. Отвалившись на спину, кучер изо всех сил натягивал вожжи. Но легкая пароконная тележка катилась по краю крутого яра, нависшего над Иртышом, так стремительно, что, казалось, вот-вот сорвется в воду. А река была еще далеко. Впереди светлела широкая поляна. Кучер полегоньку перевел коней на спокойную рысь и направил их по ровной дороге вдоль высокого берега.
Река дышала вечерней прохладой, особенно приятной после июньского дневного зноя. Истомленная жарой, отдыхала безмолвная степь. Сверкая звездами, застыл в ленивой дремоте просторный Иртыш.
Вскоре путники увидели черный густой лес Полковничьего острова, — непроницаемой стеной он заслонял от них огни Семипалатинска. Но уже явственно слышался отдаленный собачий лай. Он раздавался все громче, и вскоре можно было уже отличить густой, осипший бас крупного цепного пса от заливистого визга маленькой дворняжки.
Наконец мелькнули и первые приветливые огоньки степного города. Проехав по улице мимо саманных домов с плоскими крышами, кучер остановил лошадей у невзрачных ворот низкого крытого двора, проворно спрыгнул с козел и забарабанил кнутовищем в глухую калитку. Вылез из тележки и седок — высокий грузный человек.
На стук вышла женщина. В узкую щель ворот она пыталась разглядеть приезжих. Но в ночной темноте трудно было что-либо разобрать.
— Кто там? — бойко крикнула женщина. Кучер опустил кнутовище.
— Это я, Баймагамбет! Абай-ага приехал!
Тем временем Абай, сняв легкий чапан, вытряхивал из него дорожную пыль.
— Ойпырмай! Абай-ага!
Женщина мигом распахнула ворота, и темные силуэты двоих мужчин позникли перед ней на фоне звездного неба.
— Здравствуй, Дамежан! — раздался знакомый звучный голос Абая. — Как живешь? Дети здоровы?
— Да, да! — торопливо ответила Дамежан и в свою очередь спросила о семье Абая.
Она извинилась, что встречает гостя в темноте, и побежала за светильником, громко постукивая по мощеному двору низкими каблуками кебисов.[62]
Через минуту она вернулась вместе со своим мужем Жабыкеном, припадавшим на левую ногу, — он был хром. Следом за ними появился их старший сын Жумаш, пучеглазый парень с длинной, тонкой шеей.
В слабом свете светильника Абай разглядел внутренность крытого утепленного двора, построенного не по-городскому. Спасаясь от суровой зимы и морозных ветров, хозяева перегородили его саманными стенами, устроив узкие переходы и тесные закоулки. В самом дальнем углу виднелась дверь, которая вела в дом.
— Хазр, хазр… — тихонько приговаривал Баймагамбет, успокаивая коней, которые нетерпеливо грызли удила, постукивая копытами о землю.
Пропустив Абая вперед, он ввел лошадей во двор. Слева от ворот стояла широкая телега. На ней спали какие-то люди, видимо, гости из степи. В глубине двора две лошади, уткнув морды в низкие саманные ясли, с громким хрустом жевали сочную зеленую траву.
Идя в дом, Абай поздоровался с лежащими на телеге. Ему никто не ответил.
— Посвети-ка сюда! — попросил он Дамежан.
Женщина подняла светильник. Двое мужчин вытянулись бок о бок, задрав лохматые с проседью бороды. У одного она курчавилась, у другого торчала лопатой. Третий лежал поперек телеги в ногах. На секунду он приоткрыл глаза, сонно огляделся, щурясь на свет, и тут же повернулся на другой бок. Он был заметно моложе своих спутников, но борода у него была такая же густая и лохматая.
Абай усмехнулся и отошел от телеги.
Баймагамбет с помощью хозяина быстро распряг лошадей, и все пошли вслед за Дамежан по узкому проходу в дом. У самого входа женщина пропустила Абая вперед, чтобы он первым переступил порог.
На карнизе низенькой печки ярко горела большая лампа. Дамежан проворно разостлала на полу корпе, накидала подушек, чтобы гостям было удобно сидеть, поставила перед ними низкий круглый стол, перенесла на него лампу. В комнате сразу стало уютнее.
Присев ближе к двери, Дамежан осведомилась, почему так поздно приехал дорогой гость.
— Задержался в дороге! — ответил Абай. — Твой дом с краю, вот и решил остановиться у тебя. Только ты хлопочешь напрасно. Нам достаточно чаю. Мы устали и лучше ляжем пораньше.
Но Дамежан с улыбкой качнула головой, показав ровный ряд крупных белых зубов.
— Раз вы приехали в мой дом, Абай-ага, позвольте уж мне самой распорядиться.
Абай залюбовался блеском темных глаз Дамежан, бездонной глубиной ее зрачков, подчеркнутых ясностью белков. Настоящие глаза верблюжонка — такие же огромные, бархатные, чистые.
Не в пример молчаливому своему супругу словоохотливая Дамежан легко сходилась с людьми и умела поговорить с любым гостем. Главой дома была она, а не муж. Подсев к столу, хозяйка велела сыну поставить самовар, а когда он ушел — попросила мужа наколоть дров для казана.
Абаю нравилась распорядительность Дамежан. Улыбаясь, он спросил:
— А что это за бороды, которыми ты нагрузила телегу? Почем думаешь продавать на базаре?
Дамежан весело рассмеялась, — снова зубы ее блеснули, матовое лицо слегка зарумянилось. Тряся рыжей бородой, засмеялся и Баймагамбет. Фыркнул и длинношеий Жумаш, возившийся в передней комнате около самовара.
— Загляделся на бороды, — добавил Абай, — а не разобрал, чьи они. И с чего такой урожай на бороды, Дамежан? В самом деле, кто это к тебе пожаловал?
Почетный гость говорил уже почти серьезно, но все еще смеялись.
Слобода, в которой решил заночевать Абай, называлась Бержак, а тот ее конец, где находился двор Дамежан, носил имя Бас-Жатак — Верхние Жатаки,[63] потому что был расположен выше города. Здесь расселились казахи кочевых аулов, пришедших в Семипалатинск искать счастья. Во всем городе не было людей, менее приспособленных к городской жизни, нежели жители Бас-Жатака. Сделавшись горожанами, они по-прежнему придерживались старинных степных обычаев.
После дороги Абай спал на удобной постели крепко и проснулся поздно. Он чувствовал себя хорошо отдохнувшим и сел завтракать с удовольствием, не торопясь. Сразу же в комнате появились те самые «бородатые», о которых шел разговор ночью.
Бородачи степенно поздоровались и заняли добрую половину большого круглого стола, за которым расположился Абай.
Дамежан в ослепительно белом кимешеке и шарши[64] хлопотала возле большого, до блеска начищенного самовара. Ловко и быстро она разливала густой, крепкий чай, и крупные серебряные серьги подрагивали в ее ушах. Напеченные для Абая оладьи возвышались румяной горкой на блюде среди огромной груды баурсаков.
Приезжие, не дожидаясь, когда начнет есть Абай, принялись уплетать оладьи. Дамежан забеспокоилась и принялась учтиво потчевать:
— Абай-ага! Кушайте оладьи, пока горячие!
Бородачи оказались сородичами Абая: это были известнейший болтун из рода Иргизбай — Жуман и крикун Мака из аула Усер. Прислуживал им старший сын Жумана, сероглазый Мухаметжан, обладатель курчавой, как у отца, темно-каштановой бороды. Мухаметжан, подобно своим братьям, походил на отца не только внешностью, но и болтливостью. Недаром люди различали жумановских сыновей, как лошадей, по возрасту: «Стригун-болтун», «Трехлетка-болтун». «Пятилетка-болтун». За Мухаметжаном укрепилась слава Пятилетки-болтуна, — и он ее честно оправдывал.
Узнав о приезде Абая, он сгорал от нетерпения рассказать земляку последнюю городскую новость. И хотя неприлично было начинать разговор прежде чем заговорят старшие, Пятилетка-болтун не выдержал. Отправив в рот за два приема полдюжины оладий и запив их ароматным, розоватым от густых сливок чаем, он обратился к Абаю.
— Вы говорите, народ в аулах живет хорошо. А не слышали, какая беда случилась в городе?
Глаза Дамежан, сверкнув от возмущения, остановились на Мухаметжане.
— Какая беда? — встревожился Абай. — О чем он говорит?
— Правду говорит! — промычал Мака. — Беда пришла.
Абай поднял глаза на Дамежан, ее он считал толковее этих мужчин.
— Что он такое говорит?
Но мужчины помешали Дамежан ответить. Они заговорили, перебивая друг друга:
— Страшная болезнь открылась в городе!
— Люди мучаются животом!
— На обоих берегах Иртыша мрут люди как мухи!
— Это похуже, чем коровья чума!
— Такого мора никогда еще не было!
— Горожане бегут из Семипалатинска!
Мака, более сдержанный, сказал, обращаясь к Абаю:
— Когда мы услышали о твоем приезде, то никак не могли понять, зачем ты прибыл сюда в такое время.
Баймагамбет недоуменно поднял брови и, в упор разглядывая бородачей, спросил:
— А вы-то сами зачем здесь?
— Мы поедим и сейчас же уедем. Подальше от этой заразы.
И бородачи, снова перебивая друг друга, заговорили о несчастье, обрушившемся на город.
Мака и Жуман были старше и, следовательно, по их мнению, благоразумнее Абая. Они настойчиво советовали ему покинуть Семипалатинск побыстрее, пока не поздно.
Абай пропустил советы сородичей мимо ушей и вопросительно глянул на Дамежан. Ей не хотелось пугать почетного гостя. Действительно, за последнюю неделю несколько человек, болевших желудком, умерло, но Дамежан высмеивала преувеличенные страхи гостей.
— Какой мор? Где это люди гибнут как мухи? Отрастили бороды, а болтаете, как дети малые. Зачем пугать людей понапрасну?
Слова Дамежан обидели Мухаметжана. Он упрямо возразил:
— Я правду говорю, не к чему мне обманывать. Городские жатаки в каждом доме прячут больного. Но… больного-то скрыть можно, а вот как быть с покойником, — его ведь хоронить надо. Лучше бы ты сказала обо всем Абаю сразу, когда он приехал. Зачем было тянуть до утра?
В красивых глазах Дамежан сверкнул сердитый огонек. На тонких губах заиграла усмешка, в которой были и веселость и раздражение: болтуны, видимо, задели ее за живое.
— Бог дал нашему роду Иргизбай не только мудрецов, но и глупцов вроде тебя. Усталый гость приехал в полночь, а я бы его встретила у ворот: «Поворачивайте оглобли, в городе заразная болезнь». Выходит, я жадная собака — дорогому гостю самовар чаю да кусок мяса пожалела!
Абай слушал Дамежан, одобрительно кивая головой, взглядом подбадривая ее. Мухаметжан хотел было возразить ей, но Абай резко прервал его:
— Не зря тебя прозвали Пятилеткой-болтуном. Мелешь, когда уже и молоть нечего!
Смелость Дамежан понравилась Абаю. Он впервые слышал ее в споре с сородичами. Держалась она независимо — вся в отца, Изгутты. Не эта ли смелость толкнула в свое время Дамежан в объятия ее незадачливого мужа? Трудно было понять, почему она, красивая девушка, увлеклась хромоногим, низкорослым торговцем, привезшим в аул на старенькой телеге свой нехитрый мелочной товар: зеркальца, расчески, иголки, нитки. Как бы там ни было, а однажды ночью Дамежан сбежала с ним в город. С тех пор она жила с молчаливым мужем, безропотно терпя нужду, растила детей. Их скромный дворик стоял на окраине Бас-Жатака — удобном месте для остановки караванов, идущих из степи в Семипалатинск. Заезжие люди быстро замечали, что опорой дома была Дамежан. Она умела постоять и за себя и за своих домочадцев, никого не давала в обиду. Это было хорошо известно всем соседям, и в Бас-Жатаке к Дамежан относились с большим уважением.
Однако, хотя Дамежан и отбрила Мухаметжана, она и сама не отрицала, что люди в городе умирают от какой-то заразной болезни. Абай призадумался: как быть? Он приехал по важному и спешному делу. Следовало бы посоветоваться с друзьями.
Напившись чаю, Абай написал по-русски записку и подозвал Баймагамбета.
— Поезжай к Федору Ивановичу Павлову и, если он свободен, привези его сюда.
Одновременно с Баймагамбетом поднялись Мака и Жуман, решившие перед отъездом из города побывать на базаре.
Ребята сидели за чаем, не проронив ни слова, только поблескивая черными своими глазищами, и неотрывно глядели на мать, затем, повинуясь молчаливому ее приказанию, стали собираться на работу и тихонько вышли один за другим.
Ушел старший — Жумаш, долговязый парень, ставивший ночью самовар, а за ним и младшие его братья — пятнадцатилетний Салимжан и двенадцатилетний Алимжан.
Дома с Абаем остались только Жабыкен и Дамежан.
Абай поинтересовался, как живут его сородичи в Бас-Жатаке, и Дамежан не стала скрывать тяжелой нужды, не покидавшей ее дом. Много ли может дать молока одна корова, да и его приходится относить на базар. Вся семья — пять человек — трудится с утра до позднего вечера, а добра нажить так и не удалось. Сыновья весной обзавелись лодкой и перевозят жителей слободы в город через Иртыш и Карасу. В свободное время они косят траву для коровы на островах, собирают в лесу хворост на топливо. Отец и мать утешались тем, что их дети все-таки работают дома, а не батрачат у чужих людей.
— Младший, Алимжан, тоже помогает братьям! — добавил муж Дамежан. — Ему двенадцать лет, а он уже гребет одним веслом.
— Парни зарабатывают гроши, но их родители приносят в дом и того меньше, — сказала Дамежан.
Она шила тымаки,[65] ермолки, тюбетейки, а Жабыкен продавал их на базаре. Изредка Дамежан получала заказы от состоятельных жительниц Бас-Жатака: вышить серебряными или золотыми нитками узоры на кимешеках и камзолах, скроить платье. Она была мастерица на все руки и долгое время кормила семью своим рукодельем. Женщины Бас-Жатака высоко ценили ее вкус и уменье, но заработок был куда меньше ее славы и уважения заказчиц.
Дамежан рассказывала об этом с горькой усмешкой, а Жабыкен исподлобья поглядывал на Абая. Ему хотелось, чтобы почетный гость похвалил свою дальнюю родственницу.
Абай оценил упорство Дамежан и ласково заговорил о том, что значит хорошая мать в семье. Дамежан усмехнулась.
— Вот так мы и живем, тянем лямку день и ночь. Все, что добудем вместе, сразу, как курочки, и поклюем. Заработка хватает только на еду да раз в год рубашку сменить. Одним утешаемся, что не протягиваем руку у чужого порога, да еще тем, что есть на свете люди и победнее нас, вовсе голые да голодные. А потом еще эта болезнь… зараза…
Заметив беспокойство во взгляде Абая, Дамежан добавила:
— На той стороне реки меньше умирают. Но Жабыкен покачал головой:
— И за рекой, на окраинах, и в затоне много больных! Дамежан недовольно поправила его:
— Мы должны говорить только о том, что видим своими глазами и что нам самим известно. Не люблю слушать сплетни и не люблю, когда пугают людей.
Абай кивнул одобрительно.
— Да, да, расскажите-ка, что творится тут поблизости и что вы видели сами. Значит, казахи в Бас-Жатаке болеют и умирают?
Дамежан утвердительно кивнула головой, а Жабыкен добавил:
— С каждым днем все больше и больше.
— Кто же умер из ваших знакомых? — спросил Абай, словно не доверяя своим собеседникам.
— Вы помните Керейбая? Сперва умерла его мать, за ней старик Садык…
Жабыкен не дал жене закончить и сам стал перечислять скороговоркой:
— А теща Семейбая… Отец Жылкибая… Жена Жумабека… В доме Жубандыка умерло двое малышей…
— Да, да! — вздохнула Дамежан. — Сколько смерть унесла детей, не перечесть!
Абай подобрал ноги под себя, сел по-турецки и, пытливо вглядываясь в взволнованное лицо Дамежан, сказал:
— Вы назвали детей и стариков. Разве только они болеют и умирают?
Он уже понял, какое бедствие обрушилось на город, и теперь хотел уяснить меру опасности.
— Жигиты тоже умирают, да еще какие! — воскликнула Дамежан. — Ударят ногой — железо лопнет! Букпа, Сапар, Каир, Исабек… Первые силачи…
Жабыкен мрачно поправил жену:
— Были силачами, пока не работали на шерстомойке и не голодали… А голодного человека любая болезнь свалит.
И Дамежан согласилась с мужем:
— Ах, Абай-ага! Сытые люди этой болезнью реже заболевают. В нашей слободке живут не только бедняки. Но до сих пор ни один байбача не умер… Все торговцы и алыпсатары[66] здоровы. А ведь говорят, эта болезнь очень заразная, быстро переходит от одного к другому.
Она умолкла на мгновенье в невольной тревоге.
— Слава богу, хоть наши соседи пока здоровы. Мы не пускаем парней из дома и сами стараемся никуда не ходить.
Но коварная гостья подкрадывалась к жителям слободки нежданно-негаданно, без спросу.
— У больного становится страшное лицо, — рассказывала Дамежан. — Глаза проваливаются, вокруг них ложатся синие круги — «недоуздок смерти». Подбородок и нос заостряются.
— Говорят, дыхание человека холодеет.
— А руки и ноги — твердеют как камень.
— Больной говорит замогильным голосом.
— Его все время мучает жажда. Он мог бы целое озеро выпить!
— Муллы учат: когда наступит светопреставление, люди будут сидеть, закутавшись в лохмотья своего савана. Может, оно уже наступило, Абай-ага?
Абай не успел ответить — в комнату вошел Федор Иванович Павлов, его сопровождал Баймагамбет. Несмотря на тучность, Абай легко поднялся навстречу желанному гостю.
Федор Иванович молча раскрыл объятия, старые друзья расцеловались, а потом долго и крепко жали друг другу руки.
Усевшись поудобнее за дастархан, Павлов сощурился в доброй улыбке.
— Какими судьбами в наши края?
Абай объяснил: сын Абдрахман, получивший образование в Петербурге и уже служивший в Верном, возвращался из отпуска и вез с собой молодую жену, — он женился в ауле на Магиш.[67] Надо проводить сына и сноху в далекий путь, раздобыть денег Абишу на дорогу. Пришлось пригнать в город скот на продажу. Да и соскучился по городским друзьям. Захотелось проведать…
Абай ласково взглянул на Павлова из-под густых бровей.
— Ну-ка, расскажите про здешние дела, Федор Иванович! Как поживает Александра Яковлевна? Ей, как врачу, сейчас, вероятно, достается! Что она говорит о болезни? Для меня здесь все покрыто мраком неизвестности. Пролейте свет в мое сознание! — шутливо закончил он словами из недавно прочитанной повести писателя-народника.
Павлов начал издалека. За последние семьдесят лет холера в третий раз посещает Россию. Впервые эта курносая гостья с косой смерти пришла из Индии, заглянув не только в Китай и Японию, но даже в Западную Европу и Америку. Ходят слухи, будто эпидемия уже охватила сорок русских губерний…
Павлов, заметив, что лицо Абая потемнело, прибавил, пожимая плечами:
— Так Саша говорит. Она считает, что в нашем краю на долю таких людей, как вы, выпала священная обязанность помочь народу в беде. Вы лучше меня знаете, как казахи относятся к смерти. В дом мертвеца на похоронную молитву — жаназа — стекается множество людей. Все входят в комнату, откуда только что вынесли покойника. Зачастую здесь же едят и пьют. Благодаря таким обычаям и распространяется зараза. А воспретить их врачи не в силах. Какой казах, когда в его доме покойник, послушается доктора? Только таких людей, как вы, Ибрагим Кунанбаевич, народ будет слушать. Надо убедить население прекратить на время эти губительные обряды. Саша считает, что следует забить тревогу там, где собирается народ, — на базаре, в мечети, повсюду…
Абай молча слушал, словно взвешивал каждое слово своего друга.
— А вот что мы с Сашей требуем от вас и от Баймагамбета. Во-первых, решительно нельзя жить в этом доме! Жители его берут воду из реки. А река сейчас главный источник заразы. Переселяйтесь в центр слободы, там безопаснее, и обязательно остановитесь в доме, где есть колодец во дворе. Следите за своим здоровьем не перегружайте себя работой, не уставайте, кушайте чаще, чтобы не чувствовать голода, но и не переедайте. Ну, что вам еще посоветовать?
Павлов задумался на минуту и со смехом замотал головой:
— Нет, я, кажется, рискую превратиться в шарлатана. Не будучи врачом, не говори за врача! Можно легко напороть чепухи. Но Сашины слова, Ибрагим Кунанбаевич, — это приказ!
Условившись с Абаем встречаться почаще, Павлов собрался домой. Дамежан, видя уважение Абая к русскому гостю встрепенулась:
— Абай-ага, обед готов. Попросите его остаться… Федор Иванович понял, о чем говорит Дамежан, и, приложив руку к сердцу, учтиво поклонился, но обедать все же не остался.
Иргизбаевские болтуны-бородачи, так же как за чаем, сошлись в полуденную пору за обедом. Они только что вернулись с базара и даже не распрягли лошадей: после обеда — в путь, домой.
Вместе с Абаем земляки уселись за стол отведать мяса, — и вновь в три голоса стали уговаривать Абая немедленно убраться из города в степь.
— Пусть мрут горожане. Уедем к своему народу. Бежим от беды поскорее да подальше.
— А куда уйдешь, когда гибнет твой народ? — спросил Абай. — Хорошо ли в страхе бежать от своих? Чем мы лучше горожан?
Жуман процедил сквозь зубы важно и презрительно:
— Что ты выдумываешь? Какой это народ? Сброд из сорока родов, городские жатаки… Твой народ — сородичи по крови, тобыкты. Ты о них думай.
Глубокая складка прорезала широкий лоб Абая.
— Ну, довольно! — гневно выговорил он. — Наелись, наболтались, а теперь — уезжайте! Какое вам дело до меня? Зачем вам знать, кого я считаю своим народом? Ступайте! Ступайте!
И он выпроводил из дома иргизбаев. Смущенные гневом Абая, бородачи молча поплелись к своим телегам.
Оставшись наедине с Дамежан, Абай объяснил ей, почему нужно перебраться на другую квартиру — более просторную. К нему будут приходить люди за советами, даже из аулов приедут. Ему неудобно обременять гостеприимную хозяйку.
Поблагодарив Дамежан за встречу, Абай в тот же день переехал в дом ташкентца Кумаша, где обычно останавливался.
Дом Кумаша стоял в Средних Жатаках. Здесь нередко встречались одноэтажные и даже двухэтажные каменные здания под тесом, а то и под железной, чаще всего зеленой крышей. Эти добротные строения, возведенные татарскими и казахскими купцами, тянулись цепочкой вдоль Иртыша.
Торговые ряды и базар слободки располагались выше по берегу на холме. Среди них выделялись больница, пожарная каланча и почта, и неподалеку от них — канцелярия пристава Смирнова, которого казахи называли управителем слободки — забедейши.[68]
Кумаш построил свой дом возле мечети, почти в центре слободки. Нижний этаж его сложен из красного кирпича, верхний — из толстых бревен. Высокая тесовая крыша видна издалека и радует глаз тщательной отделкой. Владение Кумаша, по примеру сибиряков, обнесено плотным дощатым забором с высоченными воротами, сооруженными из добротного теса. Через эти ворота в глубину обширного двора въезжают телеги и находят пристанище под кровлей навесов, у так называемых лабазов.
В доме Кумаша Абай обычно устраивался в нижнем этаже и сейчас остановился в просторной светлой комнате, выходящей окнами на солнечную сторону. Здесь он чувствовал себя «как дома».
В тот же вечер Абай пригласил к себе одного из почетных жителей слободки, муллу Сармоллу. Хотя Сармолла и не был имамом мечети и не так часто встречался со служителями веры, с хальфе,[69] кари[70] и муэдзинами,[71] но он обучал детей слобожан грамоте и лучше многих других знал, что творится в слободке.
Холера свирепствует повсюду, — после рассказа Сармоллы в этом не оставалось сомнений. Он называл махалла — приходы, — где люди болели и гибли. Город Семипалатинск Сармолла делил по числу мечетей на семь махалла. Слободу Бержак на две: Верхние махалла и махалла Тинибая, где бай Тинибай построил мечеть.
Болезнь и смерть бродили по всем девяти приходам и безжалостно косили бедняков, занимавшихся тяжелым, изнурительным трудом. Самому Сармолле редко доводилось участвовать в жаназа, но он знал, сколько переплатили родственники умерших духовенству за отпущение грехов. Сармолла утверждал, что с первых же дней холеры муллы стали быстро богатеть. Для имамов, муэдзинов, хальфе и кари наступило благодатное время обильной жатвы. Не скрывая своей ненависти к личным соперникам и врагам, он назвал несколько имен. По его словам, такие люди, как Шарифжан-хальфе, Самат-хальфе, слепой кари и муэдзин Самурат, сейчас просто ликуют. Они выручают большие деньги от жаназа, фидия[72] и хатыма,[73] от семидневных и сорокадневных поминок. Доходы их растут беспрерывно — день и ночь.
— Народ гибнет, а они жиреют на глазах, мирза Ибрагим! — Сармолла говорил с заметным акцентом муллы-арабиста. — Таких доходов у них не было даже в дни айтов.[74] Справедливо молвит народ: «Где много ковыля — жиреет вол, где много смертей — мулла». Даже сам хазрет,[75] имам мечети, достоин осуждения! Безжалостные, развращенные люди!
Сармолла умолк, и тогда заговорил Абай. Нужно добиться, чтобы поменьше собиралось людей на похороны; надо предупредить народ, как опасны в дни холеры поминки.
— Да, да, да! — закивал головой Сармолла и еще яростнее начал хулить своих врагов — хальфе и муэдзина.
Абай слушал его с явным неодобрением. Сармолла, видимо, заметил это и очень горячо заговорил о том, как важно правильно наставлять народ в трудную годину. Но тут вновь сбился на брань:
— Шарифжан-хальфе, Самат-хальфе и муэдзин Самурат будут только мешать. У них душа не болит за народ!
Сармолла, увлекшись, закрыл глаза, замотал головой, защелкал языком, подобно птице:
— Нет, нет, не болит!
Абай выделял Сармоллу из среды духовных лиц. От многих имамов, хазретов и хальфе он отличался широтою взглядов, хорошо знал стихи восточных поэтов и хранил у себя дома их сочинения. Абаю доводилось брать у него книги шейха Сагди, дивана Хожи Хафиза, Алишера Навои. Сармолла считался образованным человеком, недаром семипалатинские жители стремились обучать у него своих детей.
На Сармоллу Абай возлагал большие надежды, но, беседуя с ним сегодня, едва ли не с первых слов понял, что и его, как и других мулл, распирает самая обыкновенная корысть и лютая зависть «тот на жаназа сорвал больше, этот на фидии отхватил крепче!»
— Позвольте, Сармолла! Ведь писал же поэт: «Кто мне расскажет об одном грехе соседа, тот поведает о сотне моих пороков всему свету». В дни людской гибели и горя не следует так много говорить о своей ненависти и вражде.
Сармолла густо покраснел и торопливо заговорил:
— Конечно, конечно, мирза Ибрагим! Вы правы! Виноват, кругом виноват! Что вы мне посоветуете?
— Обратитесь с добрым словом к приходящим в мечеть на молитву. А еще лучше, в пятницу после проповеди — хутпа — выступите с наставлением перед людьми своего прихода. Объясните им, как предостеречься от болезни. Мне кажется, надо иначе устраивать жаназа, хатым и поминки. Чтобы как можно меньше собиралось людей…
Сармолла чувствовал себя пойманным на слове. Впрочем, Абай раскусил бы его, если бы он и не был так откровенен. Сармолле захотелось поскорее уйти.
— Хоп, хоп! Вы правы… зачем говорить полезные слова самому себе дома! В самом деле, пойду-ка я лучше к людям прихода.
Он поднялся. Абай тоже встал и, проводив гостя до дверей, учтиво попрощался с ним.
— Я считаю, что служители веры в неоплатном долгу у народа. Я советую вам — начните со своих учеников. То, что вы внушите им, они непременно передадут своим родителям, а те — соседям. Среди взрослых также много ваших бывших учеников. О них подумайте в первую очередь. Люди прихода вас признают наставником и поверят вам скорее, чем посторонним. Я считаю, что это не только долг вашей совести, но и обязанность перед народом.
— Да-да! — Сармолла закивал головой и, смущенный, скользнул за дверь.
Он сразу же направился в ближайшую мечеть для ночной молитвы — ястау. На улице было темно. Завернув за угол, Сармолла вошел через решетчатую калитку в чисто выметенный дворик мечети. Здесь собралось несколько десятков прихожан, ожидавших начала молитвы. Среди них были и старцы, и учащиеся медресе, и хальфе. Люди сидели на корточках, прислонившись к стене мечети, и тихо переговаривались. На односложные вопросы следовали короткие сухие ответы. Ожидали появления старого имама, хазрета — настоятеля мечети. Вслед за Сармоллой подошло еще несколько человек, среди них были слепой кари и муэдзин Самурат.
Разгоряченный беседой с Абаем, Сармолла, присматриваясь к прихожанам, размышлял, как бы завести необходимый разговор. Чернобородый великовозрастный шакирд — воспитанник медресе — ему помог. Он спросил, на скольких похоронах побывал сегодня Сармолла.
— Ни на одних! — воскликнул Сармолла так громко, что голос его услышали все. — Пока это в моих силах, я постараюсь и вовсе не ходить на жаназа!
При этих словах слепой кари и Самурат-муэдзин разом вскричали:
— Астагфиролла! Астагфиролла![76]
— Вы совершаете грех, мулла!
— Блогохульствуете! Возьмите обратно ваши порочные слова, унижающие мусульманство.
Застарелая вражда придала Сармолле решимость. Вот когда он прижмет этих лицемеров! Сармолла говорил торопливо, но громко и внятно. Его взволнованный голос разорвал тишину, как внезапный крик в ночи. Его неслыханно дерзкие слова резали ухо, приводили в смятение души богомольных прихожан.
— Нельзя больше молчать! — кричал Сармолла. — На прихожан нашего махалла свалилось великое бедствие, а мы делаем вид, что ничего не случилось. Разве так бы мы вели себя на тонущем корабле? Нет! Надо бить тревогу, искать спасения! Холера— заразная болезнь! Чтобы она не расползалась по всему городу, надо иначе устраивать жаназа, фидию и хатым. Угощение в доме покойника, семидневные и сорокадневные поминки — вот источник заразы! Пусть об этом узнают прихожане и берегут свою жизнь!
Кари и муэдзин с трудом сдерживались, слушая Сармоллу. Бешеная злоба терзала их сердца. И едва он умолк, чтобы перевести дыхание, как они яростно накинулись на него.
— А как, по-вашему, устраивать жаназа?
— Как проводить хатым?
— Вы хотите, чтобы прихожане не собирались на поминки? Не отдавали последнего долга усопшему мусульманину?
Сармолла ответил холодно и резко:
— На жаназа пусть идет только одно духовное лицо. Хатым пусть проводит тоже только один мулла. Поминки запретить! Не к чему кари и муэдзинам посещать подряд все жаназа, фидии и хатым. Все равно невозможно наполнить ваши бездонные карманы…
Сармолла направил острое жало своих слов в самое сердце Сокыр-кари и Самурат-муэдзина. В пылу спора он добавил:
— Нечего вам ходить в дом каждого покойника, разносить заразу. Пора подумать о воздержании!
Кари и муэдзин вскочили. Закипая мстительным негодованием, они шипели на Сармоллу, перебивая друг друга:
— Астагфиролла! Что он говорит!
— Вероотступник!
— Судите его судом шариата!
— Ваша гордыня превзошла все границы!
— Злодей!
Но тщетно упорствовали Сокыр-кари и Самурат — прихожане отвернулись от них и окружили Сармоллу. Они не прочь были бы послушать, что он скажет еще, как вдруг кто-то воскликнул:
— Хазрет идет…
И все поднялись, прекратив разговоры.
Старец с огромной белой бородой, в большой чалме, опираясь на длинный посох, тихими шагами прошел в мечеть. Следом за ним двинулись и прихожане.
В груди кари по-прежнему клокотала злоба, когда он нараспев затянул молитву из корана:
— Ясин-уаль куранул хаким.[77]
Смиренно закрывая веки, он читал наизусть священные тексты бухарским макамом,[78] оплакивая мусульман, погибших от холеры.
Кари никогда не сбивался, читая коран, слепой назубок заучил в нем каждое слово. Но сегодня он оговорился. Читая «Лятунзира кауман ма унзира»,[79] он подумал о Сармолле, скрипнул зубами и вместо слова «кауман» произнес «калан».[80] Тут же кари услышал, как закашляли сидевшие поблизости хальфе шакирды, и заерзал на месте, откашлялся сам, мысленно обозвав Сармоллу каззапом (мерзавцем). Затем, взяв себя в руки, он стал читать еще громче и напевнее. Сармолла, однако, понял как осрамился слепой кари не только перед муллами, но и перед малограмотными богомольцами. Сармолла усмехнулся и с удовольствием отметил про себя:
«Бог наказал пройдоху! Божье слово покарало его за ненависть ко мне, за бесчеловечную зависть».
Расходясь после молитвы, прихожане вспомнили, как столкнулись и заспорили муллы. Старшие неодобрительно покачивали головами, младшие посмеивались.
В обычное время мечеть посещали по большей части старики, торговцы, алыпсатары, жившие вблизи мечети, в Верхних Жатаках. Но не они составляли основное население прихода. Большинство здешних казахов занималось тяжелым трудом, жило впроголодь. Измученные изнурительной работой, бедняки поздно вечером возвращались домой и валились с ног от усталости, едва переступив порог. У них не было ни времени, ни сил ежедневно посещать пятикратную молитву в мечети. Даже на дневную молитву им не удавалось попасть. Имамов, хазретов, хальфе и мулл они видели редко. Только в печальные дни смерти родных простой люд поневоле встречался с духовенством. Но вот началась эпидемия холеры… Проворные муллы в длинных халатах и пышных чалмах зашмыгали по дворам со своим степенным поглаживанием бород и показным смирением.
— Недаром говорится: «Где много смертей — жиреют муллы», — перешептывались прихожане за спиной у духовных отцов. — Ишь какие расторопные стали нынче хальфе и хазреты.
— Им все одно, кого ни хоронить — ребенка или дряхлую старуху. Только бы побольше попало в карман. От денег они становятся мягче шелка.
Рабочий люд слободки редко, ходил в мечеть, и муллы надеялись, что большинство прихожан не узнает, как рассорились их наставники перед ночным намазом — ястау… Однако вышло совсем не так, как надеялись муллы. Старики богомольцы рассказали обо всем домашним, и вскоре в городе не оказалось ни одного человека, который не знал бы о происшествии в мечети.
Не только горожане, но и приезжие аульные люди — старшины, управители, баи — тоже узнали необычайную новость. Вот почему в день пятницы в мечеть привалило так много богомольцев на полуденную молитву, называемую «пятничной».
Люди, напуганные холерой, жаждали помощи и готовы были поверить любому слуху, сулившему избавление от гибели. В эти страшные дни человек двигался ощупью, словно во мраке, метался из стороны в сторону, высматривая, не забрезжит ли где-нибудь луч надежды. Взор казаха-горожанина был обращен к мечети. Все чаще и чаще он оглядывался в сторону имама, именовавшегося еще ишаном, то есть святым угодником. От кари и хальфе он ожидал утешительных предсказаний.
Собираясь на пятничную молитву, ишан узнал, что мечеть переполнена богомольцами. Значит, был смысл произнести после намаза в назидание хутпу, посвятив ее переживаемому бедствию — страшному мору. Так решил ишан еще и потому, что минувшей ночью Самурат и Сокыр-кари, провожая его после молитвы, поведали ему о богохульных речах Сармоллы. Поддерживая старого ишана с двух сторон под руки, задыхаясь от ненависти и презрения к вероотступнику и перебивая друг друга, они говорили о его злодеяниях.
— Сармоллу терзает зависть! Народ не зовет его на жаназа!
— Ему обидно, что люди зарабатывают на фидии, а он не имеет никакого дохода..
— Сармолла мутит народ, хазрет!
— Темные, невежественные прихожане поверят сейчас любым наветам!
— Подумайте, хазрет, о поведении Сармоллы!
Вначале говорили вполголоса: Самурат и слепой боялись нарушить ночную тишину улицы. Но когда они довели глуховатого имама до дому, Самурат не выдержал и, позабыв всякую осторожность, закричал в ухо старику:
— Ядовитые слова Сармоллы опаснее и заразнее самой холеры! Когда о них станет известно в каждом доме нашего темного прихода, люди станут воздерживаться от жаназа и хатыма. Они, чего доброго, откажутся принимать ваше священное благословение. Субханалла![81] Душа содрогается во мне, как только я подумаю о таком ужасе! Завтра прихожане откажутся от ваших молитв, а там вовсе перестанут заботиться о своих наставниках!
Ишан слушал молча, но при последних словах Самурата у него затряслась борода. Опустив голову, он забормотал молитву из «Заух-Намэ»,[82] которая, как известно, отгоняет надвигающиеся беды.
Сармолла был доволен. Все же старики богомольцы хотя и робко, но одобрили его речь тихими возгласами.
— Бог благословит вас!
— Говорите, мулла, говорите!
— Ваша правда, Сармолла! Спасибо вам!
Сармолла понял, что его обращение нашло отклик у народа. Это было приятно. Честолюбивый мулла расценил признание прихожан как знак особого уважения к своей особе. Он уже чувствовал, что сможет наконец свести давние счеты с Самуратом и Сокыр-кари, не допускавшим его к делам мечети и медресе. Ибрагим-мирза, сам того не подозревая, дал ему в руки надежное оружие, которым Сармолла мог разить своих врагов наверняка, в самое уязвимое место.
Сколько зла причинили они ему! Старый имам, нуждавшийся в поводыре, ничего не делал без их совета и совета Шарифжана-хальфе. А они сговорились между собой и добились того, чтобы не приглашать Сармоллу ни на одну жаназа, фидию и хатым. Вот уже скоро полтора года будет, как хазрет, муэдзин, кари и все хальфе не дают Сармолле ни копейки из годовых сборов и приношений верующих. А их поступает в мечеть и медресе от богатых прихожан весьма достаточно. Это было вопиющей несправедливостью — так обходить Сармоллу, тем более что все муллы всех семи мечетей города и заречной слободы не могли сравниться с ним в познаниях священных книг. Ведь он обучался в «Бахара-и-Шариф», в медресе «Мир-и-Араб», а затем в Казани у наставника, получившего образование — подумать только! — в самом Каире! Он достиг наивысших знаний, изучив мудрейшую книгу «Шарх-Габдулла». Сармолла считал, что он имет все права, чтобы быть избранным на должность имама или, в крайнем случае, пока жив старый хазрет, — на должность хальфе и наставника при мечети и медресе. Но слепой кари, Шарифжан-халь-фе и Самурат-муэдзин назначили старшим хальфе Самата — такого же гнусного проходимца, как и они сами!
В дни холеры хальфе главной мечети ни разу не дал Сармолле совершить жаназа в зажиточном доме, где можно было бы поживиться. Его, словно назло, не приглашают и на хатым к богатым покойникам. Несомненно все это проделки слепого кари и толстого муэдзина Самурата.
А сами загребают небывалые доходы. Недаром слепой кари уже возводит новую крышу из синего железа над своим домом. Жирный муэдзин всю жизнь ходил пешком. Теперь он завел себе рыжего коня и черную крашеную таратайку. Каково это видеть Сармолле! За многие годы труда он ничего не заработал, кроме тощей своей лошаденки и невзрачного старого седла.
Вернувшись домой из мечети, Сармолла переживал радостное чувство победы: противникам нанесен первый чувствительный удар!
— Нечестивцы черноликие, я вам покажу еще! — мысленно повторял он, ухмыляясь и шевеля густыми бровями. — Перед всем приходом раскрою, какие вы поганые!
Остаток ночи разгоряченный Сармола провел без сна.
Мечеть не могла вместить всех собравшихся на пятничную молитву. Большинство богомольцев встали рядами во дворе. Сармолла умышленно не вошел внутрь мечети, а занял открытое взорам возвышение у входа среди небольшой кучки богомольцев. Высокий, осанистый, с рыжевато-золотистой широкой бородой, в зеленой шелковой бухарской чалме, он выделялся в толпе и был хорошо виден всем прихожанам, стоявшим во дворе. Прислушиваясь к хрипловатому голосу имама, доносившемуся через открытые двери, Сармолла нарочно громко и нараспев повторял за ним отдельные молитвы: «Аллаху акбар», «Самигаллахулиман хамида», «Ассалау галейкум уарахматулла». Так он овладел молитвенным настроением близстоящих богомольцев и совместно с имамом отслужил молебен.
Когда молебен кончился, на возвышение, где стоял Сармолла, поднялся муэдзин Самурат. Он поднял руку, и воскликнул:
— Жамагат! Жамагат! Жамагат![83] Не расходитесь! Ишан хазрет сейчас скажет хутпу.
Но богомольцы и не думали расходиться. Они охотно опустились на землю, где стояли во время молитвы. Как только шум утих, из мечети вышел имам, окруженный хальфе, кари и старшими шакирдами. Мелкими шагами он поднялся на минбер,[84] откуда обычно произносил проповеди.
Опустив голову, старик заговорил тихим, дребезжащим голосом. Эту хутпу он произносил сорок пять лет подряд и знал наизусть. Она была соткана из молитв на арабском языке и персидских фраз. Малограмотные и совсем неграмотные прихожане, знавшие только пятикратные молитвы, как и прежде, не смогли оценить красноречия проповедника. Да по правде сказать они и не ожидали от него ничего нового.
К сегодняшней хутпе имам добавил очень немного. Он сказал, что холера послана богом в наказание за грехи. Когда множатся грехи и возрастает гордыня, всемогущий повелитель, дабы образумить людей, карает их каким-нибудь бедствием. Это — предопределено богом, и так написано в книге судеб «Лаухаль-Махфуз». Человек бессилен что-либо сделать для предотвращения болезни. Бедствие пришло в предуказанное время, и только всевышний может его приостановить. Приверженцы ислама должны выказать терпение, соблюдать покорность воле божьей. Надо преодолевать земные страсти, оказывать милость несчастным и убогим. Всегда помнить о своих грехах и бояться господа, не забывая о приношениях мечети…
Так заключил хазрет свою невнятную речь, которую, как всегда, богомольцы толком-то и не расслышали. Хальфе, кари и муллы сделали знак «бату» — прикоснулись ладонями к лицу, давая понять народу, что хутпа закончилась. Но прихожане и теперь не торопились расходиться. Казалось, богомольцы, не удовлетворенные проповедью имама, ожидали чего-то еще.
Тогда-то и произошло неожиданное событие, изумившее и прихожан и духовных лиц. Едва сошел хазрет с минбера, как на его место поднялся улыбающийся Сармолла в зеленой чалме, которая резко отличала его от всех других вероучителей, носивших белую чалму. Он попросил внимания у мирян и заговорил громко, внятно произнося каждое слово.
Начал он, как и было положено, по-арабски: «Я айюхал муслимина!» — но затем сразу перешел на казахский язык, понятный всем слушателям. Лишь изредка он вставлял книжное арабское слово, не затемнявшее, однако, смысла речи.
— Здесь сейчас хазрет говорил, что бедствие посылает всемогущий. Это истинно верно. Но ведь наш повелитель сказал также, что спасет от всех бед потомков Магомета. Хвала господу— «Алхамду лилля!» Нерушимое свидетельство этому сура «ясин» из корана. Там даже так сказано: «Спасу того, кто сам бережется!» Наш создатель вместе с бедствиями посылает на землю и исцеление. Во имя любви божьей и во имя своего долга мусульманина я, наставник детей многих из вас, хочу дать вам, миряне, один совет: остерегайтесь! Помните: береженого и бог бережет!
Сармолла передохнул и продолжал наставительно:
— Пусть поменьше людей собирается на похороны в доме покойника. Не надо приглашать на жаназа нескольких мулл, муэдзинов, хальфе и шакирдов. Для совершения намаза достаточно и одного человека. Хатым пусть также проводит один человек. Нужно прекратить на время всякие угощения и поминки в домах умерших. Зачем муллы, муэдзины, шакирды и кари ходят скопом из одного дома в другой? Они разносят заразу! Это опасно для них самих и для окружающих! Разве не погибли от холеры мулла Жуман, хальфе Сахиб, шакирд Амантай? Они пали жертвой поминок. Воздержание — вот долг мусульманина! Пусть муллы подумают об этом!
Сармолла огляделся и добавил мягко и вкрадчиво, как бы открывая слушателям всю свою душу:
— Дорогие прихожане! Родной казахский народ! Пусть мои слова дойдут до каждого двора и останутся в сердце каждого благоразумного человека. И еще я скажу вам: это не только мои слова. Так советуют вам поступать верные друзья казахского народа, среди которых самый близкий друг ваш, акын Абай. Он требует от вероучителей заботы о народе. И я призываю всех: прислушайтесь к совету друга.
Пышная золотистая борода Сармоллы сияла под слепящим полуденным солнцем. Голос дрогнул на высокой ноте.
Растерявшиеся муллы переглянулись в великом смущении. Никто из них не рискнул подняться на минбер. А между тем со всех сторон неслись одобрительные возгласы прихожан:
— Хорошо сказал Сармолла!
— Вот это речь!
— Истинная забота о народе!
— Дай бог удачи Сармолле!
Каково было слышать эти похвалы кари, муэдзину и хальфе! Мучительно-горько было слушать такие речи от своих прихожан. Оскорбленные, а еще больше напуганные муллы тесным кольцом окружили Сармоллу и потихоньку, подталкивая, повели его к хазрету. Следом за ними хлынула толпа прихожан. Среди них было много любопытных, которые в обычное время не ходили в мечеть. Сегодня на пятничную молитву они явились только потому, что слышали о ночной стычке между муллами. Любители споров и словопрений, они надеялись, что завязавшаяся накануне схватка может превратиться в настоящую словесную битву. А ради такого зрелища эти люди готовы были бросить все дела только бы со всей страстью окунуться в бушующие волны словесной склоки.
Хутпа имама их, конечно, разочаровала. Они надеялись, что старец накинется на Сармоллу и от того только клочья полетят. Пристойная речь Сармоллы также не пришлась по вкусу закоренелым спорщикам. Они ожидали большего — такого спора, такой схватки, которая могла бы — кто знает — закончиться даже рукопашной.
Двое чернобородых казахов и третий, белобородый, в тымаках тобыктинского покроя, пробирались сквозь толпу поближе к Сармолле. Подталкивая друг друга, они перешептывались, предвкушая редкое удовольствие:
— Теперь они иначе заговорят!
— Пойдут в открытую!
— Муллы из себя выходят!
— Сармолла, видно, угодил им в пах!
— Тут нынче не заскучаешь!
— Позабавят народ!
— Держись поближе! Не отставай… Ехидно посмеиваясь, аксакал заметил соседу:
— На людях они спорить не любят: наедине они сцепятся!
— Если это те самые Самурат-муэдзин и слепой кари, которых я знаю, Сармолла уложит их наповал!
— Обязательно. Он уж у них кусок в зубах ухватил.
— Раз ухватил — вырвет!
— Как тут не лопнуть от ярости!
А тем временем хальфе Шарифжан, слепой кари и муэдзин Самурат подвели Сармоллу к хазрету и набросились на него с трех сторон. Они говорили как будто бы сдержанно, но для всех, кто понимал тайный смысл их слов, было понятно, что духовные лица честят Сармоллу, как последнего разбойника.
— Хотите сбить с пути нашу темную паству, Сармолла?
— Вы хотите украсть у погибших в муках мусульман святые моления?
— Толкаете невежественный народ, пребывающий в заблуждениях, на путь злодеяний?
Сармолла не слушал своих обвинителей, он заранее знал, что они скажут. Неопределенная улыбка скользила по его лицу, шевелила рыжие усы. Перехватив колючий взгляд низкорослого хазрета, он предупредительно склонился к его уху и сказал:
— Всякий, кто разделяет страдания народа, скажет то же самое, что сказал я. Да будет вам известно, хазрет, что это не только мое мнение. Так думает и уважаемый всеми казахами города и степи акын Абай.
Чтобы глуховатый хазрет расслышал его наверняка, Сармолла еще раз с расстановкой повторил свои слова. И тогда один из аткаминеров вскричал со злобой:
— Эй, молдеке! Что ты все твердишь. «Абай! Абай!» А кто он такой, твой Абай?
Сармолла обернулся на грубый окрик и увидел коренастого и бородатого одноглазого степняка с крупным носом. Этот человек в белой мерлушковой шапке держался крайне независимо, его окружали известные городские купцы и баи. Сармолла различил в толпе войлочника Сейсеке, мясника Хасена, бакалейщика Жакыпа, торговца конским волосом Сарсена. Все это были знакомые Сармолле почетные прихожане, владельцы добротных деревянных домов под железными крышами. Заметив их, хазрет посмотрел на Сармоллу загадочно и, шевеля густой своей бородой, забормотал тонкими, сухими губами бесконечную молитву.
Сармолла выпрямился:
— Мирза, это вы спросили про Абая? Похоже, что вы сомневаетесь, знаю ли я его? Да будет вам известно, я прочитал все мудрые наставления, написанные им для пользы казахского народа. Я прекрасно знаю его и почитаю как благороднейшего человека нашего времени.
Одноглазый бесцеремонно перебил Сармоллу:
— Видно, этот мулла один из тех несчастных, кто обманут Абаем. Настоящую правду об Абае знаю только я. Послушайте-ка ее! Абай совратил с пути истинного наш степной народ, смущает и отцов веры нашей. Этот бунтовщик молится на русских. А мы приехали в город и пришли в мечеть молиться всевышнему. Мы доверяем имаму, ведущему нас по пути ислама. Наш байтола — священное место для молитвы. И пусть не оскверняют его упоминанием имени Абая, выкреста, продавшегося русским. Ты, Сармолла, лезешь в наставники, а сам сбиваешь народ с правильной дороги. Очисти-ка от скверны свои уста!
Баи, окружавшие одноглазого, а с ними все кари и муллы злорадно посмеивались. Раздавались одобрительное голоса:
— Правильно, Уразеке!
— Верно, верно сказал аксакал!
— Заблуждается мулла!
— Пусть он послушает, что говорит простой, неученый человек!
Сармолла только теперь смекнул, кто этот «простой неученый человек». Он слышал о кривом Уразбае, постоянно хулившем Абая и тем снискавшем себе одобрение властей и степных воротил.
Так вот кто чернил Абая! Вот он, этот дикий невежда и грубиян! Сармолла вспылил. А в гневе он был неистов, ни с чем не считался, никакие угрозы его не страшили. В такие минуты он умел взять противника за горло мертвой хваткой.
— Э, мирза! Вы и есть тот самый Уразбай, который темными делами добывает себе почести и скот. Я все знаю. Не вас ли имел в виду хазрет Абу-ль-Аль-Маарри,[85] когда писал:
…Фаинналь уопда татбагуха захобон Уагурбанен фаман гуррен уагуржон…—что означает: «Вслед за львом идут хромые да кривые шакалы и черные вороны, подбирая падаль себе в добычу». Какая польза народу от подобных вам, Уразбай? Хулите лучших людей нашей степи и тем рассчитываете возвеличиться, прославиться?.. Постыдная слава! — воскликнул Сармолла, раскрасневшись от возбуждения.
Баи, окружавшие Уразбая, загудели, точно шмели:
— Молдеке, оскорбляете верующих!
— Что с вами, мулла?
— Так ли пристало вести себя наставнику? Перед вами гость!
Но тут вмешались сторонники Сармоллы, стоявшие за его спиной.
— Сармолла прав!
— Нечего на него нападать!
— Гость первый задел муллу!
— Не чините насилия!
— Сармолла заботится о народе!
— Он прав! Прав!
Так кричали люди, стоявшие возле минбера. Им громко вторили голоса из задних рядов.
Встревоженный хазрет замахал обеими ладонями, как бы отгоняя от себя дьявола, и круто повернулся к выходу. Толпа зашевелилась, освобождая ему путь. Старик двигался в окружении муэдзина, слепого кари, Шарифжана и безбородого смуглолицего хальфе Самурата. Сморщенным пальцем он поманил за собой Сармоллу. Духовные лица отошли в сторону от толпы. Пять белых чалм замкнули в круге зеленую. Хазрет холодно промолвил:
— Эфенди[86] Сармолла! Я внимательно выслушал вас и, выслушав, постиг, кто вы такой и чего добиваетесь. Вы вступили на путь нечестивых! Пока еще не поздно, остановитесь. Ваши злодеяния погубят вас, как погубили дьявола!
Хазрет ударил о землю посохом, глядя в упор на Сармоллу выцветшими, без ресниц глазами. Лицо Сармоллы стремительно заливалось румянцем.
— Хазрет! — воскликнул он. — Вы несправедливы! Вы говорите с чужого голоса. Это все вам внушили хальфе, муэдзин и кари. А разве это служители веры? Это воры! Вы окружены злодеями!
— Ты сам злодей и подлец! — закричали разом Шарифжан-хальфе и кари.
— Преступник! — заорал Самурат, сжимая кулаки. Глаза его налились кровью.
Но Сармолла не отступил.
— Потише. А то я сейчас открою глаза прихожанам, и они рассудят, кто из нас преступник.
Хазрет поспешил отойти от спорящих, но Сармолла настиг его и преградил ему путь. Сармолле были известны темные делишки духовных отцов, прикрытые святостью мечети.
— Хотите, я назову прихожанам имена истинных злодеев! Я ведь знаю, кто накликал беду и несчастье на народ. У меня найдутся свидетели — живые и мертвые! Я покажу народу три пустых гроба, спрятанных под мечетью, а вы позовите тех, кто стучал по ним кулаками, моля бога послать мор на людей! Разве не муллы плакались тогда: «Почему нет смертей», «Почему мало жаназа», «Отчего нет даяний фидии, жертвоприношений»? Это их гнусные мольбы навлекли на голову народа холеру и столько смертей. Не я один видел это кощунство, со мной было еще пять человек. Хотите, я их позову, хазрет, а вы проверите. Я сию минуту могу обличить позор муэдзина Самурата, такого убогого с виду, но злодея в душе. Слепой кари и ваш хальфе Шарифжан — того же поля ягоды. Крикнуть сейчас прихожанам: «Узнайте и будьте свидетелями!» — сказать, им всю правду о вашей мечети?!
У хазрета отнялся язык. Он побледнел от ужаса и прикрыл дрожащей ладонью лицо, чтобы не видеть и не слышать Сармоллу. Бочком, бормоча молитву и тряся бородой, имам поспешил удалиться.
Перепугались враги Сармоллы. Все, что он сказал, было сущей правдой. Если эту правду узнает народ, вымирающий сейчас от холеры, — мирные прихожане бросят своих духовных пастырей в пылающий костер.
— Астагфиролла! Субханалла! — в ужасе забормотали муллы, изображая безвинно оклеветанных людей.
Однако никто из них не мог промолвить ни единого слова в свое оправдание.
На следующий день умер от холеры Жумадиль, отец бакалейщика Жакыпа, владельца дома с железной крышей в Верхних Жатаках. Холера редко посещала богачей. На этот раз она вырвала из зажиточной семьи крепкого, здорового старика, которому жить да жить еще до ста лет и радоваться торговым успехам сына.
Что бы ни говорил Сармолла, Жакып решил похоронить отца так, как принято было хоронить во все времена покойников в слободке. О смерти отца он сам известил хальфе, кари, муэдзинов, духовенство нижней мечети, а также баев, купцов и ходжей, с которыми поддерживал дружеские и деловые связи. Большой двухэтажный дом Жакыпа поспешно готовили к приему многочисленных гостей. В шести светлых комнатах были разостланы огромные скатерти, вдоль стен разложили свернутые одеяла. На просторном дворе запылали яркие костры очагов. В огромных казанах готовился плов и варилось мясо, сдобренное шафраном.
Ожидая большого наплыва гостей, Жакып приказал в каждой комнате поставить тазы с кумганами,[87] разложить полотенца и салфетки. Восемь приказчиков должны были ухаживать за гостями.
Но, несмотря на такие тщательные приготовления, жаназа получилась убогой, как свадьба девушки-сиротки. Явилось только духовенство двух мечетей, несколько торговцев, близко связанных с Жакыпом, да четверо нищих, которым до той поры не разрешалось переступать порог байского дома. Все эти гости свободно разместились в самой маленькой комнате, где жил покойный старик. Остальные комнаты пустовали.
Имам и Жакып просидели в ожидании гостей час-другой. Дольше ждать было нельзя, так как первая половина субботнего дня, в которую разрешалось хоронить умерших, была уже на исходе. Покойника торопливо вынесли ровно в полдень и похоронили на казахском кладбище.
Когда вернулись домой и сели за стол, у гостей наконец развязались языки. Отныне войлочник Сейсеке и мясник Хасен считали Сармоллу своим смертельным врагом. Им охотно подпевали мелкие торгаши. Корабай и Отарбай, известные крикуны и буяны, готовые в любой момент пустить в ход кулаки и плетки, чтобы только подольститься и угодить богачам.
Баи Сейсеке и Хасен строго осуждали горожан, отвернувшихся от Жакыпа и оставивших его в одиночестве в день горя. Они натравливали Корабая и Отарбая на Сармоллу, ибо он был единственным виновником всех бед.
— Это он все натворил!
— Укротят его когда-нибудь или нет?
Другие баи не вмешивались в разговор, но причмокивали, крякали, кряхтели и, покачивая головами, выражали свое одобрение. Хазрет тоже слушал молча.
Зато Самурат-муэдзин, слепой кари и Шарифжан-хальфе были не в силах скрыть жгучей ненависти к Сармолле. Какие только проклятия не сыпались на его голову!
— Он еще многих с пути совратит!
— В такие дни сеять зло и рушить веру!
— Муллы должны молить бога, чтобы он покарал вероотступника! — заметил Самурат-муэдзин упорно молчавшему имаму нижней мечети Коныр-ходже, стараясь вовлечь и его в разговор.
Жакып, потерявший отца, помалкивал. Он счел неприличным открыто поддерживать мулл и хулить Сармоллу, хотя в сердце у него кипела обида и он готов был в клочья растерзать виновника сегодняшнего позора.
Жакып был самым хитрым купцом в городе, он знал истинную цену мудрому молчанию. Больше о Сармолле не говорили. Лишь по окончании жаназа чалмоносцы и купцы дружно помолились богу, прося покарать вероотступника. После этого с успокоенными сердцами разошлись по домам.
Прошла еще неделя. Эпидемия холеры усилилась. Во многие дома заглянула печаль утраты. Все меньше и меньше теперь ходило народу на жаназа и хатым… На обоих берегах Иртыша толковали о Сармолле — и не только верующие, а даже те люди, что сроду не бывали в мечети и не совершали никаких молитв. На базарах, в кумыснях, трактирах, у перевоза через Иртыш, везде, где только собирались люди, рассказывали о Сармолле-мулле.
Слухи, распространяемые баями и муллами, жестоко осуждали Сармоллу. «Самого имама верхней мечети, святого старца ишана бесчестил Сармолла непристойным словом. Вредные советы дает он казахам, плохо осведомленным в законах ислама. Невежественный, темный народ, рискуя из-за безбожника Сармоллы загробным блаженством, хоронит своих покойников без жаназа, втайне от имамов и мулл», — притворно сокрушаясь и возводя очи горе, твердили халифе, кари, суфии и муэдзины всех семи мечетей. Им вторили богобоязненные святоши из степных баев и крупных городских торговцев.
Говорили, что старый ишан на ближайшем богослужении предаст Сармоллу публичному проклятию, и это еще более усилило к нему интерес.
Абай сидел за книгой в доме Кумаша, когда пришел Жумаш, старший сын Дамежан. На глазах юноши блестели слезы. Он принес горькую весть. Утром скончался от холеры его отец. Эта весть не была для Абая неожиданностью. Смерть становилась привычной. Холера уже скосила ближайших соседей Кумаша — лодочника, дровосека и водовоза. В их семьях Абай побывал накануне со словами утешения.
Теперь он поднялся и поспешно направился к Дамежан. Абай обнял плачущую женщину и, глядя в ее черные, похожие на спелую смородину глаза, стал говорить ей ласковые, ободряющие слова. Потом его позвали соседи — рядом, тоже утром, умер Жабайкан. Перед Абаем стоял, опустив большие рабочие руки, осиротевший сын погибшего Бидайбай.
На глазах Абая один за другим умирали люди из бедных семей, и сердце его переполнялось глубокой жалостью и скорбью. После смерти сапожника Сакыпа осталась нищей его вдова Камар с шестью малолетними детьми. Чтобы спасти их от голодной смерти, она поступила работать на шерстомойку и там сама заразилась холерой. Умерла она окруженная сиротами и в смертный час не вспомнила молитвы иман, а прокляла свою тяжелую, горемычную долю.
Дровосек Тусуп полдня собирал на Полковничьем острове сухие сучья, рассчитывая продать их на базаре. Усталый, он еле добрался до своего порога с вязанкой хвороста на спине, а когда открыл дверь, глазам его предстало ужасное зрелище. На полу лежали умершие от холеры старуха мать и любимая жена Сатжан. Их тела уже остыли. Тусуп тут же упал замертво.
Повсюду в домах бедняков с похвалой отзывались о Сармолле. Дамежан рассказывала Абаю, что казахи, косившие на острове сено и собиравшие топливо, сговорились больше не приглашать мулл на жаназа. Утирая слезы, она не без робости призналась Абаю, что никого не позвала на похороны Жабыкена. Абай горячо похвалил ее.
Душа Абая была истерзана болью. Он ясно представлял себе последние минуты сапожника Сакыпа, вдовы Камар, дровосека Тусупа. Проклятая зараза! Никогда не забыть этого страшного бедствия. Сколько останется обездоленных, беспомощных сирот! Сколько их уйдет вслед за матерями и отцами! Мучительно было сознавать свое полнейшее бессилье. Как и чем помочь страдающим людям, несчастному народу! Абай шагал по пустой улице, но ему казалось, что со всех сторон его теснят призраки погибших от холеры. Ему было тяжело дышать, словно кто-то железной рукой стиснул горло.
Подавленным и разбитым вернулся домой Абай. Долго сидел он у окна своей комнаты неподвижно, словно окаменев.
Вдруг застучали колеса, и Абай увидел, как в широкие ворота въехала запыленная повозка. Уж не Абиш ли это со своей молодой женой? С нетерпением Абай ожидал их вот уже две недели. Да, они!
Через несколько минут Абиш в невеньком офицерском мундире вбежал в комнату отца и громко отдал ему салем. Магиш постеснялась войти вместе с мужем и задержалась за дверью.
Абай не принял салем сына.
— За этим порогом осталась твоя жена, — печально сказал он. — Не кажется ли тебе, что это унижает тебя, офицера, и меня, твоего отца? Приведи ее сюда и внуши ей, что я не тот свекор, которого должна страшиться сноха.
Посмуглевшее от степного загара лицо Абиша покрылось густым румянцем. Повернувшись по-военному на каблуках, он отворил дверь и позвал жену.
Магиш была высока, стройна и изящна. Ее лучистые глаза почтительно и благодарно глянули на Абая из-под черных бровей и тотчас словно погасли в длинных ресницах. В овальном ее лице, чуть тронутом нежным румянцем, в белизне лба и сочных ярких губах были и свежесть и чистота, неподдельная скромность и своеобразное достоинство юности.
Абай мягко поздоровался с нею, вложив отцовскую ласку в слово «карагым» — драгоценная моя!
— Не утомилась от долгой дороги, Магиш моя? Сноха ответила тихим певучим голосом:
— Нет, ага, не очень!
Абай понимал опасность, которой подвергались сын и сноха, находясь возле него в слободе.
— Нужно немедленно, не распрягая лошадей, переехать Иртыш! — сказал он. — Здесь свирепствует холера. Вы остановитесь в городе у Данияра. У него не бывает столько гостей, сколько у меня. Там безопаснее.
Баймагамбет повел Магиш к повозке. Глядя ей вслед, Абай жестом задержал Абиша.
— Вместе с аульными сватьями и невестками Дильда нарядила Магиш в кимешек и шарши… напялила на нее толстый шелковый платок. Конечно она хотела принарядить Магиш, а получилось наоборот. Не подходит такой наряд для города! Да и уместен ли кимешек в том обществе, в которое ты введешь свою жену?
Абиш молча улыбнулся. Отец угадал его собственные мысли. Низко поклонившись отцу, Абиш вышел во двор и помог Магиш взобраться в повозку.
Сын уехал, и сердце Абая вновь наполнилось горечью. Сколько страданий на родной земле! В ушах Абая стояли душераздирающие стоны. Это обездоленные сироты и горемычные вдовы оплакивали своих погибших кормильцев. Снова и снова переживал Абай стыд и боль от сознания своего бессилия помочь страдальцам.
Ведь сумел же Сармолла внести хоть малую долю своего участия в дело спасения людей от страшной болезни. Повидавший за это время множество бедняков, пострадавших от холеры, Абай заметил, с каким сочувствием и доверием относятся они к речам Сармоллы.
Но однажды за утренним чаем хозяин дома сообщил Абаю тревожную весть. Оказывается, вчера ночью Кумаш ходил в мечеть на ночную молитву ястау и видел там муэдзина и нескольких хальфе, а на базаре в последний дни встречался с Сейсеке, Хасеном и Отарбаем, и все они прямо-таки огнем дышат на Сармоллу.
— Так они озлоблены против него, что и выразить невозможно! И чем это только кончится, ума не приложу.
Слова такого правдивого, не любящего лишних разговоров человека, как Кумаш, заслуживали внимания.
Абай решил повидаться и посоветоваться с Павловым.
Федор Иванович жил в русской части слободки между больницей и пожарной каланчой, в доме часовщика Савелия. Подойдя по широкой безлюдной улице к одноэтажному дому под серой тесовой крышей (два окна в нем были полуприкрыты ставнями), Абай толкнул знакомую калитку, — она легко открывалась и не скрипела на петлях. Посередине двора возвышался сруб колодца с журавлем. Налево виднелся птичник, возле него сновали куры, утки и гуси. Для коровы был построен маленький крытый хлев.
В сенях полутемно и прохладно. Под потолком висели веники, заготовленные для бани. В углу стояла кадка с водой, накрытая плотной крышкой. Свежепокрашенный голубой умывальник украшал сени; на его жестяных крылышках лежали два куска мыла — желтого и красного цвета. Чистота и опрятность сеней понравились Абаю.
Павловы занимали половину дома — маленькую двухкомнатную квартирку. Они приветливо встретили гостя.
И Абай сразу же заговорил с Александрой Яковлевной, о деле, которое его привело к друзьям.
— Почему две недели назад, когда я приехал в слободку, смертей было меньше, чем теперь? Отчего увеличивается эпидемия холеры? Так она скосит все население! На жаназа и хатым за последние десять дней почти что никто не ходит. Но случаев холерных заболеваний стало еще больше. Чем это объяснить?
Александра Яковлевна подняла на Абая утомленные глаза; на левом ее виске чуть заметно пульсировала голубая жилка. Печаль гостя была ей понятна. Да разве ее собственное сердце не было преисполнено горем?
— Вы приехали в самом начале эпидемии, Ибрагим Кунанбаевич. Стоят жаркие дни, и холера, естественно, усиливается. А жаназа уже сделали свое дело. Зараженные люди теперь сами заражают других — и своих семейных, и соседей, и друзей…
— Значить, дело безнадежное?
— Нет. Недели через две заболевания пойдут на убыль, — самое большее через месяц, когда спадет жара. А с наступлением холодных дней погибнут распространители заразы — микробы, и эпидемия прекратится.
Абай в раздумье молчал.
— Сегодня произошел случай… — добавила Александра Яковлевна с печальной улыбкой. — Можно сказать, смешной. Хотя смеяться в такие дни, когда люди умирают, грешно… но… человек слаб…
И она рассказала действительно смешную и нелепую историю.
Как только началась эпидемия холеры, на улицах Семипалатинска и слободы появилась «черная телега». Это была самая обыкновенная телега с брезентовым кузовом, который обычно обливали карболкой, отчего он и чернел с каждым днем все больше. Но этот фургон был вестником несчастья — в нем заболевших увозили в больницу.
Сегодня «черная телега» доставила двух холерных, подобранных под забором. Когда их вытащили из брезентового фургона, они пришли в себя и вдруг стали ругаться. Оказывается, вместо больных по ошибке подобрали и привезли пьяных.
Высокий, с взлохмаченной рыжей бородой схватил бритого, низкорослого за грудь и забормотал, икая:
— Ты же не холерный… за каким чертом ты полез в «черную телегу»? Дурак!
— Ты сам осел! — сказал бритый и, сунув руку в карман, вытащил засаленный черный кошелек.
Увидев его, рыжебородый мигом протрезвел и завопил:
— Грабитель! Это же мой! Ты у меня его украл! Жулик! — И принялся тузить бритого кулаками.
Выяснилось, что они напились в разных местах, но свалились под забором неподалеку друг от друга. Видимо, рыжебородый упал первым, а бритый вытащил у него кошелек. Но отползти подальше у него уже не хватило сил, и он заснул почти рядом. «Черная телега» помогла ограбленному найти грабителя и получить кошелек обратно.
Слушая Александру Яковлевну, Павлов нехотя усмехнулся.
Абай припомнил две строки из своего стихотворения:
И жизни будешь ты не рад, Коль ты не глуп, не пьян…Но не прочитал, а сказал с горечью:
— Кого только нет в людской толпе! Иные живут среди слез и печалей людских, как безумные у края пропасти, да еще хвастают этим… Не знаешь как тут быть — плакать или смеяться…
Абай заговорил о том, что видел своими глазами в Верхних Жатаках. Казалось, он не поразил своих друзей. Павлов в свою очередь рассказал, как холера косила грузчиков Затона, рабочих кожевенных заводов, шерстомойки, пимокатных мастерских.
— Вот где собачьи условия жизни! Не удивительно, что именно там свирепствует холера!
Павлов говорил деловито, сухо, а Александра Яковлевна словно бы шутливо, но Абай вдруг почувствовал, какая боль скрыта за их словами. Сердце Абая теснили тоска и тревога. Если его русские друзья так болеют за казахский народ, то что же должен делать он, Абай, сын этого народа? Какую пользу он сможет принести соотечественникам в эти мрачные дни?
В семье Павловых уже знали о Сармолле.
— Такого человека следует поддержать, — заметил Павлов. — Он делает нужное дело.
А Александра Яковлевна добавила со свойственной ей горячностью:
— Вы — мусульманин, Ибрагим Кунанбаевич. Пойдите на пятничную молитву и после намаза обратитесь сами к народу с речью. Право же, одно ваше слово для казахов ценнее всех увещеваний и заклинаний Сармоллы…
Абай и Павлов невольно рассмеялись. Мусульманская мечеть и минбер доступны только для имамов и хальфе. Лишь они имеют право произносить перед прихожанами проповеди. А такого грешника, как Абай, который не молится ни пять раз в день, ни даже один раз в пять месяцев, — туда просто не допустят.
Худое, осунувшееся лицо Александры Яковлевны осветила бледная улыбка. Абай поднялся. Он пообещал довести до сведения народа советы врачей.
На другой день Абай решил переправиться на правую сторону Иртыша. Он вышел на берег и выбрал готовую к отплытию лодку.
Лодочник Сеиль, босоногий старик с изможденным, морщинистым лицом, стоял на высокой корме. Он пропустил Абая к скамейке и с криком «тащите!» бросил двум молодым жигитам стоящим на берегу, длинный аркан. Они перекинули веревку через плечи и потянули лодку вдоль берега против течения. Сеиль помогал им, отталкиваясь от дна реки длинным шестом.
Вода Иртыша возле Семипалатинска прозрачна. Под ясным небом она казалась особенно чистой и отливала то прозрачной зеленью, то густой голубизной.
Поднимаясь вверх по течению, лодка миновала ряд улиц слободы, спускавшихся к реке. Абай увидел подростков и молодух с коромыслами и ведрами, шедших за водой. Босоногие водовозы, нахлестывая лошадей, въехали с бочками в реку. Выкрашенные в красный, зеленый, синий цвета, эти бочки были видны издалека. Они напоминали о каменных зеленоверхих купеческих палатах с дальних улиц, ибо принадлежали их владельцам.
Сколько холерных микробов и страшной заразы несли в эти дни спокойно и величаво текущие прозрачные струи Иртыша! Но где взять незараженную воду? Назови ее даже отравой, все равно жители убогих саманных хижин в Верхних и Средних Жатаках будут черпать воду из реки. Больше взять ее негде…
Лодка двигалась медленно, — Иртыш за лето сильно обмелел, — и Сеиль, засучив штаны чуть ли не до живота, то и дело лез в воду и подталкивал корму. Он то неторопливо греб кормовым веслом, то хватал длинный шест и, упираясь им в дно реки, наваливался на него всем телом.
Абай слышал, что у лодочника два малолетних сына погибли от холеры, а жигиты, тянувшие бечеву, тоже недавно похоронили близких: один — мать, а другой — жену. Он хотел поговорить с Сеилем, но тот сам обратился к Абаю:
— Скажи, Абай-мирза, что нам делать? Неужели мы все погибнем? Вся моя надежда теперь на старшего, сына — ему уже вот пятнадцать лет сравнялось. Он ведь тоже болел холерой. Сразу у меня свалилось трое. Я уже думал: ну, конец всему! Ан нет, те-то двое померли, а этот, гляди, пошел на поправку.
У Сеиля была больная жена. Когда сразу трое ее детей заболели, она последних сил лишилась, ослабла, руки поднять не могла. А старуха, мать Сеиля, скрючилась в молитве: «Возьми меня, господи, вместо моих внучат». Хотела умереть с ними вместе. День и ночь в доме стон и слезы!
Казалось, лодочник ждал от Абая хотя бы утешительного слова.
— Если погибнет и старший, жена и мать мои умрут не от холеры, а от горя! — печально говорил лодочник. — Скажите, Абай-ага, может человек снова заболеть, если в первый раз холера его не сломила?
Абай облегченно вздохнул, — на этот раз он мог твердо обнадежить бедного отца:
— Второй раз не заболевают. Твое счастье, что хоть один сын у тебя уцелел.
Лодка Сеиля переплыла Большой Иртыш и приблизилась к невысокому, но крутому берегу Зеленого острова. Гребцы выпрыгнули на берег и снова повели ее на бечеве протоком Кара-Су, подходившим вплотную к городу.
В лодке кроме Абая сидело человек десять. Среди них были две татарки; натянув на головы черные халаты и тщательно закрыв лица, они прислушивались к разговору Абая с лодочником. Когда понадобилось облегчить лодку, пассажиры вышли на остров и пошли берегом. Вышли и татарки. Абай хотел последовать за ними, но Сеиль сказал:
— Ничего, сидите!
— Женщины сошли. Неудобно. Я ведь здоровый. Лодочник обнажил в озорной улыбке сверкнувшие белизной зубы:
— Женщины устают, если не ходят пешком. Сидите, сидите!
Оставшись наедине с Абаем в лодке, Сеиль начал рассказывать о том, что говорили в Нижних Жатаках о Сармолле.
— Абай-мирза, правда ли, что на него ополчились имамы верхней и нижней мечети за то, что он сказал: «Пусть хоть все муллы без доходов останутся, лишь бы народу стало легче! Не зовите, мол, ишанов да ходжей на жаназа, не собирайте людей около покойников. Это, дескать, моя о народе забота». Известно вам это? Так вот, муллы решили его погубить. Так говорят в народе. А ведь они могут натворить сколько угодно безобразий, у них на это помощники есть!
Абай сильно встревожился.
— От кого ты это слышал?
— Не спрашивайте, мирза! Слышал. — Сеиль понизил голос. — Говорят, имамы двух мечетей прокляли Сармоллу: будто бы за то, что он связался с русскими попами и играет им на руку. Он, говорят, нарочно отводит мусульман от имамов и хазретов. Есть в слободке торговец Отарбай, известный скандалист. Когда у него не хватает слов для ругани, он берется за камчу, а то и за кистень. А друзья его Семейкан и Корабай еще почище будут. Настоящие разбойники. Эти люди связаны с ворами и даже убийцами. Я живу неподалеку от Отарбая. Наш водовоз сказал, — что этот самый Отарбай и его приятели поклялись прикончить Сармоллу.
— Когда ты это слышал?
— Два дня назад. Вечером в прошлый четверг.
Абай в раздумье опустил голову, взволнованный и огорченный. Ведь это он сам послал Сармоллу к людям, говорил ему: «Надо позаботиться о народе, довести до него разумный совет…» Какими бы расчетами Сармолла ни руководствовался, бедный люд верил его словам, предпочитая их всем поучениям и назиданиям отцов духовных.
Народ понимал — Сармолла не побоялся подвергнуть свою жизнь опасности. Пусть у него свои счеты с муллами, но сейчас полслова, сказанные им против хазретов, добрым семенем падают в душу народа. Не должен ли сам Абай делать сейчас то же самое, что делает Сармолла?
Обогнув остров, пассажиры вышли к протоку Кара-Су. За спиной остался густой лес Полковничьего острова, впереди раскинулся Семипалатинск. Широкие и прямые улицы города спускались к Иртышу. Бросалось в глаза белое многоэтажное здание паровой мельницы, принадлежащей татарину, купцу Мусину. Из высокой кирпичной трубы густыми клубами валил черный дым. За мельницей виднелось большое белокаменное здание окружного суда, а невдалеке от него возвышалась в окружении двухэтажных каменных строений плещеевская церковь. С ее колокольни доносился веселый малиновый перезвон, перекликающийся с густым гудением колоколов кафедрального собора. В этот колокольный гул, торжественно плывший над большим русским городом, озорно врывался пронзительный свист паровой мельницы.
Сеиль завернул лодку к протоку Кара-Су и погнал к берегу, где уже стояли в ожидании новые пассажиры. Абай снова обратил внимание на закутанных в халаты татарок, которые словно воплощали в себе немое терпение темных людей, беззащитных перед лицом бедствия.
— Я не собираюсь угодничать перед хазретом, — говорил Сеиль, ловко орудуя шестом. — Моя душа больше доверяет Сармолле. Недаром он сказал, что друг народа Абай думает так же.
Сеиль понизил голос, чтобы его не услышали люди, стоящие на берегу, и продолжал:
— Сказывают, Сармолла был у вас перед ссорой с муллами и советовался с вами? Поэтому жители Верхних и Нижних Жатаков и поверили его словам, понимаете?
Тут лодка подплыла к берегу и заскребла дном по прибрежной гальке.
— Я все понял, Сеиль, и очень благодарен тебе! — сказал Абай тихо.
Люди, ожидавшие на берегу, быстро заполнили лодку.
Лодочник перевез своих пассажиров через проток Кара-Су. Абай поднялся последним. Лодка сильно закачалась под тяжестью его грузного тела. Сеиль взял Абая под локоть и, бережно поддерживая, помог сойти на берег.
3
Пройдя мимо паровой мельницы, Абай вышел на площадь и осмотрелся, намереваясь взять извозчика. Но площадь была пуста. Пришлось идти пешком. Улицы в городе иные, чем в слободке, — на них нет ни травинки. Абай с трудом шагал по глубокому рыхлому песку, который то и дело набивался в кебисы. Хорошо еще, что горячий воздух не шелохнет. В ветреные дни в Семипалатинске бушевали песчаные бури и пыльные вьюги, от которых туго приходилось пешеходам. Но и сейчас было не легко. Только ступишь, а нога на полшага скользит назад, словно у коня, когда ему приходится месить глину.
Вспотевший и усталый Абай наконец вышел на Мир-Курбанскую улицу, почти сплошь застроенную деревянными домами. Она брала свое начало в центральной части города и тянулась через Татарскую слободку. Абаю бросилась в глаза пестрота оконных ставен и наличников. Высокие ворота и крыши домов тоже были недавно покрашены масляной краской в синий, зеленый и желтый цвета.
На Мир-Курбанской улице, в угловом полукаменном домике и остановился у Данияра Кандыбаева Абиш со своей женою. Абай отворил калитку и вошел в чисто подметенный двор.
Данияр Кандыбаев, образованный казах, служил переводчиком в Семипалатиской конторе государственного банка.
В те годы довольно часто можно было встретить молодых казахов, получивших, подобно Данияру, русское образование и носивших европейскую одежду. Они работали толмачами,[88] писарями, фельдшерами и ветеринарами. Семипалатинские казахи прозвали их «каратаяками» — черно-палочниками.
Тридцать лет назад Абай, который охотно помогал учить по-русски казахских детей, привез маленького Данияра в город и определил в русско-киргизское училище. Школы этого типа русское правительство открывало еще в середине девятнадцатого века, чтобы подготовить из среды местного населения толмачей и мелких чиновников для губернских канцелярий. Данияра поместили в интернат вместе с его сверстниками-казахами, одели в удобную русскую одежду, дали чистую постель. Через несколько недель он уже превратился в старательного и благовоспитанного школьника. Никто не узнал бы в нем степного оборвыша, безродного сироту, которого по разверстке властей («три мальчика с каждой волости!») доставили в город, хотя он и ревел всю дорогу, как верблюжонок. Пусть вначале ребятишки, а иной раз и их родители не понимали своей пользы, но Абай всегда, где только мог, способствовал русскому обучению казахских мальчиков. Немало таких вот сирот, как Данияр, он пристроил в интернат. Многие из них уже окончили школу и теперь служили в канцеляриях, добром поминая Абая: Самалбек, Нурлан, Орманбек.
Проучившись шесть лет, Данияр окончил пятиклассное начальное училище и, не сказав никому ни слова, уехал в Ташкент, вместе с товарищами, приезжавшими из Туркестана в Семипалатинск учиться. Два года он прослужил в Ташкенте, а потом перебрался в Маргелан. Здесь он женился на Афтап и вместе с нею вернулся в Семипалатинск. Афтап отличалась от городских казашек, но не походила ни на татарку, ни на русскую женщину. Это и было понятно. Дочь мелкого лавочника, она родилась и выросла среди узбеков в далеком Маргелане.
Скопленные в Туркестане сбережения позволили Данияру приобрести домик на Мир-Курбанской улице. Детей, у молодоженов пока еще нет, и они живут во всех четырех комнатах верхнего и нижнего этажей втроем со своей пожилой служанкой Майсарой.
Данияр и Афтап — редкая пара. Жена почти вдвое выше мужа. Пышная, рослая, круглолицая женщина с иссиня-черными бровями и веселыми глазами выглядит красавицей рядом с низкорослым Данияром. Но и ему нельзя отказать, несмотря на оттопыренные уши и плоские веки, в известной привлекательности. Бледно-матовое лицо мужа, покрытое легким румянцем, кажется жене очень милым, а его хрупкая фигура удивительно изящной. А особенно довольна Афтап веселым характером Данияра, он кого угодно рассмешит до слез. Только послушайте его рассказ, как он обманом привез из Маргелана свою Афтап, не знавшую ни казахов, ни русских, ни степи, ни сибирского города на Иртыше.
За Абишем и Магиш, остановившимися в его доме, Данияр заботливо, ухаживал. Сын уважаемого Абая-ага, образованный офицер, Абиш приходился ему младшим родственником. Но все это отнюдь не спасало молодых от шуток игривого хозяина. Вот и сегодня после завтрака Данияр сокрушенно сказал Магиш:
— Ох, этот Абиш, не успел жениться, как уже утащил тебя в такую даль! Должно быть, расхваливал Алма-Ату, как самый лучший город на земле! Знаю, знаю!.. Мы, каратаяки, умеем обманывать своих доверчивых жен! — И он лукаво подмигнул Магиш.
Абиш молчал, посмеиваясь и искоса поглядывая на заалевшие от смущения щеки жены. Он любил шутки и смех, — как-то она, степная скромница, отнесется к веселой болтовне Данияра?
А Магиш, преодолев робость, и тоже посмеиваясь, ответила на шутку шуткой:
— Вы лучше расскажите Данияр-ага, как сами обманули Афтап-женге.[89]
— Расскажу, расскажу… Тем более, что Афтап меня уже наказала… Бог благословил, и мы с Афтапжан поженились! Живем в Маргелане неплохо, у нас домик и сад. Но я по ночам спать не могу. Все думаю, когда снова увижу Семипалатинск и родную степь! Афтап мне сочувствует, но менять Маргелан на Семипалатинск не хочет. Зачем ей? Отец и мать рядом, над головой персики и абрикосы висят, журчит арык, соловьи заливаются, цветы благоухают, в хаузе — вода прозрачная… Это тебе не Сары-Арка! Моя тоска по родной степи ей непонятна. Чего тосковать, когда кругом груши, виноград, яблоки и другие сладчайшие плоды в изобилии. А нужно сказать, любила их Афтап, крепко любила! Подметил я это и решил сыграть на ее слабости. Сидим мы однажды под яблоней, я и говорю:
— Ну что это за яблоки в Маргелане! Смотреть не хочется! Попала бы ты в благодатный Семей. Сейчас там вот такие яблоки висят на деревьях, крупней арбуза. Ветви до земли гнутся! Ствол не выдерживает, надвое раскалывается! А семипалатинский виноград! Хусан! Ширази! Сто сортов! Один слаще другого! А груши! А персики! Положи в рот — тают, как мед! И вот как до груш и персиков дошло — смотрю я на свою Афтап… — При этих словах Данияр обратил свой лукавый взор на жену, а она заливалась смехом, содрогаясь всем своим крупным телом. Смеялась и Магиш. У Абиша на глазах выступили слезы. А Данияр продолжал как ни в чем не бывало — Аромат! Весь город благоухает! Весь в зеленых садах! На улицах розы цветут! Вода в арыках только родниковая, прозрачная, как алмаз. Соловьи словно мухи летают. А поют — оглохнуть можно. Не город — райский сад! А зеленых попугаев сколько! И какие попугаи! Сары-аркинские! Только они одни умеют рассказывать сказки «Тоты-Намэ» девяносто ночей подряд… Слушает моя Афтап, и глаза у нее горят. Вижу, хочется ей попробовать диковинных семипалатинских плодов, яблок покрупней арбузов, посмотреть райские сады и розы…
— … Как они цветут на пятидесятиградусном морозе зимой, — вставил свое слово Абиш, — и благоухают летом в песчаный буран, когда на семипалатинских улицах караван может заблудиться.
Магиш и Афтап весело рассмеялись, но Данияр тем же серьезным тоном продолжал:
— Смотрю, моя Афтап начала колебаться. Я веду более решительное наступление. Поднимаю червивое яблоко, упавшее с дерева, и морщу нос. Разве это плоды? Вот сары-аркинские персики — те никогда не червивеют. Афтап слушала-слушала и говорит: «Ну, давай поедем в твой Семей!» — весело закончил Данияр, подражая маргеланскому выговору. — А теперь, Магиш, расскажите, каким обманом везет вас Абиш в Алма-Ату?
— Он еще не успел сочинить для меня такой сказки, какую вы придумали для Афтап, а может быть, и для нас! — ответила находчивая Магиш.
После завтрака Данияр ушел на службу. Абиш остался с молодыми женщинами и пожилой прислугой Майсарой. На досуге они начали обсуждать, чем заменить кимешек на голове Магиш. Майсара, прожившая свою юность в Казани и Уфе, хорошо знала наряды местных казашек и татарок, — она предложила каляпуш[90] и желтую шаль. Абиш вспомнил о тахии,[91] расшитой золотыми нитками, и белой шелковой шали. Афтап не согласилась с ним. Наконец все три женщины ушли в спальню и раскрыли огромные сундуки с нарядами Афтап.
— Пусть Магиш нарядится и покажется Абишу, — посоветовала Майсара. — Тогда и выберет себе убор, какой ему понравится.
Магиш стала отказываться. Зачем устраивать смотрины? Она сама выберет, что ей больше по душе. Но Абиш и Афтап запротестовали. Они оба желали вмешаться и показать собственный вкус.
Абиш хотел, чтобы были видны волнистые черные с красноватым отливом косы Магиш. Он не хотел мириться с тем, чтобы кимешек скрыл ее красивые розовые ушки, белую нежную шейку. Пусть красота жены сияет, как полная луна, у всех на виду. Он не мог налюбоваться своей красавицей и нарадоваться своей любви.
Магиш молча слушала мужа, постояла в раздумье и направилась в угловую комнату. Через минуту оттуда донесся женский смех. Особенно громко смеялась Майсара.
Абиш терпеливо ждал. Но вот распахнулась дверь и на пороге появилась Магиш. Она смущенно глядела на мужа.
Вместо бешмета Магиш надела темно-вишневый бархатный камзол в талию. Он хорошо оттенял ее длинное плиссированное платье из кремового шелка. Молодая женщина отказалась от хваленной Майсарой каляпуш и от калфака,[92] предложенного Афтап. Она надела тахию с золотым шитьем, в какой была в первую свою встречу с Абишем, а поверх накинула золотистую, редко сплетенную тонкую и легкую шаль с кистями. Один конец ее она свободно обвила вокруг груди и откинула через правое плечо. Абиш с изумлением смотрел на Магиш. В новом наряде, она выглядела и такой, как в первое их свидание, и новой, еще красивее. Свежей, благоухающей юностью веяло от нее…
Подойдя к жене, Абиш ласково обнял ее за плечи и стал поворачивать то в одну, то в другую сторону, любуясь ее нарядом. Майсара молчала, поджав губы, но Афтап, будучи сама на редкость хороша собой, искренне восхищалась изящной фигурой и прелестным личиком Магаш. Афтап не была завистлива.
— В этом платье вы еще очаровательнее, Магиш! — говорила она. — Вам оно очень идет!
«Женщины лучше нас, мужчин, — подумал Абиш, с удовольствием слушая Афтап. — Они справедливее. Мужчина не станет восторгаться красотой другого, тем более если он сам красив!»
В эту минуту неожиданно распахнулась дверь и в комнату вошел Абай. Магиш не сразу сообразила, кто стоит перед нею. Густой румянец покрыл ее лицо до самых корней волос. Она вскрикнула и, закрыв тонкими белыми пальцами глаза, выбежала из комнаты. Следом за ней исчезли смущенные Афтап и Майсара, шумно хлопая дверьми и грохоча каблуками по лестнице.
Абай догадался, что происходило в комнате. Но ничего не сказал, снял малахай и прошел на почетное место. Абиш сел рядом, молча ожидая, что скажет отец.
Абай коротко рассказал сыну историю Сармоллы: о том, как встретился с ним в первый раз, как с той поры объединились против него все имамы и невежественные муллы городских мечетей, о грозящей ему расправе. Абай добавил, что речь идет уже не только об участи Сармоллы, но и об ответственности самого Абая за его судьбу. Если ему угрожает опасность, то Абай должен быть вместе с ним.
— Не знаю, как бороться против тупого невежества! — Лишь за то, что кто-то посмел сказать: «Не причиняйте вреда людям, уймите свои страсти, свою жажду наживы, не усугубляйте народной беды», — отцы духовные готовы на любое злодейство, на преступление! Вместо того чтобы просвещать народ и помогать ему бороться со страшной эпидемией, духовенство само распространяет заразу. Поистине, они не только темные невежды! Они «фитнан галям». — И Абай тут же перевел арабские слова по-русски — Презренные мира!
Молодому офицеру стало немного не по себе: в то время как его народ терпел бедствие, он в этой самой комнате всего несколько минут назад легкомысленно забавлялся, восхищаясь нарядом своей молодой жены. В маленьком домике Данияра он чувствовал себя словно на неприступном острове среди разбушевавшегося моря.
Чувствуя себя виноватым и пристыженным, Абиш стал настойчиво допытываться, чем он мог бы помочь отцу.
— Пока ничем! — Абаю понравилось рвение сына. — Ты лучше посоветуй, куда мне пойти, чтобы встретиться с народом? Я должен заступиться за Сармоллу!
Абиш подумал, что отцу не мешало бы поговорить с хазретами всех мечетей. Он сказал:
— Муллы — враги Сармоллы. Но вы для них человек посторонний. Над вашими словами они призадумаются и, может быть… переменятся… как знать…
Абай покачал головой. Подобно жене Павлова, Абиш не понимал возможностей своего отца, не понимал его места в этом злом мире.
— С этими людьми я уже говорил заочно: Сармолла много раз ссылался на меня. Их не убедишь! Эти люди, не задумываясь и не колеблясь, превратят в вероотступника любого, кто посмеет напомнить им о дне махшар,[93] когда им придется давать ответ богу за преступления перед прихожанами. А ты говоришь: иди к ним! Что ты скажешь этой мрачной кучке изуверов, черных воронов, всех этих старых суфиев, прожорливых пожилых шакирдов, смотрящих в рот своим настоятелям, имамам? Другое дело встретиться с ними перед лицом народа, чтобы народ рассудил, кто прав! Суд народный им страшен.
Абиш на мгновение растерялся, услышав такие слова. Но тотчас глаза его мечтательно блеснули.
Где встретиться с народом? Да хотя бы на базаре или на Иртыше, возле парома, на любом берегу. На реке собирается множество людей в ожидании переправы, не меньше чем на базаре. Отец сможет побеседовать с народом напрямик и заступиться за Сармоллу.
— Вы правы, ага, народ знает, что Сармоллу послали вы. Было бы несправедливо, если бы вы сейчас его не поддержали. Во всяком случае, то, что вы говорили Сармолле наедине, вы скажете теперь во всеуслышание. Вот — лучшая защита Сармоллы. И ваше сердце найдет наконец хоть малое утешение. Оно скажет, что чувствует!.. Я знаю, его душит молчание…
Абай ничего не ответил ему. Появился Баймагамбет, и Абай, надев свой малахай, собирался уйти, но в эту минуту в комнату вошла Афтап вместе с прислугой, которая несла белую фарфоровую миску с кумысом.
Не успела Афтап разлить кумыс, как за дверью раздался протяжный салем:
— Ассалау-малей-ку-ум!
Все повернулись к двери и сначала увидели камчу, а затем ее владельца — Утегельды, высокого казаха с узкой черной бородой, давнего приятеля и свата Абиша.
Афтап и Майсара приветливо встретили нового гостя и усадили за стол. С этим человеком не было скучно, он умел развеселить молодежь острым словом и отличной игрой на домбре. При нем время летело незаметно, и, придя в дом Данияра днем, Утегельды нередко оставался здесь ночевать.
Была у него одна странность. Незаурядный охотник и следопыт, Утегельды в городе чувствовал себя совершенно беспомощным. Он сознался Абишу.
— В городе я становлюсь глупее, чем верблюд в ауле. Чуть шагну в сторону и сразу же заблужусь. Если не поручишь кому-нибудь отвозить и привозить меня, то я не найду дороги ни в твой дом, ни в свой.
Два раза посланцы Абиша привозили и увозили Утегельды. И вдруг он появился без поводыря! Так как беседа с отцом все равно была прервана, Абиш не без умысла задал Утегельды коварный вопрос.
— Ты же говорил нам, что в городе заблудишься с первого шагу! Как же ты все-таки добрался, Утеш?
— Помогли желтая собачка и барабай.[94]
Афтап и Майсара весело переглянулись. А Утегельды стал рассказывать как ни в чем не бывало:
— Еще позавчера, собираясь к тебе, выехал я на самый край города и стал поперек улицы так, чтобы увидеть длинную шею барабая, из которой идет к небу дым. Погнал коня, доскакал и поставил его хвостом к барабаю. А потом увидел перед собой широкую улицу и пошел рысью. Что я запомнил, совершенно ясно — это, что, когда подъезжаешь к вам, из подворотни выбегает желтая собачонка. Тут, если сразу свернуть за угол, и будет ваш дом. Ну, я и решил, что отныне эта собачонка будет моим поводырем, с нею и в городе не пропаду. Вот так и сегодня: доскакал я до Иртыша, повернул по широкой улице, а милая моя собачонка, дай ей бог удачи, уже лежала наготове у себя во дворе. Как только я показался, она выскочила из подворотни, я сейчас же свернул за угол — и вот нашел вас! — весело закончил Утегельды.
Стесняясь Абая и, прикрывая лицо рукавом, Майсара заливалась смехом. У Афтап, разливавшей кумыс, чуть вздрагивали плечи.
Абай остановил на рассказчике добрый взгляд:
— Ну, а если не выбежит из подворотни желтая собачонка, как же быть тогда?
— Тогда я буду скакать взад и вперед по этой улице до тех пор, пока она не выскочит, — ответил Утегельды.
Тут не выдержал и Абай: улыбнулся.
Радостно было Абаю среди близких людей, и все же сердце его не оставляла тревога. Душа Абая была отравлена, яд словно перебродил в ней и казался все горше и горше. Все же, уходя, Абай добродушно пошутил над Утегельды:
— Ну вот, зачем ему город, улица, номер дома? Есть у него желтая жучка, ему и горя мало!
Вместе с Баймагамбетом Абай поехал на большой городской базар.
Сначала он прошел по магазинам Плещеева, Дерова, Михайлова-Малышева, потом заглянул в татарские магазины Хамитова, Негматуллина, Туфатуллина. Покупателей было не много. А тем, кто и был тут, кроме купли-продажи, ни до чего не было дела. Абай заметил, что большинство из них — степные казахи. Опытным глазом он сразу определил по головным уборам и обуви, из каких волостей приехали эти люди и к какому роду они принадлежат. Такие люди, когда заняты покупками, опасаются всякого постороннего взгляда. Каждый чужой человек кажется им подозрительным. Старые скряги, жадные бии и управители, мелкие хитрецы и пройдохи, расчетливые рабы своего скота, они всех считают такими же проходимцами, как они сами.
Внимание Абая привлек бай в верблюжьем армяке и малахае керейского[95] покроя. Его сопровождали два жигита. Одному из них он дал подержать посеребренный пояс, другому — плетку, а сам вынимал из кармана бешмета, заправленного в кожаные шаровары, грязный платок. Разворачивая его и шепча «бесмилла»,[96] бай с трудом отсчитывал деньги, чтобы расплатиться с кассиром. Руки старого скопидома тряслись от жадности. В это время к нему подошли еще человек пять мужчин в керейских малахаях, видимо сородичи или одноаульцы, которые узнали почетного бая и хотели его приветствовать. И тут этот старый седой человек, длинно распустив завязки своих шаровар и едва не теряя их, в смятении затоптался на месте. Неуклюже топая широко раздвинутыми ногами в тяжелых сапогах, он не только не принял салем своих сородичей, но, сердито буркнув, отвернулся от них.
Абай с презрением посмотрел на него и, закинув руки за спину, медленно вышел из магазина. Пройдя ряд лавок, он заметил среди покупателей еще несколько человек, похожих на жадного керейца, таких же настороженных и недоверчивых.
Абай понял: с этими людьми бесполезно разговаривать — и направился к мелким лавочкам. Здесь тоже было мало покупателей. Тогда он решил заглянуть на толкучку. Бедствие, постигшее город, нимало не сказалось на кипучей жизни толкучки: она по-прежнему гудела множеством голосов. Широкая площадь была переполнена покупателями, продавцами и перекупщиками, стремившимися заработать лишний пятак на дневное пропитание. Люди ходили по глубокому сыпучему песку, предлагая свой нехитрый товар. Над площадью стоял несмолкаемый шум, и невозможно было понять, на каком языке говорили и кричали продавцы и покупатели. Абай с улыбкой прислушался, но так и не смог разобрать ни одной членораздельной фразы.
Больше всего на толкучке было казахов, меньше — русских и татар. Можно было встретить и ямщика-дунганина или таранчинца, прибывшего с караваном из Туркестана, а то даже и из Китая.
Возле чьей-то тележки Абая обступили черноволосые и кареглазые цыганки в ярких цветастых шалях, перекинутых через плечо.
— Погадаю на счастье! — привязалась к Абаю одна из них, позванивая огромными серьгами и протягивая смуглую ладонь. — Посеребри ручку, посеребри!
Абай с трудом вырвался из окружения цыганок и увидел босоногого, косоглазого дивану[97] с длинным тонким посохом в руке. Острая верхушка его старого мерлушкового малахая была обмотана грязной, рваной чалмой. Обнажив костистую грудь, он стремительно пронесся мимо Абая подпрыгивающей походкой, словно бежал не по песку, а по горячим угольям.
— Аллай ха-а-ак! — выкрикивал он истошным голосом, особенно резко выделяя последнее слово.
Испуганные люди шарахались в разные стороны, а дивана, гримасничая и скаля редкие зубы, вопил в таком исступлении, что на губах у него пенилась слюна:
Шайхи-бурхи дивана, Беду-горе изгоняй! Приди, счастье, прочь беда. Аллай ха-а-ах!Опираясь на посох, он становился, как журавль, на одну ногу и воспаленными глазами оглядывал толпу. А через минуту срывался и, подпрыгивая, нырял в гущу людей. Так он и исчез в толпе — словно потонул в глубоком озере.
К Абаю подошел рыжебородый казах в каракесекском малахае с парой перекинутых через плечо кожаных сапог, сшитых в два шва. Он предложил их купить. Но тут налетели еще два продавца — казах и татарин, оба шапочника. Каждый из них держал в руках по две татарских шапки, подбитые бобром, да и на голове они ухитрились уместить еще по две.
— Как раз на тебя! — принялись уговаривать Абая шапочники. — Лучше и дешевле не найдешь.
Шорники носили свои изделия: сплетенные из сыромятной кожи камчи, длинные вожжи, сбрую для верхового коня. Перекинув через плечо охапку жайнамазов[98] с вышитыми изречениями из корана, пожилая казашка несколько раз пересекла путь Абая. По возрасту она признала в нем правоверного мусульманина, преданного молитве, и решила, что он обязательно приобретет у нее жайнамаз. Но Абай отвел глаза в сторону. Он увидел ювелира, предлагавшего кольца и браслеты, а рядом с ним ремесленника, продававшего казахский пояс с кожаными карманами, ножнами и вложенным в них ножом. Чего только не продавали на толкучке! Овчины, тулупы, шаровары, малахаи, бешметы, вышитые тюбетейки, — новые, подержанные и совсем старые, никуда не годные, но и на них находились покупатели.
Шумная, возбужденная толпа, целиком поглощенная куплей-продажей, текла мимо Абая, а он стоял, сняв свой легкий малахай из черной мерлушки, и думал: к кому же здесь обратить свое слово? На широком лбу его собрались глубокие линии поперечных морщин, около глаз и на висках выступили капли пота, густые брови нахмурились. Он словно постарел за последние дни и сейчас особенно отчетливо ощутил эту старость. Черным камнем давила душу безысходная тоска. За долгий день скитаний он не нашел ни одного человека, с кем можно было поделиться сокровенными своими мыслями и обрести истинное понимание.
«Пишу стихи, стараюсь делать добро, заботиться о народе моем, — думал он. — А есть ли внемлющие и запоминающие мои назидания?»
Абай с горечью смотрел на окружающую его толпу и словно видел самого себя со стороны. Вот он один сидит в безлюдной степи, разложил разноцветные чудные ткани и держит в руке аршин. Есть и товар и торговец, но нет покупателя.
«Жди сколько угодно… не придет твой покупатель», — подумал Абай и, сокрушенно покачав головой, направился к своему тарантасу, на котором поджидал его Баймагамбет.
Покинув шумную толкучку, он подъехал к конному базару, который собирался обычно на пригорке за окраиной города. Здесь его сразу же узнали три казаха, продававшие лошадей, один с проседью, другой рыжеусый, а третий бледный, безбородый. Они отдали ему салем и сами первые завели разговор о холере. Абай, давно искавший слушателей, обрадовался возможности высказать свои мысли хотя бы этим троим казахам. От них он услышал, что и здесь, в этой части города, около конного базара, люди умирают от холеры.
Но только он начал говорить, как тарантас сразу же окружила толпа пеших и верховых. Среди них было немало женщин, — они особенно жадно ловили его слава.
Седобородый торговец, внимательно слушавший речь Абая, наклонившись с гнедого коня, спросил:
— Говорят, что жаназа, хатым и жертвоприношения надо проводить, не собирая людей. Будет ли это угодно богу?
— Разве в шариате сказано, что только одни хальфе, кари, мулла и муэдзины имеют право совершать жаназа? — ответил Абай. — Каждый мусульманин, умеющий читать молитвы и похоронный намаз, может его совершить. Если среди родственников покойника найдется грамотей, пусть он сам прочитает поминальную молитву и коран. Не к чему беспокоить муллу.
Абай без страха отступал от мертвой буквы шариата, но видел, что и людей это не пугает. Они верили ему, и он не торопясь, терпеливо, истово и настойчиво излагал им простейшие советы: мыть руки горячей водой, не пить сырой воды, не есть арбузов и дынь, есть только хорошо проваренную и прожаренную пищу.
В мягком, грудном голосе его звучала искренная забота, и люди спрашивали друг друга:
— Кто это говорит? Что за человек?
— Да это же Абай!
Многие из слушателей видели его впервые, а те, кто хорошо знал, сразу же спросили про Сармоллу:
— Хулят его и ругают все муллы и хальфе. Правы ли они?
Абай ответил:
— Этим они показывают лишь свое невежество, ведут себя недостойно. В тягостные дни бедствия эти люди занимаются дрязгами и раздорами. Нечестно поносить Сармоллу за то, что он предостерегает людей: «Берегитесь холеры». Тот, кто предупреждает об опасности, — не злодей, а доброжелатель!
Абай вернулся с конного базара словно помолодевший. Эта первая встреча с народом смягчила и освежила его изболевшуюся душу, точно дождь иссохшую землю.
На следующий день он опять был в слободке и сразу же отправился на скотный базар. И здесь вокруг Абая тотчас сошлось двадцать-тридцать человек, покупателей и продавцов. А когда Абай шел мимо мелочных лавок, его останавливали торговцы, плотники, портные, сапожники, и многие покупатели, мастеровые. Люди спрашивали о холере, и он вновь повторял свои советы, разъясняя их смысл. Его слушали внимательно. Люди не сомневались, что уста Абая говорят чистую правду, что им руководит неподдельная любовь к народу. И Абай, взволнованный, тронутый, искал для своих слушателей самые сильные, простые и ясные слова.
Разговаривая с жителями слободки, Абай не забывал упомянуть о Сармолле, о его спорах с духовенством, о своем полном единомыслии с тем, что советовал людям Сармолла: «Самые верные советы», «Забота друга», «Надо слушаться его беспрекословно».
Всю неделю Абай ежедневно посещал городские базары. Ежедневно десятки человек слушали его советы.
Теперь городские казахи стали меньше говорить о Сармолле. При чем тут Сармолла? Сам Абай дает советы, как уберечься от холеры. Новость быстро распространилась на обоих берегах Иртыша, и верующие переставали колебаться. Многие теперь вовсе не приглашали на жаназа имамов, хальфе, кари, муэдзинов и шакирдов. Похороны обходились без поминок и хатыма, в дом покойника звали только одного муллу.
Вот когда пришли в бешенство слепой кари, Шарифжан-хальфе и Самурат-муэдзин! Спорить с Абаем было куда труднее, чем с Сармоллой…
Слово Абая пришлось по душе народу, и вступать с ним в открытую схватку было рискованно. Даже имени Абая никто из них не называл. Его именовали «степняком», «безбожником».
Тем яростей обрушились отцы духовные на Сармоллу. Заклятого врага надо уничтожить, стереть с лица земли!
Однажды ночью, после молитвы ястау торговцы Отарбай и Корабай в темном закоулке возле верхней мечети остановили старого имама. Они вели за собой Самата, Сокыр-кари, Шарифжана и Самурата-муэдзина. Дело у них к нему, видно, было нешуточное.
— Святой отец! Мы к вам от прихожан с мольбой!
Речь начал Отарбай. Высоченный, он низко наклонился к малорослому глуховатому имаму, чтобы тот услышал его голос.
— Уа, хазрет! — сказал он, тряхнув козлиной черной бородой. — Меня к вам послали люди вашего прихода. И пришел я не один. Вот за той решеткой ждут десять человек — верные последователи Магомета. Послушные божьему велению, мы просим указать путь спасения от мора, который обрушился на голову мусульман. Какой совет дадите вы?
А гундосый Корабай низким голосом добавил:
— Говорят, когда во время бури людям грозит на корабле гибель, они приносят жертву богу и спасаются от смерти. Какую жертву должны принести люди нашего города?
Корабай умолк, и снова заговорил Отарбай:
— Ваш покойный отец, святой Ак-ишан, когда народ умирал от черной оспы, велел ничего не жалеть для бога. Скажите, святой отец, народу, какую жертву он должен принести, чтобы спастись?
Высохший от старости хазрет вздрагивал при каждом слове, как пушинка. Застигнутый врасплох, старик никак не мог собраться с мыслями.
— Щедр господь, щедр господь! — бормотал он себе под нос. — Да будут благословенны ваши намерения. Жертвоприношение ваше будет одобрено нашим пророком, посланником божьим, Магометом. В дни бедствия жертва — благо. Да будут благословенны ваши цели. Бирахматила я ярхамар — рахимин!
И хазрет поднес ладони к лицу, заключая свою речь молитвой. Плохо соображая, что он такое наговорил и что им следует делать дальше, оба торговца стояли растерянные.
Выбрасывая вперед длинный посох и шаркая каблуками низких кебисов по крупному песку, хазрет направился к дому, поминутно гладя себя по лицу ладонью.
Когда он скрылся за решетчатым забором, к Отарбаю и Корабаю подошли десять прихожан, которые ожидали поодаль. Послышались нетерпеливые голоса:
— Что же сказал хазрет?
— Что советует?
Высокий, как жердь и черный, как жук хальфе Самат дал свое толкование словам имама.
— У стен божьего дома вы упомянули имя хазрета Ак-ишана, отошедшего в святости на небеса. В ответ на это вы получили из уст Садыр-Агзама, самого почтенного учителя веры в нашем городе, разрешение на святое дело. Ни один человек не посмеет обвинить вас, если вы выполните его по указанию имама, вашего наставника. Хазрет сказал — да будет так!
— Говорите прямо, — грубо прервал Корабай, — что надо делать?
Муэдзин Самурат поднял руки к небу, забубнил по-арабски:
— Вы же слышали: «Чтобы избавиться от бедствия, надо решиться на любую жертву. Как бы ни была дорога и трудна она — пусть решится народ и не знает пощады. Ничего, кроме благой награды, он не заслужит». Вот что сказано в писании.
Неграмотные торговцы плохо понимали книжные обороты, не знали арабского языка. Муэдзин повторил им свою речь по-казахски. А слепой кари нетерпеливо добавил:
— Сказано ясно. Идите и приступите к исполнению святого дела.
Сармолла в этот час чувствовал себя совершенно спокойно. Он был вполне удовлетворен одержанной победой. Все, что задумал сказать, — он сказал, что захотел сделать — сделал. Не только слепой кари, муэдзин Самурат и хальфе Шарифжан остались с пустыми карманами — сам имам за последние дни потерял львиную долю своих доходов! Великая цель достигнута! Сармолла выиграл бой…
— Да будет так! — с важностью произнес Сармолла и добавил по-персидски — Хоб, хоб аст, бисияр хоб аст![99]
На следующий вечер после молитвы ахшам он подозвал своих дочерей Бибирасу и Асьму.
— Доченьки, скажите матери, пусть готовит самовар. Я схожу к цирюльнику и скоро вернусь.
Сармолла накинул на плечи легкий халат и всунул ноги в кебисы. Дочки, высокие хрупкие девушки, почтительно открыли отцу дверь.
— Возвращайтесь скорее, аке! Самовар поставим!
Пятнадцатилетняя Асьма посветила на лестнице, пока Сармолла спускался со второго этажа, а Бибисара проводила его на улицу.
Вернувшись домой, девушки накрыли в столовой круглый стол. Но отец что-то задерживался. Несколько раз дочки подогревали самовар, но Сармолла все не шел. Это было удивительно.
— Может быть, он отправился на молитву в мечеть? — спросила самое себя мать.
— Я думаю, скончался кто-нибудь, и его пригласили на жаназа, — предположила Бибисара.
— А что, если цирюльник захотел его угостить? — сказала Асьма.
Кончился керосин в лампе. Наступила полночь. Сестры заплакали. Мать не успокаивала их. Она громко вздыхала, сердцем чувствуя, что муж попал в беду.
Час проходил за часом. Юные девушки, тесно прижавшись друг к другу, безмолвно глядели на дверь. Так они досидели до петухов. Отца все не было. Он так и не вернулся.
Цирюльник жил в четырех кварталах от дома Сармоллы, за верхней мечетью. Сармолла побывал у него, и цирюльник наголо обрил ему голову и тщательно подстриг холеную бороду и усы, как это предписанию в священной книге «Мухтасар» истым мусульманам. Поблагодарив мастера за добросовестную работу, Сармолла вышел из цирюльни.
Быстро угасали сумерки безлунного вечера, и пустынные неосвещенные улицы тонули в темноте. Сармолла шел к своему дому кратчайшим путем, вдоль решетчатого забора мечети. Он знал, что, завернув за угол, увидит освещенные окна своего домика, и уже предвкушал удовольствие посидеть с женой и дочками за кипящим самоваром. Но только он дошел до угла, как с противоположной стороны от ствола высокого дерева отделились две темные фигуры и преградили ему путь.
— Что вам? — хотел крикнуть Сармолла, но страх перехватил ему горло. Три человека выскочили из-за угла и, замахнувшись короткими дубинками, стремительно накинулись на Сармоллу, — его окружили со всех сторон.
— Помогите! — простонал Сармолла.
А неизвестные люди стали избивать его, приговаривая:
— Субханалла!
— Астагфиролла!
— Ля илаха, илла-ллах![100]
Нанося удары, они сгибались, словно суфии, совершающие земные поклоны во время молитвы.
Сармолла несколько раз падал, ему давали подняться и снова били дубинками и кистенями, при каждом ударе призывая имя аллаха. Уже полумертвого, его ударили кинжалом в грудь, а мертвому перерезали горло под золотистой бородой, которую так тщательно подстриг несколько минут назад искусный цирюльник.
На утренней молитве старшие шакирды и Корабай с горестью сообщили собравшимся прихожанам об убийстве Сармоллы. А после молитвы муэдзин, кари и оба хальфе стали объяснять, почему это случилось. Оплакивая Сармоллу, они говорили:
— Благородного, благословенного ученого, наставника нашего Сармоллу убил народ. Путь спасения от холеры был один. Чтобы прекратить бедствие — требовалось принести в жертву лучшего из лучших. И народ принес эту жертву.
Человека, погибшего такой смертью, шариат велит причислять к шахидам — мученикам за святую веру, а убийц не считать преступниками и грешниками. Когда во время бури гибнет переполненный людьми корабль, не будет грехом выбросить в море одного человека в жертву богу.
Так учит шариат. Сармолла — жертва, угодная богу. Пусть так и отнесутся к его смерти родные, друзья и ученики. Иначе они повредят душе покойного, не дадут ей предстать перед лицом всемогущего очищенной от грехов и помешают совершить жаназа, положенную для шахида!
Не успели прихожане толком разобраться в этой басне, как духовенство сообщило народу свое решение:
— За пролитую кровь на благо мусульманам Сармолла признается шахидом. Он будет похоронен в своей одежде, запятнанной кровью мученика. Во дворец всевышнего он войдет с неомытыми ранами.
Преступление возле стен «божьего дома» было совершено с именем аллаха и с благословения шариата. Религия освятила это самое настоящее убийство, потому что у преступников были на головах чалмы, в руках четки и на устах — молитвы. Этим людям мог позавидовать любой бандит. Шариат охранял их. Убийцам не надо было опасаться ни мести, ни кары, ни проклятий на этом свете. А шахиду был обеспечен рай на том. Бери в объятия гурию, пей райский кеусер и живи себе на седьмом небе блаженства.
Зарезав Сармоллу, убийцы вовремя объявили его шахидом и затушили уже занимавшийся было пожар. Имамы, хальфе, кари, муэдзин и шакирды верхней мечети заполнили дом Сармоллы, весь двор, даже конюшню, где стоял его тощий конь, и улицу возле дома. Беспрестанно твердя: «шахид», «место в раю», — они старались заглушить рыдания трех женщин — убитой горем вдовы погибшего и двух осиротевших дочерей.
— Не плачьте, немощные рабыни аллаха! Не противьтесь воле божьей! Господь знает, что делает! Перед лицом такой смерти он ждет от вас великого смирения!
— Только любимейший из рабов господних достоин стать шахидом!
— Умереть подобной смертью! Чего же лучше можно желать!
— Нельзя плакать по покойнику! А то усугубятся его загробные муки!
Так говорили, плачущим женщинам все хальфе, входившие в дом. То же самое твердил и хазрет, оказавший высокую честь семье Сармоллы и заглянувший в комнату, где лежал покойник. Бибисара и Асьма плохо понимали, что говорили муллы, мешая казахские слова с книжными арабскими. Они были подавлены горем, так неожиданно свалившимся на их хрупкие плечи.
Духовенство спешило поскорее похоронить Сармоллу. Хальфе переговаривались между собой:
— Не нужно обмывать покойника!
— Нельзя на нем менять одежду!
— Можно обойтись и без савана!
Единодушие было полное, никто не возражал, а слепой кари пояснил, почему надо торопиться с похоронами:
— Сегодня пятница, надо чтобы покойник успел прикоснуться бедром к могильной земле, пока не наступила суббота.
— Да, да! Надо скорее выполнить предписанное законом, — дружно поддержали муллы.
Слова слепого кари передавались из уст в уста, они облетели весь двор и улицу:
— Он погиб в ночь с четверга на пятницу. Это лучшее свидетельство, что он несомненный шахид!
— Такую смерть должны желать себе все истинные мусульмане!
— Всякий правоверный подумает: «Умереть бы так и мне!»
— В книге судеб «Лаухаль-Махфуз» начертано, что благословенный наставник предстанет перед троном всевышнего в совершенной чистоте.
— Можно даже позавидовать Сармолле! Шарифжан, Самурат и слепой кари голосили во всеуслышание:
— Пусть осенит нас всех святость дорогого нашего шахида Сармоллы!
Белоголовые грифы, почуяв запах свежей падали, слетаются на нее из непостижимой дали. Вот точно так же слетелись к мертвому телу Сармоллы и чалмоносные хищники, охваченные одним стремлением — поскорее закопать обезображенный труп. Они торопились с этим делом, побаиваясь смуты, которая могла вспыхнуть в народе.
Первыми о смерти Сармоллы узнали его ученики, пришедшие рано утром на занятия. Среди них были дети рыбака Ермека, рабочего Токбая, сыновья вдовы Дамежан. Ребятишки со слезами на глазах прибежали домой и принесли родителям страшную весть о гибели муллы. И все старшие тотчас, как по уговору, вспомнили речь Сармоллы, произнесенную в мечети. Вот это была речь! Она вошла в сердце простого народа. Казалось, Сармолла постиг тайну «тылсым»[101] описываемую в мусульманских книгах. Он метнул слово, крепкое и тяжелое, как каленое ядро, в толпу мулл, и оно высекло искры. Народ отвернулся от мечети, медресе, от мулл и ходжей.
Разгадать тайну гибели Сармоллы было нетрудно. Послушав взрослых, дети поняли, кто и почему убил их наставника. Исполненные жалости к нему, они выбежали на улицу и здесь встретили лодочников Сеиля и Естая с веслами на плечах. Выслушав ребят, Сеиль сказал:
— Вот идут охотши[102] — Митрий и Семен. Расскажите им, что мулле перерезали горло. Они найдут, кто это сделал.
Мальчуганы-перебежали пыльную улицу и остановили двух городовых. Охотши поправили сабли, висевшие на желтых ремнях через плечо, и направились в дом убитого. Они посмотрели на перерезанное горло покойника, многозначительно переглянулись и торопливо зашагали к забедейши, для которого они были глазами и ушами.
Подполковник Смирнов, выслушав городовых, погладил острую бородку и расправил огромные пушистые усы. За семь лет его полицейской службы в слободе это было первое необычайное убийство во вверенном ему участке. Для Смирнова слово «мулла» обозначало настоятеля мечети, во всяком случае что-то вроде попа или дьякона! И вот магометанского попа зарезали, как барана! Это уже что-то вроде бунта! Такое дело нельзя оставить без внимания!
Через полчаса следователь Зенков, врач и двое городовых явились в дом Сармоллы. Они взяли труп для медицинского осмотра, составили акт, снова одели в прежнюю одежду и положили на прежнее место. Услышав о «кощунственных» деяниях забедейши, хальфе, хазреты и муллы вновь, галдя, как галки, шумной стаей слетелись на труп Сармоллы. Шарифжан и Сармат срочно вызвали в мечеть старого имама, и вот тут-то было решено немедленно возвести Сармоллу в шахиды, а похоронить обязательно в пятницу. Хазрет сказал:
— Сармоллу принес в жертву сам народ, поэтому убийцы не подлежат наказанию. По закону ислама, в такие дела не имеют права вмешиваться посторонние. Да будет так!
На похороны имам и хальфе пригласили знатных баев, известных людей, вроде войлочника Сейсеке, мясника Хасена, бакалейщика Жакыпа, торговца Отарбая. Из степняков позвали Уразбая в расчете на то, что он пригодится как свидетель. Все эти почетные люди, исполняя правила шариата, торжественно вынесли Сармоллу из дома и понесли на мусульманское кладбище.
В эту же ночь неизвестные люди остановили Шарифжана-хальфе, возвращавшегося после намаза ястау, они сорвали с его головы чалму, вышибли у него два зуба и избили до крови. А у Самата-хальфе кто-то разбил булыжником окно. В следующую ночь над слободкой вспыхнуло зарево пожара. Это пылала крыша нового дома, построенного в дни холеры Самуратом-муэдзином.
Помимо этих неприятностей начались и другие. Охотши Митрий и Семен ежедневно то утром, то вечером вызывали к следователю Шарифжана, слепого кари, Самурата, Отарбая и Корабая. Об этом говорили не только в слободе, но и в самом Семипалатинске, в Затоне, в Жатаках Жоламана, на Озерке и во всех пригородных аулах. Слухи о зверском убийстве Сармоллы распространялись с быстротой степного пожара.
По вызову забедейши в участке побывали многие жители слободки и лодочники Сеиль и Естай. Еще до начала следствия Абай два раза беседовал наедине с подполковником Смирновым и следователем — надворным советником Зенковым. А спустя несколько дней после пожара у Самурата-муэдзина погорелец был посажен в каталажку.
Услышав ночью эту страшную новость, слепой кари велел запрячь лошадь. Он поскакал к хазрету и поднял старца с постели. Что делать? Нельзя терять времени! Шарифжан и Самат-хальфе тоже запрягли лошадей. Они скакали всю ночь, оповещая знатных баев о нависшей беде и уговаривая их оказать сопротивление забедейши. Надо дружно постоять за дело ислама!
Прошло еще несколько дней. Имамы семи мечетей Семипалатинска прислали в канцелярию подполковника Смирнова велеречивые письма со своими соображениями по поводу смерти Сармоллы. Богачи прихода пустили в ход свои связи с большим начальством. В дело вмешались семипалатинский полицмейстер и городской голова — они считали, что не к чему обострять отношения с мусульманскими заправилами. Узнав о настроении начальства, Смирнов тут же велел следователю прекратить начатое дело. Самурат-муэдзин вернулся домой. Имам, хальфе и торговцы вздохнули спокойно. Полицмейстер, пристав и следователи в эти дни заработали не одну «белохвостку», как казахи называли сотенную бумажку.
Забедейши на виду у всех отпустил убийц Сармоллы и объяснил, почему это сделал:
— Если разрешено казахам и татарам исповедовать магометанство, то надо считаться с требованиями шариата, — наставительно сказал он. — С православной точки зрения, убийство Сармоллы — преступление, а по шариату — это проведение в жизнь закона ислама. Не следует забывать, что убил Сармоллу темный народ во имя веры, желая избавиться от бедствия — эпидемии холеры. Законы Российской империи не предусматривают наказаний за такие деяния…
Так было замято дело об убийстве Сармоллы.
Свой гнев народ выместил на слепом кари. Он тоже возвращался с ночной молитвы, и его у самых ворот дома окружила кучка безмолвных людей: они сшибли кари с ног, били и топтали его, потом втащили на телегу и долго возили на ней, непрерывно угощая тумаками. Все это они делали молча, видимо хорошо, зная, что слепой кари безошибочно узнает их по голосу. Расправа кончилась тем, что его завезли во двор к незнакомому татарину, сбросили с телеги, распустили чалму, растянув ее во всю длину двора, причем один конец материи вместе с феской бросили в отхожее место. После этого неведомые мстители уехали.
Когда стук их телеги затих вдали, Сокыр-кари, полагая, что наконец-то избавилсяот своих врагов, ощупал землю вокруг себя и начал было, кряхтя и стеная, тихонько передвигаться по двору, но тут его внезапно лягнула какая-то лошадь, и он потерял сознание.
На этом закончились действия таинственных сил, жестоко расправившихся с городскими муллами и суфиями в отместку за убийство Сармоллы.
Кончался август. Гулял над степью пронзительный ветер, врывался в Семипалатинск, поднимая свирепые песчаные бураны. Холодное дыхание осени покрыло густой лес Полковничьего острова яркой позолотой. Белоствольные березы меняли свой зеленый наряд на ярко-желтый. Все холоднее становились звездные ночи, все чаще выпадали мелкие осенние дожди, а два дня подряд шел холодный ливень, замутивший прозрачные воды Иртыша.
Лужи на семипалатинских улицах стояли недолго — вода легко просачивалась в рыхлый песок.
На степных дорогах все чаще появлялись скотоводы, которые гнали в слободку отары овец, гурты рогатого скота, табуны лошадей и верблюдов. Семипалатинский базар ломился от бесчисленных крестьянских возов с пшеницей, картошкой и овощами. С наступлением холодов жители города уже с меньшей опаской покупали огурцы и арбузы — эпидемия холеры явно пошла на убыль.
— Сармолла — воистину самый благочестивый человек в городе. Не зря народ принес его в жертву по велению шариата!
— Пролитая кровь Сармоллы спасла нас от страшного мора!
— Смерть одного хорошего человека спасла от гибели многих!
— Ислам никогда не вводил в заблуждение мусульман!
— Как мы должны быть благодарны нашим вероучителям, имамам!
Так говорили темные люди на базарах и дома. И следователь Зенков на последней странице протокола дознания записал показание одного из верных служителей бога:
«По шариату, магометанин Сармолла законно принесен в жертву верующими. Что это помогло — всякий видит. Прошло две недели, и холера в городе прекратилась. Жертвенная смерть Сармоллы принесла пользу не только мусульманам, но и русским. Она сохранила жизнь и высокочтимым чиновникам государя императора!»
Услышал и Абай, какое дагуа[103] увенчало «Дело об убийстве Сармоллы». И вновь поэта охватил приступ безысходной тоски. Он задыхался, сознавая свое полнейшее бессилие. Более месяца прожил он в слободе, наблюдая мнимых наставников народа — имамов, мулл и ходжей. Он видел их в страшные дни народного бедствия, в дни холеры, когда во всей своей омерзительной неприглядности раскрылась их алчная стяжательская природа, тщательно скрываемая от взоров прихожан.
Абай содрогался от брезгливости. Ему казалось, что он попал в зловонно-грязную яму, где копошились омерзительные черви, питающиеся гнилью.
«Как жить? Как найти выход?»
В степи жадные хищники обирают простой народ, город тонет во мраке невежества, и тут и там безраздельно царствует тупое насилие. Абай чувствовал, что наткнулся на глухую каменную стену, — казалось, нет на свете силы, чтобы разрушить ее.
В эти дни тяжелых раздумий Абая потянуло к перу и бумаге. Вечером, присев за круглый стол, он пододвинул поближе лампу, и на белый лист легли первые звучные строки:
Мулла, — хоть сам две трети не поймет,— Коран толкует сутки напролет. Пускай копною у него чалма, Он, как стервятник, только падаль жрет.[104]Абай творил, ясно видя перед собой знакомых ишанов, имамов, хальфе и хазретов и обрушивая на них всю силу своего гнева, своей неутоленной боли.
«Презренные мира, они причислили себя к лику безгрешных. Вся благость их в чалме, покрывающей пустую голову, и четках, перебираемых жадными пальцами. Невежды из невежд, хищники и насильники, нет тупоумнее их на свете!»
Написав эти строки, Абай в волнении отложил перо. Сердце его пылало ненавистью.
Вдруг за окном послышался частый топот босых ног и раздалось детское пение, напомнившее ему далекие годы отрочества. Лицо Абая просветлело. Наступил рамазан, и начался пост. Это городские ребята подошли к освещенному окну, чтобы пропеть жарапазан.[105]
Три мальчика нараспев тянули приветственную песню постящимся. Вслушиваясь в согласное пение детей, Абай вздрогнул от неожиданности. Такой жарапазан он слышал впервые. Знакомый книжный текст был перемешан с отсебятиной:
Мы споем о Сармолле, О злосчастнейшем мулле. Завтра день курбан-байрама, Лучший праздник на земле. Бриться начал Сармолла, Вот так славные дела! — Бритва вместе с волосами Голову с него сняла. Сармолла пошел побриться, Чтоб ловчей носить чалму. Дочь его тоска гнетет, Чай она, рыдая, пьет. Конь его у водопоя Вслед за нею грустно ржет.[106]Мальчуганы пели долго и наконец высокими голосами прокричали последнюю строчку: «Конец — с концом дяди…»
Абай распахнул окно и молча протянул руку с мелочью. Юные певцы исчезли так же неожиданно, как и появились, а он тяжело задумался, припоминая слова песни-плача о Сармолле, сложенного, вероятно, его учениками, малолетними шакирдами.
«Гнусная, черная сила опять победила. Мир зла торжествовал многие тысячи лет. Неужели он будет господствовать вечно и никогда не уступит места добру? А слепая воля религии оправдывает этот мир насилия. В дни холеры обнаружилась вся преступная изнанка «праведных» дел святош из мечетей и медресе, блаженных ишанов и имамов. Как глубоко пустила черная свора корни своего лжеучения, как широко распространила свою власть — самое страшное бедствие для несчастного темного народа!»
Раньше Абай думал, что казахский народ стоит в стороне от этого мира зла — религии, но жизнь показала, что это далеко не так.
Размышляя о городе и казахах, оседающих в нем, поэт всегда думал, что не степнякам, а городским жителям удастся заложить основу разумной жизни для своего народа. Теперь он увидел, что мрак невежества и шарлатанства царит даже в городе, в самом очаге культуры. Сколько отцов и матерей умерло здесь в жестоких муках! Сколько ушло в расцвете сил горячих юношей и нежных девушек. Погибал народ. И это было горше, тяжелее, ужаснее самой холеры. Черный мор прекращался; но жестокая, беспощадная темная сила, лютый враг народа—невежество оставалось полновластным владыкой на земле. Зла не убавилось на свете с тех пор, как Абай стал сознательно мыслить, стараясь познать окружающий его мир. Все так же человечество переживало несчастья и беды, все так же страдал казахский народ.
С улицы донесся конский топот. Несколько всадников подскакали к воротам дома:
«Должно быть, из аула! — подумал Абай и стал с нетерпением ждать нечаянных гостей. — Едут поспешно, как бы беду не привезли».
Через минуту, громко отдавая салем, в комнату вошел Дармен. Абай обрадовался приходу молодого поэта, которого он любил, как младшего брата, и которого давно не видел.
Но, разглядев мертвенно бледное лицо его, всполошился, почуяв недоброе.
— Зачем приехал? С какими делами? Что случилось? — забросал он вопросами гостя, забывая даже предложить ему сесть.
Абай поспешно собрал исписанные листки и снял очки. Дармен, опираясь на кнутовище, не снимая малахая, присел на одно колено. Подняв на Абая воспаленные глаза, в которых сверкал дерзкий огонек, он заговорил торопливо:
— Абай-ага! Хотел вам сказать два слова, не выпуская повода коня из рук. За спиной у меня погоня, впереди — пожар.
— О чем ты говоришь?
— Начиная свою жизь возле вас, я думал, что и единой горсти зла никогда не принесу в ваш дом. Но я бессилен. Загорелся я искрой юности, а угодил в пламя. Мою судьбу я передаю в ваши руки. Распоряжайтесь ею. Боялся, что не доберусь до вас. А теперь пусть хоть погибель, но вас я увидел!
Абай начинал догадываться, о чем говорит Дармен. Абиш уже намекал отцу на днях, что Дармен неожиданно попал в трудное положение. Видимо, он явилея теперь к Абаю за помощью и сочувствием.
НАД БЕЗДНОЙ
1
Беззвездное черное небо низко нависло над землей, и сумрак сгустился в небольшом дворике Кумаша. Особенно темно было под открытым лабазом — словно сама ночь свила себе здесь гнездо. На улице безветренно и тихо, только издали доносится лай городских собак, заливающихся в озлобленной перебранке.
Четыре жигита и молодая женщина, поставив лошадей в укромное место возле конюшни, притаились в темном углу под навесом и с волнением ждут своего, товарища, ушедшего в дом. Вот хлопнула дверь, вышел Дармен. Друзья поспешили ему навстречу.
— Что он сказал? Не ругал тебя?
Дармен замялся, но, почувствовав нетерпеливое ожидание товарищей, торопливо заговорил:
— Меня не ругал… Только сказал: «Устраивайтесь в надежном месте и подавайте сразу прошение от имени Макен». Так и сказал, — пусть Абиш его напишет; а нам велел переправиться на тот берег и искать себе убежище.
Дармен взял за руку молодую женщину и быстрым шагом направился к лошадям. Эта женщина была его любимая, Макен, и о ней он только что разговаривал с Абаем.
Неразлучный приятель Дармена Абды, отвязав серого иноходца Макен, подвел его к ней, и она легко вскочила в седло и тронула повод. За ней двинулись Какитай, Муха и Альмагамбет — верные друзья, решившие разделить с Дарменом все предстоявшие ему опасности и тревоги. Шесть всадников, выехав со двора под покровом темной ночи, погнали коней по пустынной улице к Иртышу.
Они стремились поскорее перебраться через реку и скрыться от погони, затеряться в сутолоке большого города. Вольный жигит и жившая до сей поры под теплым крылышком матери девушка стали бездомными беглецами. Они прятались от посторонних глаз, с тревогой думая о том, как преодолеть широкий Иртыш, самое трудное препятствие на их пути.
Время было позднее, и паром стоял на причале у противоположного берега, а лодочники из Верхних и Средних Жатаков также прекращали перевоз с наступлением сумерек. Сообщение между слободкой и Семипалатинском было прервано. Тут только молодые люди поняли, как они ошиблись, приехав в город к полуночи. Если бы Абай не дал Дармену адреса своего знакомца, лодочника Сеиля, дело могло-бы окончиться плохо. Но Какитай немедля разыскал на высоком берегу Иртыша маленький домик с плоской кровлей, где жил Сеиль, и, передав ему привет от Абая, а заодно и просьбу переправить беглецов в Семипалатинск, вышел с ним к реке. Сеиль вызвал двух своих молодых помощников — гребцов, живших по соседству, и велел быстрее готовить лодку.
Выяснилось, что всех беглецов с их лошадьми лодка Сеиля никак не могла поднять, и Альмагамбет с Мухой и пятью лошадьми остались ночевать в слободке, решив переправиться на пароме утром, а Какитай, Абды, Дармен и Макен со своим серым иноходцем поплыли через ночной Иртыш в Семипалатинск. Когда лодка отошла от берега, Муха и Альмагамбет, ведя лошадей на поводу, направились к знакомому казаху в Верхние Жатаки, где они обычно останавливались, приезжая из аула на базар.
В это время в ночную тишину ворвался громкий топот копыт: неподалеку от берега, возбужденно гомоня, бешено промчались десять всадников. Несмотря на темноту, эти жигиты, также приехавшие в слободку по караванной тобыктинской дороге, скакали хотя и по неясному, но верному следу, который и привел их к воротам Кумашева дома. Они сообразили, что именно здесь, у Абая, должен был задержаться Дармен, а возможно, и найти убежище от погони.
Вожак всадников Даир, человек с козлиной бородкой, крупным носом и длинными лошадиными зубами, решительно вошел во двор, чтобы сначала осмотреть лабаз и конюшню, а уже после этого направиться в дом. Без явных улик Даир считал неудобным идти к Абаю. Обыскав все углы и закоулки двора и заглянув через калитку в конюшню, он не увидел там ничего подозрительного. Даир с недоумением покачал головой и почмокал языком. В эту минуту он заметил сторожа в рваном чапане, медленно и неуклюже ковылявшего ему навстречу со стороны склада. Вот кто будет для них «языком»!
Отвечая на расспросы Даира, недалекий малый охотно рассказал, что вечером шесть всадников и среди них одна женщина подъехали к воротам Кумаша, а в дом зашел только один, но и ему не разрешили остаться ночевать. Тогда они сели на коней и поскакали к Иртышу.
Даир вскочил на своего взмыленного каурого коня и помчался по направлению, указанному сторожем.
Даир и без того догадывался, что беглецы не останутся ночевать в квартире Абая, не задержатся и в слободке, а будут перебираться на городской берег Иртыша. И Даир, прежде чем броситься в погоню, отправил трех жигитов к Уразбаю, находившемуся в этот час у войлочника Сейсеке, чтобы сообщить ему тревожную весть о событиях, которые привели его в слободку.
Даир и Уразбай из одного рода и из одного аула. Они были закадычными приятелями и делились друг с другом самыми сокровенными своими тайнами. Макен, бежавшая с Дарменом, приходилась жесир[107] не только Даиру, но также и Уразбаю, и Даир считал, что главным виновником похищения девушки был, разумеется, не Дармен, человек без роду и племени, а давнишний враг Уразбая Абай. Так он и велел гонцам передать Уразбаю: сердце его сжигает огонь мести, он не остановится ни перед чем, он готов пасть от руки своего врага и готов погибнуть в борьбе за возвращение Макен, опозорившей его честь! Даир не успокоится, пока не добьется своего, он будет бороться, если потребуется, с ночи до утра и с утра до ночи, пусть беглецы спрячутся хоть под землю, он и там отыщет свою жесир и врага-искусителя.
— Передайте Уразбаю, я жду от него подмоги! — сказал Даир своим посыльным.
Жигиты разыскали Уразбая у войлочника Сейсеке. Один из них Жемтик вошел в дом, чтобы рассказать о беглецах. Рябой быстроглазый жигит со щербатым ртом и черной бородой тихими кошачьими шагами вошел в угловую, нарядно убранную комнату, где вокруг низкого круглого стола сидели Уразбай, Сейсеке и их приятель — толстяк Есентай. Жемтик рассказывал, сидя на корточках возле самой двери. Передавая свои недобрые вести, он постепенно подползал на коленях к столу. Так он рассказал о бегстве Макен с абаевским жигитом Дарменом.
Должно быть, они переправились на тот берег. Паром не работает, и перевез их, видно, кто-то из слободских лодочников. Вот Даир и решил всю ночь поджидать на берегу возвращения этого негодяя. Возможно, Сейсеке, знающий всех городских лодочников, догадается, кто именно помог Дармену и Макен.
Услышав весть, присланную Даиром, Уразбай пришел в исступление и заплясал, словно шаман, одержимый бесами. Из уст его градом сыпались проклятия на голову Абая.
А Есентай оставался невозмутимым, в заплывших маленьких глазках его, казалось, не было никакой мысли. Ровесник Уразбая, он считался воротилой большого рода Сармурзы и был известен, как злостный смутьян. Во всех делах, тяжбах и раздорах, затеваемых Уразбаем, он всегда был с ним рядом, что называется стремя в стремя. Ходили даже слухи, что в годы своей молодости они вместе удачно промышляли конокрадством.
В отличие от крикливого говоруна Уразбая. Есентай был скуповат на слова. В споре Уразбай сразу же выкладывал все, что у него было на душе, гневался, метал молнии, грубо бранился, задыхался от наплыва слов, изобличая своих противников; а Есентай обычно молча слушал и невозмутимо ждал, когда Уразбай выльет всю свою желчь, и только тогда начинал говорить спокойно, веско, неторопливо. Была у него хитрая повадка: в любом споре он норовил выступить последним, предварительно столкнув людей в словесной схватке. На тех же сборах, где дело должно было кончиться полюбовно и не сулило ссор и раздоров, Есентай обычно не выступал. Казалось, он испытывал особое наслаждение, когда ему доводилось иметь дело с наивными задиристыми простаками. Прикрыв свои заплывшие жиром глаза и сохраняя на лице величие, он начинал издеваться над несчастной жертвой, попавшей ему в руки.
А внешне Есентай выглядел так, что ни у кого не могло возникнуть даже подозрения, что этот человек в состоянии кого-либо обмануть. Азимбай, сын Такежана, научился у Есентая его напускной суровости, которой тот прикрывал свои хитросплетения и коварство. Да и не только Азимбай — многие степные воротилы считали, что у Есентая нужно учиться да учиться, как жить на свете.
Сейчас Есентай, храня привычное молчание, зорко следил за Уразбаем, бесновавшимся от новостей, привезенных Жемтиком. Купец Сейсеке, услужливо поддакивая Уразбаю, также посылал проклятия на голову Абая и самыми последними словами ругал Дармена и Макен. Уразбай клялся разыскать беглецов, привести связанными в аул и казнить: привязать к хвосту коня и пустить волочиться за ним по степи, пока не изорвет их в клочья.
Узнав, что Абай находится в слободке, Уразбай поклялся отомстить и ему:
— Сейчас же потребую его к ответу! Уж на этот-то раз схвачу за ворот его самого и поставлю на колени!.. Растопчу проклятого в прах!
Не желая терять дорогого времени, он тут же усадил Есентая и Сейсеке в просторную байскую таратайку и отправил их к Абаю. Кучер стегнул белого аргамака, и посланцы Уразбая выехали из ворот на темную улицу.
Есентай, нагнувшись к Сейсеке, тихо буркнул себе под нос:
— Бай, ты не любитель степной тяжбы, да и не особенно в ней ловок, объяснение с нашим врагом предоставь мне. Я буду говорить, а ты сиди возле меня и молчи! С тебя и этого хватит!
Есентай нарочно говорил тихо, чтобы его не услышал кучер, а закончив, скрепил уговор, крепко ущипнув Сейсеке за ногу.
К Абаю они вошли без предупреждения, и приветствия их были кратки. Увидев неожиданных посетителей, Абай захлопнул лежавшую перед ним книгу, снял очки и взглядом указал Баймагамбету на дверь. Баймагамбет понял, поэт не желает, чтобы во время беседы с Есентаем и Сейсеке в комнату вошел кто-нибудь из посторонних, и, плотно притворив дверь, присел на корточки возле Абая.
Есентай, думающий, как всегда, лишь о конечном исходе тяжбы, которую заранее считал выигранной, сразу же, не давая противнику опомниться, приступил к деловому разговору и, назвав «преступников» по имени, передал, как разъярен Уразбай их бегством. Сохраняя на лице напыщенную важность, он искоса глянул на Абая и добавил:
— Ну, Ибрай, что ты скажешь?
Есентай был моложе Абая, но обращался к нему на «ты». Это он первый стал называть поэта Ибраем, и, следуя его примеру, Уразбай и все его приближенные тоже стали именовать Абая «Кунанбаевским Ибраем», а то и просто «Ибраем».
Абай знал, что тяжба, доверенная Есентаю, не кончится добром, и решил заставить его первым высказаться о своих намерениях. Живо повернув к нему свое открытое лицо и в упор глянув остро блеснувшими глазами, он потребовал:
— Ну, кончай, раз уж начал. Скажи, с чем пришел, выкладывай все!
Есентай чуть-чуть приоткрыл прищуренные глаза и, по-прежнему искоса глядя на Абая, обронил:
— Первая цель моего прихода — услышать твои объяснения. Скажи, ты-то сам как смотришь на все это?
Явно уклоняясь от ответа, Есентай вынуждал Абая первым начать тяжелый разговор, и поэт принял вызов.
— По-моему, молодые люди совершили ошибку, они виноваты перед вами, и я не оправдываю их.
Услышав такой ответ, Сейсеке с Есентаем растерянно переглянулись, — они никак не ожидали, что Абай так легко с ними согласится. Впрочем, Есентай сразу же заподозрил Абая в каком-то подвохе, иначе он не мог объяснить себе его поведения.
«Рассчитываешь провести меня, Ибрай? Не на того напал!»— подумал он.
— Ошибка… Виноваты… Но какое же им будет наказание?
В голосе его прозвучала откровенная злоба.
— А какого вы хотите для них наказания? — резко спросил Абай.
И тогда Есентай, злорадствуя, сообщил, какую кару приготовил для беглецов Уразбай:
— Я скажу какое! Уразбай велел тебе передать: если ты их тоже не одобряешь, тогда и не защищай, а передай в наши руки. Уразбай накинет аркан им на шеи, привяжет к хвосту коня и волоком пустит в открытую степь.
— На меньшем он не думает помириться?
— Нет, он запретил даже разговаривать о чем-либо другом.
— Прошла та пора, когда можно было так расправляться! — с трудом сдерживаясь, заговорил Абай. — Ишь что замыслил Уразбай! И с чем ты приехал ко мне, посредник? Неужели вы не подумали, где вы живете и в какое время?
Есентай, не давая Абаю договорить, сердито закричал:
— Эй, Ибрай! Я к тебе пришел не в краснобайстве состязаться. А коли так, то слушай и дальше. Уразбай еще сказал: «На этот раз не только беглецов накажу, но не успокоюсь, пока не растопчу ногами истинного виновника всему — Абая. Если он держится за своего бродягу, то и я сумею найти себе помощников. Натравлю на него городских головорезов, будет кровью истекать! Не такая уж он неприкосновенная особа! Так он и сказал: «Пусть запомнит это Ибрай!»
Багровый от ярости, Есентай, казалось, сам готов был наброситься на Абая.
Уже давно поэт не испытывал такого наглого и злобного оскорбления, грубого, как удар по лицу. Охваченный негодованием, Абай не успел даже осознать хорошенько возможных последствий ссоры.
— Ты пришел для новых раздоров! — вскричал он. — Убирайся прочь! Передай Уразбаю, если он не прекратит своих злодеяний, ему придется горько раскаяться! Вообразил себя всемогущим властелином! Остервенел! Пусть не забывает, что есть силы, которые и его сумеют вогнать в землю! Выйди вон! Уходи!
Абай так сурово сдвинул брови и так гневно посмотрел на Есентая налитыми кровью глазами, что тот, не сказав больше ни слова, поднялся и медленно, стараясь сохранить важную осанку и надменное выражение лица, направился к двери. Следом за ним покорно поплелся безмолвный Сейсеке.
По возвращении своих послов Уразбай начал спешно отправлять гонцов на все четыре стороны. Купеческий дом зашумел, как растревоженный улей, из ворот то и дело выезжали жигиты, они мчались берегом реки и исчезали в потемках.
Даир в пылу охватившего его гнева метался по слободке, подобно собаке-ищейке, вынюхивающей следы. Он загонял своих жигитов, то и дело посылая их вдоль берега в сторону Верхних и Нижних Жатаков разыскивать беглецов, но они словно сквозь землю провалились.
Уразбай и Сейсеке сразу смекнули, что лодочник, переправивший беглецов, еще не успел вернуться. Сейсеке через посыльного вызвал к себе торговца Корабая, на которого можно было вполне положиться, недаром войлочник сравнивал его с острым мечом или меткой пулей. Действительно, этому бесшабашному торговцу ничего не стоило зарезать или пристрелить человека.
Корабай быстро запряг лошадей и, взяв с собой двух дюжих работников, прискакал на безлюдный берег Иртыша, где и нашел Даира. Они вдвоем стали поджидать возвращения подозрительной лодки, ушедшей в неурочное время. Ждать пришлось недолго, до чутких ушей Даира донеслись всплески весел, и он тихо приказал Корабаю и своим жигитам спуститься с обрыва к реке и притаиться.
Лодка приближалась, медленно скользя по черной воде, уже можно было разглядеть неясные фигуры гребцов, склонившихся к веслам. Корабай подал знак, и его жигиты выросли у причала как раз в ту минуту, когда Сеиль ступил на песок.
Жигиты преградили дорогу лодочникам.
— А ну, переправьте и нас!
Корабай остановил Сеиля и вызывающе, не скрывая своих подозрений, спросил:
— А раньше ты мне объяснишь, кого перевозил в такую темную ночь!
Сеиль, не обращая внимания на торговца, велел гребцам забирать весла. Тогда Даир и его жигиты хором загомонили:
— Стой! Переправь и нас!
— Мы тебе столько же заплатим!
— Перевези, мы торопимся!
— Помоги нам!
Жигиты галдели, окружив лодочников со всех сторон.
Рослый, широкоплечий Сеиль молча возился возле своей большой лодки, с помощью двух гребцов выволакивая ее на берег. Работал он вразвалку, не спеша, с полным пренебрежением к грозным окрикам Корабая.
— Для тебя мои деньги поганые? — не выдержал торговец. — Что ты все ко мне спиной поворачиваешься? Почему молчишь? Бели бы мне не было нужно позарез, я бы не пришел сюда ночью… Сейчас же садись в лодку! — завопил он, теряя голову от злости.
Но Сеиль по-прежнему не обращал на него никакого внимания. Лодочник был не из пугливых.
— Я и так поздно кончил работу, устал, пальцем пошевелить не могу, — спокойно и решительно возразил он. — Да в такую темень какой же лодочник будет возить тебя взад и вперед по Иртышу? У меня тоже голова на плечах есть! Если спешишь — приходи завтра пораньше, а сейчас не повезу…
И, вскинув на плечо шест с длинным крюком на конце, Сеиль приказал гребцам:
— Идите спать, жигиты!
И сам направился было к своему дому. Но Корабай, хотя и получил явный отпор со стороны несговорчивого Сеиля, все же решил не отставать.
— Ну хоть скажи, кого ты переправил сейчас? Почему его согласился перевезти, не посмотрел на темноту, а для нас находишь отговорки! Скажи правду, кто поднял тебя в эту ночь?
Даир тоже допытывался:
— Ты только скажи, кого перевозил, городских людей, знакомых или приезжих из степи?
— Мои знакомые — это деньги за перевоз! — отвечал Сеиль со скрытой насмешкой. — Сеиль через Иртыш тысячи людей перевозит. Он им не смотрит в лицо, — ему все равно, кто едет. Я и не заметил в темноте, кто сидел в лодке, городские люди или приезжие.
И Сеиль направился к воротам своего дома.
Корабай и Даир не стали его останавливать, пусть уходит. Зато они привязались к гребцу Тусипу, надеясь, что он окажется сговорчивее. Они долго толковали с ним то сурово, то ласково и в конце концов добились своего: Тусип сознался, что Сеиль переправил на городской берег трех жигитов и женщину. Должно быть, это были степные люди, из их разговора Тусип понял, что они держат путь в Затон. В лодке они везли с собой серую лошадь под женским седлом.
Даиру теперь все стало ясно. Когда он гнался по караванному пути из далекого Чингиза по следам беглецов, местные жители рассказали ему, какой масти были кони, на которых те скакали в сторону Иртыша. Сейчас он установил, что всадники добрались до берега и здесь два человека отвели пять лошадей в слободку, а четверо взяли одну лошадь с собой. След был найден, теперь надо было действовать не мешкая.
— Ну, поехали! Накроем сегодня же ночью! — воскликнул Даир.
— Лодку надо! — отозвался Корабай. И они отправились искать лодочника.
Пока Дармен с товарищами, сойдя на берег в центре Семипалатинска возле белой паровой мельницы, добирались до Затона, прошло немало времени. Беглецы долго брели по Казачьей слободе к дальней окраине города, идти было трудно — ноги тонули в глубоком песке. За городом начинался пустырь, и дорога шла то вдоль обрывистого берега Иртыша, то спускалась к лесу. Временами она круто поднималась вверх и далеко отходила от реки. Изредка на пути встречались тесно сбитые в кучу строения: это были кустарные заводы — овчинный, кожевенный, пимокатный, пивоваренный, водочный. Начинался Затон — обширная рабочая окраина Семипалатинска. К каждому заводу примыкало несколько темных тесных улиц.
Иртыш делает здесь большую излучину, образуя широкий залив, очень удобный для зимней стоянки многочисленных пароходов и барж. Рабочие Затона настроили себе лачуги на узких уличках поближе к Иртышу, так и образовался небольшой поселок.
Среди здешнего трудового люда больше всего было грузчиков. Во время навигации они перетаскивали на спине тысячи пудов клади, а как только кончалась летняя страда, переходили на поденную черную работу. Казахская беднота, покинувшая разоренные аулы в поисках куска хлеба, находила в Затоне спасение от голодной смерти — работу, пусть изнурительную, тяжелую, но все же она давала возможность прокормить жену, детей и престарелых родителей. И люди, прибывшие в Затон из аулов, радовались, что могли существовать, не протягивая руки за подаянием.
Рабочих Затона легко можно было отличить от жителей торгового Семипалатинска и слободки. Жили они особняком, и это накладывало свою печать на их поведение. Они редко покидали свой речной поселок, и только во время мусульманских праздников рамазана и курбана, когда на просторных площадях города устраивались состязания борцов, слава о затонских грузчиках гремела среди казахского и татарского населения. Грузчики выходили на круг — по три человека, по пять и по десять зараз — и всегда оставались победителями. Прославленные городские борцы, не выдержав мертвой поясной хватки грузчиков, грохались на землю, словно подкошенные. Малоречивые, широкоплечие, толстоногие силачи, схватив противника за воротник, легко перекидывали его через плечо. Это опрокидывание на обе лопатки, именовалось «затонским приемом», — праздничная толпа зрителей складывала целые легенды об этой борьбе.
Когда Дармен и Абды обдумывали план побега, они рассчитывали не только на Абая, но и на помощь затонских рабочих. Абды сам в свое время проработал в Затоне почти два года, у него там остались закадычные друзья-приятели и добрые знакомые. Дармен тоже частенько бывал здесь, когда ему приходилось подолгу жить в Семипалатинске. Посещая дома рабочих со своей домброй, он тешил и удивлял хозяев своим уменьем слагать стихи.
Сейчас Абды и Дармен решили остановиться у самого надежного своего друга Абена, жившего в домике из двух маленьких комнатушек. Когда прибыли усталые путники, семья Абена спала. Ворота им открыла высокая тонкая женщина — жена хозяина Айша. Сначала Абды, оставив своих спутников во дворе, вошел в дом один. Через минуту в обеих комнатках приветливо засветились огоньки, а из дома вышел хозяин — белолицый, черноусый жигит.
Гостей провели в дальнюю комнату, а в передней Айша захлопотала возле медного самовара и кухонного котла.
В присутствии Макен жигиты не хотели посвящать хозяев дома во все подробности своих дел, а лишь дали понять, что Дармену и Макен нужно скрываться, поэтому необходимо зорко наблюдать за соседями: посторонних глаз кругом множество, а болтливых уст еще больше.
Абен одобрительно кивнул, он уже понял все. Какитай решил, не дожидаясь чая, ехать к Абишу, чтобы поскорее написать прошение, о котором говорил Абай, и немедленно сдать его в канцелярию уездного начальника и в окружной суд.
Дармен передал Какитаю запечатанный конверт.
— Это письмо от Абая-ага к Абишу. Видимо, советы ему дает. Отвези.
Какитай молча кивнул головой и положил письмо в карман.
Дармен и Абды, посовещавшись, решили, что связь с домом Абена должна, поддерживаться только по ночам, и лишь в исключительных случаях можно прийти днем Абен, слушая этот разговор, одобрительно кивал головой, а когда Какитай направился к двери, посоветовал:
— Даже ночью не ходите по нашей улице. В каждом доме есть собака, они поднимут такой лай, что разбудят весь поселок. Да и соседи наши очень любопытны, начнутся ненужные разговоры, подозрения. Я покажу вам сейчас безопасный путь, который сразу от ворот выведет вас в безлюдное место.
Серый иноходец Макен стоял, возвышаясь над низенькой изгородью дворика, словно живая улика. Какитай вскочил на него, и Абен, выведя жигита на безопасный путь, почти целую версту шагал рядом с конем, провожая гостя.
Хотя уже близился рассвет, когда прискакал Какитай, в доме Данияра еще не спали. Не снимая чапана, он поспешил рассказать о причине своего необычного посещения и передал Абишу письмо Абая. Взволнованный, он то садился, то вскакивал, его звучный голос поминутно срывался.
Слушая его, Абиш быстро пробегал ровные крупные строчки, написанные знакомым отцовским почерком.
По словам Какитая, в ауле оставалось немало любителей раздоров, готовых учинить любое буйство, лишь бы был повод к чему-нибудь придраться. С часу на час может нагрянуть погоня. Бегство Макен с Дарменом привело в ярость самого лютого хищника степи— Уразбая, а этот бай никогда и никому не давал спуску. Какитай слышал, что Уразбай находится в городе, положение создавалось серьезное, и люди, помогающие Дармену и Макен, должны быть готовы ко всему, а главное — не терять золотого времени…
Абиш на мгновение задумался, а затем молча протянул исписанный крупным отцовским почерком листок Какитаю.
Тот, сдвинув брови, быстро пробежал глазами строчку за строчкой:
«…Ты знаешь, кем стал для меня Дармен. С каждым годом его все больше и больше любят в народе. Мне приятно, что ты всегда относился к нему дружески, ну вот и докажи теперь, что ты его друг, истинный и неизменный. Плохой друг — это тень: в ясный день беги от него — не убежишь, а в ненастье ищи его — и не сыщешь. Я старался уберечь тебя от степных тяжеб и до сих пор боролся один, заступаясь за беззащитных, теперь наступил и твой черед. Дармен и Макен правильно поступили, убежав в город, ибо русские законы все же лучше защищают личность человека, чем законы шариата в степи. А с судьями и начальниками ты разговаривать сумеешь, ты вращаешься среди них; но все же помни — предстоит жестокая борьба, приготовься к ней».
Какитай и Абиш переглянулись, они поняли друг друга без слов, им было ясно, что надо делать.
Абиш велел Данияру побыстрее заложить пролетку, а сам стал одеваться. Чтобы в ночную пору сойти за городского торговца, офицер натянул на плечи тонкий чапан и надел татарскую шапку.
Пока Данияр и Какитай закладывали коляску, Абиш, присев к письменному столу, написал от имени Макен Азимовой два прошения: одно семипалатинскому уездному начальнику и другое — председателю окружного суда. В них казахская девушка, бежавшая из степи, просила защиты и свободы.
Сложив прошения, Абиш уже собрался было ехать, как вдруг Магиш неожиданно для всех заявила, что она тоже отправится в Затон. Мужчины, ссылаясь на позднее ночное время, принялись ее отговаривать, но Магиш настаивала на своем:
— Макен — самая близкая моя подруга, я люблю ее больше, чем своих родных. Сейчас, когда она в такой беде, я должна ее повидать. Я не успокоюсь до тех пор, пока не встречусь с ней. Возьмите меня с собою! Каждый день я не буду с вами ездить, но сегодня я должна ее навестить… Может быть, больше мы и совсем не увидимся…
Решение поехать вместе с мужем родилось в душе Магиш сразу же, как только она узнала, что Макен в Затоне. Волнуясь, она выжидающе и в то же время ласково смотрела на Абиша своими большими серыми глазами, умоляя его исполнить ее страстное желание.
Абиш понял, что творилось в душе жены, он бережно обнял ее и сказал:
— Поедем!
Магиш поспешно оделась, и они вышли во двор. Какитаю пришлось сесть на козлы. Резвый вороной иноходец быстро мчался по безмолвным улицам спящего города.
Все в доме Абена спали. Один Дармен, не раздеваясь, лежал в полудремоте возле утомленной, крепко уснувшей Макен. Он первым выбежал во двор, когда Какитай остановил коляску у ворот.
Чуткая Макен пробудилась сейчас же, как только поднялся Дармен. Увидев вбежавшую Магиш, она молча бросилась к ней в объятия и замерла, не произнося ни слова и не разжимая сомкнутых рук. Души подруг были переполнены предчувствием грядущей опасности и жгучей обиды, и, целуя друг друга в глаза, они ощущали на губах горькие, солоноватые слезы.
Появившийся в комнате Абиш прервал их безмолвную беседу, вынул заготовленные прошения и попросил Макен подписать их. Девушка послюнила карандаш и тщательно вывела крупными буквами свою фамилию: «Азимова».
Пряча подписанные бумаги, Абиш сказал:
— Хотя вас и подстерегает на каждом шагу опасность, все-таки я доволен, что вы приехали менно сейчас, пока я в городе. Для вас, Дармен и Макен, я сделаю все, что в моих силах. Завтра я сам передам эти бумаги по начальству. Живите себе тихонько и не беспокойтесь ни о чем. Вы сделали все, что смогли. Об остальном позаботимся мы с Какитаем. Кроме нас у вас есть и другие защитники — Абды и Абен. У них руки такие же сильные, как сердца, они сумеют постоять за вашу честь и никому не дадут спуску. Мы имеем дело с опасным врагом, но рано или поздно, а с ним нужно было схватиться. Эту схватку начали вы, жалеть об этом не приходится. Нас не много, но, дорогие друзья, давайте вместе твердо стоять до конца. Кажется, Магиш со мной вполне согласна?
Абиш закончил свою речь шуткой, в которой, однако, звучала тревога.
Не только Абды и Дармен, но и Абен почувствовал в Абише надежного друга. Никто из них ничего не сказал, только Макен, на глазах которой выступили горячие слезы, прошептала:
— Что бы со мной ни случилось, Абиш, я все вытерплю.
Гордая словами подруги, Магиш воскликнула:
— Душа моя, Макен! — и бросилась вновь ее обнимать. — Ты вынесешь, ты вытерпишь! — шептала она, целуя глаза Макен.
А жигиты уже вели деловой разговор, намечая план действий. Они условились одну из лошадей, которых утром Муха и Альмагамбет должны были переправить через реку, пасти стреноженной в лесу. В случае неожиданной тревоги на ней можно прискакать в город к Данияру, где Абиш и Какитай тоже будут держать наготове лошадей. Договорились, что Альмагамбет и Муха день и ночь будут находиться возле Макен и Дармена.
Чтобы не разбудить жителей Затона, Абиш, Какитай и Магаш покатили обратно в Семипалатинск тем же обходным путем, каким и приехали. В то самое время, как они пересекли городскую площадь у белой паровой мельницы, к безлюдному берегу Иртыша причалили три большие лодки, переправившие шесть лошадей, телегу и десяток жигитов Даира, которых отказывался перевезти Сеиль. Знакомые Корабаю лодочники высадили жигитов как раз в том месте, где ночью причалил Дармен со своими друзьями.
После отъезда Абиша Дармен и Макен снова улеглись спать в задней комнате Абена, но заснуть не могли. Они лежали рядом, стараясь не шевелиться, — каждый с нежностью и жалостью думал о другом: «Пусть отдохнет!»
Прислушиваясь к дыханию лежавшей рядом Макен, Дармен отчетливо вспоминал все дни своей любви и словно переживал их снова. В их любви были такие прекрасные минуты, что — он знал — они не забудутся до самой смерти.
Дармену, когда он встретил Макен, было двадцать пять лет, но ни один луч любви еще не коснулся его сердца, не обжег его своим пламенем. Он всегда радовался, когда узнавал о страстной любви, загоравшейся между друзьями сверстниками и сверстницами, и охотно бывал посредником между влюбленными. С восторгом наблюдал он светлое чувство Абиша и Магиш, возникшее при неожиданных обстоятельствах, он радовался их пылкому счастью, как мог радоваться младший брат. Душой поэта он понимал их, и его собственное чувство к Абишу, казалось, в те дни растворилось во взаимной страсти влюбленых.
В середине лета, когда Абиш поехал за невестой, Дармен сопровождал жениха в татарский аул. Двадцать дней он провел вместе со своими друзьями на живописном жайляу Керегетас и в эти незабываемые дни нашел свое счастье, встретив подругу Магиш — Макен.
Любовь их родилась под благотворными лучами светлого чувства, какое питали друг к Другу Абиш и Магиш, хотя те ни словом, ни делом не способствовали сближению молодых людей. Они лишь проявляли дружеское участие к ним. Но, вероятно, самое общение с влюбленными зажгло целомудренные сердца Макен и Дармена огнем чистой любви. Пламя рождает пламя, но когда вспыхнуло это пламя в сердце Дармена, в какой из двадцати проведенных в ауле невесты дней, он теперь и сам не знал, скорее всего в ту лунную ночь, когда они по просьбе Абиша впервые пели дуэтом, а возможно, на другой день, когда, отправившись вчетвером гулять далеко за аул, вдруг как-то незаметно очутились наедине; а может быть, и во время выступления Дармена на многолюдном сборе, когда он пел свои звучные песни, радуя сердца восхищенных слушателей. Наверное, тогда Макен заметила, что у Дармена какие-то особенные, не такие как у других жигитов, черные, с нежной искоркой глаза и что небольшие усы прекрасно оттеняют его яркое, смуглое лицо.
Макен жила вдвоем с матерью в ветхой юрте бедного аула. Когда Дармен однажды вечером появился у них вместе с Абишем и Магиш, мать насторожилась, почуяв в нем возможного жениха для дочери. Молодой акын понравился ей мягкостью характера, она похвалила его трогательные, идущие от сердца песни и в душе благословила счастливый час его первого посещения. Дай бог, чтобы оно было не последним!
На другой день имя Дармена было на устах всех жителей аула, юный акын покорил и старых и молодых. С каждым днем чувство Макен к Дармену росло, она с нетерпением ждала новых встреч. Таинственную тропинку к сердцу возлюбленной поэт проложил песнями, которые она слышала и днем, и ночью, и на улицах, и на сборах, а чаще всего — оставаясь с молодым жигитом наедине. И еще одна сокровенная, тайная связь возникла между сердцами влюбленных: это были стихи и мелодии Абая.
Дармен очень часто пел песни Абая, а Макен и Магиш старательно их заучивали. Девушки нередко пели их на сборах и дома. Когда в присутствии Макен Дармен запевал «Ты свет очей моих», или изливал горестные чувства в песне «Угнетена душа моя», или встречал ее словами «Привет тебе, Каламкас», — сердце ее замирало от сладостного восторга. В устах Дармена абаевские стихи приобретали особую прелесть и звучность, она без конца могла слушать, как он поет «Не просветлеет в разбитом сердце моем», бросая на Макен нежные взгляды.
Так песни Абая помогли разгореться пламени любви в сердцах юноши и девушки, они оба переживали это чувство впервые и не осознавали в полной мере, что с ними происходит, как обычно не сознают этого молодые люди с чистой душой. Они не обменялись ни одним словом, которое могло бы открыть их переживания, каждый бережно хранил в своем сердце сокровенную тайну. По своей наивности Макен и Дармен даже не подозревали, что друзья и близкие, раньше чем они сами, распознали их сердечные тайны.
Первыми заметили зарождающуюся любовь Абиш и Магиш. Они нарочно заставляли Дармена петь любимые песни Макен и наблюдали за влюбленной парой, незаметно обмениваясь радостными, понимающими взглядами.
Наблюдая за Макен, на смуглом лице которой теперь то и дело вспыхивал едва заметный румянец, Абиш вспомнил героинь прочитанных им романов. Эти хрупкие женщины с тонким станом и нежными чертами лица обладали всесильным чувством любви и умели не только страдать, но и бороться за свое счастье. Стройная, как молодой тополек, Макен даже внешне казалась Абишу похожей на этих необыкновенных женщин, и он радовался, что его друг, которого он любил за душевную чистоту, поэтический дар и доблесть жигита, нашел себе достойную пару.
Абиш с нетерпением ждал, когда же наконец Дармен и Макен объяснятся и их любовь перестанет быть секретом для близких. Конечно, если бы они обратились к нему, он обязательно посоветовал бы им без всяких колебаний связать свою судьбу и не отступать ни перед какими препятствиями, пусть даже впереди пылает пожар.
А пожар и в самом деле вспыхнул на дороге к счастью влюбленных.
За три дня до проводов Магиш молодежь отправилась на обычную вечернюю прогулку за аул. Накинув на плечи шелковый чапан, Магиш прикрыла им тоненькую Макен, и подруги, обнявшись, медленно пошли рядом с жигитами, слушая веселые песни Дармена.
Когда взошла луна, Абиш разделил девушек и увлек Магиш за собой, а Дармен остался с Альмагамбетом и Макен. В эту минуту, подгоняя плеткой темно-серую норовистую лошадь, к молодежи подскакал пожилой толстяк с черной козлиной бородкой и крупным носом. Не ответив на приветствие жигитов, он грубо крикнул:
— Есть здесь Макен? Это ты будешь? Подойди-ка ко мне!
Дармен и Альмагамбет в недоумении переглянулись, им не понравилось грубое поведение незнакомого толстяка. Но Макен знала его и послушно приблизилась к коню. Это был ее аменгер, звали его Даир.
Пять лет назад, еще при жизни покойного отца девушки, Азима, близкий родственник бая Уразбая Даир засватал Макен за своего младшего брата Каира. После смерти Азима его вдова, оставшись с дочкой-сиротой на руках, окончательно обеднела и попала в полную зависимость к родственникам жениха, которые кое-какими подачками подкармливали ее и Макен.
Хотя девочка-невеста и в глаза не видела суженого, она покорилась своей судьбе. В прошлом году Каир, упав с лошади, разбился и умер, а его старший брат, сорокалетний Даир, у которого была сварливая и невзрачная жена, через несколько месяцев явился к матери Макен и предъявил на девушку права аменгера.
— Брат мой умер, на Макен женюсь я сам. Не позднее осени приведите ее в мой дом.
Когда в татарском ауле появился жених Магрифы Абиш с другом Дарменом, родственники Даира, уехавшего на ярмарку, забеспокоились. На жайляу между Дарменом и Макен завязался такой узел, который, по их мнению, мог благополучно развязать только сам Даир.
Когда он вернулся с ярмарки, два сплетника, тайно посланные старыми женге в татарский аул, принесли ему сведения, что Макен, забыв всякий стыд, веселится с молодежью из аула Абая.
Даир, смотревший на все глазами Уразбая, считал Абая и окружавших его людей своими заклятыми врагами. Недолго думая он вскочил в седло и помчался в татарский аул, решив застать Макен на месте преступления. Ему сразу же повезло: он увидел свою невесту в обществе жигитов.
Когда девушка спокойно подошла к Даиру, он зашипел:
— Сейчас же уходи отсюда к своей матери. Скажи ей, что я приеду на днях и увезу тебя к себе.
Макен густо покраснела, она еще не примирилась с мыслью стать женой Даира. Грубый окрик Даира возмутил ее до глубины души.
— Что с вами? Почему вы кричите на меня?..
— Замолчи! — по-собачьи оскалил зубы Даир. — Сейчас же уходи домой!
— Я еще не ваша жена… И не буду ею… Этого Даир не мог снести, со всего размаху он ударил плеткой Макен.
— Не будешь?!
— Подлый человек! — закричала Макен, отпрянув назад под защиту товарищей, и в ее голосе прозвенела мольба о помощи.
Дармен первым бросился на выручку и мгновенно оказался между девушкой и Даиром. Ловким движением жигит вырвал из рук аменгера занесенную над головою Макен плетку.
— Стой! Бессовестный зверь!
— Прочь с моего пути! — завопил Даир. — Я тебе заступлюсь! Я вас всех в землю вгоню!..
Тут он заметил приближавшегося Абиша и нарочито громко добавил:
— На Абая надеешься! Думаешь, он тебя защитит? Даже сам господь бог тебе не поможет… Все равно вгоню живьем в землю!..
И, повернув коня, Даир ускакал.
Молодежь долго не возвращалась домой, проведя полночи в степи, залитой серебряным лунным светом. Абиш, Магиш и Альмагамбет ходили втроем, а Дармен и Макен не покидали друг друга ни на мгновение. Что творилось в их сердцах, было понятно всем, и друзья молчаливо выражали им свое сочувствие.
И в эту-то ночь Макен и Дармен неожиданно для самих себя открылись друг другу в любви, за скупыми словами последовали первые робкие объятия, а затем пламенные поцелуи, от которых трепетало и таяло сердце молодого жигита.
В ту ночь определилась их общая судьба, а сейчас она висела черной тучей над беглецами, нашедшими прибежище в доме гостеприимного Абена.
Дармен тихо лежал возле Макен в тяжелом раздумье, вспоминая утреннюю зарю своей любви на жайляу Керегетас. Сколько она принесла беспокойства и смуты близким ему людям! Особенно волновала Дармена мысль, что он нарушил покой Абая, каждый час которого дорог. Но что мог сделать Дармен, как не бежать в город? В степи ему грозил суд биев, который отдал бы Макен в жены Даиру, а у Дармена отобрал бы весь скот и нищим прогнал из родного аула. Могло быть и хуже: их и действительно вогнали бы живьем в землю, как пригрозил Даир. Дармен тяжело вздохнул, подумав о том, что опасность далеко не миновала. Будущее рисовалось ему в мрачном свете, и если бы не надежда на верных друзей, он пришел бы в отчаяние. И тут ему вспомнился Абиш, самый верный и близкий друг, примчавшийся в Затон, чтобы подать ему руку помощи. Еще в тот незабываемый вечер на жайляу Керегетас, когда он впервые поделился с Абишем своей сердечной тайной, Абиш, предвидя тяжкий путь страданий, ожидающий влюбленных, сказал:
— Не смущайся, Дармен! Я знаю, ты боишься впутать в раздоры своих друзей, огорчить Абая-ага. Разумеется, твоим защитникам придется нелегко. Но пусть тебя это не смущает. За такого человека, как ты, и пострадать не обидно. Мы с отцом постоим за твою судьбу и, чего бы нам это ни стоило, никогда не укорим тебя. Я твердо уверен, что Магиш и Какитай думают так же. Поэтому оставь колебания и действуй смело!
Перед отъездом с жайляу в город Абиш, уже знавший, что Дармен и Макен решили соединить свои жизни, обещал обо всем рассказать отцу.
Дармен вспомнил вчерашнюю беседу с Абаем и понял, что Абиш сдержал свое обещание. Абай знал все и готов был оказать Дармену и Макен защиту и помощь. Хотя он и не говорил об этом прямо, но его советы переправиться на лодке Сеиля, найти укромный уголок на городском берегу и обратиться к Абишу для составления прошения лучше всяких длинных заверений свидетельствовали о том, что он готов нести ответственность за судьбу беглецов. «Абай-ага и Абиш сумеют защитить нас», — подумал Дармен, и в сердце его вошло успокоение.
На следующий день случилось то, чего больше всего боялись в доме Абена, — Корабай и Даир, пробравшиеся в Затон, уже рыскали по всем улицам, с подозрением оглядывали каждый дом. Они уже нашли себе пристанище в знакомой семье, жившей как раз по соседству с домом Абена, в небольшой халупе с плоской крышей, огороженной дырявым плетнем.
В минувшую ночь хозяйка этой халупы, любопытная старушка, долго не могла заснуть и, услышав шум у соседей, вышла во двор. Тихая, как мышка, она притаилась, стараясь разглядеть ночных гостей Абена; кое-что, несмотря на темноту, заметила и рассказала приехавшим спозаранок Корабаю и Даиру. Сомнений быть не могло — след беглецов отыскался. Корабай и Даир оповестили своих сообщников, хоронившихся в укромных закоулках Затона, а сами заняли наблюдательные посты и стали следить за небольшим двориком Абена.
Час шел за часом. Корабай и Даир сидели у изгороди, не спуская глаз с дверей абеновского домика. Но вот вышла Айша и направилась к огороду, а через несколько минут в ворота въехали Муха и Альмагамбет, привязали лошадей и вслед за Айшой вошли в дом.
Гости Абена заканчивали утренний чай, когда чуткая Айша, сидевшая в передней у самовара, почти возле самых дверей, услышала шум.
— Родные мои! Уже добрались злодеи! — воскликнула она и, бросившись к наружным дверям, быстро накинула крючок.
И в ту же секунду в дверь неистово забарабанили кулаками, заколотили ногами. Айша отставила самовар к печке, обняла и заслонила собою испуганную Макен. Мужчины вооружились чем попало.
— Отворяй, пока жив! — загремел голос взбешенного Даира. — Все равно пощады не будет!
— Вырежем всех! — неистово заорал Корабай. Нападавшие навалились на ветхую дверь, она жалобно заскрипела на ржавых петлях.
Абды сжимал в руках березовый шокпар, давно привезенный из аула. Еще вчера этим незаменимым оружием пешего боя он толок насыбай,[108] до которого был большой охотник, а сейчас рассчитывал применить его для обороны — проломить голову любому, кто попытается ворваться в дом. Абен тоже вооружился неплохо; он держал наготове железный сердечник от телеги. Силач Муха примеривался бить нападающих обухом топора, а Дармен нашел, что медный пестик от ступки — неплохое оружие в тесном домике Абена. Один лишь Альмагамбет, тщедушный и трусливый, больше рассчитывал на помощь аллаха, нежели на свои слабые силы. В глазах его застыл ужас. Он метался от мужчин к женщинам и шептал молитвы.
А нападающие все нажимали и нажимали на дверь, нижняя петля уже лопнула, — было ясно, что через минуту-другую враги ворвутся в дом. Абен решил от обороны перейти к нападению. Когда не выдержала и верхняя петля, он скинул крючок и сам отбросил дверь в сторону.
С яростными воплями Корабай и Даир заработали плеткой и соилом. Но плетку Даира встретил железный сердечник Абена, а тяжелый шокпар Абды, с размаха опущенный на плечо Корабая, сразил торговца. Изогнувшись в три погибели, он выполз из сеней первым, за ним последовал Даир, здоровой рукой поддерживая перебитую, оглашая воздух отборной бранью и пустыми угрозами: «Уничтожу!», «Истреблю!», «В землю втопчу!» Пять остальных жигитов, вооруженных только плетками, растерялись, увидев в руках противников топор, шокпар и железный сердечник. Абен, Абды и Муха, осмелевшие от первой победы, без труда вытолкнули их за ворота. Жигиты бросились вдоль по улице. У самых ворот Абды ловким ударом ногой в зад сшиб Даира, и тот, застонав от боли, уткнулся в пыльную землю.
Дармен приволок трясущегося от страха Альмагамбета к лошади и подсадил в седло.
— Скачи быстрее к Данияру за Абишем и Какитаем! Все равно от тебя здесь никакой пользы нет! — И, приоткрыв ворота, он выпустил Альмагамбета со двора.
Итак, первое нападение было с честью отбито. Одержанная победа влила в сердца защитников веру в свои силы, они смело готовились отразить и второе нападение, хорошо зная, что враги не успокоятся. Крупный, атлетического телосложения Муха оказался достойным товарищем Абды и Абена, он легко подбрасывал топор, подхватывая его сильными ловкими пальцами за рукоятку.
Но хотя чувство боязни исчезло у жигитов окончательно, меры предосторожности все же следовало принять. Ставни окон, выходящих на улицу, были заблаговременно закрыты на болты, закрепленные железными клиньями. Враги во время первого нападения совсем забыли про эти окна, сосредоточив все свое внимание на воротах и дверях, которые находились под надежной охраной защитников.
Когда наступило затишье, Абен отправил Дармена в дом и сказал:
— Успокой женщин, скажи им, чтобы они не пугались! И следи хорошенько за окном на улицу.
Вручая Дармену остро наточенный топор, он добавил:
— Когда жизнь висит на волоске, отступать нельзя! Иначе погибнешь!
В то самое время, когда в доме Абена происходила первая схватка, Абиш и Какитай побывали с прошением Макен в канцелярии уездного начальника — ояза и теперь направлялись в окружной суд. К председателю суда офицер решил зайти один, оставив Какитая на ступеньках каменного подъезда. Здесь его и нашел Альмагамбет, узнавший от Данияра, где следует искать Абиша.
— Ойбай, что же ты тут стоишь?! — закричал он во весь голос. — Наших там убивают в Затоне! Скорее туда, может, они еще живы!..
Какитай побледнел.
— Жди меня здесь, никуда не уходи! — крикнул он и, не переводя дыхания, кинулся вверх по широкой лестнице на второй этаж. Альмагамбет проводил глазами Какитая и, обернувшись, неожиданно увидел подошедшего к нему Баймагамбета. По суровому лицу и насупленным бровям рыжебородого он сразу понял, что человек привез недобрую весть. Ярко-синие глаза Баймагамбета тревожно сверкали и от этого казались еще синее.
— Неважные новости! — буркнул Баймагамбет. — Очень неважные! Я был у Данияра, он велел искать вас в суде.
От природы замкнутый Баймагамбет был невероятно скуп на слова, он-то умел держать язык за зубами! Недаром Айгерим прозвала его «секретным сундуком» Абая. Он привык молчаливо выполнять все поручения и даже Айгерим никогда не передавал ничего, что слышал от хозяина. Альмагамбет понял, что из Баймагамбета слова клещами не вытянешь, и расспрашивать его не стал.
Через несколько минут из окружного суда торопливо вышли Абиш и Какитай, они кинулись к Баймагамбету и забросали его вопросами:
— Бака, какие новости?
— Что привез от отца?
Лицо Баймагамбета стало еще более строгим, он вынул из нагрудного кармана сложенное вдвое письмо и молча протянул Абишу. Какитай стал рядом с офицером, и они вдвоем прочитали короткую записку, в которой Абай сообщал о своей ссоре с Уразбаем и предупреждал о необходимости быть осторожными. Словно предвидя грядущие события, он спрашивал Абиша:
«Где устроились молодые? В казахском доме их легче найти. Не поискать ли им пристанища в русской семье, и как можно скорее? Долг дружбы, о котором я писал тебе во вчерашнем письме, обязывает нас приложить все усилия, чтобы сохранить жизнь Дармена и Макен…»
Письмо заканчивалось строчками, написанными дрожащей рукой:
«Сегодня известный враг мой вздумал запугать и оскорбить меня. Теперь осталось одно — вступить в борьбу со злодеем, не жалея ни крови, ни жизни».
Абиш задумался: что довело его уравновешенного отца до такого страшного гнева? Баймагамбет сказал, что ночью от Уразбая приезжали посланцы Есентай и Сейсеке. Абиш понял, что Абай испил полную чашу оскорблений, ему стало больно за отца, и сердце его исполнилось ненависти к обидчикам.
— Передай отцу, — сказал Абиш, — я сделаю все, что требует долг, и не остановлюсь ни перед чем. Только пусть он поскорее переберется в город. Нам нужны его советы…
Баймагамбет молча кивнул и быстро зашагал в сторону паровой мельницы, к берегу Иртыша, где его ожидала лодка. Абиш в полной офицерской форме и при шпаге с темляком вскочил в коляску. Какитай ожег кнутом вороного иноходца Данияра, и в сопровождении верхового Альмагамбета они помчались с такой скоростью в сторону Затона, что встречные прохожие невольно останавливались и смотрели им вслед, недоумевая, куда так торопится молодой поручик. Можно было подумать, что в Затоне пылает пожар…
Зрелище, представшее глазам Абиша в доме Абена, ужаснуло его. По всему двору валялся разбросанный домашннй скарб, разбитая посуда, разорванная одежда, запятнанная кровью. Айша, Абен и Муха лежали без сознания на полу. Первой очнулась Айша и, едва подняв голову, простонала:
— Их было много… Человек сорок… только сейчас ускакали…
Абиш нагнулся над Айшой.
— А где Дармен и Макен?
— Их увезли на телеге… Туда… И Айша вновь впала в забытье.
Абиш сразу понял, кто это «они», — друзья Даира и Корабая, торговцы из слободки. Совершив свое черное дело, уразбаевские жигиты торопятся сейчас домой, стараясь замести следы. Их надо догнать в пути.
— Останься здесь, — сказал Абиш Альмагамбету. — Собери соседей и окажи им помощь. Какитай, в погоню! К парому!
Какитай беспощадно хлестал взмыленного вороного иноходца. Коляска летела с бешеной скоростью, но Абиш беспрестанно повторял:
— Гони… Скорей… Скорей!..
Вот блеснула зеркальная гладь Иртыша, и офицер увидел у берега паром, готовящийся к отплытию. Сердце подсказало Абишу, что на нем находятся люди Уразбая, учинившие разгром в доме Абена. Он вырвал кнут из рук Какитая и захлестал по крупу лошади. У данияровскего иноходца, казалось, выросли крылья, когда он мчал коляску с горки на берег Иртыша. У помоста Абиш на полном ходу соскочил и побежал к парому, уже отчаливавшему от берега.
— Поворачивай обратно! — закричал он по-русски и, не раздумывая, сгоряча прыгнул на паром, от которого его отделяла добрая сажень прозрачной зеленоватой воды.
Все ожидали, что офицер полетит в воду, но смельчак тонкими крепкими пальцами вцепился в деревянные перила и, подтянувшись на руках, в одно мгновение очутился на пароме.
Догадка Абиша оказалась верной: поискав глазами, он увидел на пароме Даира и его жигитов.
Необычайный поступок офицера произвел такое впечатление, что, когда Абиш крикнул негромким, но решительным голосом кормщику-татарину: «Ну, живо поворачивай!»— тот беспрекословно выполнил его приказание.
Кое-кто начал было негодовать и протестовать, но татарин, не обращая на это никакого внимания, повернул паром к берегу, и через несколько минут он был вновь подтянут к помосту и зачален толстыми канатами.
Абиш первым соскочил на землю, приметив на берегу коренастого городового, прозванного жителями Затона за рыжие усы и грузную фигуру «Семиз-Сары» — «Рыжий толстяк».
— Городовой! — закричал Абиш. — Сюда! Семиз-Сары, придерживая шашку, торопливо побежал и, приложив короткие пальцы к козырьку фуражки, вытянулся перед офицером.
— На этом пароме находятся преступники, — сказал, отчеканивая каждое слово, Абиш. — Они в Затоне устроили кровопролитие и украли девушку. Никого не выпускать на берег. Смотри в оба! Понял?
— Так точно, ваше благородие!
— Чтобы паром не двигался с места… Приказывает тебе поручик военно-полевой артиллерии Ускенбаев… Я вернусь через час. Все понял?
— Все, ваше благородие! Никого на берег не пускать с парома, и чтобы он не двигался! — повторил городовой не спуская глаз с золотых офицерских погон.
Семиз-Сары, воинственно потрогав шашку, важно встал на помосте возле пришвартовавшегося парома, а Абиш вскочил в коляску и крикнул Какитаю:
— Гони во весь дух! В город!
И снова Какитай, не жалея кнута, настегивал вороного иноходца. Теплый ветер бил в лицо Абишу, но каждая минута казалась ему часом.
Вот наконец замелькали знакомые дома, казенные здания. За углом — канцелярия уездного начальника Маковецкого, здесь Абиш уже побывал утром с прошением Макен. Маковецкий, благообразный и обходительный человек, едва достигший тридцатилетнего возраста, но хорошо образованный, значительно превосходил старых бурбонов и держиморд вроде Казанцева. Не чуждый либеральному заигрыванию с местным населением, он знал Абая и встретил его сына весьма любезно. Молодой офицер прекрасно держался и хорошо говорил по-русски. Он ничуть не походил на назойливых и темных степных сутяжников, которых Маковецкий хорошо изучил за короткое время своей работы в Семипалатинске. Макен и Дармен были Абишу чужими людьми, и если он вступился за них, то сделал эти из гуманных побуждений, протестуя против произвола диких степных законов. А то, что поручик Ускенбаев, образованный молодой человек, поставил под охрану царской администрации беззащитную влюбленную пару, делало Абиша в глазах Маковецкого едва ли не борцом за укрепление самодержавия на окраинах Российской империи. И либеральный уездный начальник охотно пообещал сыну Абая свою поддержку.
Он читал прошение Макен, когда в кабинет к нему снова вошел, вернее — вбежал взволнованный Абиш. Сейчас он совершенно не походил на того спокойного и вылощенного офицера, который вежливо разговаривал с ним сегодня утром.
— Что случилось, господин поручик? — Маковецкий даже приподнялся с кресла. — Что вас привело ко мне вновь?
Уездный начальник указал на стул, но Абиш, не садясь, коротко рассказал о погроме, учиненном в доме Абена, где находилась Макен со своим женихом.
— Вы простите меня, пожалуйста, господин Маковецкий, но я был вынужден прибегнуть к крайней мере и самочинно задержать паром на Иртыше. Иного выхода у меня не было. Иначе преступники ускользнули бы и увезли бы с собой просительницу Азимову.
Маковецкий понимающе кивнул головой и сказал:
— Я сейчас дам распоряжение приставу третьего участка Старчаку, чтобы он задержал главных виновников, а также доставил ко мне просительницу Азимову и жигита Дармена.
Через полчаса пристав Старчак в сопровождении пяти конных городовых примчался к переправе, где в отсутствие Абиша произошли немаловажные события. Как только он уехал, Корабай, поддержанный кучкой торговцев, начал буянить, требуя от татарина, чтобы он отправил паром на левый берег.
— Я тебе отправлю! — крикнул Семиз-Сары и погрозил шашкой. — Стоять на месте!
Тогда Даир извлек из кармана пачку «красненьких»[109] и осторожно показал городовому. В другое время Семиз-Сары не устоял бы от соблазна, но сейчас он заколебался, вспомнив разъяренного офицера, прыгнувшего на отошедший паром. С таким человеком шутки плохи! И он еще суровее крикнул:
— Поговори у меня!
Даир убрал деньги и, желая сорвать на ком-нибудь злобу, направился к телеге, где лежали связанные Дармен и Макен. Левой здоровой рукой он поднял плеть над головой жигита, но опустить ее не успел: изуродованный побоями Абды показал длинный нож, задыхаясь, просипел:
— Только тронь их! Зарежу… Клянусь тебе, Даир! Пролью твою черную кровь…
Лицо Абды, в ранах и кровоподтеках, было страшно, глаза горели ненавистью, и Даир с проклятьями отошел от телеги.
Вместе с Корабаем он вновь принялся мутить проезжих, добрая половина которых принимала участие в побоище в доме Абена. На Семиз-Сары началась новая атака.
— Отпусти паром! Нам ехать надо!
— Зачем задерживать столько людей!
— Жаловаться будем!
Толпа торговцев плотным кольцом окружила городового и паромщика-татарина. Семиз-Сары взялся за шашку:
— Р-разойдись!
В эту самую минуту на помост гурьбой вбежали, тяжело топая сапогами, рослые, бедно одетые жигиты. Они растолкали торговцев и поднялись на паром.
— Где кровопийца Корабай! — расправляя могучие плечи, заорал дюжий парень, да так громко, что его голос, вероятно, услышали и на противоположном берегу Иртыша.
Дармен крепко сжал руку Макен и радостно подтолкнул Абды:
— Гляди, грузчики из Затона! Это Сеит!
Он не ошибся — товарищи Абена, прославленные силачи и борцы, явились на паром расправиться с погромщиками. С полчаса назад Альмагамбет по просьбе Айши доскакал до Сеита и сообщил ему о кровавой резне, учиненной уразбаевскими жигитами, тот сраау же собрал человек восемь ближайших соседей и кинулся в дом Абена. Здесь они увидели страшную картину разгрома и в гневе помчались на Иртыш, правильно рассудив, что похитители повезут Дармена и Макен в слободку.
Увидев, что погромщики находятся на пароме, с каждой минутой все больше распаляясь, Сеит, задыхаясь, проговорил:
— Все здесь? Это хорошо!
И, сжимая кулаки, он еще громче крикнул:
— Где кровопийца Корабай?
Корабай не был трусом, спрыгнув с телеги, он подскочил к Сеиту:
— Я что, отца твоего убил? Кровник твой, что ли?.. Я Корабай…
— Ах, ты Корабай…
Сеит схватил торговца за густую бороду и сокрушительным ударом кулака вышиб у него сразу два передних зуба. Из носа Корабая хлынула кровь, заливая ему все лицо. Тяжелый, словно чугунный, кулак Сеита нанес второй удар, третий… Торговец упал.
Паром тревожно загудел, началась свалка. Кто-то закричал неистовым голосом:
— Дондагул!
Это имя было широко известно в слободке и Семипалатинске, так звали отъявленного вора и завсегдатая трактиров, о необыкновенной силе которого ходили целые легенды. Говорили, что он со двора одного купца перебросил на улицу через высокий забор восьмипудовый тюк чая. Корабай ценил громилу за силу и дерзость. Это он, Дондагул, во время второго налета на абеновский дом могучим ударом сразил вначале самого хозяина, а затем Абды. Правда, победа ему досталась нелегко: Абен успел несколько раз ударить своего противника дубиной. С опухшей окровавленной головой и шеей Дондагул едва сидел в телеге, в глазах его двоилось и троилось, он плохо соображал, что происходит вокруг. Но когда силач услышал свое имя и увидел, что Сеит железными кулаками молотит Корабая, он не выдержал. Схватив дубинку, он бросился к нему на помощь и, перепрыгнув через телегу, опустился на четвереньках перед Сеитом. Поднимаясь на ноги и матерно бранясь, он готовился уже расправиться с Сеитом, но на выручку тому поспешил широкогрудый чернобородый Жайнак. Оба грузчика одновременно взмахнули черными шокпарами. Удар пришелся по затылку, и силач не выдержал. Замычав от боли, он упал и подполз под ближайшую телегу.
Когда на Иртыш прибыли пристав Старчак с конными городовыми и Абиш с Какитаем, грузчики топтали и били Даира ногами.
Расторопный пристав не стал терять времени на пустые разговоры, он быстро навел порядок, немедленно освободив по указанию Абиша Макен и Дармена. Корабая и Даира он под конвоем полицейских отправил в канцелярию Маковецкого, а грузчикам велел разойтись по домам.
— Теперь отчаливай! — крикнул Старчак паромщику-татарину. — Живо!
Паром с толпой присмиревших жигитов Уразбая и торговцев поплыл на левый берег и скоро пристал к слободке. Здесь, у так называемой лодочной переправы, шумела нетерпеливая орава мужчин, тоже спешившая в погоню за жесир. Возглавлял ее седобородый одноглазый Уразбай, явившийся сюда вместе с богатым сватом Сейсеке и хальфе Шарифжаном, выделявшимся в толпе своей белой чалмой. Жигиты, среди которых были слободские торговцы и степняки из аулов, поспешили въехать на паром, где они сразу же увидели Дондагула и его сообщников, пострадавших в схватке с грузчиками. Пока паром не повернул обратно, уразбаевские жигиты узнали все подробности о событиях, происшедших на правом берегу Иртыша. Услыхав об аресте Корабая и Даира, Уразбай пришел в ярость и стал торопить татарина. Пламя ненависти бушевало в его груди, и если бы от ядовитых слов и проклятий, которые он беспрестанно посылал на голову Абая, зависел ход парома, паром летел бы, как стрела.
— Был у меня один кровавый враг, а тут подрос еще его щенок! — бормотал он злобно. — Еще новый противник прибавился!.. Успел выскочить в знать, с властью якшается…
Уразбая разбирала досада и позднее сожаление о своем промахе. Задыхаясь от бессильного гнева, он даже укусил свой собственный палец, вспомнив, как друзья предостерегали его: «Смотри, Абай обучает сына русской грамоте, хочет, чтобы стал начальником… Обучил бы ты хоть одного из своих по-русски. Кто знает, может быть, пригодится…»
Бывало, Уразбай за такие слова бил советчиков по зубам, а сейчас он впервые понял свою оплошность, хотя был еще далек от того, чтобы сознаться в этом перед людьми.
— Пусть только попробуют! — бормотал он, задыхаясь от злобы. — Пусть только станут поперек!
Уразбай не знал, где искать беглецов, и, переправляясь на правый берег Иртыша, решил прежде всего повидать Самалбека Доспанова, служившего толмачом у Маковецкого. Этот жигит, родом из киргизов, осевших у Тобыкты, не раз давал полезные советы Уразбаю и помог ему установить связи со всеми казахскими толмачами при мировом судье, в окружном суде, в государственном банке и в канцелярии губернатора. Такому полезному человеку не жаль было послать зимой жирную кобылицу, а летом добрую сабу кумыса.
Переправившись со своей оравой торговцев на городской берег, Уразбай отправился прямиком к Самалбеку. А в это время в канцелярии уездного начальника: возле дверей его кабинета ожидали приема Абиш, Дармен, Макен и пристав Старчак. Маковецкий, принимавший городских чиновников, освободился только через час. Вначале он пригласил к себе Старчака и расспросил его о зачинщиках зверской драки. Пристав подробно доложил о событиях, которые произошли в Затоне и на пароме, и сказал, что во всем были виноваты Даир и Корабай, и тут же пожаловался, что они оскорбили его, назвав продажной шкурой и взяточником.
Все было ясно, и уездный начальник приказал посадить Даира и Корабая на месяц в каталажку, а дело об учиненном ими разбое передать мировому судье. После этого решения Маковецкий отпустил Старчака и принял Абиша, вошедшего в кабинет вместе с Макен и Дарменом.
С нескрываемым любопытством Маковецкий оглядел красивую девушку и ее возлюбленного.
Он заговорил по-русски, обращаясь к Абишу:
— Спросите Азимову Макен, не отказывается ли просительница от изложенного ею в прошении на имя уездного начальника? Не переменила ли она своих намерений после всего того, что случилось сегодня?
Абиш дословно перевел вопросы Маковецкого. Не успел он закончить свою речь, как в кабинет вошел Самалбек. Уразбай сумел его разыскать, и он сам явился к своему начальнику. Увидев толмача, Абиш поклонился ему и сказал:
— Раз явился господин Доспанов, разрешите мне уступить ему его место переводчика.
Маковецкому понравился и этот поступок Абиша — молодой офицер желал сохранить полную беспристрастность при разборе дела. Уездный начальник молча кивнул головой Самалбеку, приглашая его приступить к своим обязанностям.
На вопрос Маковецкого Макен тихо ответила, тщательно взвешивая каждое слово:
— Таксыр, я много страдала и пришла искать у вас защиты. Если я сама пришла, как же я буду отказываться от своего прошения, которое вчера лишь подала вам? Больше я ничего не могу сказать, все написано в прошении. Я по собственной своей воле хочу выйти замуж за этого жигита, его зовут Дармен, он мой жених! Я прошу вас быть моим заступником. Я желаю свободы по русскому закону.
Девушка говорила не торопясь, очень обдуманно, иногда она останавливалась и подносила платок к глазам, вытирая слезы. Абиш и Дармен, слушая ее, переглядывались между собой, они готовы были обнять ее за эту умную речь.
Самалбек, хорошо владевший русским языком, добросовестно перевел все, что говорила Макен. Видимо, его связывало присутствие Абиша, знавшего русский язык так же хорошо, как и казахский. Когда Самалбек перевел речь Макен, Маковецкий вопросительно взглянул на Абиша, словно хотел удостовериться в правильности перевода. Офицер одобрительно кивнул головой.
Тогда уездный начальник сказал, обращаясь к Абишу:
— Господин Ускенбаев, я хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство… Раз уже прошение Азимовой дошло до властей, оно, разумеется, не будет оставлено без разбора. Но не забывайте, что все такие дела обычно решались по степным законам и согласно шариату. В моей практике это первый случай, когда казахская женщина просит защиты по законам Российской империи. Мне даже кажется, что Макен Азимова — вообще первая женщина, которая борется, так сказать, за эмансипацию женщин Востока. Ваше вмешательство в это дело, поручик, гуманно и, разумеется, с человеческой точки зрения благородно… Я вполне вас понимаю. Однако вы объясните самой Азимовой и ее жениху, что не я, уездный начальник, буду рассматривать ее прошение и окончательно решать ее судьбу. Подобные дела подлежат рассмотрению суда. Суд передаст дело на дознание и вынесет свое заключение.
Выслушав уездного начальника, Абиш попросил возможно скорее передать прошение Макен в суд, и Маковецкий обещал сегодня же лично доложить председателю окружного суда обо всех обстоятельствах этого исключительного дела.
На этом и закончилась беседа в кабинете уездного начальника, и Абиш вместе с Дарменом и Макен вышел в общую канцелярию.
По совету Самалбека, Маковецкий решил принять и враждебную сторону — Уразбая, Сейсеке и хальфе Шарифжана. Увидев Абиша в офицерской форме, выходившего из кабинета ояза, Уразбай метнул на него исступленный взгляд и побледнел от злобы. Пропустив вперед Сейсеке и хальфе Шарифжана, он задержался на минуту и своим единственным глазом пронзил офицера словно стрелой. Абиш смело встретил его взгляд и хотел пройти мимо, не останавливаясь, но Уразбай, загородив ему дорогу, процедил, багровея от ярости:
— Не успел вырасти и стать человеком, а отец уже заставляет тебя сутяжничать! Ну что ж, смотрите! Потом только не жалейте, когда дойдете до своей гибели.
Абиш посмотрел на Уразбая с брезгливостью. Он вспомнил все, что этот человек причинил его отцу, вспомнил кровавое побоище в доме Абена, и его молодое сердце наполнилось гневом.
— Я никому не хочу зла, — резко ответил Абиш, — и потому, не жалея жизни, буду бороться с теми, кто сеет зло. Если злодей перешагнет через законы совести и человечности, я сумею обуздать его и без помощи отца. Запомните это хорошенько, аксакал!
И Абиш отошел спокойной, ровной походкой. Уразбай бросил ему вслед косой, полный ненависти взгляд и, скрипнув от бессильной злобы зубами, направился в кабинет Маковецкого, двери которого услужливо распахнул перед ним Самалбек. Бай Сейсеке и хальфе Шарифжан торопливо последовали за ним.
Макен, Дармен и Абиш остались в приемной со своими друзьями, заняв свободные стулья, а против них расселись сообщники Уразбая, явившиеся вместе со своим баем. Обе стороны хранили молчание, тягостное и напряженное, нарушить его было опасно, — любое слово могло прозвучать в этой зловещей тишине, как первый свистящий взмах клинка, за ним последовало бы новое неизбежное кровопролитие.
Разговор Маковецкого с Уразбаем был весьма непродолжительным.
— Дело Азимовой решаю не я, его рассмотрит суд, — уклончиво сказал уездный начальник. — Мне пришлось вмешаться только потому, что в городе, за спокойствие которого я отвечаю, имели место беспорядки. Надо положить конец кровопролитиям. В суде вы предъявите свои претензии и доказательства, а суд во всем разберется.
Уразбай знал Маковецкого со времени выборов волостного управителя, когда уездный начальник приезжал в аул и произвел впечатление человека неподкупно строгого. С таким человеком надо уметь разговаривать, и Уразбай сказал почтительно:
— Что верно, то верно! Речь ояза справедлива от начала до конца. Пусть по закону виновными будем мы, пусть и нас осудят. Хорошо, с этим согласны. Но у меня есть одна просьба, которую ни суд, ни ояз, я надеюсь, не отклонят! — Уразбай нахмурился, лицо его посерело. Он повысил голос — Следствие сегодня не закончится, оно протянется долго. Где же все время будет находиться беглянка? Возле похитителя-жигита, который сделает ее своей женой? А? В таком случае, кому же нужны следствие и суд? Ведь весь наш спор сводится к одному: быть им вместе или нет!
Единственный глаз Уразбая был пристально и грозно устремлен в лицо уездного начальника.
— Пусть все решает твой суд, но с этого часа не позволяй беглянке и жигиту находиться вместе. Ты посадил двух наших людей, Даира и Корабая, в тюрьму. Если хочешь быть по-настоящему справедливым, разъедини Дармена и Макен. Пока будет идти следствие, пусть они тоже сидят в тюрьме, отдельно друг от друга!
Требование Уразбая разъединить влюбленных показалось Маковецкому заслуживающим внимания, второе же — заключить их в тюрьму — он тут же отверг. Для этого у него не было никаких юридических оснований.
Часа через два закончились занятия во всех присутственных местах Семипалатинска, только в окружном суде царило в этот день необычайное оживление. Возле его здания, запрудив улицу, толпились казахи, прибывшие из слободки. Лодочник Сеиль, переправивший Абая с Баймагамбетом через Иртыш, вытащил свою лодку на берег, а сам увязался за ними, снедаемый желанием узнать, «как это все обернется».
Уразбай, увидев Абая, не удержался и крикнул так громко, что его услышали все окружающие:
— Подпалил! Раздул пожар! Ну что ж, жги все подряд, Абай, жги!
— Пожар, говоришь? — Абай тоже возвысил голос. — Не всякий пожар бедствие!
— Что же ты хочешь сказать, что пожар — благо? — взвизгнул Уразбай.
— Благословляю огонь, который сжигает вредные сорняки, сухие корни и гнилые пни. Земля от таких пожаров становится чище. После пала всегда растет сочная зелень, поднимается новая, молодая жизнь. Ты до тонкости изучил всяческие подлости, Уразбай, но хороших, полезных вещей, оказывается, не знаешь!
В оживленнной толпе раздался одобрительный смех, резанувший Уразбая словно ножом по сердцу, он хотел что-то сказать еще, но не нашелся и поспешил отойти.
А народ все подходил к зданию окружного суда. Кого только не было в шумной пестрой толпе! Мелкие лавочники, грузчики из Затона, рабочие, кустари, горожане, степняки, приехавшие из аулов на базар. Купец второй гильдии Сейсеке и богачи Хасен и Жакып известили всех торговцев города о предстоящем судебном разбирательстве скандального дела, и к окружному суду потянулась вереница нарядных колясок и дрожек с торговой знатью. Приехали также муллы, хальфе, кари и перезрелые воспитанники медресе — пожилые шакирды. Они старались держаться в тени, но готовились дать бой нарушителям веры, совершившим неслыханное преступление. Как можно было передавать в русский суд дело беглой женщины, нарушившей закон аменгерства! Его вправе решать только шариат. Муллы готовились предать беглецов божьему проклятию, пусть нарушителей адата растерзает сам народ! Выкормыши медресе и мечетей в своем фанатическом тупоумии были не менее кровожадны, чем Корабай.
Дело беглянки Азимовой взволновало также образованных казахов-чиновников и толмачей, заполнивших коридоры окружного суда и пробравшихся в самые канцелярии, где они чувствовали себя как дома, в то время как все остальные, простые казахи, не осмеливаясь даже приблизиться к ним, толпой стояли на улице.
Абай находился в просторном, светлом зале на втором этаже вместе с Абишем, Какитаем, Дарменом и Данияром. Уважив просьбу Уразбая, уездный начальник отправил Макен в окружной суд отдельно, под присмотром переводчика Самалбека. Пока председатель суда совещался с Маковецким, стражники увели девушку в комнату, где обычно находились подсудимые до начала судебного разбирательства.
А возбужденная толпа шумела на улице, на все лады обсуждая волнующий вопрос: станет ли окружной суд разбирать дело беглянки, или передаст его суду биев для рассмотрения по законам адата и шариата? Было известно, что за беглянку вступился знатный аульный человек Абай, да не один, а вместе с сыном, офицером Абишем, — с подобными заступниками окружной суд должен посчитаться. Так утверждали одни. Другие возражали: пусть Абай человек уважаемый, но русский суд не может рассматривать мусульманские дела, нет такого закона.
А в это время председатель с двумя членами суда обсуждали порядок ведения дела Азимовой, — оно было запутано, чревато всевозможными осложнениями и требовало осторожного подхода. Только к вечеру судьи пришли к единодушному мнению. В зал заседания, куда допустили очень немногих из публики, привели подательницу прошения Макен, и председатель объявил, что окружной суд «в порядке исключения» принял для рассмотрения дело Азимовой, бежавшей из степи и обратившейся с просьбой о защите ее прав по законам Российской империи.
— В интересах дела, пока будет вестись следствие, — сказал председатель, — Макен Азимова должна оставаться в городе и находиться под надзором полиции, чтобы с нею не могла общаться ни одна из враждующих сторон. Поэтому впредь до окончательного решения суд постановил поместить Азимову на жительство в доме толмача окружного суда, коллежского регистратора Алимбека Сарманова.
Так закончился этот смутный день, начавшийся кровопролитием в доме грузчика Абена. Макен оторвали от близких и друзей, и несчастная девушка, ставшая причиной раздоров и распрей, осталась одна со своими тяжелыми думами.
С этого дня ее жизнь и жизнь Дармена зависела от русских начальников, которые сами чувствовали себя не совсем уверенно, вмешавшись в необычное дело, таившее в себе множество противоречий и сулившее острую затяжную борьбу. В практике семипалатинского окружного суда таких дел еще не было, и никто не знал, чем оно могло кончиться.
На другой день утром, по наущению Уразбая и Сейсеке, муллы пришли к председателю окружного суда и подали написанное четким каллиграфическим почерком прошение от имени семипалатинского мусульманского духовенства.
«Спорные дела, касающиеся брака и развода в отношении мусульманских женщин, — писал составитель прошения, — подлежат только шариату. Дело Азимовой правомочны решать лишь имамы мечетей, духовные пастыри мусульман».
Председатель суда пообещал приобщить прошение к делу, но муллы не успокоились — стали искать иные пути через казахских толмачей-недоучек, готовых за пятерку служить любому хозяину. Городские богачи вроде Сейсеке и Хасена надрывали горло, выступая в роли хранителей степных обычаев:
— Русский суд до сих пор не посягал на наши законы о сватовстве, об уплате калыма и правах на жесир, которые освящены веками. И это было хорошо для всех! Пусть и сейчас русские судьи передадут дело Азимовой на решение суда биев, по законам наших предков.
Так говорили сторонники Уразбая; а сторонники Абая настаивали на разборе дела Азимовой только русским судом.
Необходимость этого убедительно доказывал в своем письменном показании артиллерийский поручик Ускенбаев, один из главных свидетелей. Те доводы и доказательства, которые Абиш устно приводил Маковецкому, он теперь изложил на бумаге, еще более веско их обосновав.
«Первая казахская женщина с надеждой на помощь и защиту обратилась к русской администрации и суду. Отказать ей в этом, значило бы подписать обвинительный акт административным учреждениям и судебным органам города Семипалатинска. Печальные кровавые события, связанные с делом Азимовой, произошли не в степной глуши, недоступной взору и слуху нашей администрации, а в губернском городе, в резиденции самого генерал-губернатора и стали известны судебным властям. Было бы недопустимой ошибкой отмахнуться от рассмотрения этого вопиющего дела и, как ни в чем не бывало, направить его в степь на усмотрение суда биев. Такой поступок уронил бы престиж царской власти. Хорошо еще, что дело Азимовой не успело получить освещения в столичных газетах и о нем не знают г. министр внутренних дел и г. министр юстиции, а также правительственный Сенат. Вряд ли наше правительство одобрит нерешительность местных властей, если они не встанут на защиту первой казахской женщины, пожелавшей судиться по справедливым законам Российской империи…»
В этом прошении офицера русской армии, одновременно явившемся и свидетельским показанием, заключался предостерегающий намек на возможность предать события гласности через печать, и это больше всего подействовало на трусливых чиновников Семипалатинска.
К составлению этого документа, написанного рукой Абиша, был привлечен, по совету Абая, Федор Иванович Павлов. Узнав утром от Баймагамбета, как развернулись события, связанные с делом Макен, Абай лично поехал к своим верным русским друзьям и рассказал им все подробности кровавого злодеяния. Выслушав поэта и поняв, что нужна срочная помощь, Федор Иванович решил немедленно переправиться на городской берег Иртыша. Он знал многих грузчиков Затона и дружил с Абеном, частенько посещая его дом. Услышав, что Абен и его семья пострадали от нападения уразбаевских жигитов, учинивших кровавое побоище, Павлов попросил и жену поехать вместе с ним в Затон. Александра Яковлевна поняла, что ее присутствие там необходимо, и по привычке, выработанной за время совместной жизни с мужем, стала без дальних слов собираться.
Через несколько минут они вчетвером вышли из дому. Абай с Баймагамбетом отправились в Верхние Жатаки, чтобы переплыть в лодке Сеиля на городской берег, а Павловы спустились к паромной переправе ниже слободки и кратчайшим путем через Иртыш попали в Затон.
Здесь они нашли следы свежего кровавого побоища, устроенного уразбаевскими жигитами в доме Абена и на пароме, — в нескольких домах стонали раненые. Федор Иванович оставил жену для оказания им врачебной помощи, а сам поспешил в город к Абишу.
У Александры Яковлевны был в Затоне знакомый фельдшер, Дмитрий Артемович Девяткин, с которым она еще до эпидемии холеры работала в семипалатинской городской больнице. Коренной житель города, выросший среди казахов, он отличался ровным, спокойным характером, работу свою любил и пользовался большим уважением у местного населения еще и потому, что с больными казахами свободно говорил на родном для них языке.
Приступив к перевязке раненого Абена, Александра Яковлевна отправила соседку Марфу, жену слесаря Захара Ивановича, за Девяткиным.
Живя по соседству с Абеном, русский слесарь дружил с ним, а жена его — с Айшой. Укреплению этой дружбы содействовал товарищ Федора Ивановича, ссыльный студент Марков, часто бывавший в Затоне и поочередно останавливавшийся то в доме Абена, то у Захара Ивановича.
Марфа поздно узнала о беде, случившейся в доме друзей. Она не сразу сообразила, что происходит, когда увидела, что уразбаевские жигиты силой увозят Макен и Дармена, и только войдя в дом своей доброй соседки, чтобы поделиться новостью, и увидев избитую Айшу и лежавшего в луже крови полумертвого Абена, поняла, что побоище началось именно здесь.
— Позови Сеита! — простонала Айша.
И Марфа, несмотря на свой почтенный возраст, подобрала юбки и, как резвая девочка, во весь дух понеслась на квартиру знакомого грузчика, но там уже побывал Альмагамбет, и Сеита дома не оказалось.
Александра Яковлевна с помощью фельдшера Девяткина и Марфы лечила больных и избитых, а ее муж, добравшись до дома Данияра, в присутствии Магиш и Афтап переписывал прошение Абиша на имя председателя окружного суда, придавая ему ясность и законченность изложения. Острота смелых намеков на возможное вмешательство прессы и вышестоящих властей принадлежали перу Федора Ивановича.
Закончив работу, Павлов отправился в окружной суд и, разыскав Абиша, вручил ему черновик прошения. Абиш тотчас же переписал его набело и попросил Маковецкого передать председателю суда для рассмотрения, прежде чем будет вынесено какое бы то ни было решение.
Лодочники, перевозившие через Иртыш беглецов, а также их преследователей, по совету Абая, переданному им через Сеиля, тоже подали свои свидетельские показания, которые могли пролить свет на события прошедшей ночи. Они выражали искреннее сочувствие Макен, всеми силами стремясь оказать ей помощь. Но особую ценность имело прошение затонских рабочих, написанное ссыльным студентом Марковым. Он сумел собрать наиболее яркие и убедительные факты по «Делу Макен Азимовой»; живо описав вооруженный разбой средь бела дня, учиненный Даиром, Корабаем и Дондагулом, Марков подробно остановился на их попытке расправиться самосудом с Макен и Дарменом. «Имеют ли право городские власти пройти мимо такого преступления, открыто совершенного в городе и на пароме?» — задавал он вопрос суду. Это прошение первыми подписали Сеит и Абен, за ними и другие грамотные грузчики, пимокаты и кожевники, а неграмотные поставили родовые знаки и приложили отпечатки пальцев.
«Дело Макен Азимовой» в синей плотной папке увеличивалось с каждой новой подшитой бумажкой, но если бы кто-нибудь перелистал их, он обнаружил бы лишь незначительное число документов, представленных Уразбаем и его сторонниками. Эти люди были сильны по части устных угроз и замысловатых ругательств, но в письменной форме любая, самая внушительная их угроза теряла свой смысл и никак не могла служить веским доказательством чьей бы то ни было вины. Зато у сторонников Абая все свидетельские показания, прошения и заявления были написаны грамотно, убедительно и основательно.
Однако кроме Уразбая в «Дело Макен Азимовой» вмешались и влиятельные люди города — имамы мечетей, а за ними крупные торговцы и богачи. Они тоже писали прошения, все больше и больше запутывая дело, которое было бы простым и ясным, если бы не касалось мусульманки.
Председатель и члены окружного суда, приступив к его предварительному рассмотрению, почувствовали некоторую неловкость. Несмотря на всю его ясность, нельзя было не считаться с бумажками, под которыми стояла подпись имама или первого в городе богача.
После продолжительных обсуждений и размышлений наконец было вынесено решение: на все время следствия разъединить влюбленных. Судьи не сразу остановили свой выбор на будущем тюремщике для Макен, они долго совещались, прежде чем доверить эту «должность» Алимбеку Сарманову, штатному переводчику окружного суда. У него было много несомненных достоинств: во-первых, политическая благонадежность этого исполнительного служаки была безупречна, что доказывалось его успешным продвижением по службе и получением двух наград; во-вторых, он происходил из казахов Каркаралинского уезда и не был связан с родом Тобыкты; в третьих, жена Сарманова — татарка и сумеет оградить Макен Азимову от всяких влияний со стороны ее степных сородичей.
Алимбека Сарманова пригласили на совещание и рассказали, что от него требуется. Беспрекословный исполнитель воли начальства, он охотно согласился, тем более, что председатель суда тут же определил сумму расходов на питание Азимовой, которую будет получать Алимбек от казны, — полтинник в день; пятнадцать рублей в месяц! Это были по тем временам очень хорошие деньги, за такое вознаграждение Алимбек готов был держать пленницу в своем доме хоть целый год! Он покинул комнату, где происходило совещание, и отправился договариваться об охране Макен к приставу Старчаку, который сразу же выделил двух городовых для несения караула возле ветхого двухэтажного дома Алимбека в Татарской слободе. Охранять пленницу было нетрудно — высокий забор окружал сармановский дом, а новые ворота имели крепкие запоры. Человек замкнутого характера, Алимбек жил нелюдимом, соседи к нему не ходили, а постронних он и вовсе не пускал к себе во двор. Усердный чиновник и тупица, свысока относящийся к людям, не признавал своих аульных сородичей, и его жена, не любившая степных гостей, давно отвадила их от своего дома.
Назначив Сарманова «тюремщиком», судьи не ошиблись в выборе. Алимбек выполнял свои новые обязанности более чем добросовестно, он заявил, что и самого Абая не допустит не только к Макен, но даже к себе в дом. Абиш предпринял попытку найти к нему дорогу через Данияра, хорошо знакомого с переводчиком окружного суда, но Алимбек не стал с ним и разговаривать, а попросту попросил подальше отойти от ворот.
Тогда Данияр и Абиш послали в дом Сарманова Афтап. Жена Алимбека не знала ни одного слова по-казахски, а Афтап по-татарски, и две женщины, так и не поняв друг друга, разошлись. Афтап тоже не удалось повидать пленницу.
А день отъезда Абиша из Семипалатинска приближался. Опасаясь, что ему не придется присутствовать при судебном разбирательстве дела Макен, он отправился к председателю суда и, сообщив ему о своем скором отъезде в Алма-Ату, выразил надежду, что его свидетельские показания будут использованы на суде. Председатель направил офицера к чиновнику особых поручений Злобину, который вел «Дело Макен Азимовой» и уже снял допрос с Макен. Ему Абиш оставил подробные письменные показания.
3
По окончании Михайловского артиллерийского училища в Петербурге Абдрахман Ускенбаев получил чин поручика и был командирован в распоряжение Туркестанского военного округа для несения военной службы на «азиатской окраине России». В Петербурге, перед отъездом в Семипалатинск, ему устно обещали дать назначение в Семиречье, а сейчас пришел официальный приказ, предлагающий выехать в город Верный в полевую артиллерийскую часть. Надо было готовить для дальней дороги повозку и лошадей.
В эти дни Абай, покинув слободку, уже перебрался в Семипалатинск и вместе с Баймагамбетом поселился в доме старого своего знакомого, у которого нередко снимал квартиру, когда наезжал в город.
«Дело Макен Азимовой» втянуло в тяжбу не только Абиша, но и Абая, причинив ему много хлопот и беспокойства. Именно в эту осень было особенно тяжко у него на душе. Он никому не говорил об этом, но ежедневно подолгу просиживал с карандашом в руке, доверяя бумаге свои самые затаенные мысли. В эти дни рождались не только вдохновенные стихи, но и прозаические назидания «Карасёзь», которые отражали глубокие размышления поэта о жизни. Занимаясь делом Макен и Дармена, Абай старался сохранить внешнее спокойствие, никто не слышал ни одного вздоха поэта, никто не уловил печального изгиба его бровей, но всякий, кто беседовал с ним, не мог не заметить его молчаливости.
Теперь, когда Абиш получил назначение в Алма-Ату и готовился к отъезду, Абай хотел видеть его около себя каждый день. Вечерние часы они проводили обычно вместе, а сегодня Абай, послав Баймагамбета перед закатом солнца к сыну, попросил его прийти пораньше. Войдя к отцу, Абиш увидел двух хальфе — Шарифжана и Юнусбека, которых имам казахской мечети в Семипалатинске и мулла-татарин хазрет Камали нарочно подослали к Абаю.
Оба хальфе тайно сносились с Уразбаем и Сейсеке и в то же время были вхожи к чиновникам окружного суда. Ведя переговоры с Маковецким от лица мусульманской общины, они били себя в грудь и без конца твердили одно и то же:
— Пусть власти не допустят насилия над нашей верой, над нашими обычаями. Сам царь оказывает свое милостивое влияние и расположение мусульманам, своим верноподданным. Да не будет совершено в нашем городе беззаконие.
Последние дни хальфе Шарифжан и Юнусбек ходили из одной канцелярии в другую, обивая пороги и подавая новые кляузы против Макен и Дармена.
Но когда русские начальники попросту перестали принимать бумаги от до смерти надоевших им хальфе, Шарифжан и Юнусбек совершили обходной маневр и неожиданно явились на квартиру Абая. Широко раскинув ладони, Шарифжан начал читать молитву, а когда закончил ее, назвал свое имя. Абаю оно было хорошо известно со времени эпидемии холеры и злодейского убийства Сармоллы. И этот мерзкий человек не постеснялся перешагнуть порог дома Абая!
— А, это ты и есть тот самый хальфе Шарифжан, который сеет смуту и плетет интриги, сидя у себя в мечети? — грубо, с нескрываемым отвращением сказал Абай.
Шарифжан опешил от такой встречи, он-то прекрасно понимал, о какой смуте говорит Абай. Обвинение, брошенное ему прямо в лицо, привело его в такое замешательство, что он даже не пытался возражать, хотя ядовитые слова готовы были сорваться с его языка. Он заерзал на месте и, делая вид, что, соблюдая приличия, отдает должное возрасту хозяина, невнятно пробормотал:
— Ой, мирза Абай, в чем вы только меня не обвиняете! Как вы несправелливо строги ко мне!
Абай продолжал смотреть на него с гневным презрением, и от его проницательных глаза Шарифжан готов был провалиться сквозь землю. Где уж тут начинать разговор о деле Азимовой, пусть лучше этим займется Юнусбек. И осторожный Шарифжан предусмотрительно спрятался за его тощую спину.
Но обычно красноречивый Юнусбек, увидев такой нелюбезный прием, также растерялся и начал вяло повторять те же самые слова, которые говорил русским чиновникам, кочуя из одной канцелярии в другую. Заканчивая свою речь, хальфе вспомнил настоятеля своей мечети, хазрета Камали, заговорил об имаме, о божьей благодати, положенной в основу символа веры, и слова его зазвучали как проповедь наставника, что сразу же заставило насторожиться удивленного Абая.
— Абай-мирза! — говорил Юнусбек. — Везде и во все времена основой основ мусульманской общины был символ веры, который народ отождествлял с именем главы общины. Но сейчас наступили такие времена, когда вера и совесть пришли в упадок. Вы — признанный учитель нашего народа, однако, если и вы открыто отдаете предпочтение русскому закону перед законом ислама, то каким же примером вы можете служить для общины и для людей, следующих за вами? На весах совести и чести взвесьте ваш поступок и поймите, как губительно он отразится на судьбе нашего невежественного народа. Сейчас все мусульмане с трепетом ожидают, чем кончится дело нарушителей шариата и степных обычаев, и мы надеемся, что вы откажетесь от защиты недостойных во имя мусульманского символа веры. Сказать вам об этом нас послали ишан и хазрет…
Абай с любопытством всматривался в тщедушного хальфе, в его бледно-розовое маленькое личико с аккуратно подстриженной рыжеватой бородкой и усиками. Чувствовалось, что Юнусбек сильно поднаторел в религиозных диспутах и краснобайстве в устном казахском споре, набил руку в больших и малых родовых тяжбах. В нем прекрасно сочетались неумолимая жестокость степного бия с коварством и ловкостью муллы. Он назвал Абая столпом мусульманства и особенно подчеркнул это в разговоре, видимо, желая поставить его в тупик. Нащупывая глубокие корни событий в развернувшейся борьбе за Макен, Юнусбек намеревался накинуть петлю на шею главного их виновника, каковым он считал своего собеседника.
Вначале Абай с некоторым любопытством слушал красноречивого хальфе, но вскоре его охватило чувство раздражения, и он отвечал ему холодно, не скрывая иронии.
Вот в это-то время и вошел в комнату Абиш, явившийся по вызову отца. Абай не ответил на приветствие сына, кивком головы указал ему место рядом с собой и, не меняя позы, продолжал разговор с хальфе.
— Вы, духовные лица, хазреты, ишаны и ученые богословы, сочли необходимым вмешаться в дело Макен Азимовой. Доспустим, что это действительно было нужно для пользы ислама. Но при чем же тут ваши разглагольствования о совести, чести, символе веры? Ведь вы каждую минуту лицемерите и лжете и другим людям и самим себе…
— Мы? Лицемерим? — только и смог вымолвить Юнусбек, широко раскрыв глаза от изумления.
Абай предостерегающе поднял палец.
— Тихо… Да, именно так! — не давая хальфе раскрыть рот, продолжал — Вы, отцы мечетей, имамы и хазреты, лицемерите, как лицемерят все ханжи. Первым делом вы побежали к царским сановникам и русским чиновникам, к людям чужой веры, и у них стали искать защиты исламу. Пустив в ход все свое искусство и влияние, прибегнув к коварству и хитросплетениям, вы подобострастно льстили неверным, пытались разжалобить их, угодливо заискивали перед ними, ползали на четвереньках, только чтобы всучить им свои жалобы и прошения. Только час назад вы пресмыкались перед ними, а теперь, переступив порог моего дома, сразу начинаете поносить их и порочить. Разве это не гнусное лицемерие, не постыдный обман, не возмутительная ложь? Если бы так мерзко поступил обыкновенный человек, ведь мы бы плюнули ему в лицо. А ведь вы выступаете от имени татарского и казахского населения всего города, от многотысячной общины мусульман, от ее духовенства, от лица ишанов, имамов, хальфе, мулл, муэдзинов и шакирдов! Как можно произнести ваше имя без омерзения и негодования! Жалкие, презренные лжецы, мелкие людишки, безнадежно закосневшие в своем ханжестве, мне стыдно за мечеть, где вы научились низкому обману, мне стыдно за нашу религию, которую вы позорите своим гнусным поведением!
Выступивший грозным обличителем всего мусульманского духовенства, поэт всем существом своим презирал молчаливо сидевших перед ним двух хальфе. Каждое его слово было пронизано уничтожающей иронией, язвительная насмешка играла на его устах.
Абиш, молча наблюдавший за отцом, почувствовал, что тот дошел до крайней степени гнева. В глазах его он уловил такую горечь и усталость, что их не могла скрыть никакая ирония.
Своими словами о божьей благодати, имане — символе веры хальфе Юнусбек хотел завести Абая в тупик. Но поэту не впервые приходилось спорить с образованными муллами, кичившимися тем, что, изучив «Шарх-Губдуллу», они достигли высшей премудрости мусульманского богословия. В диспутах с ними Абай успешно поражал их изречениями из той же «Шарх-Габдуллы». И сейчас, в споре с Юнусбеком, он свободно ссылался на священные книги.
— Есть два символа веры, — говорил Абай, — истинный и подражательный. Истинный основан на глубоком убеждении, познаниях сердца и души, а подражательный — на слепом следовании обычаям веры. Вы далеки от истинного символа веры, ибо у вас нет истинных познаний. У вас нет даже подражательного символа веры, каким обладают простые темные люди, искренне выполняющие религиозные обряды, хотя и не понимающие их сущности. Ваш символ — обман и корысть… Если вам выгодно, вы будете называть белое черным, черное белым и ложь выдавать за правду. Вы любите говорить: «Клятва не устоит перед занесенным мечом» и «Нет такого греха, который не был бы прощен богом». Вы идете к русскому чиновнику, падаете на колени и лжете ему, а потом бежите к торговцу войлоком, купцу Сейсеке, проводите ладонями по лицу, молитесь и поносите того самого русского чиновника, перед которым только что унижались! И ко мне вы явились со своим символом обмана и лжи. Я вижу вас насквозь. Вы пытаетесь изречениями из священных книг убедить меня в необходимости уничтожить, утопить в крови безвинную, несчастную девушку! Вы хотите, чтобы я приложил руку к этому преступному делу. Что я могу вам на это сказать? Только послать проклятья на голову ваших имамов, которые прислали ко мне вас, людей, торгующих своей совестью! Вернитесь к ним и передайте то, что я вам сейчас сказал.
Хальфе переглянулись в нерешительности, не зная, как быть, но тут им помог Баймагамбет, ближе всех сидевший к выходу, — он широко распахнул двустворчатые двери, как бы говоря: «Путь свободен. Получили по заслугам и можете отправляться восвояси». Шарифжан с Юнусбеком, бормоча себе под нос молитвы, поспешили удалиться.
Абиш молча смотрел на отца. Абай сидел с закрытыми глазами, с трудом подавляя гнев, кипевший в его сердце, и судорожно сжимая пальцами карандаш. Так прошло несколько минут; наконец, успокоившись, поэт произнес:
— Надо записать все, что я им сказал!
Он напомнил о своей работе, к которой неоднократно возвращался в последние месяцы. Абиш знал ее, читал записи Абая в заветной толстой тетради, когда навещал отца, и сейчас у него появилось желание поговорить с ним и разрешить сомнения.
— Отец, я хочу спросить вас о некоторых непонятных для меня вещах, я говорю, о том, что вы записываете в вашу тетрадь…
Абай поднял на сына ласковый, ободряющий взгляд. Давно установившаяся между ними прочная духовная дружба крепла с каждым днем и радовала поэта. Иногда Абиш высказывал свои суждения по поводу особенно заинтересовавшей его мысли, и порой эти суждения приводили Абая в изумление своей зрелостью и глубиной.
Сейчас Абиш заговорил, желая выяснить давно мучившие его вопросы.
— В некоторых ваших наставлениях в прозе, «Карасёзь», и даже в поэтических размышлениях вы выступаете, точно мулла, привыкший произносить проповеди. Вы иной раз употребляете слова, не совсем понятные простым казахам, которые заучивают ваши произведения. И я задумался: какая в этом необходимость? Сегодня мне стало ясно, что иногда это бывает нужно, — например, когда ведешь спор с муллой, как вы вели сейчас. Я понял, почему вы так пишете. Однако я все же не уверен в том, нужно ли затемнять смысл своих произведений ради нескольких мулл и ходжей. Ведь таких хальфе, как Шарифжан и Юнусбек, которые только что побывали здесь, очень немного. Так есть ли расчет вам, поэту, отказываться от понятного всему казахскому народу языка?
Абиш, хотя и осторожно, но открыто высказал отцу все свои сомнения, как он привык это делать в часы их вечернего общения. Абай улыбнулся.
— Если я обличаю нечестивые мысли и недостойные дела мулл, я должен говорить с ними их языком, чтобы мои слова прозвучали для них убедительно.
— Значит, — улыбнулся Абиш, — слова «истинный символ веры», «подражательный символ веры», произнося которые простой казах может просто себе язык сломать, вы употребляете только в споре. А в литературных произведениях ваших их не будет?
— В некоторых будут. И в прозе и даже в стихах!
— И вы засоряете свой прекрасный язык ради жалкой кучки хальфе и мулл! — не сдавался Абиш.
— Ты говоришь необдуманно, Абиш! — ответил Абай. — Их мало, но у них большое влияние на народ, и они причиняют ему много зла. Я убедился в этом во время разбора двух крупных дел — убийства Сармоллы и кровавой борьбы за Макен. Муллы, отравляя народ ядом суеверия, обрекают на страдания не только невежественных жителей степи, но даже и горожан. Нам иногда кажется, что город — это только источник света, культуры, знаний, просвещения, что здесь не может быть места невежеству. Но мы жестоко ошибаемся, как раз в городах свили себе гнезда ишаны, имамы, хазреты, хальфе и настоятели мечетей и медресе. В городах много школ, но и мечетей много. Несчастный городской житель порой напоминает мне узника, скованного цепями невежества по рукам и ногам и брошенного в темницу.
— Как ни странно, — продолжал Абай, — жители городов терпят больше вреда от невежественных мулл, чем жители степей. Фанатические призывы, темные кровавые замыслы, коварные решения и приговоры рождаются в стенах медресе и мечетей и отсюда ядовитым дурманом распространяются среди широких масс верующих. Самые ужасные изуверства на религиозной почве происходят именно в городах.
Абай заговорил о том, что его особенно волновало:
— Поборники ислама стремятся каждого верующего мусульманина превратить в слепое орудие осуществления своих темных замыслов. Живя в России, муллы стремятся воспитывать казахский народ врагом своего отечества. Их проповедь ненависти к неверным — гяурам распространяется наставниками, сидящими в Казани, Крыму, в священной Бухаре, в Самарканде и халифских святилищах Каира, Мекки, Медины, в султанском Стамбуле, в Турции, где еще царит мрак тирании времен «Тысячи и одной ночи». Иногда я получаю оттуда письма, газеты, проповеди, — все они проникнуты одним стремлением: заставить людей исповедовать пять заповедей ислама и поклоняться изуверам в чалмах. Они имеют одну цель — держать наше поколение и наших потомков в темноте. Каким пугалом и чудовищем они изображают русский народ, среди которого мы живем! «Сторонись русских, они враги нашей религии. Не доверяй им, будь для них тоже врагом!» Вот к чему сводится сейчас проповедь ислама!
Абиш с изумлением смотрел на отца, впервые так резко высказавшего свои мысли. Глубокая складка раздумья прочертила широкий лоб Абая.
— Ты понимаешь, чего они от меня хотят, чего добиваются? — спросил поэт и сам же ответил на свой вопрос: — Они хотят, чтобы я забыл, как, выйдя из невежественного аула, сделался просвещенным человеком. Они хотят, чтобы я отверг тот луч света, который осветил мне в темной степи тропинку к русской книге, открыв мне глаза на мир. Если прислушаться к голосам тех, кто шлет мне послания от имени ислама, я должен превратиться в современного дервиша, в нового Суфи-Аллаяра, должен унизить самого себя, сжечь свои произведения. Склонив голову перед «Призывом исламского совета», я должен предать проклятию даже тебя, человека, воспитанного русской школой! Видишь, чего они потребуют от меня, если я покорюсь их воле. Они хотят отравить ядом ислама всех казахов, использовав для этой цели меня как свое орудие. Они намерены задержать в путах невежества все последующие поколения нашего народа. Ты сказал, что их жалкая кучка. Да, их действительно мало, но вред они приносят огромный.
Продолжая размышлять вслух, Абай напомнил, что проповедью человеконенавистнического ислама занимаются не только ишаны, муллы и хальфе, есть немало темных казахов среди торговцев, подобных Сейсеке и Корабаю, беспросветных невежд, вроде Уразбая, никогда в жизни не раскрывших ни одной книги, но помогающих духовенству одурманивать народ.
— Темные силы боятся, чтобы казахи не сошли с пути невежества, они ведут свою гнусную работу, причиняя страшнейшее зло грядущим поколениям и задерживая развитие истории нашего народа.
Абиш слушал с напряженным вниманием, понимая, что эти мысли отца родились не случайно и не только под влиянием сегодняшней встречи с хальфе. Абай пришел к ним давно, живя в степном ауле, а жизнь в Семипалатинске и особенно последние события утвердили его в правильности его взглядов на роль ислама в судьбах народа.
Горячая речь развязала узлы многих сомнений, волновавших Абиша. Несмотря на свой юный возраст, он уже успел повидать белый свет. Два года назад, когда у него обнаружилась серьезная болезнь — туберкулез желез, от которой до сей поры сохранился шрам у него на шее, — его отправили лечиться на юг, вначале в Крым, а затем на Кавказ, где несколько месяцев ему пришлось прожить в Абастумане, возле Кутаиса, а прошлой осенью, получив назначение в Туркестанский военный округ, он совершил длительное путешествие в Ташкент. Эти поездки в Крым, на Кавказ и в Среднюю Азию не прошли бесследно для пытливого ума Абиша: он частенько рассказывал отцу интересные наблюдения над жизнью крымских татар, кавказских горцев и туркестанцев.
Сейчас он снова вернулся к этим воспоминаниям, они полностью подтверждали только что высказанные Абаем мысли.
Когда Абиш учился в военном училище, он подружился с молодым юнкером, любознательным казанским татарином Гизатуллой, который много рассказывал ему о своей родине. С большим сокрушением юноша говорил об имамах и хазретах, воздвигнувших каменную стену между татарским народом и русским. Мечеть, медресе, исламский фанатизм закрыли татарам дорогу к русской культуре. Муллы чураются прогресса, боятся его, он им мешает опутывать сердца мусульман липкой паутиной лжи.
Абиш слушал молодого татарина, рассказывавшего горькую правду, и вспомнил свои впечатления от поездок по Кавказу, Крыму и Туркестану. В этих краях он наблюдал то же дикое невежество и религиозное изуверство, о которых с горечью говорил юнкер татарин. Народ, исповедующий мусульманство, пребывал в ужасающей темноте: повсюду влияние мечети и медресе было точно такими же, как в Казани; везде ишаны и хазреты отпугивали верующих от русских школ, делали их врагами русской культуры, прививали ненависть к русскому народу.
До полуночи длилась задушевная беседа Абая с сыном, и Абиш сказал, расставаясь:
— Отец, сегодня мне открылся глубокий смысл вашего труда и вашей борьбы. Действительно, нельзя проходить мимо проповедей мулл, раз они произносят их ежедневно. В споре с Юнусбеком вы показали фальшь красивых божественных слов, многовековую мерзость и внутренний мрак ислама. Сегодня я понял это особенно ясно.
Абиш замолчал, и Абай, погруженный в свои думы, ничего не ответил. Сын вспомнил стихи Лермонтова, переведенные отцом, и подумал о том, что эти переводы не были плодом пустой забавы. Причины сегодняшней стычки Абая с Шарифжаном и Юнусбеком находились здесь — в борьбе за русскую культуру, которую начинал отец.
Буря споров, бушевавшая вокруг «Дела Макен Азимовой», стала стихать к тому времени, когда поручик Ускенбаев определил свой день отъезда в далекий путь. Абаю было тяжело расставаться с сыном, покидавшим его надолго, и он несколько дней совсем не отпускал от себя Абиша, словно ревнуя его ко всем окружающим. Кто знает, как продолжительна будет их разлука, да и придется ли еще встретиться! Абай не мог наглядеться на сына, с грустью сознавая, что скоро ему предстоит с ним расстаться. Оба бесконечно дорожили теми часами, когда оставались наедине и могли делиться самыми сокровенными своими думами. Вместе, плечом к плечу прошли они путь напряженной борьбы. Это было новое в их отношениях, и однажды, заканчивая долгую беседу, Абай сказал:
— Абиш, родной мой! У нас с тобой не только общие мысли и мечты, в этом году мы с тобой оказались соратниками в общей борьбе, и то, что я узнал тебя как стойкого борца, большая радость для меня.
Бледное лицо Абиша порозовело: он догадывался, что отец доволен его деятельным вмешательством в «Дело Макен Азимовой», но сегодня впервые услышал это из его собственных уст.
— Вы хотите сказать, что я выиграл борьбу, сознательно пойдя на испытание, а я достиг этого не своим искусством, моей заслуги здесь нет. Русский закон для Макен оказался более сострадательным, чем темный закон степей или мусульманский шариат ходжей и мулл. Русский суд опозорился бы, если бы отдал Макен и Дармена в руки биев, послушных воле Уразбая или Ак-ишана. В деле Макен победило не мое искусство ходатая, а то, что оно дошло до своего логического конца.
…Абай старался не разлучаться с сыном, но в городе у Абиша было много друзей и сверстников, также горячо ему преданных. Это были братья и соратники вроде Какитая, Дармена, Мухи, веселого острослова Утегельды, певца Альмагамбета и неутомимого рассказчика Баймагамбета.
Перед отъездом Абиш провел несколько вечеров в их обществе, недавно побывал у Какитая, а сегодня молодежь собралась в Затоне у Дармена.
Грузчик Абен и его жена Айша, сильно пострадавшие во время разгрома, учиненного в их доме, не изменили своего дружеского расположения к Дармену и охотно пустили его жить к себе. В небольшом домике гостеприимного грузчика нашли приют и Муха с Альмагамбетом.
Абиш приехал в Затон вместе с Какитаем и Утегельды.
Когда молодежь расположилась пить чай за низким круглым столом, на огонек неожиданно завернул и Павлов. Увидев на пороге улыбающегося Федора Ивановича, Абен и Айша встретили его, как самого дорогого гостя, и провели на почетное место. Для Абиша приход Павлова явился приятной неожиданностью.
— Ой, как хорошо, что вы пришли! Проходите, проходите сюда! — радостно говорил Абиш, приглашая Павлова сесть между собой и Абеном.
Увидев компанию молодых людей, Федор Иванович сказал, что зашел по пути, ненадолго, у него есть небольшое дело к Абену. За чаем Павлов оживленно разговаривал с Абишем и дал понять, что следит за тем, как проходит в суде дело Макен и Дармена.
— Кто же сообщает вам о нем? — спросил Абиш. Павлов ответил уклончиво, посмеиваясь.
— Все события, связанные с Абеном и его домом, меня очень интересуют. Мой гонимый друг Марков свою адвокатскую практику начал в Затоне. Хотя он и не присяжный поверенный, но прошение в окружной суд по делу Макен составил не хуже любого юриста. Должен сознаться, что и для меня это дело явилось первым адвокатским опытом.
Федор Иванович взглянул на Абена, на лице которого еще сохранился рубец от недавно зажившей раны, и слегка улыбнулся. Абиш живо перехватил этот взгляд.
— Мы очень вам благодарны, но скажите, пожалуйста, ваше вмешательство в дело девушки, бежавшей из аула в город, тоже входит в программу вашей революционной деятельности?
Понимая, что за этим шутливым вопросом не кроется никакой иронии, а, напротив, стоит неподдельный интерес, Федор Иванович ответил тоже шутливо.
— Ну, разумеется, входит в программу! Стали бы разве рабочие Затона напрасно проливать свою кровь и подставлять головы под шокпары торговцев?! Ради чего же они сами били баев так охотно, если бы это не входило в нашу программу?!
И Федор Иванович весело рассмеялся, а Абиш продолжал по-прежнему шутливо допрашивать:
— Стало быть, по-вашему, рабочие Затона внесли свою лепту физической силой в общее дело борьбы с неправдой? Можно расценивать так их поступок?
И Федор Иванович ответил уже совершенно серьезно.
— Безусловно. Мы стремимся научить рабочего в любое время и в любых обстоятельствах распознавать своих врагов. Наши товарищи — Абен, Сеит и другие — хорошо поняли истинный смысл «Дела Макен Азимовой».
Абен догадался, что именно сказал о нем Федор Иванович на русском языке, и сам вмешался в разговор:
— Марков и Павлов говорят, что самый большой наш враг — это баи, волостные управители, торговцы и чиновники. Рабочие их слушают и тоже начинают рассказывать, как много горя они терпели в степи и в городе. Федор Иванович и Марков — наши верные друзья, с ними можно говорить обо всем. Они знают, о чем мы думаем, чего хотим. Мы узнали от них, кто наш враг. А если знаешь своего врага, то знаешь, кого надо бить!
Федор Иванович подождал, когда закончит говорить Абен, и сказал, одобрительно кивнув головой:
— Рабочий люд Затона только ждал случая, чтобы показать свою силу врагам. «Дело Макен Азимовой» как раз и явилось подходящим для этого поводом. Я советую вам, Абиш, послушать Маркова, он вам разовьет целую теорию на этот счет… Он даже своим товарищам написал, как рабочему классу для распознавания своего врага, пригодился, такой пережиток средневековья, как обычай умыкания невесты…
После чая Павлов сразу же, к большому сожалению Абиша, заторопился домой.
После его ухода молодежь предалась веселью. По просьбе Абиша Дармен взял в руки домбру и для начала исполнил новый, не известный товарищам кюй вступления. Играл он мастерски, извлекая из инструмента пленительные глуховатые звуки прекрасной мелодии, но слушатели ждали песен, и он, повернувшись к Абишу, с горечью заговорил:
— Вижу, вы хотите, чтобы я спел. Но вы ведь сами понимаете, какие песни я могу петь сейчас, в эти дни. Есть одна мелодия, которая звучит в моей душе, и я хотел, чтобы первой ее услышала Макен, если судьба даст мне возможность с ней свидеться. Но ты, Абиш, собираешься в далекий путь, и если я не открою тебе эту мелодию, ты уедешь, так и не узнав, что творится в моей груди.
Дармен с любовью обвел взглядом присутствующих:
— Если со мной нет Макен, то тут сидят ее верные друзья. Я открою вам то, что до сих пор хранил в своем сердце. Вы, конечно, не забыли сказку «Шаркен», которую нам рассказал Бака. Помните, о чем говорил своему мудрому другу Дандану израненный стрелами юноша Зукуль-Макан после гибели в бою своего брата — богатыря Шаркена: «Вот здесь, в сердце, мои раны внутренние, а на теле — наружные. Скажи мне что-нибудь такое, чтобы я отвлекся и забыл о них».
Дармен замолк на минуту.
— Я тоже попробую забыться песней.
В голосе обычно жизнерадостного Дармена прозвучала печаль. Все молча, с горячим сочувствием смотрели на его тонкое лицо с густыми, как бобровый мех, бровями и задумчивыми черными глазами, в которых застыла тоска.
Певец тронул струны домбры и запел, раскрывая боль своего сердца, которая ни для кого не была тайной. Приподнятая, полная надежд мелодия парила быстрокрылой птицей, повествуя о клятве двух влюбленных и решимости их бороться за свое счастье до конца. Временами она перекликалась с мелодией Абая «Зеница ока моего», выражая неутешное горе разлученных сердец, горевших неугасимым пламенем бессмертной любви.
Дармен пел о верной дружбе, которая познается в беде, о неоценимой помощи Абиша и Магиш, пел о горькой судьбе своей и Макен, превратившей их в гонимых беглецов; он нашел доброе слово для товарищей, вставших на защиту влюбленных, помянул о Мухе, сраженном ударом шокпара и лежавшем в крови. С легкой добродушной насмешкой певец изобразил испуг Альмагамбета в памятный день схватки с врагами, вызвав веселые улыбки у слушателей.
Абен и Айша смеялись до слез, глядя на тщедушного Альмагамбета и слушая слова Дармена о нем.
А смущенный Альмагамбет принялся оправдываться:
— У Корабая кулак словно чугунная колотушка! Что бы от меня осталось, если бы он разочек стукнул!
А певец продолжал, поражая слушателей неожиданными переходами мелодии — от печальной, проникнутой безысходной тоской, к искристо-веселой, вызвавшей улыбки и смех молодежи.
Под глухие звуки домбры поэт изливал свое горе, он рассказывал, как видел во сне исхудавшую Макен, брошенную в бездонный зиндан.[110] Он услышал ее жалобы и хотел крикнуть: «Я здесь, рядом с тобой», — но у него вдруг пропал голос. Он хотел спрыгнуть в зиндан, но не мог поднять руки, которая казалось, приросла к телу, хотел двинуть ногами, но они пристали к полу.
Дармен пел, а из глаз Айши, только что заливавшейся веселым смехом, капали слезы. Абиш не мог оторвать взгляда от вдохновенного лица друга. Ему показалось, что последняя песня чем-то перекликается с чудесными балладами знаменитых русских поэтов.
В последней песне, посвященной заточению Макен в доме толмача Алимбека, прозвучали особенно горькие, тоскливые ноты. Жестокий тюремщик стоял на пути акына, не давая ему даже на один миг увидеть любимую. Дом толмача оказался более страшным, чем глубокий зиндан, до заключенной не доходили ни жалобы Дармена, ни письма его. К каким только изощренным попыткам не прибегали Дармен и Какитай, чтобы послать весточку Макен! На днях они отправили ей платье, камзол и бешмет, с нашитыми на воротниках, отворотах и бортах амулетами. Сможет ли она догадаться, что под вышитыми искусной рукой треугольником запрятано письмо Дармена, написанное мелким, как бисер, почерком? Найдет ли возлюбленная этот крохотный листок?
Дармен пел о своей горячей любви, и молодежь словно чувствовала ее обжигающее пламя. Но вот певец, взяв последний аккорд, отложил домбру. В комнате воцарилась полная тишина, никто не проронил ни слова.
Гости снова сели за стол, и снова начался разговор о Макен, снова молодежь стала высказывать свои сомнения и надежды. Все старались в меру своих сил утешить Дармена:
— Макен догадается, почему пришиты амулеты!
— Она найдет твое письмо!
— Пусть сбудется, что ты задумал!
Прощаясь с Дарменом, Абиш крепко обнял его, поцеловал и сказал:
— Я страстно желал увидеть, как будут уничтожены на суде все преграды на пути вашего счастья и вы соединитесь с Макен навсегда. Но ничего не поделаешь, человек я военный и себе не принадлежу, надо ехать. Передай Макен мое сожаление, что я не смог присутствовать на суде.
В конце сентября, выполняя приказ своего начальства, поручик Ускенбаев выехал в Алма-Ату.
Холодные осенние дожди сменились снегопадами, суровые морозы сковали на Иртыше лед, наступил январь…
Макен, одиноко томившаяся в заточении, подсчитала, что с той ночи, когда она переправилась с Дарменом в лодке Сеиля в Семпалатинск, прошло ровно четыре месяца. За это время она всего лишь один раз покинула дом толмача Алимбека. Его жена Салима посадила Макен рядом с собой в сани и, накрыв ей голову черным чапаном, как это делали все татарские женщины, повезла к следователю окружного суда Злобину.
Толмачом при допросе был все тот же Алимбек, сухо переводивший вопросы следователя и ответы Макен. Девушка не доверяла ему, она неизменно слово в слово повторяла свои прежние показания, данные в присутствии Абиша.
Со времени этого допроса прошел месяц, и вот сегодня Салима вновь повезла ее в санях в окружной суд. Утро было ясное, холодное, под солнечными лучами ослепительно сверкал выпавший ночью снег. Макен с наслаждением дышала свежим морозным воздухом и с любопытством оглядывалась по сторонам. Горожане в полушубках и валенках торопливо шли в том же направлении, в каком Салима везла свою пленницу.
Выйдя из саней, подкативших к зданию суда, Макен заметила большое оживление. У дверей подъезда, на площади и даже на улицах, которые выходили на эту площадь, толпилось множество народа. Несмотря на то, что лицо ее было закрыто чапаном, Макен увидела, что в большинстве своем люди были одеты по-тобыктински. Она заметила а толпе баев в лисьих суконных шубах с широкими воротниками, городских купцов в татарских шапках и шубах на беличьем и енотовом меху и нескольких мулл в чалмах.
Среди этого множества людей Макен чувствовала себя словно среди глухонемых, не с кем было перекинуться словом, не видно было ни одного знакомого лица. Она надеялась увидеть здесь Абая, но его не было, и это сильно встревожило Макен.
Салима ввела девушку в здание суда и поднялась с ней по знакомой лестнице на второй этаж. В ту минуту, когда татарка открыла дверь, Макен услышала возле себя тихий голос Альмагамбета:
— Не робей, Макен! Заступники твои около тебя, Абай-ага тоже здесь!
Абай-ага!
От этого имени повеяло теплом, которого так жаждала изболевшаяся душа Макен.
Необычное для русского судопроизводства «Дело Макен Азимовой» окружной суд решил рассмотреть при закрытых дверях, в присутствии председателя и двух членов суда, без участия заинтересованных сторон. Не было здесь ни прокурора, ни защитника, ни свидетелей, ни публики. Весь судебный процесс решено было ограничить допросом Макен, а затем вынести в порядке исключительной меры краткий приговор.
И вот Макен в сопровождении конвоира тихо вошла в светлую, просторную комнату с высоким лепным потолком и увидела большой стол, накрытый синим сукном, за которым сидели три человека. Посредине солидный лысый мужчина с окладистой русой бородой в золотых очках и с золотыми пуговицами на темно-зеленом мундире. Макен сразу догадалась, что это главный судья, что он будет решать ее судьбу, и она на него устремила свой взор. На двух помощников — одного высокого, черного, а другого седовласого, сидевших по обе стороны от главного судьи, девушка не обратила никакого внимания и только позже заметила толмача, большеглазого, чуть рябоватого грузного казаха, стоявшего возле стола, и секретаря, сидевшего сбоку за отдельным маленьким столиком.
Макен ждала от суда защиты, и потому главный судья показался Макен красивым и добрым, и она успокоилась, уверившись почему-то, что он не сделает ей зла. Она держалась скромно, но страха не испытывала, как, впрочем, не испытывала его за все долгие месяцы своего заключения. Ей самой это казалось странным, и она не раз задавала себе вопрос: «Почему же я не боюсь? Неужели разум покинул меня, и я уже просто-напросто ничего не чувствую?»
На деле Макен никогда не была трусихой, у нее была открытая, прямая душа, и в день кровавого побоища в доме Абена девушка твердо решила про себя «Теперь, что бы ни случилось, жалеть мне нечего. Не боюсь ни огня, ни ада».
И сейчас в ней укрепилась решимость стоять на своем до конца и ни за что не сдаваться. «Пусть лучше умру», — упрямо повторяла она и, сжав кулачки, вонзила ногти в ладони.
— Подойдите сюда! — мягко позвал председатель суда низким грудным голосом и поманил ее рукой. — Поближе!
Он поправил золотые очки на носу, стараясь получше разглядеть дочь степей, впервые переступившую порог судебного зала. Пока толмач переводил его слова, Макен, осторожно шагая по широкому ковру, дошла до середины комнаты. Высокая, стройная, в камзоле с тонкой талией, в тюбетейке, расшитой позументом, покрытой легкой шелковой шалью, она показалась председателю красавицей. Не без удивления он разглядывал ее смуглое с нежными чертами лицо, явно любуясь миловидной степной девушкой.
— Поближе, поближе! — приветливо говорил он, и когда Макен вплотную подошла к столу, накрытому синим сукном, стал задавать вопросы: как зовут, сколько лет, есть ли у нее отец, знает ли она грамоту.
Макен заметила, что секретарь, сидевший за отдельным столиком, записывал ее ответы, переведенные толмачом, и это почему-то внесло в ее душу полное успокоение. Она почувствовала себя настолько уверенно, что начала даже снисходительно посмеиваться в душе над вежливыми вопросами председателя: «Неужели за шесть месяцев не успели узнать, кто я такая? Пять раз допрашивали и задавали те же самые вопросы. Сколько исписали листов бумаги». Девушка искренне недоумевала: «Неужели они затеряли их?»
Председатель суда спросил, почему Макен убежала от Даира. Макен ответила коротко и решительно. С Дарменом она не желает расстаться и предпочтет умереть, если ее отдадут Даиру.
Председатель суда выслушал перевод толмача с бесстрастным выражением лица и начал разговаривать со своими помощниками на непонятном для Макен русском языке. Три человека, сидевшие за синим столом, совещались между собой, а Макен, с надеждой глядя на них, ожидала решения своей участи. А тем временем председатель суда говорил своим коллегам: «Слова этой казашки разумны. Она находчива, держится с достоинством. Видно, что ей нечего скрывать».
Решение суда было объявлено Макен через толмача тут же. Оно предоставляло казахской девушке возможность распорядиться своей судьбой по личному своему желанию.
Решив таким образом моральную сторону «Дела Азимовой», судьи так и не рискнули, однако, довести дело до конца и затронуть его материальную сторону. Спор об имущественных интересах, о возвращении калыма они передали на рассмотрение казахского суда биев для полюбовного согласия тяжущихся сторон.
Но Макен и не интересовалась имущественной стороной дела. Ей было ясно сказано, что суд отказывает Даиру, сыну Шакара, в праве насильно жениться на Макен Азимовой только потому, что он заплатил за нее калым. Девушке предоставлялась полная свобода в выборе жениха.
Как только решение было оглашено, оно сразу же стало известно всем казахам, переполнившим здание окружного суда и находившимся возле него на улице. Хотя в толпе и было много городских торговцев, великовозрастных шакирдов, мулл и толмачей — открытых сторонников Уразбая и Даира, сочувствие простого люда оказалось на стороне Абая. Лодочники с обоих берегов Иртыша, мелкие ремесленники, русские рабочие, а особенно затонские грузчики и степняки из аулов, окружившие Абая, Какитая и Дармена, шумно свидетельствовали о том, кого они поддерживают в этой борьбе.
Душа Макен ликовала. Пусть суд сам решает, как быть с калымом, ей до этого нет никакого дела. В ее руках драгоценная бумага, она дороже золота и алмазов, в ней на двух языках, русском и казахском, написано свидетельство о личной свободе Макен Азимовой. Красная сургучная печать освобождает ее от Даира! Девушка прижимает к груди плотную бумагу, а главный судья, поглаживая великолепную русую бороду, смотрит на нее из-под золотых очков смеющимися глазами: наверное, и судьям бывает иной раз приятно выносить решения, открывающие дорогу к счастью.
— Абай-ага!
Увидев самого главного своего защитника, Макен прикладывает руку к горлу, из глаз ее вот-вот хлынут слезы благодарности, она готова упасть на колени и целовать его ноги.
Но Абай подходит к Макен и, поздравляя ее, отечески протягивает обе руки.
Пять месяцев Макен не видела Абая, он ей кажется помолодевшим и каким-то необычайно светлым. На его лице играет довольная улыбка, тонкие брови словно поднялись, а глаза излучают радость и доброту. Правда, в усах и бороде заметнее пробивается седина — неумолимый признак старости, но сверкающие белизной крупные ровные зубы молодят его лицо. Абай обнимает одной рукой Какитая, другой Абена, широкая грудь его дышит восторгом. Он вспоминает первые мучительные дни, когда Есентай с угрозой приезжал к нему от Уразбая. Тогда он решил вступить в открытую борьбу со злодеями, — и сейчас с гордостью подумал, что эта упорная борьба наконец-то увенчалась победой.
Но в окружавшей их толпе были и такие люди, которые не сводили с Абая завистливых, мстительных глаз. Есентай подтолкнул локтем стоявшего рядом с ним Уразбая:
— Смотри, как возгордился! Возомнил о себе! Занесся. Уразбай, скрипнув зубами, злобно, как старый цепной пес, прохрипел:
— Пусть Ибрай торжествует! Пусть считает себя победителем! Мы еще встретимся… Я ему сторицей воздам все, что он заслужил! Только пока молчи…
И он многозначительно пожал руку Есентаю.
Абай договорился с Алимбеком, чтобы тот отпустил Макен с Какитаем, а потом вернулся в суд уладить формальности по второй части решения. Вопреки ожиданиям враждебной стороны, он оказался очень сговорчивым, заявив председателю суда:
— Все имущественные претензии Уразбая и Даира по делу Азимовой будут удовлетворены а бесспорном порядке!
С помощью ловкого краснобая, бельагачского казаха Айтказы, взявшего на себя обязанности посредника между сторонами, Абай быстро и успешно завершил переговоры, поставив в тупик Уразбая и его приспешников, полагавших, что спор из-за калыма разгорится с новой силой.
Еще пуще обозлившийся, ненасытный Уразбай потребовал уплаты штрафных. Абай не стал возражать и даже сам предложил уплатить две «девятки», уничтожив таким образом последний повод к новым распрям.
Так завершилось «Дело Макен Азимовой», на полгода сделавшее Абая и его многочисленных друзей жителями Семипалатинска.
Но спор из-за нежной возлюбленной Дармена, чреватый тяжелыми последствиями, надолго остался в памяти народной под названием, данным ему врагами: «Смута из-за девки Макен».
Что бы ни делали и ни говорили в разбойничьем стане Уразбая, по-новому сильно и горячо разгоралась любовь Дармена и Макен, прошедшая очистительный огонь разлуки и страдания. Какитай, освободивший девушку из дома Сарманова, никуда не заезжая по пути и никого не предупреждая, сразу помчался с нею в Затон.
Дармен, больной от своего безысходного горя, привыкший к печали разлуки, сразу даже и не понял, кто неожиданно возник перед ним в сумеречной комнате Абена. Ему и в голову не приходило, что Макен могла появиться здесь в ту пору, когда он изливал свою неизбывную тоску по ней в задушевном «Кулак-кюе», негромко перебирая чуткие струны домбры.
Какитай лишь слегка подтолкнул девушку вперед, а сам отступил и скрылся. Не проронившая ни капельки слез в часы самых тяжелых бед и испытаний, теперь, в объятиях Дармена, Макен дрогнула и залилась слезами. Целуя ее и плача сам, Дармен глотал ее слезы, остывающие на еще холодных с мороза щеках.
Не только в эти первые минуты после разлуки, но и в самые безмятежные часы своей любви они часто и подолгу молчали, — их переполненные сердца не нуждались в словах. И теперь, не давая Макен времени снять шубку, Дармен притянул ее на корпе, постеленное на ковре, и прильнул к ее лицу немым поцелуем.
В этом поцелуе была и благодарность за спасение и мольба о счастье. Неведомо к кому обращенная, она была искренна и горяча, само спасение от всех зол мира.
А Макен, вначале словно чуть отвыкшая от Дармена, скованная долгими месяцами одиночества и замкнутости, робко, шаг за шагом выходя из своего оцепенения, дрожащими губами тихонько приникла к любимому.
В КРУЧИНЕ
1
Вечернее солнце скрылось за облако, когда Абай и Дармен перевалили через Коныр-адыр и добрались до зимовки на возвышенности Молалысу. Угасал хмурый осенний день. С утра неистовствовал холодный, пронзительный ветер, загнавший жатаков в дырявые черные юрты и лачуги. В обветшалом ауле, вконец оскудевшем, почти не заметно признаков жизни. Порою из-за юрты выскочит с визгливым лаем тощий щенок или пробежит голодная сука и сразу же скроется за лачугой. Изредка заструится синий дымок из-под тундика[111] какой-нибудь юрты и исчезнет, развеянный ветром. Ни единой души не видно за аулом. Лишь одинокая женщина, сидя на корточках возле коровы, цедит скудный удой молока.
Два всадника, никого не беспокоя расспросами, безошибочно нашли нужную юрту. Дармен часто бывал в ней и хорошо запомнил заплату из новой красной кошмы, наложенную на старом туырлыке.[112] Правда, яркая заплата выцвела, истерлась, покрылась копотью, но форма ее осталась прежней.
Никто не обратил внимания на приезжих, никто не вышел к ним навстречу. Абай оглянулся и заметил двух лошадей, пасущихся невдалеке. Он узнал белоногого темно-серого коня Ербола. Вторая лошадь принадлежала Базаралы. Когда-то она была отличной масти — серая в яблоках, а теперь превратилась в сивую, с грязно-бурыми пятнами.
При мысли, что он сейчас увидит старых друзей, у Абая потеплело на душе и словно начала проходить усталость от долгой и трудной дороги.
Белогрудая черная сука и черномордый серый щенок никак не давали Абаю войти в юрту. Они с неистовым лаем преграждали ему дорогу, то забегая вперед, то норовя схватить его за плетку или за полы чапана. Дармен привязал коней и поспешил на помощь Абаю. Криком отогнав собак, он открыл перед поэтом дверь юрты.
Никто не обратил внимания на вошедших, никто не шелохнулся и не подал голоса. Казалось, в юрте не было ни одной живой души. Трудно было допустить, что ее обитатели не слышали неистового лая собак, поднявших переполох при появлении верховых.
Оглядевшись, Абай и Дармен поняли причину странной неприветливости хозяев. С левой стороны маленькой мрачной юрты, на старой кошме, расстеленной прямо на земле, лежал больной. Двое мужчин и женщина, сидевшие возле постели, не сводили с него глаз, словно застыли в неподвижности. Абай и Дармен сразу поняли все, тихонько подошли и молча стали позади сидевших.
Но тут мужчины, — это были Ербол и Базаралы, — заметили приезжих, поднялись, засуетились. Тихонько поздоровавшись с Абаем, они освободили ему торь.[113] Женщина даже не пошевелилась, она продолжала сидеть безмолвно, в прежней позе; по ее щекам медленно и непрестанно текли слезы.
Ответив на приветствие Базаралы и Ербола, Абай спросил, как чувствует себя больной. Тот, должно быть, услышал этот вопрос и через силу сделал знак женщине. Она низко склонилась, приблизив свое лицо к нему.
— Абай, — прошептала она, — Абай и Дармен приехали! Повернувшись к гостям, женщина тихо сказала:
— Спрашивает: «Кто приехал»? Язык отнялся, а сейчас снова заговорил…
И она еще пристальнее стала всматриваться в осунувшееся лицо больного.
Базаралы шепнул Дармену:
— Раздевайся и подойди к нему поближе. Даркембай все время вспоминал тебя. Наверное, что-то хочет сказать…
Дармен снял чапан и, оставшись в бешмете, занял место женщины. Абай, сбросив малахай, тоже приблизился к изголовью больного. Они оба наклонились над ним, касаясь друг друга головами.
Ербол подбросил сухого кизяку в очаг и принялся раздувать огонь. Вспыхнувшее пламя алым блеском озарило лица Абая и Дармена. Теперь, при свете костра, можно было хорошо разглядеть белую длинную бороду Даркембая, заострившийся крупный нос, узкие, полуприкрытые глаза и поседевшие взъерошенные брови. Сломленный недугом старик разглядывал склонившиеся над ним лица и как будто улыбался.
— Ты, Абай? — спросил он едва слышно, чуть шевеля губами.
Абай, как бы предваряя его желание, коснулся лицом бороды умирающего. Даркембай еле заметно кивнул головой и притронулся губами к щеке, лбу и уху Абая, словно целуя его.
Крупные слезы выступили на глазах Абая и тяжелыми каплями упали на щеку старика.
— Бесценный друг мой! — прошептал Абай, с трудом сдерживая рыдание. Жгучая тоска терзала его широкую грудь, исполненную живой любовью к умирающему.
Жаныл беззвучно зарыдала. Не сдерживая горя, заплакал Дармен. Ербол, сидевший поодаль, глядя в страдальческие глаза Абая, тяжело вздохнул. Низко склонив большую голову, Базаралы молча предавался печали. Три глубоких борозды на его широком лбу казались подвижными, — подброшенный в костер кизяк вспыхивал ярким пламенем, резко оттеняя беспощадные следы пережитого горя.
Собирая остатки последних сил, умирающий пошевелил бровями, подзывая к се6е Дармена. Юный жигит еще ниже опустил лицо и коснулся щекой дядиной бороды. Даркембай на мгновение задержал взгляд на лице Абая и с трудом перевел узкие глаза на племянника. Силы оставили умирающего, но его сознание было ясным.
— Абай… выполнил… свой долг! — раздался его тихий шепот.
Друзья, окружившие умирающего, поняли значение этих слов. Они вспомнили, как Даркембай привез одиннадцатилетнего Дармена в Семипалатинск к Кунанбаю, собиравшемуся ехать в Мекку. У мальчугана болели глаза, и голова его была наискосок перевязана грязным платком. Обратившись к Кунанбаю, Даркембай сказал, что богатый аксакал в долгу перед мальчиком-сиротой. Но Кунанбай оттолкнул сироту, тогда Абай, взглянув на юного Дармена, дал клятву справедливого человека: «За отца я в долгу перед тобой!»
Не зря вспомнил этот случай Даркембай. Базаралы и Ербол кивнули, словно в подтверждение слов умирающего. Оба они подумали об одном и том же: «Кем был тогда Дармен и кем он стал теперь? Кто не назовет его сыном Абая? Разве не сделался для него Дармен ближе, роднее и дороже всех родичей?»
Да, сын выполнил свой долг за отца.
Дармен и Абай никогда не говорили и не задумывались над теми отношениями, которые сложились между ними со дня их первой встречи. Только теперь, после скупых слов Даркембая, они ощутили в тайниках сердца свою глубокую общность, некую слитность чувств. Дармен, потрясенный, в слезах, не находил слов и только кивал склоненной головой в ответ умирающему.
По глазам дяди он понял, что тот хочет еще что-то сказать. Дармен не сводил взгляда с поблекших губ и полузакрытых глаз старика, мысленно обращаясь к нему с последней просьбой: «Говори еще, я жду твоих слов! Скажи, что ты завещаешь нам»
Все находившиеся в маленькой юрте возле смертного ложа сознавали, что близится последняя минута жизни Даркембая, из этой жизни навсегда уходил благородный и мудрый человек, и они в великой печали мысленно прощались с ним.
Заплаканная Жаныл, поняв, что долгое время молчавший Даркембай хочет высказать ей свою последнюю волю, с беспокойством оглянулась на дверь и прошептала:
— Где же Рахим? Почему же не идет Рахим? Что с ним случилось?
И словно услышав голос матери, в эту минуту в юрту вошел ее долгожданный сын, приветствуя Абая и Дармена.
Высокий мальчик с бледным, утомленным лицом, сняв малахай, по молчаливому знаку матери неслышным шагом приблизился к постели отца и, заняв место возле Дармена, так же, как и все, остановил пристальный взгляд на лице умирающего. Увидев рядом с Дарменом своего единственного сына, Даркембай заволновался. Тонкие поблекшие губы старика сомкнулись, он стиснул челюсти, словно проглотил горький яд.
Абай прочитал на лице своего старого друга предсмертную тоску и напряженно старался разгадать скорбные думы, которые уносил умирающий с собою в могилу.
«Нет более тяжкой кары, чем последнее слово, не сошедшее с уст!» — подумал он с горечью.
«Сын мой остается сиротой. В руках его нет еще ни силы, ни умения. Нет у него стада и нет защитников. Что станет с ним?»
Вот какие мысли читал в глазах умирающего Абай. Он не отрывал взгляда от губ старика и чутко прислушивался к его дыханию, мучительно надеясь услышать последнее слово друга.
Даркембай молчал, но глаза его не отпускали Дармена и словно звали выслушать еще что-то. Дармен и сам умоляюще смотрел на дядю, словно спрашивая его: «Что еще скажешь нам?» Старик перевел глаза на Рахима, и губы его дрогнули.
Дармен почти приложился ухом к устам дяди, чтобы не пропустить ни одного слова. И ясно услышал шепот:
— Поручаю Рахима тебе… Сделай его человеком… Оправдай свой долг перед Абаем…
Глаза Даркембая остановились на Абае, и тот, нагнувшись, подставил свое ухо.
— Рахима… учиться… человеком! — едва слышно прошептал умирающий и умолк, утомленно опустив веки.
Абай взял его руку, пульс едва-едва прощупывался. Отходил ли Даркембай, или просто ослабел от усилия, с каким произносил последние свои прощальные слова, — трудно было понять. Друзья, не сводившие глаз с осунувшегося лица умирающего, переглянулись, подавленные.
— Он ослабел, — прошептал Базаралы. — Пусть отдохнет.
— Он долго ждал Абая и Дармена, — тихо молвил Ербол. — Теперь он им сказал, что хотел, и успокоился.
— Мне кажется, он уснул! — В словах Дармена, который никогда не видел, как умирают люди, все еще звучала надежда. А возможно, он просто хотел успокоить юного Рахима.
Абай молчал. Он хорошо знал — в такой момент не бывает сна. Даркембай находился в состоянии покорности — между бытием и угасанием: — это начало отхода. Надо оставить умирающего в покое.
Сделав Дармену повелительный знак не трогаться с места, Абай тихо отошел от постели. К нему присоединились Базаралы и Ербол. Они опустились на кошму и стали тихонько разговаривать, словно обычные гости. Абай рассказывал, как, выехав сегодня вместе с Дарменом из Корыка, они весь день провели в пути. Погода была плохая, ехали медленно, замучились и продрогли. Потом он стал расспрашивать о том, что случилось с Даркембаем, как и когда он заболел.
— Сегодня четвертый день, как слег, — сказал Базаралы.
— Болезнь свалила его недавно, но сразу круто за него взялась, — добавил Ербол. — Позавчера я пришел к нему. Он даже стонал, так ему было худо.
Жаныл, занятая приготовлением чая, подняла казан и подтвердила:
— Да, он сразу сильно занемог!
Это привычное занятие не то чтобы утешило, а как бы привело ее в себя, и она рассказала, как заболел Даркембай.
— Прозяб на ветру. Вот уже целую неделю дует этот проклятый ветер. Старик мой выпросил у соседей арбу, поехал в овраг Караганды за сеном вместе с Рахимом, вот и простыл. А тут еще замело… Надо бы ему назад вернуться. Да разве он оставит дело несделанным? Целый день они сено возили… Работа тяжелая, силенок мало, одежонка худая… чекмень-то у него тонкий, ворот не застегивается… В горячке он и внимания на это не обратил. Вот и продуло его насквозь… Когда поздно вечером они вернулись домой, он мне и говорит: «Ой, Жаныл, до костей я продрог. Сегодняшний день, видно, доконает меня!» Так и получилось. Слег в постель и всю ночь горел, как в огне. Кашель душил, не мог лежать спокойно, метался… А вот теперь, видите, отмучился…
Жаныл, проглотив слезы, умолкла.
Базаралы, видевший в жизни много нужды и горя, сказал задумчиво:
— Известное дело… Правильно сказала Жаныл… Подстерегла его болезнь и захватила врасплох. Чего только не перенес наш Даркембай! Однако человек не железо. И сильного духом дырявый чекмень не спасет от мороза, а перед лютым зимним ветром любая гордая голова склонится…
Он помолчал немного и с грустью закончил:
— Хороший был Даркембай. Но когда в снежной степи безоружного путника окружит волчья стая, какой толк от того, что он добрый, нужный, дорогой для всех человек? Старость, голод, нищета, как лютые волки, окружили и в конце концов доконали нашего друга.
Абай и Ербол только головами кивали: «Правда, правда. Базаралы нашел точные слова: о Даркембае, прожившем больше семидесяти лет в безысходной жестокой нужде, лучше не скажешь».
В эту ночь положение больного заметно и резко ухудшилось, с каждым часом болезнь одолевала его.
Когда сидевшие в юрте закончили вечернюю трапезу, у Даркембая начались предсмертные судороги. Из груди вырвался зловещий хрип. Абай, Базаралы и Ербол, вздрогнув, переглянулись. Подойдя к постели умирающего, они настороженно прислушивались к его прерывистому дыханию.
Все притихли и опустили глаза в немом ожидании таинственного мгновения, которое вот-вот должно наступить. Даркембай умирал… Хрип внезапно оборвался, и наступила полная тишина…
На следующий день, ранним утром, многочисленное население аула жатаков хоронило всеми любимого старика. На расстоянии выгона отары от Молалысу, за перевалом, находилось кладбище, туда привезли останки Даркембая и с честью предали земле.
Абай, Базаралы, Ербол и Дармен приняли в похоронах самое горячее участие и взяли на себя заботу о поминках. Абай послал нарочного в ближайший аул Акылбая и не только пригласил жителей его на жаназу, но велел привести в дом Даркембая дойную корову и верблюдицу. Это была его аза[114] осиротевшей семье покойного друга.
Помимо того, в дни жаназы и похорон Абай дал Жаныл несколько овец и стригуна. Ербол, хозяйство которого значительно окрепло, также не остался в стороне — выделил на поминки корову и двух баранов. И Базаралы старался помочь вдове, чем мог.
Утешая осиротевших Жаныл и Рахима, Абай и его друзья после смерти Даркембая задержались в ауле жатаков на целую неделю, вплоть до первых семидневных поминок. За эти дни Абай успел съездить и погостить в доме Ербола, который жил за перевалом, в урочище Аккудук. Дни и ночи он проводил вместе со старым другом. Навестил он также и Базаралы, заночевав у него в ауле.
Когда Абай уезжал к Ерболу и Базаралы, Дармен неотступно находился возле Жаныл и Рахима. Трогательно заботливый, он всеми силами старался облегчить их горе. Это видели и одобряли все собравшиеся на поминки, а тем более Абай, который любил Дармена, как родного сына. Самый близкий родственник среди других сородичей Даркембая, Дармен не мог в эти дни покинуть дом безутешной вдовы. И Абай не мог взять его с собой в обратный путь. Да если бы Дармен и вздумал уехать прежде времени, Абай первый осудил бы его.
Предстояло выполнить предсмертное завещание Даркембая, и это задерживало отъезд Абая из аула. Вместе с Дарменом они обсуждали, как лучше осуществить давнишнюю мечту мудрого старика.
— Дакен[115] доверил нам судьбу своего малолетнего сына, — сказал Абай. — Мы с тобой должны позаботиться не только о том, чтобы Рахим не умер с голоду. Мы должны сделать его настоящим человеком. По-моему, мальчик имеет склонность к учению, он уже овладел мусульманской грамотой. Надо его учить дальше. Поговори с Жаныл и самим Рахимом — как они смотрят на это. Ведь чтобы учиться — ему придется покинуть аул.
Утрами и по вечерам, когда в доме не было посторонних посетителей, оставшись наедине с теткой и двоюродным братом, Дармен не раз принимался с ними советоваться. А они долго не могли ни на что решиться. Ведь если Рахим уедет учиться, Жаныл останется в своей зимовке совершенно одинокой, без всякой помощи и опоры в хозяйстве. А это женщине не под силу.
Дармен задумался: а что если взять Жаныл к себе, в свой дом. Ведь у него нет ни отца, ни матери, в семье только два человека — он да Макен. Почему бы одинокой вдове не стать третьим членом их семьи, не занять место матери? Тогда Рахим мог бы спокойно покинуть аул и уехать учиться.
Дармен поделился своими мыслями с Жаныл. Вдова взглянула на него благодарными глазами. Она хорошо знала Макен и любила ее, как родную дочь, — недаром, расставшись с нею на три месяца, она скучала по ней больше, нежели по племяннику Дармену. И Макен, чувствуя любовь Жаныл, отвечала ей искренней, горячей привязанностью.
— Чтобы дать возможность Рахиму учиться, вы должны быть вместе с Макен!
Тронутая до глубины души, вдова благодарила судьбу: совместная жизнь с близкими людьми в какой-то мере восполняла понесенную утрату. Она с радостью дала согласие, но тут же оговорила его необходимыми условиями. Она должна выполнить все свои обязанности перед усопшим, почтить память Даркембая. Пока не пройдет сорок дней со дня его смерти, а может быть, даже год, нельзя допустить чтобы погас очаг в его юрте, разрушено было гнездо, свитое им вместе с Жаныл. Это было бы тяжелым ударом для всех окружающих, да и она сама не в состоянии совершить такой оскорбительный для памяти покойного мужа поступок. Поэтому как бы ни стремилась Жаныл в семью Дармена, она не может сейчас унести с собой шанрак юрты, в которой прожил с ней свою жизнь Даркембай. Вдова считала, что до лета она должна остаться в ауле вместе с Рахимом.
Когда после семидневных поминок Абай собрался в дорогу, Жаныл обратилась за советом к нему.
Абай одобрил намерение вдовы остаться в ауле до весны, но все же посоветовал Рахиму после осенней перекочевки подготовить зимние запасы и большую часть времени проводить в доме Дармена на Акшокы. Там он сможет понемножку обучиться русской грамоте. На следующий год, когда Жаныл переберется к Дармену, Рахим поедет в город и будет учиться там — по-мусульмански или по-русски, как захочет. А до тех пор, чтобы мать не чувствовала себя одинокой, сын будет каждый месяц приезжать к ней гостить на пять— десять дней.
Жаныл слушала Абая, и в сердце ее разливалась теплота благодарности: друзья Даркембая выполняли его предсмертное завещание.
В день отъезда Абая Базаралы позвал его пройтись за аулом, чтобы на прощанье побеседовать.
— Болезнь моя не дает мне покоя, то возьмет меня в свои когти, то отпустит. Видно, прилипла она ко мне, как старая хромота, не избавлюсь я от нее никак, — сказал он. — Раньше ревматизм грыз мои суставы, сейчас добрался до сердца. В этом году раза два так меня брало за сердце, что я сознание терял…
За эту неделю, что они прожили вместе, Абай заметил, что Базаралы не только исхудал и осунулся, но и вообще постарел… Но когда поэт спрашивал у Базаралы о его здоровье, тот отвечал неохотно и скупо, особенно при людях. А теперь, оставшись наедине, сказал с раздражением:
— Когда человек доживет до моего возраста, он может разговаривать о болезнях только с друзьями, — конечно, от близких не приходится скрывать, что с каждым днем ты становишься слабее… И от тебя я этого скрывать не хочу… Но смотри, чужим никому ни слова.
Абай понял и оценил признание старого друга. У Базаралы много врагов желающих ему всяческих бед. Как они будут злорадствовать и торжествовать, если узнают о его неизлечимой болезни. Но Базаралы не доставит им этой радости. Как истинный герой, он не желает открыто показывать свою слабость. И перед мысленным взором Абая вставал образ могучего тигра, тайно зализывающего свои раны.
Внимательно всмотревшись в изможденное лицо друга, Абай понял, что он сказал далеко не все, и, стараясь разгадать, почему Базаралы завел этот разговор, тихо произнес:
— Я слушаю тебя. Продолжай.
И тогда Базаралы заговорил о головорезах иргизбаевцах, вновь выпустивших свои когти. Вместе с Шубаром и Азимбаем они затеяли новое злодеяние, но, не решившись прямо напасть на Базаралы, пустили клевету про его соседа и друга Абды, назвав его вором, а Базаралы укрывателем. В это лето конокрады увели любимого азимбаевского скакуна Байгекера. Поиски и расспросы во всей округе ни к чему не привели. Вот они и пустили слух, будто Абды увел коня, но, мол, всему делу заводчик Базаралы, — он сумел ловко сбыть его с рук. Недавно приехал сам Шубар и от имени Такежана, Азимбая и многочисленных иргизбаевцев поставил Базаралы условие:
— Выдай нам для расправы Абды или, если хочешь оправдать вора, принеси клятву в его невиновности.
Болезнь, истощившая силы старика, помешала ему выгнать наглецов из своей юрты. В былые годы он ринулся бы на них с боевым кличем, вступил с ними в единоборство. А сейчас он чувствовал себя словно опутанным сетью. Но все же он, окруженный злобными врагами, не признал виновным Абды, потому, что верил в его честность.
— Клятвы на ветер я не даю, а попросту говорю вам, что он невиновен. С этим я умру, но не соглашусь с твоей подлой выдумкой, Шубар!
Так Базаралы отразил первое наступление врагов. Но на другой день Шубар нагрянул уже вместе с Азимбаем и пятью его приспешниками и устроил новое бесчинство. Базаралы по-прежнему стоял на своем:
— Абды невиновен, на этом я стоял и стоять буду. А если Такежан, достигший возраста пророка, убежден в его виновности, пусть он даст в том клятву и пусть тогда убьет меня вместе с Абды.
Такой ответ был достоин Базаралы, его ясного разума, его мужественной решительности. Иргизбаевцы, потерпев полное поражение, отступили, но ненадолго. Десять дней тому назад в предгорьях Чингиза, в ауле Такежана, состоялся общий сбор всех иргизбаевцев, подручных Азимбая и Шубара. Они сговорились уничтожить Базаралы и сжечь дотла его зимовку, а если кто из жигитеков вздумает заступиться за него, то уничтожить и их. Чтобы сделать эту угрозу более внушительной, Азимбай и Шубар связали своих сообщников клятвой и переманили на свою сторону, зловредного бия из жигитеков— Абдильду, сильно обнищавшего после прошлогоднего джута. Известный на всю округу как злостный обманщик, прозванный народом «коварным Абдильдой», этот продажный бий, потерявший совесть и честь, готов был за взятку на любую подлость. Он охотно переметнулся на сторону иргизбаевцев и принял участие в их сговоре…
Рассказывая о предательстве «коварного Абдильды», Базаралы сказал с горькой иронией:
— Хочешь спокойно умереть, да и то тебя завистники не пускают в могилу. Видимо, боятся, что если Базаралы попадет на тот свет раньше них, то и там сумеет им насолить. Вот почему они хотят забросать мою могилу камнями. А я вот назло им не умру! Останусь бельмом на глазу, пусть бесятся… — И Базаралы внезапно задорно подмигнул Абаю.
Перед Абаем стоял прежний гордый жигит с надменной, вызывающей усмешкой на лице. И поэт залюбовался им.
— Вот ты целую неделю присматриваешься ко мне, — продолжал Базаралы, — и все время пытаешь меня о моей болезни. А я ведь не говорю о ней людям. Мы спали все эти ночи рядом с тобой на одной кошме, и бывали минуты, когда сердце меня очень беспокоило. Я просыпался и лежал с открытыми глазами, но тебя так ни разу и не разбудил. Привык скрывать свои недуги. Не знаю, какой прок от этого, но, пока я не сомкнул глаз и не лег в могилу, я хочу, чтобы враги мои завидовали мне и с ненавистью говорили: «Когда же подохнет этот железный Базаралы?!» Только тебе одному я открыл душу…
Горестное раздумье овладело Абаем, когда, распрощавшись с Базаралы, он покинул аул и отправился в путь. Тяжелые мысли теснились в его голове подобно нескончаемым серым тучам, которые, нагоняя друг друга, плотно закрывали холодное осеннее небо.
2
Приближалась зима, а снега все не было. Спасаясь от пронзительного лютого ветра, жители аула Акшокы перебрались в теплые саманные зимовки и через день топили печи. Дармен и Макен тоже перешли в свое жилье, находившееся по соседству с мазанкой Баймагамбета.
В доме Абая тишина. Сам хозяин уединился в комнате рядом с гостиной. Последние десять дней он усердно работал, не отрываясь от книг и рукописей. В дальней горнице Магаш и Какитай также склонились над книгами. В эти дни они запоем читали увлекательные русские романы и в домашнем кругу пересказывали их. Магаша и Какитая слушали затаив дыхание, стараясь не пропустить ни одного слова, как обычно в аулах слушают сказки и былины.
В последнее время Дармен тоже полюбил уединение. Сидя в теплой уютной комнате, он вдохновенно перебирал струны домбры, извлекая из нее глухие печальные звуки. Аккомпанируя себе, он пел, полузакрыв глаза. Песня лилась то скупо, по каплям, то свободно, бурным потоком растекалась на множество журчащих ручейков. Так рождались новые прекрасные жыры.
Днем Айгерим обычно звала к себе Макен. После переезда на зимовку они вместе затеяли увлекательное дело: занялись вышиванием на тонком цветном сукне. Несколько дней они готовились к этому, чертили на бумаге затейливые узоры. Макен оказалась искусной мастерицей, она унаследовала от матери способность к шитью и различным рукоделиям и обладала неистощимой выдумкой и хорошим вкусом. Не только Айгерим, но и Магаш, Какитай и Альмагамбет дружно расхваливали узоры, созданные Макен, они высоко ценили и новый покрой малахаев, сшитых ее искусной рукой. Даже сам Абай частенько, остановившись за спиной рукодельниц, с интересом рассматривал нарисованные на бумаге узоры из цветов и листьев, придуманные Макен. Для каждого из них у нее было свое название: «гусиные лапки», «ласточкины крылья», «птичьи шейки», «бараньи рога». Расспрашивая Айгерим, для чего предназначен тот или иной узор, Абай иногда так увлекался, что сам начинал вместе с нею подбирать цвета и оттенки ниток для вышивки. Так с первых дней жизни на зимовке работа, начатая художницами-мастерицами, сначала привлекла внимание Абая, а постепенно и всех мужчин аула. Как хорошо, что предусмотрительная Айгерим еще с весны догадалась сделать запас бархата, сукна, плюша и разноцветных шелков. Сейчас все это очень пригодилось. Айгерим и Макен решили вышить большой шелковый ковер — тускииз, чтобы повесить его на стену возле кровати.
Эта осень была особенно плодотворной для вдохновенного творчества Абая. Айгерим, проснувшись утром, нередко находила на его столе рукопись последнего стихотворения, созданного ночью. Она осторожно брала лист бумаги, покрытый неровными строчками и, бережно держа его белыми тонками пальцами, несла к жене Дармена, чтобы она прочитала написанное вслух. Макен хорошо читала и вот уже несколько лет вместе с Магиш заучивала наизусть стихи Абая. Переписывать стихи Абая стало для нее радостным обыкновением. Каждое утро она с нетерпением ожидала появления Айгерим с исписанными листками в руках. Читать крупный красивый почерк Абая было легко, и Макен охватывало чувство большого счастья, когда она вслух произносила первую строку нового стихотворения. Ей казалось, что она читает письмо старшего брата или отца, написанное для нее одной. Она не могла скрыть своего волнения, и на ее смуглом лице вспыхивал алый румянец.
Айгерим любила наблюдать в эти минуты за Макен.
Вот чуть дрогнула тонко очерченная бровь. Прекрасные узкие темные глаза задумчиво устремлены на исписанный лист бумаги. Беззвучная улыбка приподнимает левый уголок ее маленького пухлого рта. Айгерим любуется продолговатыми глазами Макен — они горят радостным огоньком, в них скрыта необычайная, притягательная сила.
Переживающая полный расцвет своей немеркнущей красоты Айгерим видит, с какой душевной жаждой впитывает Макен каждое новое стихотворение Абая, любимого и глубоко почитаемого супруга Айгерим, и чувство нежности к невестке растет в ее сердце с каждый днем все больше и больше.
Как дороги Айгерим эти чудесные дни вдохновенного труда мужа, когда, подобно цветам, незримо, во время ее сна рождаются прекрасные стихи. Как дороги ей утренние встречи с Макен, произносящей вслух самые сокровенные думы Абая! Нет, давно Айгерим не переживала таких увлекательных, волнующих минут, когда даже невысказанное и недосказанное становится дорогим и понятным без слов.
Вот и сейчас Айгерим, оставив комнату, где находился Абай, принесла два исписанных листа бумаги и села на свое обычное место, несколько выше невестки. Макен начала читать звучным, мелодичным голосом.
Не хватайся за все сгоряча. Дарованьем своим не гордись. И подобием кирпича В зданье жизни самой ложись.[116]Не переводя дыхания Макен прочитала все стихотворение и, по просьбе Айгерим, снова повторила его. А потом, желая насладиться созвучием прекрасных слов, Макен шептала про себя поразившие ее строки.
— Эти слова относятся прямо к нам! — сказала Айгерим, особенно взволнованная первым четверостишием. — Сколько раз Абай говорил: «Человек, имеющий разум, силу, совесть, не может прожить свою жизнь без труда. Будь ты хоть сама царица — тунеядство погубит тебя». Здесь он об этом и пишет. — Она задумалась на минуту и продолжала. — А я вот не пойму, что значит: «…подобием кирпича в зданье жизни самой ложись». Если это про нас, то какие же мы кирпичи?
И Айгерим засмеялась своим серебристым смехом.
Макен вновь прочитала вслух конец четверостишия, и Айгерим задумалась. Эти строки словно учили ее, красавицу и искусницу, как надо относиться к людям, к своим родственникам, например, которые так завидовали ее судьбе. А Макен считала, что некоторые строки этих стихов прямо адресованы Айгерим и их надо принимать как дружеский совет, наставление. Вот их-то она с чуть заметной улыбкой снова перечитывала:
Хвастовство — это слабость тех, Что хотят выше прочих встать. Возбуждающий зависть всех Может скоро несчастным стать. Надо смело вперед шагать По дороге трудной своей. Никогда не могут устать Обучающие детей.[117]Макен умолкла. Айгерим была восхищена и взволнована. Волна нежного румянца залила ее щеки. Звонко рассмеявшись, она сверкнула своими белыми ровными зубами и шутливо воскликнула:
— Оказывается, я не поняла, что эти строки прямо относятся к нам с тобою. Ты это верно заметила.
Макен скромно опустила глаза.
— Кши-апа, мне кажется, Абай-ага говорит о том, как вы меня воспитываете, как обучаете вышивать узоры:
Никогда не могут устать Обучающие детей.Так ежедневно в дождливое пасмурное утро или в полдень, когда осеннее солнце превращало окрестные желтые холмы в слитки золота, рождались прекрасные строки, полные сокровенных дум Абая. Но чаще всего они приходили ночью, когда засыпал весь аул. Сидя за круглым столом, поэт творил, набрасывал на бумагу торопливые строки, изливая в них терзавшие его скорбные думы о тягостной жизни народа.
Однажды в такую минуту творческого горения Абай вспомнил свой последний разговор с Базаралы в день отъезда из аула Даркембая. Рассказывая о проделках Азимбая и Шубара, старик говорил, что эти люди похожи на волков, которые, готовясь к хищному набегу, собираются в стаю так тесно, что касаются друг друга головами, и, словно сговорившись, одновременно поднимают к небу свои окровавленные морды и дружно воют, а затем, взметая снег, вихрем налетают на беззащитное стадо овец, пасущихся в низине, и чинят над ними кровавую расправу. Азимбай и Шубар ничуть не лучше кровожадных волков. Наметив себе жертву, они сбивают свою волчью стаю, устраивают сборища и сговоры, связывая клятвой своих сообщников по преступлениям. Эти злодеи, пожалуй, хуже волков, — угрозами они заставляют примкнуть к своей своре даже тех, кто хотел бы остаться в стороне от их темных дел. Но омерзительнее даже этих зверей взяточники бии вроде Абдильды: продавая свою совесть «за круп коня»[118] или «горбы верблюда»,[119] они примыкают к хищной стае, чтобы поживиться за счет обездоленных бедняков.
С жгучей ненавистью вспоминая Азимбая, Шубара и Абдильду, Абай ясно представил себе бледное, изможденное лицо больного Базаралы, его осуждающие глаза. И рука поэта покрыла лежавший перед ним лист бумаги гневными строчками:
У себя на дому Собирается сброд. Роют яму тому, Кто не с ними идет. В алчной злобе своей Каждый клятву дает. Ослабевших людей Гибель верная ждет. Зло не в силах пресечь, Растерялся народ: Как бы нам уберечь От грабителей скот?[120]Абай нанизывал строку за строкой, а перед собой видел стаю волков — разом подняв окровавленные морды, они выли, готовясь к новому нападению.
Это стихотворение в доме Дармена распевалось под домбру. Магаш и Какитай переписывали его по нескольку раз для друзей. Один листок попал в руки учеников Кишкене-муллы, и они быстро выучили стихи наизусть. Другое знаменитое стихотворение Абая, бичевавшее прожорливых волостных управителей и алчных злодеев, подобных Азимбаю, тоже родилось в Акшокы в эти осенние дни вдохновенного труда поэта, насытившего каждую строку своего нового произведения горькой иронией или злой, ядовитой насмешкой. Из гневного сердца песнетворца вылились слова страстного обличения:
Чтоб быть всегда на высоте, ты, страсти укротив, Всем покажи, что прозорлив: не глуп и не спесив, И будешь править без помех, коли обманешь всех, Что ты не мот, что за народ, что в меру бережлив. Народ — дитя; ты у него кусок не вырывай, А потихоньку, под шумок, тащи себе, хватай. При людях делай гордый вид, что ты добычей сыт. Как ворон глупый, на навоз при всех не налетай.[121]Так изобличал Абай разбогатевшего на взятках Такежана и волостного управителя Азимбая, который, следуя по отцовским стопам, успел уже построить три зимовки и продолжал богатеть с каждым днем. Поэт вспомнил и о волостном управителе Шубаре и о других вымогателях, хитроумных аткаминерах, которых он во множестве повидал за свою долгую жизнь. По крупинкам собирал он в памяти свои впечатления, по черточке от каждого из них, — и создал стихотворение, слитое из гневной иронии, цельное, массивное, подобно сплаву жамбы.[122] В ауле Акшокы его без конца переписывали, заучивали наизусть и распевали под домбру.
В один из осененных вдохновением, благодатных студеных дней в полдень неожиданно прискакал из города Баймагамбет. Он проехал мимо своего дома и, ни с кем не перемолвившись ни единым словом, направился прямо к Абаю. По его торопливой походке, усталому запыленному лицу, а главное — по внезапности приезда Айгерим, Магаш и Какитай догадались, что случилось нечто необычное. И они тоже следом за Баймагамбетом вошли в комнату Абая.
Даже не отдав приветствия хозяину дома, Баймагамбет, опустившись на одно колено, вытащил из-за пазухи сложенный вчетверо листок бумаги и протянул его Абаю. Это была весть от сына.
— Телеграмма от Абиша!
— От него самого!
— Что пишет?
Тревожный шепот, вопросы раздавались со всех сторон.
Абай медленно, страшно медленно, читал длинную телеграмму. Еще полностью не уяснив ее содержания, не поняв, что же такое случилось, он протянул телеграфный бланк Магашу и Какитаю. Сын прочитал, прочел Какитай, а затем Абай снова и снова разбирал телеграмму про себя от первой до последней буквы. Теперь он понял все, и страх вошел в его сердце. Когда он поднял глаза, полные ужаса и печали, Айгерим показалось, что они вот-вот выскочат из орбит. Смуглое лицо его посерело. Широкие длинные рукава рубашки словно сами собой шевелились, — это от волнения дрожали его руки. Он сидел неподвижно, не зная, что делать, куда идти, что сказать.
Магаш, заметив умоляющие глаза Айгерим, вслух прочитал телеграмму, сразу переводя ее на казахский язык.
— «Болею два месяца, ложусь лазарет. Магиш отправил домой. Пусть ко мне поскорее приедет Магаш».
Все знали, что у Абиша слабое здоровье. Еще когда он был в Петербурге, не только матери, старики и старухи, но и Абай, Магаш и многие молодые родственники, тревожась за него, частенько советовали ему прекратить ученье. Но Абиш не хотел и слышать об этом. Незадолго до женитьбы Абиш как-то, досадуя на свое хилое здоровье, обмолвился многозначительной фразой: «Моя жизнь коротка!» Какитай и Магаш испугавшись начали допытываться, к чему он это сказал. Заметив слезы на глазах братьев, Абиш поспешил успокоить их и обратил свои слова в шутку.
Это было два года назад. Совсем недавно в Акшокы получили последнее письмо Абиша, которое не вызвало у родичей никакого беспокойства. Вообще в своих частых письмах Абиш никогда не жаловался на здоровье, не подавал никакого повода для тревоги. И вдруг эта горестная весть: болеет уже два месяца! Человек живет в большом городе, где есть и доктора и лекарства, почему же он не мог вылечиться и даже вынужден был лечь в лазарет? Жену Абиш отправил в Семипалатинск, — это был очень плохой признак: значит, слег надолго. Видимо, он долгое время скрывал свою болезнь, а теперь скрывать стало уже невозможно. Если бы не было серьезной опасности, Абиш ни за что не отправил бы отцу такой телеграммы со скупыми и холодными, как камень, словами.
Так думали Абай, Магаш, Какитай и Дармен, которые сидели молча, не останавливая обильно струившихся слез. Плакавших в голос женщин Баймагамбет и Муха увели в соседнюю комнату.
Абай медленно, с трудом овладел собою и наконец объявил домочадцам свое решение:
— Ну, что же сидеть сложа руки! Собирайтесь живее в дорогу! Завтра утром поедем в Семипалатинск. Ты, Магаш, приготовься выехать оттуда в Алма-Ату. Какитай, Дармен… готовьтесь…
Абай не договорил и, закрыв лицо ладонями, громко зарыдал. Его молодые друзья не выдержали — вытирая слезы, они поспешно один за другим вышли из комнаты. Опечаленного отца следовало в эту минуту оставить в покое. Абай не в силах был больше разговаривать и, видимо, действительно желал остаться один со своей душевной раной.
В тот же день, едва солнце стало клониться к закату, Магаш, Какитай и Муха верхом выехали в Семипалатинск. По пути они должны были завернуть на дальний выпас, где находились конские табуны, и в эту же ночь отправить резвых лошадей в аул для упряжки под возок Абая. Нужно было также отобрать тучных кобылиц и хороших коней для продажи на семипалатинском базаре. Предстоящая поездка Магаша в Алма-Ату требовала немалых денег.
Всю ночь Абай провел в полном одиночестве, переживая мучительное горестное волнение. Заснуть он не мог. Айгерим слышала, как тяжелые вздохи сотрясали могучую грудь мужа. Иногда, разговаривая сам с собой, он что-то шептал, и в голосе его звучала невыносимая тоска. Изредка со всей страстью переживаемого горя он повторял дорогое имя далекого сына: «Мой Абиш!», «Абиш!», «Родной Абиш мой!»
До самого рассвета сердце встревоженного отца не знало покоя. Измученный страданиями и бессонницей, он отдавался теперь на волю слов, рвавшихся из его груди, изливал свое горе мерными строками. Слова его стихов как бы выплавлялись из слез, вздохов, рыданий, рождались в горении скорбной души. Слова шли от сердца, а не от разума, били ключом горячей, дымящейся крови:
Всемогущий аллах! Обращаюсь с мольбой: Не грози, не страши. Обнадежь, успокой. Умиленно молю… Если б только ты знал, Как он нужен отцу, Мой любимец родной! Ничего не хочу, Не кричу, не молчу — Лишь молитву одну Потаенно шепчу.[123]Абай не отдавал себе отчета, что за строки ложились из-под его пера на бумагу. Горечь и тоска клокотали в каждом написанном слове. Смутная тревога железными тисками сжимала его израненное сердце, он чувствовал, словно его терзают острые отравленные когти, каждое мгновенье несло с собой нестерпимую боль. Как долго он писал? И сколько еще осталось в сердце невысказанного горя? Абай не смог бы ответить на эти вопросы. Песня, родившаяся в эту ночь, была стоном его души, предчувствием грядущих бед.
…Не прошло и недели с того дня, как была получена тревожная телеграмма от Абиша, а уже Магаш, закончив все приготовления к дальней дороге, вместе со своим закадычным другом Майканом, а также аульным приятелем Абиша, веселым Утегельды, покинул Семипалатинск, держа путь в Алма-Ату.
3
…Быстрый каурый конь резво мчал по улице Верхних Жатаков легкую кошевку, в которой сидели Абай и Дармен. Натянув вожжи, Баймагамбет прислушивался к певучему скрипу полозьев. Плотно укатанный снег временами звенел, как стекло. Суровая зима стояла в тот год в Семипалатинске. Вечерний мороз покрыл инеем бороды и усы путников, тонкими льдинками слепил ресницы.
Переехав по льду Иртыш, Баймагамбет остановил кошевку возле ворот Кумаша. Не выходя из саней, Абай послал Дармена узнать, нет ли для него письма или телеграммы. От Магаша до сих пор не было никаких вестей. Через минуту Дармен вернулся расстроенный, с пустыми руками.
До заката солнца Абай объехал все дома казахов в Средних и Верхних Жатаках, где приходилось останавливаться ему, его детям или близким родственникам. Нигде не было письма от Магаша. На всякий случай заехали еще к одному знакомому казаху, жившему за базаром в двухэтажном коричневом доме.
Тревога терзала сердце Абая. По его опечаленному лицу и нахмуренным бровям Баймагамбет понимал, какие сомнения тревожат его душу. Когда Дармен опять вышел с пустыми руками, Абай торопливо назвал адрес еще одного дома, находившегося в нижней части слободки, неподалеку от паромной переправы. Это была почтовая контора. Абай сам вошел в помещение, где стоял запах клея и сургуча, и спросил, нет ли среди недоставленной корреспонденции чего-нибудь на его имя из Алма-Аты. Старший чиновник, длиннобородый, с изможденным желтым лицом и очками на кончике носа, по тревожным глазам Абая сразу догадался об особой важности ожидаемого письма и, просмотрев пачку синих и белых конвертов, хранившихся в продолговатом ящике, ответил пространно и обстоятельно:
— Письма на имя Кунанбаева из Алма-Аты нет, должно быть, потому, что в районе Аягуза бушует сильный ураган. По тракту между пикетами Аркат и Аягуз невозможно проехать. Уже неделя, как почта, отправленная из Семипалатинска, застряла в Аркате. По всей вероятности, письмо, которое вы ожидаете, находится там же. Но есть слух, что вчера из Аягуза вышло наконец несколько подвод. Если не произойдет еще какой-нибудь непредвиденной задержки, надо ожидать их прибытия в слободку сегодня ночью. Возможно, завтра же вы и получите ваше письмо…
Это сообщение немного успокоило Абая, и он горячо поблагодарил чиновника.
Покинув почтовую контору, он велел ехать к Какитаю, который жил в центре слободки. Кошевка остановилась возле четырехоконного домика с плоской кровлей. Услышав зов Дармена, Какитай выбежал на улицу и с облегчением выслушал рассказ о том, почему задержалась почта. Абай поручил ему рано утром съездить в почтовую контору, и если там будет письмо, получить его и доставить в дом Дамежан, где Абай останется ночевать.
— Все будет исполнено в точности! — радостно воскликнул Какитай, также с нетерпением ожидавший весточки от Магаша.
Когда уже совсем стемнело, сани Абая остановились у ворот Дамежан. Здесь его ожидали, как самого дорогого гостя. В задней комнате Абай увидел лодочника Сеиля. Среди городских тружеников, с которыми доводилось встречаться, Сеиль особенно привлекал поэта своим мягким характером, здравыми суждениями и превосходным знанием городской жизни. Бывая в Семипалатинске, Абай виделся с ним не только в лодке и на перевозе, — они и в гости друг к другу захаживали.
Обычно сидевший в доме Дамежан на почетном месте, Сеиль, хотя и был ровесником Абая, сразу же поднялся и пошел ему навстречу. Приветствуя гостя, он обеими ладонями пожал руку поэта и проводил его на торь. Во всех повадках Сеиля учтивость горожанина сочеталась с медлительной важностью и сдержанностью степняка. Абаю приятно было встретить хорошего человека, и удрученное настроение его слегка прояснилось.
Сняв шубу с помощью Дамежан и Сеиля, Абай приветливо поздоровался с ними. Он знал, почему лодочник находится в этом доме. После смерти Жабыкена, возможно даже последовав добрым советам Абая, Дамежан и Сеиль породнились: дочку Сеиля Жангайшу, невесту на выданье, Дамежан просватала за своего старшего сына Жумаша и осенью этого года приняла невестку в дом.
Всякий раз, когда Абай приезжал в город, Дамежан звала его в гости, и он никогда не отказывался. На этот раз она была ему особенно рада. Зная, что Абиш тяжело болен и отец сильно горюет, Дамежан хотела выразить ему свое родственное сочувствие, а заодно показать невестку. Да и Сеиль после свадьбы дочки еще ни разу не был в ее доме.
Баймагамбет и Дармен, задержавшиеся во дворе с лошадьми, появились на пороге, и все уселись за маленьким круглым столом. В этот вечер за чаем, а позднее за ужином, который затянулся до полуночи, Абай говорил мало. Ему хотелось послушать рассказы Сеиля и Дамежан, узнать, как живут люди в городе. С удовольствием отхлебывая густой коричневый чай со сливками, который наливала ему сама хозяйка, он расспрашивал Сеиля о зимних промыслах и заработках. Лодочник сначала отвечал скупо и словно бы неохотно:
— Как Иртыш стал — лодка кормить перестала. Ходил на поденную работу, а потом на бойню поступил, к мяснику Хасену.
Абай поинтересовался, что Сеиль делает на новом месте. Лодочник занимался убоем баранов. Дамежан сказала, что ее сын Жумаш тоже работает у Хасена — дубит кожу; уходит на бойню рано утром, возвращается поздно вечером, а зарабатывает гроши.
Так начался разговор о мяснике Хасене и о том, как он притесняет городских жатаков, вроде Сеиля и Жумаша. Они и рассказали Абаю про событие, которое возмутило и взбудоражило сегодня всех женщин, работающих на бойне.
Молодая вдова Шарипа, у которой муж умер во время холеры, оставшись с тремя малышами на руках, поступила к Хасену на чистку кишок. Она приходила на бойню с рассветом и работала не разгибая спины до позднего вечера среди грязи и смрада. Доверенный мясника Хасена, торговец Отарбай, давал ей за это пять с половиной копеек в день и то считал, что платит слишком много. В зимнюю пору городские жатаки, не хуже аульных батраков, соглашаются работать на бойне совсем задаром, за одну похлебку, которую от помоев не отличишь. Хасен умеет находить себе дешевые рабочие руки. Он знает, в каком доме Верхних Жатаков сильнее нужда, и туда посылает своего приказчика нанимать рабочих. Он и ребенка возмет и выжившего из ума старика — только бы подешевле! Будет торговаться за каждую полушку.
— По правде сказать, всех нас Хасен этот обкрадывает! Разве это плата за работу—так, насмешка одна! — сетовал Сеиль.
Дамежан, Жумаш и Сеиль наперебой рассказывали о том, какие унижения и издевательства терпят бедняки Верхних Жатаков на бойне. Но такого позорного надругательства, какое выпало на долю вдовы Шарипы, они сроду не видывали.
Вечером, перед окончанием работы, у ворот бойни появились Отарбай и Конкай — здоровенный смуглолицый жигит с наглыми глазами. Оба они были сильно выпивши и искали, чем бы развлечься. Отарбай объявил, что женщины, очищающие бараньи кишки и желудки, крадут нутряное сало и поэтому их будут обыскивать. Обвинить работницу в краже мяса или курдюка он не рискнул, а сало легко спрятать под платье.
Белолицую и миловидную Шарипу Отарбай и Конкай остановили первой и заставили раздеться. Она сняла верхний дырявый чапан. Потом они потребовали снять камзол и, конечно, тоже ничего не нашли. Тогда Отарбай и говорит:
— Что-то ты больно толстая стала! Наверное, сало под платьем спрятано. Раздевайся!
И они попытались сорвать с нее платье.
Шарипа, не стерпев, плюнула Отарбаю в лицо, а Конкая, схватившего ее за подол юбки, ударила по щеке. Тут-то и началось такое, что и вообразить невозможно. Двое здоровенных мужчин набросились на слабую женщину, сбили ее с ног прямо в снег и давай бить и каблуками топтать. Подоспевший Сеиль не выдержал обиды, и крепко выругал негодяев, вырвал Шарипу из их лап. Те накинулись на него. Сбежались со всех сторон работницы. Крик, плач, каждая выкладывает свои жалобы. «Ну, нет сил терпеть!» Дальше— больше: женщины схватили Отарбая и Конкая и давай их колотить. Пришлось им уносить ноги.
Абай, нахмурив брови, внимательно слушал. Сердце его было переполнено возмущением. Дармен загорелся гневом:
— Как можно мириться с таким позором, да еще где, в городе! Надо судить насильников за гнусное издевательство над женщиной.
К слову Сеиль рассказал, как сам он поневоле попался в сети мясника Хасена.
— Года мои преклонные, а не хочется чтобы мной люди помыкали. Вот я и завел себе лодку, сам хозяин на ней. Но зимой-то ведь лодка не кормит. Бывало, я кое-как перебивался до весны на поденщине: десять дней на одном месте, пятнадцать — на другом. А вот в этом году наслушался рассказов, будто у Хасена на бойне можно копейку зашибить, и решил у него зиму перезимовать. Только Хасен этот прожорливее волка оказался…
И Сеиль рассказал о своей работе, как он встает чуть свет и до позднего вечера занимается убоем баранов. Дело это ему хорошо знакомо, он изучил его в юности, когда впервые пошел в город искать работы. Сеиль сейчас так наловчился, что в день может зарезать и освежевать шестьдесять баранов. Работа нелегкая, но за нее платят всего-навсего пятнадцать копеек, редко-редко двадцать. Да и то при расчете Хасен и Отарбай как начнут щелкать костяшками на своих счетах, так и норовят обсчитать, да еще и приговаривают: «Полкопейки, грош долой! Шальная копейка домой».
Сеиль не стерпел такого надувательства и сказал на днях:
— Прожорливый пес голодной собаке зад лижет! Коли заритесь на мои гроши, трудовым потом заработанные, — нате, подавитесь, спорить не буду!
— Но как же ты все-таки попал в сети Хасена! — спросил Абай.
Немного помолчав, лодочник продолжал со вздохом:
— Есть у меня брат, совсем еще молодой жигит, семнадцати лет. Никак не найдет себе работы. Вот я и надумал сделать его ямщиком, скопить летом деньги и купить ему коня и арбу. Говорили, что войлочник Сейсеке ищет таких жатаков, которые могут на своих лошадях возить грузы в Китай. Приедут они в Вахты, Чугучак — там все дешево. Любой ямщик будто бы в такой поездке барыши огребает. Так же как Хасен заманивал к себе рабочих на бойню, так и Сейсеке ловил ямщиков. Борода у меня седая, а поверил я этим басням. Говорю брату: «Съезди разок, до зимы успеешь обернуться». И отправил его на хорошем коне и новенькой арбе в дорогу. Тридцать ямщиков на семидесяти конях повезли мануфактуру в Вахты, а на обратном пути забрали кожу и шерсть для Сейсеке. Этот чертов войлочник умеет торговать! Его караваны идут в одну сторону до Китая, а в другую до Ирбита и Макаржи,[124] — он в накладе никогда не останется. А вот мой брат получил барыши! Чуть не погиб в дороге, едва до дому добрался. Обморозил руки и ноги, пальцы отняли в больнице, на култышках ходит. Калекой стал, сидит теперь дома; исхудал, даже уши просвечивают. Одним словом, от коня кожа да кости остались, а от ямщика — скелет. Да иначе и быть не могло: в дороге людей кормили одним черным хлебом, и конь впроголодь шагал. Столько мучений принял брат — и все задаром, ни копейки ему не заплатил Сейсеке. Надо идти жаловаться, а брат из дому выйти не может — ноги больные: я день-деньской на работе. И не счесть, сколько людей проклятый войлочник обманул! Мой сосед, лодочник, тоже было решил заняться извозом, а сейчас сидит и плачет. Когда его сын из поездки вернулся, Сейсеке и говорит: «Вот проверим привезенные кожи, и коли обнаружится пропажа или порча — все до копейки взыщем с ямщиков при приемке».
Сеиль умолк на минуту и спросил:
— А вы знаете, как они производят приемку кожи или шерсти?
Дармен усмехнулся и ответил:
— Немного знаем. На твоих глазах обдирают тебя да еще приговаривают: «Доп, шоп можемке! Брак-мрак!»
Сеиль одобрительно усмехнулся.
Вот-вот, именно так! Сейсеке скажет, что кожа, мол, испортилась в дороге, а сам так и норовит шкуру спустить с ямщика. Ему любой повод хорош, лишь бы не платить за подводы. Одна надежда, что все тридцать ямщиков вместе сумеют за себя постоять. Теперь, говорят, они Сейсеке у ворот его дома караулят. Вот какая у нас, жизнь, Абай! И добавил с грустью:
— Говорят: «Вон там золото лежит!» А придешь и медяка нет. Когда бедняк в кабале у богача находится, то ни в степи, ни в городе ему житья нет!
Абай со своими спутниками перекочевал в дом Дамежан. Когда утром гости сидели за чаем, в комнату, приветствуя сидящих, вбежал возбужденный Какитай. Глаза его горели. На улице был сильный мороз, и от сапог жигита шел легкий пар, а густые усы обледенели. Не успел он раздеться, как Абай спросил с нетерпением:
— Был на почте? Письмо есть? Какитай вынул из-за пазухи два конверта.
— Прежде чем ехать на почту, я завернул к Кумашу. — А там их уже, оказывается, получили.
Абай разорвал оба конверта и посмотрел на числа, обозначенные в конце каждого письма.
— Двадцать суток шло, а это двенадцать! — сказал он. — Просил Магаша писать каждую неделю, вот он и писал. А почта задержала, пришли оба вместе.
Абай надел очки и молча начал читать первое письмо. Какитай, Дармен, Баймагамбет и Дамежан сидели затаив дыхание и не сводили глаз с его лица. Письмо заканчивалось стихотворением, в котором Магаш со свойственной ему откровенностью и горячностью изливал свою душу. Прочитав первые строки, Абай тяжело вздохнул:
Он в недуге лежал, полотна белей, Устремив на меня в упор Потускневший во мраке бессонных ночей И покорный страданию взор. Он казался иссохшим стеблем степным Милый брат мой, сердечный мой. И, рыданья сдержав, я стоял над ним И терзался печалью немой…[125]Абай резким движением снял очки. Лицо его побелело от волнения, глаза наполнились слезами. Ровные строчки письма потускнели, буквы словно таяли, расплывались и наконец исчезли с бумаги совсем. Тогда он закрыл лицо ладонями и застыл в безмолвии. Дармен и Какитай, не выдержав, тоже заплакали. Баймагамбет нахмурился и попросил прочитать второе письмо.
Абай с трудом овладел собой и развернул второе письмо. Оно было менее печальным, чем первое. Магаш писал:
«После нашего приезда Абиш-ага почувствовал себя бодрее. И аппетит у него неплохой. Сон стал спокойнее. Мы очень обрадовались, когда нам сказали, что Абиша можно взять из лазарета и продолжать лечение дома. Доктор нас обнадежил, что больной идет на поправку, и мы повезли Абиша в хороший дом к знакомому казаху. Сейчас он со мною вместе живет в доме нашего друга Абсамата, который, оказывается, приходится нам даже дальней родней по матери. У него во дворе мы держим кобылу и лечим Абиша кумысом, а доктор ходит каждый день. Все надежды возлагаем на аллаха!»
Это письмо внесло в душу Абая небольшое успокоение. Некоторые строчки он перечитывал вслух по нескольку раз. В сердцах друзей затеплилась надежда. Абай попросил бумагу и карандаш — он решил немедленно написать Магашу. Какитай принес маленький сундучок из прихожей и, поставив его возле окна, тоже разложил перед собой бумагу. Расположился писать на подоконнике и Дармен.
Как бы в ответ на стихи, которыми Магаш заключил свое печальное письмо, Абай заговорил созвучными строками, раскрывая в них свое встревоженное любящее сердце:
Я не пишу, а слезы лью. Ты видишь в горести мой дом. Иссякли силы, я стою, Как перед смертным рубежом. Я о себе пишу, аллах, О горе я пишу своем, Ищу забвения в стихах.[126]Излив свое горе в стихах, Абай переходил к прозе, вновь говоря о своей неизбывной тоске, и опять, захваченный лирическим потоком, возвращался к стихам. Тревога сменяла надежду, надежда — тревогу. То мрачное отчаяние, то робкое просветление. Абай метался, как больной лихорадкой, в груди которого то пылает огонь, то леденеет кровь. Это смятение чувств как бы само собой изливалось в размеренных строках:
То надежда придет, То тоска нападет. Нужных слов не найду, В мыслях полный разброд. …Дух и тело лечи, Отвечай, не молчи, Как он там — я боюсь — Не ошиблись врачи! Хорошо, что с тобой Твой племянник родной. Услужить ему рад Я услугой любой.[127]Слова привета родным и друзьям вплетались в строки стихов, посвященных Абишу. Понимая, что переживал у постели больного брата Магаш, Абай обратился к молодому поэту с теплой заботой:
Песнь твоя с мукою схожа, Болью она рождена. Мне объясни — отчего же Сам ты лишился сна?[128]Абай изливал в письме свое душевное волнение, задавая неведомому вопросы, проникнутые страстной печалью, и зная, что никто ему не ответит. Дармен, писавший Магашу, тоже невольно, сам того не замечая, переходил к стихам, рассказывая о том, что он видел и пережил сегодня утром.
На письма глянул Абай-ага И взял их молча, суров и строг. Я видел, как задрожала рука, Когда развернул он первый листок. Абай дочитал письмо до конца, Скупые слезы вытер платком… Кто может измерить горе отца, Чей сын страдает в краю чужом? Мы вместе второе письмо прочли — И искры надежды в сердцах зажглись… О, если б молитвы помочь могли, И пожеланья друзей сбылись![129]Абай посоветовал своим молодым друзьям написать в Алма-Ату такие письма, которые вселили бы бодрость в Абиша, развлекли его, развеяли угнетенное настроение. Больному, прикованному к постели, дорога каждая, пусть самая скупая, весточка, отвлекающая мысли от болезни. Тогда Какитай и Дармен написали большие послания самому Абишу, рассказав в них об аульном житье-бытье, о семейных новостях и о забавных приключениях, якобы случившихся с ними в дороге. К полудню несколько писем было приготовлено к отправке на почту.
4
Небольшой город с утопающими в садах одноэтажными деревянными домами вольно раскинулся у подножья большой горы. За ровной долиной, что лежала между городом и этой горою, близ дороги, ведущей к ущелью, в тенистом плодовом саду расположился военный лазарет. Два ряда длинных больничных корпусов были обнесены высокой оградой. Летом здесь густо зеленела сочная трава и пышно распускались яркие цветы.
Областной город Алма-Ата законно гордился своим лазаретом. Лет пятнадцать назад приехал сюда главный врач, Лев Николаевич Фидлер, и благоустроил его — отремонтировал заново палаты, улучшил уход за больными, подобрал себе дельных и опытных помощников.
Выхоленный гнедой конь с круто выгнутыми, как опрокинутая чаша, лоснящимся крупом подкатил к лазарету кошевку, в которой сидел Майкан. Без малого час провел он у ворот, терпеливо поглядывая на закрытые двери большого деревянного корпуса. Только после полудня из них торопливо вышел доктор, которого ожидала кошевка.
Спускаясь с крыльца, он на ходу застегивал шубу, подбитую лисьим мехом. Доктор поздоровался с Майканом по-русски — приподняв шапку, поклонился и легко опустился на сиденье.
Гнедой сразу почувствавал, что ослабли тугие вожжи в руках кучера. Он выбросил вперед голову и, качнув ею, понесся иноходью.
Доктор хотя и слабовато, но смело и охотно говорил по-казахски, нисколько не смущаясь весьма небольшим запасом слов, которыми располагал. Слегка подтолкнув Майкана плечом, он сказал, коверкая слова:
— Мое время мало. Иноходец тоже торопится. Пусти! Майкан улыбнулся в ответ.
— Мигом долетим!
Горячий конь, сдерживаемый кучером, выйдя из ворот, махом пошел по большой дороге, ведущей в Алма-Ату. Упираясь ногами в передок саней, Майкан встряхнул туго натянутые вожжи. Вытянувшись всем корпусом, иноходец вихрем помчался под уклон по ровной, прямой дороге в город.
День был безветренный, и с дымчато-серого неба медленно падали крупные хлопья снега. Но от бешеной скачки снег стремительно летел навстречу седокам, бил в лицо и слепил глаза.
Доктор Фидлер был известен в городе не только как прекрасный медик, но и как человек добрейшей души. Недаром русские, казахи, татары, уйгуры, дунгане, кашгарцы и ташкентцы, проживающие в Алма-Ате, всегда произносили его имя с благодарностью.
К Абишу он относился отечески ласково и заботливо.
Гнедой иноходец быстро достиг города и, не сбавляя хода, миновал прямую, как стрела, Колпаковскую улицу, затем ветром полетел по Сельской к Никольской церкви. На улицах Нарымской, Сергиопольской, Гурдэ и на Розовой аллее, не таких ровных, как Колпаковская, ему пришлось чуть замедлить ход, но на Старокладбищенской конь вновь развил бешеную скорость. Словно намереваясь вырваться из оглоблей, он стремительно мчался вперед, встряхивая длинной челкой, раскачивая головой и заглушая уличный шум громким топотом копыт.
Казахи, живущие в степях Сары-Арки, не особенно ценят иноходцев, но в Джетысу ими дорожат более, чем скакунами, и из двух казахов один обязательно держит и холит иноходца. Гнедой достался Магашу и Майкану случайно, и, вспоминая об этом, Майкан каждый раз не преминет похвалить и коня и его прежнего хозяина. Лошади, на которых они приехали из Семипалатинска, совсем исхудали, и Магаш с Майканом отправились на базар к Никольской церкви с намерением приобрести хорошего коня. Здесь они познакомились с семиреченским казахом Датом, который сразу просветлел лицом, узнав, что разговаривает с родственниками Абая. Как и большинство здешних казахов, Дат слышал об Абае, любил его стихл и многие из них помнил наизусть.
Услышав от Магаша, что любимый сын Абая находится в лазарете, а он сам, младший его брат, по поручению отца приехал навестить больного, Дат спросил, не может ли он чем-нибудь помочь. Магаш ответил, что хочет купить на базаре доброго коня. Дат отрицательно замотал головой.
— Здесь вам коня искать не стоит. Как вы, дорогой, будете торговаться, бить по рукам с чужими людьми, которые не знают ни вашего имени, ни того, чей вы сын? Для меня вы по возрасту младший брат, и я не могу позволить, чтобы сын Абая искал себе лошадь на базаре. Вот вы остановились у Абсамата, он мне тоже друг. Поедемте к нему и что-нибудь придумаем.
И он повез Магаша и Майкана к Абсамату, где нежданно-негаданно подарил им своего знаменитого жеребца, который был широко известен в городе как «гнедой иноходец Дата» и ценился наравне с «кунжесир» — платой за убийство женщины. Хозяин снял с коня седло и, передавая повод в руки Магаша, сказал:
— Возьми его и отдай Абаю-ага. Скажи, что этого коня шлет ему один из сыновей Большого Жуза.
Вот какая история была у гнедого иноходца, который мчал Майкана и доктора Фидлера к Ташкентской аллее. В тот памятный день они также ехали вместе с Датом к Абсамату и тоже по Старокладбищенской улице.
Доктор просидел возле Абиша около часа. Он не мог сказать ничего утешительного — за последние три-четыре дня здоровье больного ухудшилось. В тяжелом положении находился и врач. На его глазах медленно угасала юная жизнь. С каждым днем Абиш становился все слабее и слабее. Наука, которой, казалось бы, в совершенстве владел Фидлер, была бессильна остановить страшную болезнь.
Когда в Алма-Ату приехали родичи Абиша и их присутствие приободрило больного, доктор разрешил ему покинуть лазарет и продолжать лечение дома, охотно согласившись посещать его через каждые три дня. Он сам присматривал за тем, как в доме Абсамата готовили комнату для больного. По приказу врача из нее были вынесены ковер, тускииз, сырмак, текемет[130] — все, что легко пылится. По его предписанию во дворе Абсамата доили для Абиша трех кобылиц. Как врач, Фидлер все еще выписывал рецепты на слабенькие лекарства, хотя и сознавал их сомнительную пользу. Во время визитов к своему пациенту он тщательно выслушивал его и в сотый раз давал наставления, как надо вести себя, как беречься от утомления и простуды.
— Дотянуть бы мне до весны, — медленно, с трудом говорил Абиш. — Добрался бы я как-нибудь до родной земли и встретил там лето…
После приезда Магаша, который живо напомнил ему о доме, получая частые письма от отца, братьев, матери и особенно от любимой жены, Абиш ощутил страстную тоску по родному гнезду и близким.
Услышав, что Абиш стремится уехать на родину, Фидлер ответил не сразу. Он задумчиво перевел взгляд с лица больного на окно. Медленно падали редкие хлопья снега. За окном маячили оголенные серые деревья. Высокие стволы и густые сучья, переплетенные в причудливом рисунке из ломаных линий, казались заколдованным сказочным миром, застывшим в непробудном холодном сне.
Горбатые серые тучи загромоздили южное небо. День стоял хмурый, он навевал на Фидлера грустные мысли. Трудно было обнадеживать больного, и нечем было его утешать. В умных карих глазах доктора легко было прочитать смущение. Все же он сказал:
— Весной, Абдрахман, вы, конечно, поедете к себе… — Замялся на мгновение и продолжал: — Вот потеплеет, и, пока пыли не будет, тронетесь в дорогу… Потихоньку доберетесь до родных мест.
Чувствовалось, что доктор сам плохо верит своим словам. Сколько раз он приезжал к Абишу — и всегда переживал чувство мучительной неудовлетворенности. Многих жителей Алма-Аты он отстоял от смерти, многим больным вернул здоровье. По городу ходили легенды о всемогущем докторе Льве Николаевиче, успешно лечившем от всех болезней. В городе было мало хороших врачей, Фидлеру приходилось даже заниматься хирургическими операциями, и он делал их прекрасно. Вот только, столкнувшись с Абишем, он испытал горькое чувство своей беспомощности. Его лекарства не приносили больному никакой пользы. Абиша поддерживала только слепая вера в знаменитого врача, который аккуратно через каждые три дня навещал его, выслушивал и выстукивал. Это была единственная опора для юной души, еще не потерявшей надежды на выздоровление.
Правдивый характер Фидлера не позволял ему прибегать ко лжи в разговорах с Магашем. Он видел на лице жигита печать тяжелого горя, видел слезы, жгучие, как яд, и все же всегда говорил ему только правду:
— Не могу ничем утешить вас, дорогой! Не могу вам лгать, мой голубчик! Здоровье Абдрахмана не радует! Что же делать, туберкулез — болезнь пока неизлечимая!
И после сегодняшнего визита он ничего не сказал утешительного и уехал так же, как уезжал прежде, — с тяжелым чувством своего бессилия.
Когда Магаш, усадив доктора в сани, вернулся в комнату, он увидел брата читающим вновь прибывшие письма. Абиш так близко держал перед глазами листок почтовой бумаги, что, казалось, хотел закрыть им свое лицо. Но Абиш не читал. Он лежал угнетенный, в глубокой печали, приложив к побледневшим тонким губам, будто целуя, письмо от Магиш.
Услышав шаги Магаша, Абиш поднял тонкие удлиненные брови.
— Посмотри, — тихо произнес он, указав глазами на письмо, — Магиш вложила в конверт два чистых листка бумаги… желтый и красный… Она пишет, что пожелтела от тоски и горя… А малютка моя Рахиля уже начала ходить. Она цветет, как алый тюльпан… Желтый листок — это моя Магиш, а красный — моя Рахиля…
Тонкие брови Абиша вздрогнули, на глазах выступили слезы, ноздри затрепетали, и он повернулся лицом к стене. Несколько минут больной лежал молча, потом тихо прошептал:
— От горя пожелтевшая, моя Магиш… Красным тюльпаном цветет Рахиля…
Желая отвлечь брата от тяжелых дум, Магаш напомнил ему о письмах Дармена и Какитая — тех самых, что были написаны по совету Абая, чтобы развеять мрачное настроение больного. Но Абиш не обратил внимания на слова Магаша. Он тихо просунул под подушку исхудавшую руку и достал полученное накануне письмо отца. Больной перечитывал его несколько раз. Под подушкой хранилось и другое письмо Абая, неделю назад пришедшее из Семипалатинска. Прочитав стихи отца в двух его письмах, Абиш тихо сказал брату:
— Наверное, отец сильно встревожен… Он становится верующим… Ты заметил, Магаш, в этих своих стихах он обращается с мольбой ко всевышнему. Когда у человека иссякают силы и пропадает надежда, ему только и остается, что мольбы и просьбы…
Абиш умолк, затем попросил Магаша принести кумыс. Сделав два глотка, он отдал пиалу и задумчиво сказал:
— Больнее всего меня гложет мысль, что отцу не удалось осуществить свою мечту. Учил меня… Воспитал… С радостью и надеждой смотрел на меня, думал, что я достигну многого… Сколько раз он говорил мне: «Вернешься с большими знаниями, станешь служить своему народу, и тогда я буду самым счастливым отцом на земле». И нет ему счастья… Как подумаю об этом — горечь, словно яд, отравляет меня, не дает мне покоя…
Крупные частые слезы потекли по исхудалым, пожелтевшим щекам Абиша. Магаш молчал, закрыв лицо платком.
Алма-атинская зима была на исходе. Больной уже не мог подняться с постели, не мог отвечать на письма, каждую неделю приходившие из Семипалатинска. За него писал Магаш. Вытянувшись, Абиш неподвижно лежал на спине и задумчиво смотрел в потолок. Он так исхудал, что тело его, утонувшее в пуховой перине, словно слилось с постелью.
Сегодня день весны особенно ясный. Иссиня-голубое небо, радостно озаренное щедрым солнцем, сияет прозрачной чистотой. На ветвях стройных высоких тополей беспрестанно каркали вороны, словно давая знать о приближении весны. На улицах резвилась многоголосая детвора, торопливо шли жизнерадостные люди; позванивая медными колокольчиками, проносились санки. Челки, гривы и хвосты лошадей — в красных и зеленых лентах, на сиденьях санок— яркие цветные ковры. Несколько таких саней с гармонистами и веселыми седоками промчались мимо окна, наполнив улицу радостным гомоном.
Город шумно готовился к большому празднику. А в доме Абсамата — тишина. За столом сидит Магаш и что-то пишет. В углу на высокой кровати лежит его любимый брат. Ничто не в силах отвлечь мысли Магаша от страданий Абиша. Он только на миг бросил взгляд на шумную улицу, где царило веселое оживление, вновь устремил взор на единственного друга, которому можно было доверить тайну, — на бумагу. Быстрой рукой он набросал еще несколько строк.
Абиш понял — брат писал стихи. Он протянул руку и властно шепнул:
— Кончил стихи? Дай!..
Магаш не знал, как быть. Можно ли показать стихи больному? Не будет ли это жестоко и грубо! А не дать — он обидится!
Абиш почувствовал колебания брата.
— Не смущайся, я все понимаю!.. — тихо сказал он. — Знаю, ты написал правду… Дай же…
Магаш протянул стихотворение. Абиш попросил кумыса и двумя глотками промочил горло; желая успокоить Магаша, через силу улыбнулся.
— Посмотрим, что написал мой брат, начинающий поэт, — шутливо сказал он, — увидим, как расценивает мое положение дорогой Магатай.
Магаш по-прежнему молчал. Подойдя к постели брата, он сел рядом, облокотившись на спинку кровати, Абиш держал листок бледными, почти прозрачными, длинными пальцами и читал про себя:
Сижу у ложа больного, И горькая дума со мной. Он кашляет — снова и снова, Он трудно дышит, больной. И в сердце моем отдается Кашель его глухой, Когда он за грудь берется Прозрачной своей рукой. Мужественно, как воин, Встретился он с бедой: Взгляд, как всегда, спокоен, Взгляд, как всегда, прямой… А в доме все гуще тени… И, стиснув ладони рук, Он молит об избавленье От нестерпимых мук.[131]Прочитав стихотворение, Абиш долго лежал молча, собираясь с мыслями, и пристально вглядывался в лицо брата. Наконец тихо заговорил:
— Пока я болею, вы пишете стихи — ага, Дармен, Какитай и ты… Лучше бы им родиться не в печали, а в радости. Для жизни они должны рождаться…
Он помолчал немного и сказал то, о чем долго размышлял последние дни:
— Читаю ваши стихи и вижу— вы становитесь настоящими поэтами. Кажется, таких стихов на казахском языке еще никто не писал…
Абиш задал себе вопрос и, подумав, сам ответил на него.
— Ведь то новое, прекрасное, что есть в ваших стихах, пришло к вам через моего отца от русской поэзии. Но зачем же уделять так много внимания горю? Передай об этом моему ага. Я ему часто говорил, когда мы с ним беседовали о стихах… Русская поэзия, русское искусство наших дней помогло отцу сесть на крылатого коня, высоко подняться. А самое светлое и радостное еще впереди. Вот и надо смотреть вперед. Будущее России велико и славно! Об этом мне довелось слышать в Петербурге и Москве от многих людей. Павлов и его друзья верят в это будущее! Нам, живущим в Семипалатинске, Алма-Ате и других глухих углах, надо понять Россию. Скоро взойдет над нею заря…
Абиш говорил горячо, страстно. Утомленный, он умолк и долго лежал неподвижно. Затем молча протянул руку Магашу — снова попросил кумыса. Сделав глоток, он заговорил опять:
— Каждый день кто-то рождается и кто-то умирает. А народ живет, общество движется своей дорогой. Что такое один человек? Разве мир без него погибнет? Не поддавайтесь горю!
Грустно улыбнувшись, Абиш взял в руки листок со стихотворением брата и сказал:
— Что с тобой, дорогой? Все время ты предаешься грусти и проливаешь слезы. Мне это не нравится. Оставь печальные мысли. Отправляйся в город, проветрись, повеселись!.
В это время вошел Абсамат, чтобы позвать Магаша обедать. Абсамат сделал рукой знак Магашу, вызывая его, но Абиш запротестовал. Он подозвал к себе хозяина дома, а брата послал за Утегельды и Майканом.
Два веселых жизнерадостных жигита, привыкшие понимать больного по малейшему движению бровей, постоянно находились в соседней комнате. Сейчас, войдя к Абишу с тревогой, они увидели его радостное лицо. Лежа в постели, он держал за руку Абсамата. Утегельды и Майкан осторожно приблизились к кровати.
Абиш приветливо глянул на друзей и сказал слабым голосом:
— Мой Магаш не выходит из дома, даже пожелтел от скуки. Сегодня у русских замечательный праздник — масленица. В этом городе умеют широко праздновать. Я слышу, Алма-Ата полна песен и веселья. Запрягайте, друзья, коней и поезжайте вечером в город. Будут скачки, испытайте гнедого иноходца. Повеселитесь и вы на широкой русской масленице, покатайтесь… Магаш, Утеш, собирайтесь! Ты, Абсамат, сам поведи гнедого и обгони всех иноходцев города. Я дам тебе приз за это!
Магаш, Утегельды, Майкан и Абсамат многозначительно переглянулись. Робкая надежда шевельнулась в их сердцах. Видимо, Абиш почувствовал себя лучше. Они заулыбались, закивали, заговорили, перебивая друг друга:
— Хорошо, хорошо! Поедем!
— Всех обгоним? Всех!
— На поправку идет! — радостно воскликнул Абсамат; выразив общее настроение. — Как хорошо на сердце! Дай бог удачи!
Абсамат и Майкан потихоньку, никому не говоря ни слова, уже давно и очень старательно готовили гнедого к масленичным скачкам. В вечерние сумерки Абсамат запрягал коня в маленькие санки и подолгу гонял его иноходью, а иногда, обнаружив еле заметный пот у него в паху, ставил остывать до середины ночи. Чтобы не мешали прохожие, Абсамат выезжал либо на Ташкентскую дорогу и мчался к Каскелену, либо ветром летел в сторону Семипалатинска, минуя Разбойничий сад — Муттаимбак. Иногда он по пути заезжал к своим родичам, проживающим в Байсерке.
В этот день после обеда четыре жигита запрягли коней и на двух санях выехали из ворот дома на широкую улицу.
Магаш и Утегельды поместились на заднем сиденье кошевки, а Майкан, искусный в управлении конем, занял место кучера. Он сразу же пропустил вперед санки Абсамата, уступив дорогу гнедому иноходцу.
Сегодня Магашу и его друзьям город показался особенно нарядным и праздничным. Вспомнив Семипалатинск, они начали сравнивать его с Алма-Атой. Как прекрасен снежный хребет Ала-Тау, заслонивший своей мощной грудью южную сторону прозрачного синего неба. Этот могучий сказочный великан вызывает восхищение в каждой живой душе. Глядя на него, невольно хочется воскликнуть: «Как он высок и прекрасен!» Правда, в Алма-Ате все дома одноэтажные, деревянные, в отличие от Семипалатинска, где на центральной улице стоят красивые каменные здания. Но зато сколько здесь фруктовых садов! И как прекрасны стройные пирамидальные тополя, тянущиеся к небу, ветвистые березы и могучие дубы на прямых, словно стрелы, улицах! А тенистые сады — они под стать великану Ала-Тау! Это не сады, а настоящий лес.
— Неужели все деревья в городском саду посажены в один день? — с наивным удивлением расспрашивал Магаша Утегельды. — Как можно было закопать все корни в один час?
— Почему же за один?
— Да потому что все они одинакового роста, словно гривы стригунов-двухлеток, срезанные весной одновременно. Какой бог вырастил их рядышком такими ровными?
В свое время, когда Абиш был покрепче здоровьем, он много рассказывал Магашу об Алма-Ате. И сейчас Магаш поделился тем, что слышал от брата.
— Восемь лет назад здесь было страшное землетрясение. Погибло много деревьев, пришлось сажать вновь. Ты правильно подметил, их действительно сажали в одно время, поэтому они кажутся одинаковыми.
Утегельды, сын степей, до сей поры видел лишь горы Чингиза, где вовсе нет деревьев, и он не в ладах со всем здешним. Он не чувствует красоты зеленого города. Семипалатинск ему нравится больше. К тому же он приехал в Алма-Ату в начале зимы и не видел всего великолепия фруктовых садов, когда на их ветвях пламенеют крупные плоды.
— Что хорошего в этих деревьях, — недоумевал он. — Одним ворам раздолье! Особенно летом, когда сады листьями покроются: они же первые помощники грабителю! В такой тени спрятаться ничего не стоит. А если вор на гору, на этот ваш хваленый Ала-Тау, в лес заберется, так его там и совсем не поймаешь. Все эти ущелья, леса да вершины — прямо воровской притон, так вот и кличут: «Хватай, кради, беги ко мне, прячься!»
Магаш засмеялся:
— А ты видел хоть одного вора в этом городе? Сколько месяцев ты живешь здесь, но разве слышал, чтобы кто-нибудь закричал «караул»?
— Вот это-то и непонятно, что их нет, — изумился Утегельды. — Но если бы мне пришлось воровать, то я занялся бы этим делом только в Алма-Ате.
Майкан и Магаш искренне рассмеялись.
— Живешь в большом городе, чуть ли не на многолюдном базаре, а так рассуждаешь! — сказал Майкан. — Стыдись! Какое тебе дело до воров!
Но Утегельды не сдавался.
— Нечего меня стыдить! Если хотите, то так и сам Абай-ага думает! Однажды я его спросил: «Почему во всем нашем роде Тобыкты кононокрады водятся главным образом в родах Мырза и Божей?» А он мне, знаешь, что ответил. Посмотри на их зимовку и летовку. Кругом неприступные скалы, ущелья, глубокие овраги. Сама местность — словно воровское гнездо. Сама земля их учит: «Укради лошадь, притащи сюда, скройся в первом ущелье и режь тут же!» Вот что сказал мне Абай-ага. Так вы со мною не шутите! Не на такого напали! — И, лукаво улыбнувшись, добавил: — Уж если улица воров укрывает, так что же и говорить о садах!
Магаш засмеялся, но ничего не ответил.
Майкан остановил коня на углу улицы Гурдэ — отсюда было удобно наблюдать за рысаками и иноходцами, мчавшимися по Сельской улице. Абсамат присоединился со своим гнедым к иноходцам, начавшим далекую скачку. Множество саней с хрустом и свистом летело по широкой снежной улице. Мимо пронеслась тройка, звеня бубенцами. В широкой кошевке сидели подвыпившие мужчины и женщины и горланили разухабистую песню. Крестьянские кони, откормленные овсом и отрубями, неуклюжие и веселые, как и их хмельные хозяева, скакали во всю мочь под хохот и насмешки уличной толпы. Исчезла тройка, а следом за ней промчались английские рысаки — длинноногие стройные красавцы с выгнутыми дугой шеями, прямыми ушами и подрезанными хвостами. Взвихривая снег, сани мчатся вперед по Сельской улице.
Поднимая снежную пыль, пролетают гнедые, белые и карие иноходцы казахской породы, стремглав несутся русские рысаки.
Скачки только что начались. Иноходцы должны были пройти по улицам Колпаковской и Сельской, достичь Ташкентской аллеи, затем, обогнув парк, вновь вернуться на улицу Колпаковскую, промчаться по Сельской и остановиться на скотном базаре, на площади перед белой церковью.
Прослышав о пути скачек, народ валом валил к белой церкви, чтобы увидеть подход коней к финишу. Магаш, Майкан и Утегельды сели в сани и тоже поспешили к базарной площади, где уже собралась многолюдная толпа, в которой немало было гимназистов в светло-серых шинелях с серебряными пуговицами. Появились и чиновники с золотыми кокардами на фуражках. Они пришли сюда с женами. Однако больше всего было в толпе полицейских; урядники и стражники, придерживая сабли, косились на свое начальство — франтоватых ротмистров в голубых шинелях и белых перчатках.
Не даром, когда Абиш был еще здоров и поинтересовался у одного из просвещенных старожилов города: «Кого больше всего в Алма-Ате?» — то получил ответ: «Духовенства и полиции. Ведь у нас по городскому бюджету на полицию ассигновано в десять раз больше, чем на врачей и больницу».
Шакирды из медресе и хальфе из пяти мечетей, надвинув на лоб татарские шапки, тоже пришли взглянуть на запретное для них масленичное гулянье. Щеголяя богатыми лисьими и енотовыми шубами, важно прохаживались русские и татарские купцы, таранчинские и казахские торговцы.
«Один прыгает от сытости, другой от стужи!» — говорит пословица. Среди сытых, довольных, празднично настроенных людей ходили с протянутой рукой нищие, вымаливая подаяние. Бросались в глаза жалкие лохмотья хлеборобов-переселенцев, приехавших в богатое Семиречье из далекой России и оставшихся здесь без крова над головой, без куска хлеба. Были здесь и бедняки-казахи, обнищавшие после джута, бездомные, голодные и иззябшие женщины, старухи и старики.
В толпе любопытных Магаш встретил и казахских чиновников, хорошо знающих Абиша. Они бегло поинтересовались здоровьем больного и сразу первели разговор на гнедого иноходца, — их интересовало, как Абсамат готовил к скачкам своего знаменитого коня.
Вечерние сумерки сгущались. На улице не было ни одного фонаря. Толпа, ожидавшая перед церковью возвращения иноходцев, волновалась. Конечно, в темноте можно было увидеть белого коня, а как отличить гнедого от буланого, вороного от каурого? Попробуй догадайся, какой из них придет первым! Но алмаатинцы все же не расходились. Скачки устраивались только один раз в году, и каждый с жадным нетерпением хотел взглянуть на победителей. Сгрудившись на площади с южной стороны церкви, толпа разделилась надвое, оставив широкую дорогу для проезда лошадей. Чиновники и купцы то и дело смотрели на часы, а простой народ нетерпеливо обменивался короткими возгласами:
— Скоро ли?
— Вот они, близко уже!
— Едут, едут!
— Сейчас вернутся!
И действительно, в полуверсте показалось что-то темное — какое-то пятно, словно шар, катилось по широкой дороге, охраняемой полицией, с каждой секундой увеличиваясь в размерах. Это летели, поднимая снежную пыль, запряженные в легкие санки иноходцы.
Вдруг Магаш и Майкан вскрикнули в один голос. Обогнав десяток иноходцев, два коня, белый и гнедой, шли голова в голову. Из толпы кто-то крикнул:
— Абсамат! Гнедой иноходец! Жми!
Когда завиднелась церковь и послышался нестройный гул толпы, Абсамат еще крепче уперся ногами в передок саней и на секунду изо всей силы натянул вожжи. Гнедой, закусив удила, рванулся вперед, чуть не вырывая из плеч онемевшие руки ездока. В тот же миг Абсамат, приподняв вожжи, изо всей силы ударил ими коня и крикнул пронзительным голосом:
— Чу-а! Ай-да!
Гнедой почувствовал, как сразу ослабли вожжи, которые сдерживали его все время. Откинув вверх челку и высоко забрасывая голову, словно желая удариться ею о дугу, он сделал резкий бросок вперед.
Но белый иноходец известных богачей купцов Абдувалиевых все еще скакал рядом, не отставая ни на шаг. Гнедой, кажется, только теперь почувствовал близость финиша. Услышав резкий, повелительный возглас Абсамата: «Аит, чу!» — стал заметно отделяться от своего соперника.
Гнедой обходил белого иноходца — вначале он шел впереди на голову, потом на шею и наконец выдвинулся на весь корпус. Некоторое время Абсамат еще чувствовал на левом плече густой горячий пар из ноздрей абдувалиевского коня. Белый иноходец отставал. С каждой секундой гнедой набирал скорость. Вот он уже на целых полквартала опередил своих противников и, подобно падающей звезде, пролетел по середине широкой улицы к финишу, где его встретила восторженными криками ликующая толпа.
Гнедой иноходец, о котором в этот вечер складывались в городе легенды, в несколько минут домчал Абсамата до дома. Следом подкатил и Майкан.
В передней жена Абсамата, его дети и работники помогли вошедшим раздеться. Весть о победе гнедого на скачках привела весь дом в неописуемый восторг. Чтобы не занести уличный холод в комнату Абиша, друзья задержались в прихожей. Они обогревались и обменивались впечатлениями о скачках, окончившихся блистательным успехом гнедого.
Когда через несколько минут они вошли в комнату больного, Абиш еще не спал, хотя глаза его были закрыты. Чуть приподняв руку, он жестом пригласил вошедших подойти поближе к постели.
— Пришел первым… Я слышал… Поздравляю… Абсамат… Я тебе приготовил приз…
И Абиш вытащил из-под подушки длинный кинжал с рукояткой из слоновой кости. Серебряные ножны блеснули затейливыми узорами, нанесенными рукой искусного кавказского мастера. Когда Абиш лечился летом в Абастумани, он приобрел этот кинжал на память о Кавказе, а сейчас подарил его Абсамату.
Довольный подарком, Абсамат вместе с Магашем вышел из комнаты больного, и все направились в гостиную, где был приготовлен чай. Возле низкого раздвижного стола, накрытого красной скатертью, сверкал ярко начищенный медный самовар. На столе возвышалась гора баурсаков, стояли банки с маслом, медом, жеитом,[132] сахаром, и конфетами. Все опустились на корпе, и снова начался разговор о сегодняшней победе гнедого иноходца.
В это время открылась наружная дверь и послышался скрип тяжелых казахских сапог. В гостиную вошли два пожилых бородатых человека — один высокого роста, в куньей шапке, другой широкоплечий, ниже его, с сединой в волосах. Абсамат, узнав вошедших, сразу поднялся. Магаш и Майкен последовали его примеру, — они тоже узнали представительного румяного человека в куньей шапке. Это был Дат.
Хозяева дома сразу же окружили гостей, помогли раздеться и провели на почетное место. Чтобы удобнее было полулежать, жена Абсамата принесла подушки.
— Ассалау-малей-куум, ассала! — громко приветствовали гости.
Дат, которому все присутствующие оказывали знаки особого уважения, был одет в дорогой ламбуковыи камзол с короткими рукавами, из нагрудного кармана которого свисал кончик золотой цепочки. Почетный гость поздравил Магаша и Абсамата с победой гнедого, а затем познакомил собравшихся со своим спутником:
— Мой друг. Имя его вы, наверное, слышали. Оно известно по всему Джетысу, не только в Алма-Ате. Наш прославленный акын — Джамбул.
Этого человека с небольшими зоркими глазами и розовыми щеками Абсамат хорошо знал. Магаш его видел впервые. Они обменялись рукопожатием, и Джамбул, едва присев к столу, стал делиться своими впечалениями о скачках, которые он наблюдал с начала до конца.
— Быстроногий конь! — сказал он, обращаясь главным образом к Магашу. — Пришелся мне по душе!.. Все тюре и простой народ восхищались им. Покорил все сердца. Радуюсь за тебя! Пусть всегда твой путь будет счастливым! Слышал, ты сын хорошего человека. У тебя отец красивый и конь прекрасный, Магаш-мирза!
Джамбул переживал пору расцвета своей творческой жизни. Песенное слово у него, как говорится, не на кончике языка, а на кончиках губ. Красноречивый акын сразу завоевал всеобщее расположение.
— Говорят, хороший человек никогда не чуждается людей, — с улыбкой глядя на Джамбула, заметил Майкан. — Акын чуть раскрыл рот — сразу высказался обо всем.
Магаш в знак согласия молчаливо кивнул головой. С первого дня своего приезда в Алма-Ату ему часто доводилось слышать имя Джамбула. Сейчас он с большим интересом посматривал на широкоплечего акына, на его скуластое лицо, огромный лоб и умные, живые глаза.
Дат сказал, что они собрались было навестить Абиша, но, узнав, что Магаш с друзьями поехали на скачки, решили и сами отправиться туда же. А вот сейчас наступил вечер, и нельзя зайти к Абишу — после заката солнца навещать больного не принято. Магаш, Утегельды и Абсамат понимающе кивнули. Действительно, есть такой обычай, обязательный для хорошо воспитанных казахов, и пожилые люди его никогда не нарушают.
— Утром зайдем к нему! — сказал Дат.
Жена Абсамата без устали наливала гостям чай. После долгого пребывания на улице они пили с явным удовольствием. Большой медный самовар опустел, и на смену ему принесли другой — пузатый, еще более вместительный.
Во время чаепития любознательный Джамбул задавал Магашу один вопрос за другим. Он хотел поподробнее узнать об Абише, как Абай обучал своего сына, что пишет ему из Семипалатинска. Магаш отвечал охотно и даже прочитал акыну несколько писем Абая, написанных в стихах. В одном из них с благодарностью упоминалось имя Абсамата. Дат оживился.
— Да, да, надо делать добро хорошим людям! — очень довольный, сказал он. — Не зная Абсамата, не видев его в лицо, Абай благодарит его в стихах. Бог да будет милостив к тебе, Абсамат! За твое доброе дело все уйсуны, дулаты,[133] да и весь Большой Жуз тысячу раз тебе спасибо скажут. Если уж твое имя стало известно в Семипалатинске, то пусть умножатся твои друзья в Алма-Ате. За твои заботы о добром сыне уважаемого Абая ты достоин большого почета.
Джамбул стал настойчиво просить Магаша прочитать стихи отца, которые тот помнил наизусть. Магаш не смог отказать, и вот зазвучали прославленные стихи об акынах и песне. Абай жестоко высмеивал продажных, хвастливых певцов, которые бродили по аулам, лестью и унижением вымаливая, словно нищие, милостыню у богатых баев.
Джамбул слушал стихи Абая с радостным изумлением. Прищелкнув языком, Он сказал:
— Первый раз слышу. Ни один казах так не пел. Здесь все ясно: сам — весы, сам — судья; если умеешь понимать, вникай в каждое слово.
А Магаш уже читал стихи:
О казахи мои! Мой бедный народ!..Джамбул слушал с волнением, стараясь не пропустить ни одного слова.
— Погруженный в горе муж! — воскликнул он. — Скоро ли наступит светлый день, который прояснит и твое чело? Сокол мой, обнимающий взором бесконечную даль! Ты зовешь мир к прозрению. Дорогие слова! В мою душу, не видавшую света, они вошли солнечным лучом. Прочитай мне еще, брат мой Магаш.
После того как гости опорожнили пузатый самовар, закончилось чаепитие и жена Абсамата внесла огромную деревянную чашу, наполненную кумысом, Джамбул, сидевший по левую руку Дата, взял свою домбру и пересел к Магашу.
В этот вечер джетысуйский акын прослушал много песен Абая, которые по очереди пели Магаш и Утегельды, а перед ужином поделился своими впечатлениями от того неведомого и дорогого, что узнал впервые, и его слова звучали как зрелый итог большого раздумья.
— Если подумаешь о том, где истинное благородство сердца, где подлинные сокровища души, — оказывается, только у Абая, — сказал он. — Испокон веков люди с почтением говорили: «Так сказал Кабан-акын». Или: «Вихрем носились Кулан аян Кулмамбет, Дулат, Майкет, Суюмбай из Шапрашты». Их возвеличивали, но они как были маленькими, так и остались. Если Абай — океан, то мы лишь крохотные озера! Правда, мы слагали песни, вызывая у одних смех, а у других злость. Но то великое, чего ждала родная степь, у нас не рождалось.
Только один Абай — заступник народа; в нем соединилось все: великий ум, песенный дар, большое чистое сердце! Он — пример для нас, акынов. Магаш мой, я хочу, чтобы твой замечательный отец стал для меня добрым старшим братом. Пусть дойдут через тебя до него эти мои слова. Вот мой горячий привет ему…
Джамбул склонился над домброй, и пальцы его затрепетали по струнам, извлекая глухие звуки. Акын запел:
Внемлем песне могучей, новой, Пробудившей родимый край. Потрясенные силой слова, Внемлем песне твоей, Абай![134]Магаш, завороженный, слушал Джамбула, восхищаясь его проницательным умом, его зоркостью, открытым, отзывчивым сердцем. И Магаш просил Джамбула петь еще и еще.
К его просьбе присоединились и все остальные. Акын, не стал отказываться и до самой полуночи, не выпуская домбры из рук, пел одну песню за другой.
Таял снег, обнажая черную сырую землю. Тяжелые облака то собирались над вершинами Ала-Тау, то, перевалив через заснеженные хребты, нависали над городом. Серые, неприветливые дни навевали гнетущую тоску. Томительная влажность воздуха губительно отражалась на самочувствии Абиша. Он говорил еле внятно, шепотом, да и дышал уже с большим трудом. Абиш настолько обессилел, что перестал даже просить пить. Однако мысль его работала ясно, как у здорового. Все, что происходило вокруг него, всякий шорох и каждое произносимое слово Абиш хорошо слышал и понимал. За последние три дня он ни разу не произнес имени брата. А еще так недавно, смотря на Магаша, с любовью и нежностью повторял: «Мой Магатай!»
Сегодня днем, потерявши последнюю надежду, Магаш понял, что наступает конец. Сидя в одиночестве, писал он горестные стихи, слова прощания, посвященные умирающему брату.
Где предел печали моей? Кто душе возвратит покой? Неужели в расцвете дней Ты покинешь нас, дорогой? Я не в силах произнести Слово «смерть», о тебе сказать… Пламя скорби горит в груди, И глаза мои жжет слеза.[135]В эти печальные дни, почуяв отцовским сердцем приближение рокового срока, Абай прислал телеграмму с просьбой немедленно протелеграфировать ему «обо всем подробно».
Телеграмму получил Майкан и передал Магашу, который и прочитал ее брату. Абиш выслушал молча и только глазами показал на записную книжку, лежащую на столике у его изголовья, возле лампы. В его взгляде Магаш прочитал молчаливый приказ.
— Вот мой ответ отцу! Посмотри…
И Магаш прочитал ровные строчки, написанные по-арабски:
«Ага, прощай! Не смог осуществить твою мечту, не смог отдать людям все, что имел! Другая кручина моя — Магиш! Моя радость!.. Любимая жена! Душа моя чиста и преданна тебе!.. Целую Рахилю…»
Если за день до того Абиш перестал общаться с людьми словами, то в этих строках он как бы порывал связь с мыслями и чувствами живых.
В дом Абсамата стали заглядывать посторонние люди, прослышавшие о тяжелом состоянии Абиша. Они приходили по двое, по трое, сочувственно спрашивали о состоянии больного и потихоньку уходили. Пришел и Дат, только что вернувшийся из дальней поездки. Узнав, что конец близко, он потемнел лицом и сказал:
— Долгое время был в разъездах, не мог побывать у тебя. Сегодня встретил Бакия и говорю ему: «Твой родич — мой друг. Пойдем навестим». Вот и пришли, дорогой!
Магаш стал было тихонько рассказывать о том, как плохо сейчас Абишу.
— Не надо об этом говорить, дорогой! Все понимаем! Пусть бог пошлет ему облегчение!
В областном управлении Алма-Аты, в окружном суде, в канцелярии уездного начальника работали толмачами аргынцы и найманцы, знакомые и незнакомые Абишу. Они пришли все вместе попрощаться с умирающим. А после неведомо откуда появились незваные и непрошеные гости — хальфе, муэдзины в чалмах, пожилые шакирды. Пучеглазый чернобородый хальфе со впалыми щеками и с изогнутым, словно ястребиный клюв, носом проник в комнату Абиша, а когда возвратился в прихожую и стал надевать свои кебисы, молитвенно зашептал:
— Слава богу! Слава богу! Слава богу!
Удрученный горем Утегельды пришел в ярость.
— Слава богу! Слава богу! — передразнил он. — Человек заболел… Чего же тут хорошего, пес проклятый! Оторвать бы тебе клюв, белоголовый стервятник. Подлый ворон!… Ноги тебе переломать, чтобы ты сюда не бегал!..
Пока хальфе не вышел за ворота, вслед ему градом сыпались проклятия.
Поздним вечером приехал Фидлер. Он сел у постели Абиша и не произнес ни одного слова, только бережно погладил его исхудалые, прозрачные пальцы и пожелтевший лоб.
С Магашем доктор прощался, зная, что в этот дом он больше не вернется, молча пожал ему руку и, так и не сказав ничего, уехал.
Всю ночь Абиш лежал без движения, не проявляя никаких признаков жизни. Он даже перестал стонать, хотя невыносимые страдания терзали его изболевшееся высохшее тело. Благородная душа, томящаяся между бытием и смертью, медленно покидала границы жизни.
Абиш скончался, когда в окнах забрезжил медленный рассвет.
… На телеграмму Абая, полученную вчера, теперь вместо Магаша ответил Абсамат. Он выразил свое соболезнование и спрашивал, где хоронить Абиша, какова будет воля отца.
В тот же день пришла ответная телеграмма. Абай давно решил для себя этот вопрос. Из писем Магаша он знал о предсмертном желании сына — вернуться домой, в степь, чтобы умереть на земле отцов. И Абай телеграфировал свою волю: временно похоронить Абиша в Алма-Ате, а когда станет теплее и наладится дорога — перевезти останки в родной аул.
На похороны Абиша собралось много горожан.
День выдался погожий. Пасмурное небо прояснилось, стало по-весеннему прозрачно-синим. Толпа народа, пройдя за траурной процессией по Ташкентской аллее, дошла до казахского кладбища и заполнила его. Здесь уже была приготовлена могила, вырытая в мерзлой земле по-мусульмански — с боковым углублением для тела, лакатом. Высохшие от тяжелой болезни останки Абиша, завернутые только в саван, жигиты бережно спустили в стылую темную яму.
Майкан и Утегельды, укладывая его в лакат, вслух произнесли:
— Аманат! Аманат! — Временно доверяем! Близстоящие в толпе повторили:
— Аманат!
И в слове этом прозвучала мольба, словно холодную могилу призывали к милосердию.
Хотя на погребение Абиша собралось множество людей, Магаш чувствовал себя одиноким в этой огромной толпе. Сегодня утром, оставшись наедине, он безудержно плакал, но стоило появиться посторонним, Магаш затаивал свое горе, и никто не видел слез на его бледном, как фарфор, исхудавшем лице. Он посоветовал Майкану и Утегельды держать себя крепко в руках. И они выполнили его совет, не разрыдались, даже когда опускали покойного в могилу.
Похоронив Абиша, опечаленные люди стали постепенно расходиться. У свежего холмика остались человек двадцать, окруживших Магаша. К нему приблизился Джамбул, ни на шаг не отстававший от Абсамата и Дата. Горькие слезы текли по широкому лицу акына, начавшего свое слово, посвященное Абаю. Он говорил от имени джетысуйских казахов, выражая мысли и думы своих честных друзей. Надеясь, что «молодой Магаш хорошо поймет его», он запел без причитаний. Все сразу притихли, зная, что Джамбул поет только тогда, когда ему есть о чем сказать народу. Первые слова акына, произнесенные с дрожью в голосе, вызвали молчаливое сочувствие слушателей, послышались вздохи и тихий плач. Своей песней Джамбул посылал через Магаша привет от имени местных казахов благороднейшему сыну народа, жителю семипалатинских степей:
Добрый путь тебе, друг Магаш, Добрый путь в далекий Семей! Ты отцу привет передашь И поклон от верных друзей. Мудрым словом своим всегда Утешал он в печали нас. Пусть не сломит его беда, Испытания трудный час! Горько думать, что нет орла, Расправлявшего крылья в полет… Многих мать-земля приняла, Многих в лоно свое возьмет…В начале своего приветствия Джамбул горько оплакивал преждевременную смерть Абиша, а затем перешел к утешению Абая:
Ношу горя так трудно нести, Одному — тяжелей во сто крат. Только ты не один в пути — Мы с тобой, наш друг и брат… Пусть осушит слезы твои Пламя жаркое нашей любви![136]Так Джамбул закончил песню, вложив в нее всю теплоту своего большого сердца.
После похорон Абиша, выполняя волю Абая, Магаш, Майкан и Утегельды спешно собрались и выехали из Алма-Аты. Стремительная семиреченская весна, раннее таяние снегов сильно испортили дороги, — грязь и слякоть порядком измучили лошадей. Была надежда, что суровая зима Арки сохранит им дальнейший путь и что за Аягузом станет легче ехать. Но надежда эта не оправдалась: ранняя оттепель и здесь вызвала распутицу. От жарких лучей солнца степь потеряла белоснежную свою чистоту, посинела, и, ступая на талый снег, кони проваливались то одной ногой, то другой.
Хотя путники ехали днем и ночью, делая лишь короткие остановки, в Семипалатинск они добрались только на двадцатый день, совершенно разбитые мучительной дорогой.
Ожидая возвращения Магаша, Абай тяжело переживал свое горе. Рухнула опора его жизни. Он словно видел себя на краю высокой отвесной скалы. Одно неосторожное движение, один неловкий шаг — и полетишь с головокружительной высоты в бездонную черную пропасть.
По ночам Абай томился — не было сна; днем он не находил себе места от печальных мыслей. В эти скорбные дни он не обмолвился ни одним словом со своими домочадцами — Какитаем, Дарменом и Баймагамбетом. Жаркое, доброе сердце поэта, словно заледеневшее от великого горя, преисполнилось ожесточением.
Перед самым возвращением Магаша приехал из Акшокы Акылбай. Он уже успел у себя в ауле устроить семидневные поминки по Абишу и целую неделю принимал людей, приезжавших выразить свое соболезнование.
Прежде всего Абай спросил его о том, как чувствует себя Магиш, а потом о Дильде и других близких родных, для кого смерть Абиша была истинным великим горем.
По словам Акылбая, Магиш переносит утрату любимого мужа очень тяжело, она то и дело теряет сознание. Дильда тоже страшно горюет, да и весь аул в печали. Абай слушал молча.
Потом Акылбай, хотя его об этом никто не спрашивал, рассказал о непристойном поведении Такежана и Каражан, приезжавших на поминки Абиша. Такежан в разговоре с Дильдой осуждал Абая, называя его виновником смерти сына. Акылбай передал слова Такежана подробно и точно с равнодушием стороннего наблюдателя. В его словах не было ни боли, ни осуждения.
— Абай всю жизнь только одно твердил: «Буду учить, буду учить Абиша», — и загнал его на край света, где мальчик заразился смертельной болезнью. Наши отцы и деды не учились у русских, а были людьми чтимыми, прославленными, прекрасно управляли народом. Ведь знал же Абай, что у сына слабое здоровье! Зачем его было без конца учить? Да разве можно выучить все науки! Не прощу я этой жадности Абаю! Подумать только, отправил Абиша на заработки в такую даль! Служить в Алма-Ату!» — Вот как говорил Такежан Дильде, — закончил свой рассказ Акылбай; и снова было непонятно, как он относится ко всему происшедшему, — может быть, даже разделяет мысли сородичей?
Абай пристально смотрел в лицо Акылбаю. И это был его сын! Не ощутив в своем сердце гнева от услышанного, Абай даже удивился. В былые времена подобные слова резанули бы его по сердцу, он бы так и вскинулся от них! А сейчас он остался холодным. Так, вероятно, перенес бы укус мухи лев с переломанным хребтом. Абай только с горькой издевкой тихо молвил:
— Я думаю, что когда Такежан придет бросить горсть земли в мою могилу, он непременно кинет туда колючки.
А Акылбай, нимало не смутившись, начал рассказывать, что женщины и дети тяжело переживают отсутствие в ауле Абая и Магаша.
Раз в Акшокы нет взрослых мужчин, — рассуждал он, — друзья и недруги, приезжающие на поминки, безнаказанно говорят ядовитые слова, многие ведут себя не лучше Такежана. Его жена Каражан вместе с чванливою бабой Исхака, тупоголовой Манике, осуждают тебя, считая себя оскорбленными.
И снова Акылбай дословно пересказывал речи сварливых женщин:
— «Кого прискачут оплакивать родичи на конях? Над кем будут читать коран, обливаясь слезами, жена и мать? Им даже не дали своими руками бросить горсть земли в могилу покойного. Почему не привезли дорогого умереть в родном ауле? Даже бугорка земли не осталось после него в степи! Мы и поголосить-то о нем не можем! Нам хуже чем корове, у которой зарезали теленка: она хоть шкуру его видит и мычит… А нам что делать?»
И снова Абай остался равнодушным к рассказу Акылбая. Он хорошо знал истинную цену своим близким родичам, способным притворяться и вредить не хуже лютых врагов.
О том, что его могут оклеветать, надругаться над его отцовским горем, Абай предчувствовал давно. Пулучив телеграмму Абсамата и подумав о тяжелой дороге, он, ни с кем не посоветовавшись, сам решил вопрос о временном погребении тела Абиша в Алма-Ате. Зная, что его поступок вызовет вопли негодования у злобных, языкастых и гнусных врагов, которые так и рыщут вокруг него, зная, что эти собаки способны оскорбить даже память усопшего, Абай решил при первой же возможности перевезти на родную землю останки покойного сына.
Каражан и Манике не знали этого решения Абая, но если бы оно им и было известно, — все равно они бесновались бы не меньше, в душе злорадствуя над горем отца.
После разговора с Акылбаем Абай немедленно отправил вместе с ним в аул Акшокы Какитая, чтобы разделить с женщинами их горе и дать им разумный совет. Сам же Абай не мог выехать из города до возвращения Магаша и, оставив при себе Дармена, с нетерпением ожидал сына.
Тяжелое горе надломило его, и он, запершись в своей комнате, безмолвно предавался отчаянию.
Горожане, узнавшие о несчастье, постигшем Абая, с утра до вечера толпились в его квартире в слободке. Утешить его пришли Сеиль и Дамежан, завернули старые друзья — Сеит, Абен и еще кое-кто из затонских грузчиков. Выразить свое соболезнование явились также торговцы, чиновники, толмачи, а за ними потянулись муллы и шакирды.
Не со всеми посетителями Абай разговаривал охотно и не со всеми чувствовал себя свободно. Он обрадовался приходу Дамежан и Сеиля, принял их особенно приветливо и с душевной благодарностью проводил. С большим вниманием выслушал он и Абена, который еще в позапрошлом году во время борьбы за счастье Макен назвал Абиша своим другом и вожаком.
— Хотя и не ради меня пришли вы сюда, но радуюсь вам потому, что вы сохранили добрую память об Абише, говорил им Абай. — А когда приходят люди, оплакивающие моего дорогого сына, как могу я не поблагодарить их за слова утешения и не разделить с ними печальную трапезу? Если сейчас не прояснится мое лицо, не оскорблю ли я этим память покойного? Вы любили Абиша, мои друзья, а я люблю вас!
Абен, хорошо знавший степные обычаи, оценил добрые слова Абая и с глубоким волнением ответил ему:
— Абиш по своему уму и познаниям мог бы быть нашим наставником! О нем можно сказать: «Если желаешь иметь друга, имей только такого!» Когда Дармен нашел защиту у Абиша, мы, радуясь, подумали: «Счастья друзей он не уступит никому». Теперь мы осиротели. Ведь мало кто из молодых образованных казахов понимает нашу горькую долю и беспокоится о нашей судьбе.
Эти слова были особенно дороги Абаю именно сейчас, когда его сердце жаждало утешения.
После ухода Абена и затонских грузчиков Абай, оставшись один, вновь предался своим нескончаемым горестным думам. Растроганный, он что-то шептал про себя. Так неожиданно, как бы сами собой, рождались звучные строки. Ему хотелось рыданиями облегчить свои муки, но плакал он не слезами, а кровью сердца — и кровью сердца писал стихи, певучие, как струны домбры. И после каждого четверостишья как бы сам собою возникал один и тот же вновь и вновь повторящийся припев:
Смерть, ответь, как посмела ты Сына взять себе моего?Поэт повторял его много раз, вздыхая и сокрушаясь. Вот и сейчас Абай снова вернулся к этим строчкам, потому что из слов Абена ему стало ясно, что его мечта о новом человеке, мечта отца, став достоянием молодого поколения, превращается в мечту народа:
Я ушедшее замыкал. Он глашатаем нового был. Все надежды я потерял, Ужас кости мои пронзил. Одряхлел я, стал стариком, В сердце боль — горячей огня. Горе длинным своим бичом По глазам хлестнуло меня[137]Абай сокрушался о своей несбывшейся мечте, которая шла навстречу думам народа, блуждающего во тьме. Как отец народа своего, он оплакивал сына, скорбя о его утрате:
Все обдуманно делал ты, Не обманывал никого. Был отважным и смелым ты И удачливым оттого. Смерть, ответь, как посмела ты Сына взять себе моего?[138]И опять, отдаваясь своим думам, словно проглатывал горчайший яд.
Случалось, что к Абаю приходили, казалось бы, посторонние люди, которые даже не были казахами, но гораздо глубже разделяли его горе, гораздо искреннее оплакивали смерть Абиша, нежели иные сородичи, считавшие себя самыми близкими покойному людьми. Павлов три дня провел вместе с Абаем, временами терявшим сознание от нестерпимых болей в сердце. Федор Иванович жалел его, как родного отца, и старался утешить, как умел.
При втором своем посещении Павлов принес пачку любовно подобранных писем, написанных ему Абишем за все последние пять лет, и сказал:
— Когда-нибудь уделите внимание этим письмам, Ибрагим Кунанбаевич! Вы еще раз убедитесь, как высоко в своем благородном сознании поднялся Абдрахман, узнаете многое, что принесет вам большое утешение в вашем горе. Никто не живет вечно, все мы смертны. Но ваш сын прожил свою короткую жизнь так, что она вызывает восхищение. Сколько он познал истинно великого и как высоко парил над толпой обывателей!
Абай взял аккуратно сложенные письма Абиша и молча положил под подушку.
В эти дни в слободку пришло письмо от Евгения Петровича Михайлова, старого друга Абая, некогда высланного из Семипалатинска.
Сейчас он находился на Алтае, в верховьях Иртыша, неподалеку от Зайсана, где занимался этнографическими исследованиями. Летом Евгений Петрович кочевал с казахами, а зимой сидел над рукописями. О неизлечимой болезни Абиша он знал из его писем, полученных за последние годы.
Разорвав конверт, Абай медленно разбирал убористый почерк Михайлова, вспоминавшего в своем письме детство Абиша, ту незабываемую осень, когда он привел его за руку в русскую школу. И перед глазами Абая возник живой образ застенчивого аульного мальчугана, робко сторонящегося незнакомой школьной детворы и испуганно прижимающегося к бородатому русскому дяде, словно к родному отцу.
Михайлов старался утешить Абая, описывая, хотя и короткую, но прекрасную жизнь Абиша, прожив которую, он увидел и узнал больше любого столетнего аксакала.
И, оставшись один, Абай претворил в стихи слова верного старого друга, который был для Абиша настоящим вторым отцом:
Жил он вовсе не напоказ, Умудреннее старца был. Беспокоился он о нас, Об оставшихся он грустил.[139]Думать об Абише, делиться с ним, хотя и мертвым, своими мыслями и ежеминутно снова и снова прощаться — стало насущной потребностью для Абая, ибо в этом сейчас была истинная жизнь опечаленного отца. Много глубоких, прочувствованных строк родилось в его сердце в эти дни — строк, написанных только для Абиша, стихов, которые поэт никому не показывал и не давал читать.
Приезд Магаша вызвал у Абая новый взлет поэтического вдохновения, рожденного в дни печали и скорби. Три дня провел отец наедине с вернувшимся сыном, заставляя его во всех подробностях рассказывать о последних месяцах жизни Абиша. И Магаш, стараясь не пропустить ни одной мелочи, вспоминал, как угасающий брат провел зиму, как его лечил доктор-Фидлер и как он отошел весенней ночью, не дожив до рассвета. Рассказывая о думах и мечтах Абиша, Магаш передал Абаю прощальное его послание, посвященное Магиш. Это послание Абиш показал брату в памятный день скачки, когда гнедой иноходец одержал победу, но Магаш считал, что написано оно было раньше, — ведь в день скачек Абиш уже не мог держать карандаш в ослабевших пальцах.
Выслушав Магаша, Абай почувствовал, как к его сердцу подкатилась новая волна скорби. И, вновь оплакивая своего сына, он складывал новые строфы стихов:
Дальнозорок, умен и смел, Он судьбу свою точно знал, Ей бесстрашно в лицо глядел. Но от нас это все скрывал. Знал, что мало осталось жить, Не хотел пугать никого. То, что он не успел свершить, В завещании есть его.Абай снова обратился к своему верному молчаливому другу — бумаге. И из сердца глубоко опечаленного поэта вместе с горькими слезами вылилась песня:
Двадцать семь! Только двадцать семь! Сын мой, мало ты прожил лет… Ведь известно разумным всем, Что другого такого нет.Абай рассказывал о доброй и сильной душе своего сына, — вот кто мог служить примером для юношей своего народа:
Не стремился к богатству он. Лжи и чванства не признавал… Он оставил свою семью, На земле он недолго был, Но короткую жизнь свою Он познаньями удлинил. Перед ним расстилалась ширь Всех просторов и всех времен, Крым, Россия, Кавказ, Сибирь — Все пределы изъездил он. Как комета с большим хвостом. Появился он и исчез.[140]Так поэт впервые раскрывал скорбную гордость отца, увидевшего в сыне нового человека, истинного гражданина своей земли.
Раньше Абай читал свое стихотворение окружающим, а затем отдавал Магашу, Дармену или Какитаю, а иногда и Кишкене-мулле для переписки. Стихи же, навеянные мыслями о смерти Абиша, он скрывал, как своих тайных друзей, решительно от всех. Он ревниво прятал их от постороннего глаза под подушкой. И все же они не остались тайной для близких. Дармен, улучив удобный момент, осторожно извлекал сокровенный лист бумаги и торопливо переписывал новые строфы Абая, а потом вместе с Какитаем заучивал их наизусть.
Как-то Магаш прочитал товарищам и свои стихи, написанные в Алма-Ате возле постели больного Абиша. Дармен и Какитай послушали его и в свою очередь познакомили со всеми стихами отца, которые им удалось тайком переписать.
Болезнь Абиша заставила поэтов излить свою горесть в звучных рифмованных строках. Дармен, Какитай и Акылбай написали много стихотворений. Встретившись после разлуки с Магашем, они завели разговор о своем поэтическом творчестве, и всем им бросилась в глаза одна его особенность: за последний год поэты, окружавшие Абая, стали иначе писать, не так, как прежде. Магаш вспомнил, что покойный Абиш первым уловил это новое и сказал, что на творчестве отца сказывается доброе влияние русской поэзии.
Сейчас это влияние незаметно для них самих передавалось от Абая его последователям. Магаш показал Дармену и Какитаю свое стихотворение, написанное после смерти Абиша, — в нем явно ощущалось новое веяние — дыхание всепокоряющей правды русской поэзии, прекрасной своей простотой, точностью слова, верностью жизни.
И тут Дармен и Какитай поняли, что ныне казахский поэт находит новые слова, потому что по-новому начинает воспринимать мир. И опять они заговорили об Абае. Это он первый совсем по-иному взглянул не только на жизнь, но и на смерть. Его стихи об Абише не походили на прощальные плачи, жоктау,[141] которые создавали акыны раньше. Беки и бии, хаджи и муллы, укрепляя мусульманство, стремились успокоить человека мыслью о неумолимой власти рока. Недаром они неизменно начинали свои увещевания с давно известных пустых пословиц: «Нет тулпара с целыми копытами, нет сокола с целыми крыльями», «И друг аллаха, пророк, покинул этот мир!», «Друзья Магомета, шахрияры,[142] тоже ушли с этого света». Или говорили, многозначительно тряся бородами: «В пустынях Кербалы погибли Хасен и Хусайн», «Умер также друг пресветлого пророка Хамза».
К живой печали близких они приходили со своими сухими, равнодушными, давно отжившими свой век словами.
Абай же в своих стихах оплакивал Абиша не только как отец, потерявший сына. Он горевал, как горюет учитель о смерти своего ученика, обретшего великое сокровище знаний у русского народа. Это сокровище он принес в степь, своему родному народу, живущему в глубокой тьме. И вот ушел навсегда один из первых посланцев степи, которому, быть может, суждено было стать вожаком свободного нового племени!
«Он будет трудиться на благо народа!» Эта мысль была заветной мечтой Абая-отца. Он с нетерпением ждал той поры, когда любимый сын, получивший образование, осуществит его мечту. И вот крылья юного орла окрепли, и Абиш начал подниматься ввысь, выполняя свой долг перед народом, — и вдруг полет оборвался — умер.
Долгие бессонные ночи, не находя покоя, проводил в безысходной тоске Абай — человек преклонных лет, отец и гражданин, — только бумаге доверяя скорбь своей души. Все стихи, написанные им в ту пору, дышали суровым воздухом нового перевала в его высокой судьбе.
Абай открыл Магашу свое решение, к которому пришел еще до его приезда. Пока не наступила теплая погода и не оттаяла могила, надо перевезти останки Абиша на родную землю. Утегельды и Майкан с тремя жигитами на трех подводах завтра же выедут в Алма-Ату, а Магашу следует поехать в аул Акшокы. Он проводил Абиша в последний путь, так пусть же разделит горе с его семьей и матерью.
Магаш выехал в аул, а Абай, задержав при себе Дармена и Баймагамбета, прожил в городе до того дня, пока не получил из Алма-Аты телеграмму от Утегельды с извещением, что он, взяв тело Абиша, выезжает обратно в Семипалатинск.
Тогда Абай распорядился встретить Утегельды либо в Аягузе, либо на пикете Аркат и, минуя Семипалатинск, ехать отрогами Чингиза, через земли тобыктинцев, чтобы возможно скорее доставить останки Абиша на родину.
В середине мая в ауле Акшокы народ с глубокой печалью встретил дроги, на которых стоял дубовый гроб с дорогим прахом…
На расстоянии выпаса ягнят от зимовки Акшокы находилась могила матери Абая — Улжан. Абиша решили похоронить рядом с бабушкой.
Перед самым погребением, до начала жаназа, тело покойника надо было вынуть из гроба и извлечь из кожаного мешка, в который, по совету опытных алма-атинских стариков, Майкан и Утегельды бережно зашили его перед отправкой в последний путь. Находясь на чужбине, Абиш тосковал о родном ауле. Теперь, когда он вернулся в свой Акшокы, где впервые раскрыл глаза и взглянул на мир, — нужно было, чтобы хоть один человек увидел его лицо.
Так Дильда сказала Абаю. Он одобрительно кивнул головой и произнес глухим голосом:
— Пусть мать и жена Абиша посмотрят в его лицо и в последний раз попрощаются с ним.
Дильда и Магиш вошли под прохладные сумеречные своды мазара и тихо приблизились к костяной кровати, на которой лежали останки Абиша. Мать, громко рыдая, причитала: «Родной мой!»
Поддерживая Магиш правой рукой, она подвела ее к постели, а левой сняла саван с головы покойного. И тут ноги Магиш подкосились, она упала без чувств. На лице ее, словно клеймо смерти, выступили синие пятна.
Удивительно хорошо сохранилось тело усопшего, которого везли целую тысячу верст. Абиш словно спал крепким сном — лица его почти не коснулось тление. Одно только заметила плачущая Дильда: волосы на висках начали выпадать.
Майкан и Утегельды, сидевшие на корточках возле кровати и также изнемогавшие от слез, быстрее чем женщины нашли в себе силы успокоиться. Поддерживая женщин под руки, они вывели Дильду и Магиш на воздух.
И тут Магиш вдруг обрела потерянный от горя голос. Она закричала так громко, что ее было слышно во всем ауле. Глухие рыдания сотрясали ее тело, сквозь слезы прорывались слова отчаяния:
— Абиш мой! Душа моя, клянусь тебе… Перед твоим лицом отрекаюсь от жизни… Умру и я… Без тебя мне нет света… Скоро, скоро приду к тебе, мой родной!
И, снова теряя сознание, она упала на руки Утегельды.
ВО ВРАЖДЕ
1
Абай, не раздеваясь, прилег отдохнуть в большой юрте и незаметно задремал. Проснулся он не от дурного сновидения, а от непривычных, странных звуков, доносившихся через толстый войлок юрты. Приподняв голову от подушки, он стал прислушиваться. Ухо уловило глухой стук сбрасываемых на землю соилов и позвякивание стремян. Должно быть, сразу подъехало много всадников, — кони теснились возле привязи, позванивая кольцами уздечек.
Абаю показалось странным неожиданное появление жигитов около его юрты. Он приподнялся на локте и повернулся к высокой постели, где обычно сидела Айгерим.
— Кто там приехал?
Но Айгерим уже стояла у выхода юрты и, высунув голову в полуприкрытую низкую дверь, с большим интересом разглядывала приехавших всадников. Она даже не расслышала слов мужа.
Рахиля, маленькая дочь Абиша, крича звонким голоском: «Аке! Аке!» — бежала к юрте. Она проскользнула возле ног Айгерим и бросилась на шею деду, сразу же раскрывшему ей широкие объятия. Айгерим прошла следом за девочкой и заняла свое обычное место на краю постели.
— Ойбай, аке! — залепетала Рахиля, высвобождаясь из рук Абая. — Сколько приехало разбойников! Все с соилами! С кем они будут драться, аке?
Абай взглянул на Айгерим:
— Да кто же приехал?
— Шырак,[143] — стараясь казаться спокойной, ответила жена.
Абай наморщил лоб: он не мог сразу вспомнить, кого из деверей она звала этим именем.
— Какой Шырак?
— Ну, сын Айнеке из Малого Каска-булака! — Ласково улыбнулась Айгерим, стараясь успокоить мужа.
Услышав название знакомой местности, Абай вспомнил, что жена дала Такежану прозвище Айнеке. Значит, приехал его сын Азимбай.
В эту минуту в дверях юрты показалось широкое, с воспаленными веками, грубое красное лицо жигита, обрамленное густой черной бородой. Неожиданный гость перешагнул порог и, холодно поздоровавшись с хозяевами, направился к почетному месту. За ним гуськом проследовали человек десять плохо одетых молодых парней в старых армяках и чапанах, поношенных тымаках и рваных сапогах. Видимо, это были бедные соседи Азимбая, рослые, жилистые, широкоплечие пастухи, способные драться с любым противником. Большинство их было моложе Азимбая; одинаково подстриженные маленькие бородки и усики делали их удивительно похожими друг на друга.
Когда гости расселись, Абай с изумлением поднял глаза на Азимбая и спросил:
— Куда держишь путь?
Хозяин юрты давал понять, что желает услышать откровенное объяснение гостя. Азимбай криво усмехнулся.
— Дело у нас важное… Отец мне велел заехать к вам поговорить…
В голосе гостя прозвучали тревожные нотки.
— О чем?
— Разве вы не слышали, какая случилась недавно беда?
— Что за беда?
— Одни дерутся, другие помогают!
— Кто дерется? Кто помогает? Не капай по каплям, говори сразу, что случилось.
Абай сердился. Ему противно было видеть улыбающееся широкое лицо Азимбая, с наслаждением произносившего загадочные слова. Нарочито медленно, словно желая помучить Абая, Азимбай, глядя исподлобья, продолжал:
— Уаки Кокенской волости, а с ними сброд из сорока родов, затеяли против нас вражду. Говорят, им помогает какой-то кляузник Серке, у него в городе всюду свои люди. Этот проныра добился распоряжения отмежевать в их пользу пастбища от Тобыкты. Приехал жемтемир или земтемир, не знаю, как его зовут, — знаю только, что он уже отрезал землю в Бугулинской волости у родов Есболат, Тасболат, Карамырза и Дузбембет. Сейчас с полосатой длинной жердью он приехал в Сактоголак. Меряет земли на границе с Кокенской волостью, где находятся колодцы и пастбища нашего рода Олжай.
Абай уже слышал эту новость.
— Какие колодцы от Олжая и какие земли от Есболата отрезают?
— От нас отрезают Верхнее Жымба, Нижнее Жымба, Караган-Копсакау, Шолак-еспе, до самого Бильде, — ответил Азимбай. — Потом захватят Обалы, Когалы, Кара-кудук. Тюре-кудук и выйдут к Шагану, к самому подножью Семейтау. Как видите, собираются отнять все наши пастбища. Нападают не на одного старшину, не на одного волостного, не на один аул, а на весь Тобыкты.
Азимбай умолк. Абай мысленно представил себе весь дальнейший ход событий.
«Соберут всех тобыктинцев и будут сражаться с уаками», — подумал он и спросил:
— А что собирается делать народ? Что вы думаете делать?
— Народ — это Тобыкты, а Тобыкты возглавляет Уразекен!
Азимбай ответил так умышленно, прекрасно понимая, что задевает Абая за живое. Он давал понять, что борьба предстоит не на жизнь, а на смерть.
— Недаром говорят, что «главный враг — враг народа, а главный спор — спор земельный», — сказал Азимбай. — Уразекен послал кокенцам салем от имени Тобыкты и предложил Серке остановить работу жентемира, помириться! Три раза предлагал, но уаки не захотели мира! Они решили искать справедливости по русскому закону. Уразбай разгневался и обратился к тобыктинцам с призывом: «Пусть сядут на коней все, кому дорога честь Тобыкты». В самом деле, неужели будем терпеть обиду от каких-то извозчиков, от хлеборобов-жатаков, от голодранцев Уака! Сейчас Уразбай вооружает своих жигитов. Он и к моему отцу послал гонца, просит помочь: «Пусть пришлет своих жигитов, способных держать оружие!.. Мужчина умирает в бою, заяц — в камышах! Я лично жизни не пожалею!» Вот мы и едем в стан Уразбая.
Азимбай закончил рассказ и принялся пить кумыс, поданный гостеприимной Айгерим.
Весной доились только жеребые кобылицы, кумыса у Айгерим в небольшой сабе было немного, но она щедро наливала его гостям из серебряной миски.
— Рот — ворота, слова — ветер! — сказал Абай обдумывая новости, привезенные сыном Такежана. — Слишком много болтаешь ты, тобыктинский задира.
Азимбай смолчал. Ему важно было выполнить поручение отца и разузнать мнение Абая о назревающих событиях. Ради этого он, собственно, и приехал в Акшокы. Уразбай при первой же встрече с ним обязательно задаст вопрос: «Что сказал Абай? Что он думает?» И Азимбай вкрадчивым голосом спросил:
— Ну, Абай-ага, вы слышали, куда мы едем. Сородичи ваши оседлали коней, подняли меч. Что вы скажете, если нас возглавит Уразбай?
Абай понял, о чем допытывается Азимбай. Хорошо, пусть узнает! Абай никогда не скрывал своих мыслей, и сейчас он их выскажет прямо и открыто. Конечно, он против черного дела тобыктинских богачей. Труженики Кокена не напрасно обижаются, они правы. Абай готов сказать это во всеуслышание где угодно, даже самому Уразбаю в лицо, пусть хоть лопнет от злости.
И он спокойно ответил Азимбаю:
— Не понимаю, почему Уразбай ищет врагов так далеко, на конях да еще с оружием в руках? Настоящие его враги находятся очень близко… Они в нем самом… Это темнота, невежество, дикость. Вот с какими врагами ему следует воевать прежде всего! Насильник погибает от насилия. Времена соила и набегов проходят, это в свое время довелось узнать Кунанбаю. Давно пора это понять и Уразбаю. Если же вы не согласны со мной, — тут Абай оглядел приехавших жигитов, — поезжайте, деритесь, на собственной шкуре испытайте, чем кончаются такие дела в наше время.
Абай умолк. Азимбай понял, что хозяин аула больше не намерен с ним разговаривать, а серебряная миска с кумысом опустела, — оставаться в юрте дольше не имело никакого, смысла. Кое-что все же в этой беседе прояснилось. Во-первых, Абай не одобряет похода против уаков; во-вторых, ему не нравится, что вся эта затея исходит от Уразбая, которому поэт, как казалось Азимбаю, всегда завидовал.
«Ты пускаешь пыль в глаза, но я вижу тебя насквозь!»— подумал Азимбай, еще более укрепляясь в намерении стоять на стороне своего свата Уразбая.
Он взял в руки нагайку, поднялся и подал бровями знак своим соратникам собираться в дорогу. Жигиты разом, как один, встали и надели тымаки.
— Прощайте! — сухо бросил Азимбай и, выпрямившись, твердой походкой направился к двери. Следом за ним покинули юрту и жигиты.
Оставшись наедине с Айгерим, Абай объяснил ей, какие серьезные события назрели в степи. Землемер отрезал от тобыктинцев колодцы и пастбища на совершенно законном основании: они издавна принадлежали кокенцам, тобыктинцы захватили их силой. В прошлом году на Жалпаковском чрезвычайном съезде люди видели у семипалатинского уездного начальника бумаги с сургучной печатью, из которых было ясно, что спорная земля и колодцы принадлежат кокенцам. От их имени выступал Серке, человек бойкий и деловой, он сумел добиться справедливого решения съезда, предложившего насильникам тобыктинцам немедленно вернуть захваченные земли их настоящим хозяевам. Но тобыктинские богачи тут же, на съезде, начали злые козни. Первый удар они направили на Серке, напустили на него Тауирбека из Мукура, известного грубияна. Он обругал и оскорбил кокенского защитника, стараясь его запугать. Затем Казыбек из рода Олжай, не менее известный буян и клеветник, при всем народе пристал к Серке, требуя неметленно вернуть ему якобы взятые у него в долг деньги. Серке отразил эти два удара. Тогда тобыктинец Оспан, сын Аширбая, при народе ударил кокенского защитника по затылку и сбил с него шапку. Абаю все это напоминало лай свирепых псов или вой голодных волков…
Слушая рассказ Абая, Айгерим заметила, усмехнувшись, что скорее всего это похоже на проказы гадких детишек. Абай согласился.
Тобыктинские воротилы, не брезгуя никакими средствами, шли на любую подлость, стремясь победить своих противников. Темной ночью, когда все спали, вдруг вспыхнула юрта, где жили русские чиновники. Все бумаги сгорели… Работа чрезвычайного съезда на этом закончилась, чиновники уехали в город, а земельный спор остался решенным лишь наполовину.
«Видно, Серке сумел за зиму восстановить сгоревшие документы, — подумал Абай, — и все-таки добился своего по закону, иначе землемер не приехал бы в степь. Уразбай взбесился и затеял кутерьму… Дело может кончиться кровью. Видно, и мне придется побороться с захватчиками. Я буду на стороне противников Тобыкты!»
Широка и раздольна равнина Кара-кудук! Здесь, в самой середине долины, вблизи колодца, богатого водой, Уразбай разбил свой аул с привязями для жеребят и белыми юртами для почетных гостей. Своих сыновей — Касеина, Касимжана и Елеу он поселил отдельными аулами поближе к себе, а юрты брата Даспана и других родичей расположил подальше, кольцом, так что они словно крепостной стеной окружали его жилище.
Сегодня в урочище Кара-кудук царило необычайное оживление, с самого утра приезжали и уезжали возбужденные всадники, представители многих родов; и если бы не были они вооружены соилами, то можно было подумать, что люди собрались на большой праздничный той или на поминки.
В ауле Уразбая остановились аксакалы и карасакалы — «главари сборов», старейшины, а жигиты, приехавшие с ними, разместились в соседних аулах.
В большой белой юрте Уразбая совещались воротилы Тобыкты, представители родов Олжай, Сак-Тогалак, Есболат, Карамырза, Дузбембет и даже Мырза-Мамай — до него тоже долетел призывный клич к борьбе.
У всех на устах было крылатое слово, которое Азимбай, посетив Абая, выдал ему за свое собственное, на самом же деле его впервые произнес Уразбай:
«Главный враг — враг народа, а главный спор — спор земельный!»
— Между мною и Уаком нет никаких личных счетов! — сказал Уразбай, обращаясь к собравшимся в юрте. — Уак враждует с моим народом. За счастье Тобыкты, за его честь сажусь на коня!
Эти слова мгновенно облетели аулы. Их передавали друг другу аксакалы и молодые жигиты. Уразбай умел пустить нужный ему слух, он знал, как надо подойти к сердцу тобыктинца, имеющего много скота. В каждой юрте начались зловещие разговоры, к ним жадно прислушивались вновь прибывающие отряды жигитов.
Опьяненный свежим густым кумысом, Уразбай говорил:
— Уак захватывает у Тобыкты осенние пастбища, зимовки, летовки, весенние выгоны! Отбирает земли, искони принадлежавшие нашим предкам! Посягает на нашу честь, оскорбляет нас! Разве только отцу Уразбая Аккулы принадлежали летовки и осенние пастбища в Кара-кудуке, Торе-кудуке, Обалы, Когалы, Шолак-еспе, Канай, Верхнее Жымба и Нижнее Жымба? Разве один Кунанбай ими пользовался? Разве селились здесь и поили тут свой скот только Байсал, Божей, Молдабай или Буракан? И вот эти пастбища, которыми должны по воле бога пользоваться все дети Тобыкты, теперь хотят забрать! С тех пор как казах стал казахом, разве не был главным спором у него спор о земле? Не ради себя, нет, — за наши пастбища я встал впереди вас!
Уразбай сделал передышку и добавил:
— Трусы пусть прячутся! Битва за землю — это битва за честь! Ничего не пожалею, защищу вашу честь, Тобыкты!
Главари родов Жиренше, Абралы, Азимбай, Абдильда одобрительно загудели и этим еще больше подзадорили Уразбая.
— Теперь знамя чести Тобыкты в твоих руках! — воскликнул Жиренше. — Кто не пошел за тобой, тот не тобыктинец, а изменник! Пусть наши руки останутся там, где схватят врага, а зубы там, где в него вопьются. Разбей вдребезги уаков, поставь их на колени!
Раззадоренный Уразбай распоясывался все больше и больше.
— Кто такие уаки? Однолошадные нищие, хлеборобы с немазаной, скрипучей телегой! Голодранцы, добывающие себе жратву лопатой и топором! Собрались из сорока родов, как из сорока лоскутов, да еще возносятся! Голь драная, даже ворота на шее не имеют, чтобы можно было их тряхнуть как следует! Это про них сказано: «Песчинки, собравшись в кучу, не станут камнем; рабы, собравшись вместе, не будут хозяином», «Собери их хоть тысячу в ущелье — и все равно считать нечего: пройдут по песку — и следа не заметишь». Надо разорить их логово, где собрались охвостья сорока родов! Ну, берегитесь теперь, косари, пахари, плотники, однолошадники!
Наливаясь злобой, Уразбай заражал ею окружавших его баев. Победа над кокенцами казалась ему легкой.
— Передайте своим жигитам мой слова! — сказал Уразбай. — Пусть они знают, куда и зачем мы идем!
Речь Уразбая слушало тридцать с лишним человек — главарей рода. В промежутках между чаепитием, кумысом и бесбармаком они прогуливались за белыми юртами на лугу, возле колодца, где встречались со своими жигитами. И слова Уразбая о предстоящем походе дошли до всех. Большинству тобыктинцев достаточно было многозначительного намека, лишь некоторых пришлось убеждать и только кое-кому приказывать с добавлением крепкого словечка. Но так или иначе, все от мала до велика узнали, к чему надо готовиться, чтобы выполнить замысел Уразбая.
Молчаливых, покорных жигитов, вроде тех, что приезжали с Азимбаем к Абаю, в Кара-кудуке собралось достаточно, они готовы были по первому приказу главаря броситься в любую схватку, хотя и плохо разбирались в том, кто был прав, а кто виноват. Никто не знал, чьи в действительности те земли, за которые предстояло сразиться с врагом. Иной бедняк, правда, слышал, что тобыктинцы отобрали их от уаков, и хотя молчал, но в душе был против уразбаевской затеи: неимущий тобыктинец сроду и не бывал на таких тучных пастбищах, как Кара-кудук, Торе-кудук и Жымба.
Если бы кто спросил бедного тобыктинца, что он знает об этих землях, он бы сказал: «Собака про них знает, не я!» А спроси его, была ли ему польза от этих пастбищ, он ответил бы честно: «Мой конь травинки там не сорвал, а я сам глотка воды не выпил».
Уразбай бил себя в грудь: «За нашу землю! За народ! За честь Тобыкты!» — но это были лживые слова, которыми он прикрывал свои темные, корыстные замыслы.
Из двух тысяч семейств Тобыкты спорными пастбищами и выгонами пользовались только тридцать баев, — они-то и сидели в юрте Уразбая, представляя тобыктинские аулы. Как во времена Кунанбая, так и сейчас, при Уразбае, сильнейшие главари родов Тобыкты притесняли своих соседей, хлеборобов Уака, отнимая у них земли.
Зимой, лишь только выпадал снег, богачи-тобыктинцы выгоняли свои табуны в пятьдесят — шестьдесят тысяч лошадей на хорошо защищенные от ветров обильные пастбища, захваченные у кокенцев. Сейчас эти богачи поспешили в Кара-кудук, потому что их корыстные интересы завязались в один узел с интересами Уразбая, владельца трех тысяч коней. Но скрывая свои тайные расчеты, они делали вид, что приехали без всяких посторонних целей, а только лишь для того, чтобы беспрекословно выполнять волю главы племени Тобыкты. А сам Уразбай поднимал против мирных кокенских аулов ветер ядовитых лживых слов, который грозил превратиться в бурю.
После полудня жигиты начали ловить пасущихся коней, отвязывать жеребцов и яловых кобылиц. Долина Кара-кудук наполнилась шумом, гамом, криками, железным звоном стремян. Всадники седлали лошадей.
Из большой юрты Уразбая пришел приказ:
— На коней! Трогаться в путь!
Сто крепких, как на подбор, жигитов, вооруженных соилами, пиками и секирами, вскочили на крутобедрых иноходцев и рысью погнали к горам Кокена.
Конечно, ни сам Уразбай, ни главари родов, сидевшие в его юрте, ни ближайшие родственники не принимали участия в походе. Они остались ждать, когда сварится мясо упитанного жеребенка, принесенного Уразбаем в жертву в подтверждение клятвы, данной тобыктинскими баями друг другу: крепко стоять в начатом деле до конца.
Когда сотня жигитов, оторвавшись от аула, резво поскакала воевать с кокенцами, один только Есентай не выдержал и кинулся за ними вслед на своем коне золотистой масти. Уразбай, Жиренше и Азимбай посмотрели на него с недоумением.
— Видно, старый бес в нем проснулся! — насмешливо заметил Жиренше, явно намекая на то, что Есентай в молодые годы славился конокрадством.
Уразбай не обратил внимания на насмешку. Устремив прищуренный глаз на Есентая, он одобрительно произнес:
— Со вчерашнего дня не проронил ни слова, а сейчас погнался давать свой совет жигитам.
— И совет даст и выгодный узелок завяжет! — догадливо усмехнулся Азимбай. — Если к кому Есеке прильнет, то уж покуда кровь не высосет, не отстанет!
Баи, стоявшие кругом, заулыбались — меткие слова Азимбая пришлись всем по душе.
А Есентай уже нагнал Беспесбая, скакавшего во главе отряда, и, стараясь не отстать от него, давал ему свои советы:
— Этих жигитов возглавляешь ты! Тысячу раз всем говорю: в плен не попадайтесь! Бывают такие дураки, что, еще и врага не видя, способны заблудиться, их-то вот и берут в плен. Предупреди всех до одного, когда поскачут назад, пусть повернут коней хвостами прямо к Темир-казык.[144] Тогда, если кто и отстанет, будет знать, в какую сторону ехать, чтобы домой вернуться.
Беспесбай молча кивнул головой.
— Хорошо!
Он вспомнил, как ему, бывало, доводилось участвовать вместе с Есентаем в набегах, есть мясо из одного котла, и усмехнулся. Теперь Есентай отяжелел, глаза совсем заплыли жиром, тройной подбородок так и трясется, когда толстяк подпрыгивает в седле, — а туда же, дает боевые советы!
— Если попадется неприятель на быстром коне да с твердой рукой, — знай, это самый опасный противник. Постарайся сразу же вывести его из строя, такого шокпаром не всегда возьмешь. Если он начнет одолевать в рукопашной схватке, бей не его, а коня. Изловчись ударить по виску… Пока он найдет другого коня, ты его прикончишь! Ну, теперь поезжай! Уа, мои храбрые батыры! С богом!
Эти «храбрые батыры» — Жаркимбай, Дубай, Беспесбай, Саптаяк, Кулайгыр и Кусен — славились как конокрады, барымтачи и воры. Уразбай, Жиренше и Азимбай нарочито назначили главарями набега самых отъявленных негодяев и целый день готовили их к походу. Играя на мелком тщеславии этих проходимцев, они уважительно называли их вожаками. И выбор оказался удачным — «вожаки» хорошо знали кокенские аулы, все перевалы в горах и густонаселенные урочища. Зимой и летом они многократно обворовывали мирных хлеборобов Уака и угоняли у них скот. Они безошибочно могли определить, в какой стороне пасутся конские табуны. С богачами аулов Тобыкты эти головорезы поддерживали тайную и очень тесную дружбу, получая, когда нужно, не только резвых скакунов, но и хорошее вооружение. Особенно близкие отношения завязались у них с Уразбаем.
Шесть «вожаков», опасаясь, что их «войско» могут заметить уаки, спрятавшиеся за утесами Кокенских гор, решили разбиться на шесть небольших отрядов и двигаться разными путями.
Дорога была не дальняя, и жигиты на крепких скакунах, подгоняемые хмелем выпитого кумыса и желанием подраться, уже к вечеру достигли ущелья Хандар.
Тихо было в безлюдных Кокенских горах, только топот копыт да глухой стук соилов, ударявшихся друг о друга, нарушали вечернее безмолвие. Изредка фыркнет жеребец, не привыкший к походам, звякнет стремя, и снова наступит настороженная тишина.
Среди шестерых главарей отряда особо выделялся Беспесбай, выходец из Олжая — самого крупного и сильного рода племени Тобыкты. Ему недавно перевалило за сорок, но лоснящаяся от жира кожа его широкого багрового лица была гладкой, в бороде не было ни сединки, а в глазах навыкате сверкали молодые искорки. Невысокий ростом, широкоплечий, с выпирающими сильными лопатками и железными мускулами, он казался целиком слитым с лошадью, словно был высечен вместе с нею из одной каменной глыбы. Не зная соперников в конной схватке, этот опытный барымтач мастерски владел соилом и шокпаром. Был у него удивительный нюх, он безошибочно угадывал, где расположились уакские аулы, и сейчас, словно кто ему на ухо шепнул, Беспесбай уверенно сказал, что табуны сегодня пойдут на выпас по направлению к Семейтауским горам.
Остановив жигитов в лощине у подножья горы, чтобы дать коням передышку, Беспесбай вместе с Жаркинбаем и Дубаем поднялся на голый холмик. Он снял с головы треух и, приложив согнутую ладонь к уху, молча долго прислушивался, изредка сердито дергая за повод коня, который своими резкими движениями мешал ему вести наблюдения.
Через некоторое время Беспесбай сказал:
— Отсюда на расстоянии перегона ягнят есть озеро Тущи-коль. Уаки собрались вокруг него. У ближнего к нам берега — камыши, а у противоположного — вода. Если табуны зайдут в камыши, не легко нам будет их оттуда выгнать. В аулах не спят, — видите, как сверкают огни? Похоже, что они зажгли костры вокруг отар и охраняют их. А табуны пасутся вон там, в стороне горы Семейтау, к западу от озера. Слышите, ветер дует с той стороны! Табуны уморились сегодня днем от жары и на ночь двинулись навстречу ветру!
Грузный Саптаяк, конокрад из Карамырзы, подтвердил:
— Да, ты прав! Ветер доносит конское ржанье!
— Впереди добрая половина ночи, — продолжал Беспесбай. — Подождем, пока уснут кокенцы, тогда и нападем. Одним махом мы окажемся у табунов. До утра успеем перегнать их через овраг, перейти лощину и добраться по перевала Кокенских гор. А сейчас передохнем. Нужно дать коням остыть. Пусть каждый объяснит своим жигитам, что нужно делать…
— Что объяснить? — не понял Жаркинбай. Саптаяк отрывисто ответил:
— Среди жигитов много таких, кто впервые держит в руках соил. По глупости они поднимут тревогу, начнут шуметь да кричать. Надо им строго наказать, чтобы вели себя тихо…
Шестеро вожаков разъехались по своим отрядам, договорившись на обратном пути встретиться в овраге.
Жигиты ослабили подпруги и приподняли легкие седла, чтобы охладить спины потных лошадей. Но не успели они остыть, как раздался приказ:
— На коней!
Все сразу засуетились, начали подтягивать подпруги, проверять стремена, взнуздывать лошадей. Некоторые жигиты снимали правые рукава толстых чапанов, засовывали их за пояс, чтобы освободить руку для размаха, и торопливо вскакивали на своих скакунов. Оружие было сразу приведено в полную боевую готовность — соил приноровлен под мышкой, секира крепко зажата в руках, а пика тупым концом поставлена на носок правой ноги.
В грозной тишине слышались отрывистые приказания Беспесбая, ехавшего во главе свободного отряда на сером коне. Белый армяк и светлый мерлушковый малахай выделяли его из всего войска.
Вечерний прохладный ветер бодрил вспотевших лошадей, скакавших в сторону заката. Менялись краски на далеком горизонте, тускнело медное зарево, принимая багрово-серый оттенок, густые тучи заволакивали небо. В беспредельной дали открылся перед всадниками высокий холм и быстро исчез, словно слившись в синеватой мгле с небом, а потом где-то далеко из черной тучи вдруг сверкнула молния, осветив на один миг синеватым ярким светом и впереди лежавший холм, и горы, и степь. Потянуло ветерком, который донес острые запахи полыни, изеня, жауылши и тарлау, смешанные с ароматом дикого лука.
Глухо раздавался дробный стук копыт, вспугивая жаворонков и скворцов, расположившихся на вечерний покой по обочинам дороги. Сверкая черно-белыми крыльями, с хриплым криком стремительно разлетелась большая стая дергачей.
Чем гуще становились сумерки, тем быстрее гнали коней жигиты. В безлунном небе появились первые редкие звезды. И тогда Беспесбай остановил отряд. Направив свой шокпар на Полярную Звезду, он сказал:
— Ау, жигиты! Вон одинокая звезда Темирказык…
Запомните ее хорошенько. В бою бывает так — не разберешь, где враг, где свои, а если шайтан запутает, то и заблудиться недолго, особенно во время погони или бегства. Если это с кем случится, направь коня так, чтобы хвост его смотрел на эту звезду, тогда никакой шайтай тебя с пути не собьет!
Так, по-своему передав жигитам совет Есентая, Беспесбай стегнул скакуна камчой и снова оказался впереди отряда. Белый армяк его четко виднелся в темноте.
Всадники двигались крупной рысью в ту сторону, где отгорела вечерняя заря.
Придержав коня, Беспесбай сказал подъехавшему к нему Саптаяку:
— Мы не ошиблись, табуны близко. Слышишь, ветер доносит ржанье жеребцов?
— Слышу. Хорошо, что ветер нам навстречу. Табунщики и не заметят, как мы подберемся!
Жаркинбай, Дубай, Кулайгыр, поскакавшие вслед за Саптаяком, отозвались:
— Дай бог удачи!
— Пусть выпадет нам счастливый боб Уразды.[145]
Они еще что-то пробормотали и постепенно отстали.
Все ближе и ближе подъезжали всадники к табунам.
Кокенцы хотя и жили почти рядом с тобыктинцами-скотоводами, но кочевали редко, они предпочитали заниматься хлебопашеством и ремеслом. Аулы их резко отличались от аулов соседей: возле каждой юрты трудолюбивого кокенца стояла телега или таратайка; селились они на маленьких пастбищах и, в отличие от соседей скотоводов, большими аулами, — даже по названию аула можно было легко определить, чем занимались его жители.
Только у кокенцев можно было встретить аул Крык-уйли, что означает «сорокакибиточный». Скотоводы, которым нужны были пастбища вокруг аулов, таким скопом никогда не селились — жители Крык-уйли были земледельцами. В урочище Балта-Орак проживало более ста семейств, а по названиям «балта» — топор и «орак» — серп нетрудно было догадаться, чем жители добывали себе пропитание. Точно так же название аула Жалпак — ширь — безошибочно говорило о том, что здесь живут косари, владельцы широких сенокосных угодий.
Лощина Хандар[146] носила громкое название вовсе не потому, что в ней жили ханы. Жители ее, собравшиеся из разных родов, имели давний обычай к имени каждого новорожденного приставлять окончание «хан». Асемхан, Салимхан, Жумахан, Семейхан, Жабайхан, Турехан.
Таких «ханов» было около восьмидесяти семейств, и их запросто называли: «хандар». Многие из них не имели никакого родства с уаками Кокена. Это были люди разных родов, приставшие к мирным, трудолюбивым хлеборобам в поисках средств к существованию, среди них как раз и было немало хороших ремесленников.
В аулах Копсакау, Балта-Орак, Жалпак, Хандар, Крык-уйли вместе с уаками жили бедняки из родов Бура, Найман, Жалыкпас, Бессентиин, Матай, Керей и даже из самого рода Тобыкты.
Этим людям больше всего на свете нужен был мир, без которого невозможен никакой труд, но этой весной, особенно за последние дни, спокойствие в степи было нарушено. И без того жизнь у кокенцев была тяжелой — земли для посевов не хватало, они давно уже бедствовали, лишившись плодородных пастбищ, отнятых у них тобыктинцами. Распахать бы эту широкую, протянувшуюся на много верст равнину, покрытую густым ковылем и душистыми травами, — сколько можно было бы собрать хлеба! Но как распашешь, когда на ней пасутся шестидесятитысячные табуны Уразбая и других богачей. Правда, тобыктинские табуны остаются здесь только до середины зимы: начиная с декабря, благодатная равнина покрывается глубоким снегом, который еще раз напоминает кокенцам как удобна эта напоенная влагой земля для хлебопашества.
Весной нынешнего года кокенцы твердо решили во что бы то ни стало вернуть свои земли, отнятые тобыктинцами в этом деле помог им человек благородной души, Серке добившийся присылки землемера. Но не успел русский чиновник приступить к работе, как прошел тревожный слух о злых замыслах главарей Тобыкты. Не закончив сева, кокенские аулы съехались к озеру Тущи-коль где решили встретить насильников и дать им отпор. Сюда же приехал и Серке и посоветовал кокенцам объединить свои табуны для совместной пастьбы.
Серке отбирал смелых, сильных жигитов и готовил оборону. С утра и до вечера слышался его голос, призывавший дать отпор врагу.
— Если тобыктинцы поднимут на вас оружие, вы должны их встретить тоже с оружием в руках. Мольбой и слезами от врага не отобьешься! Времена безнаказанных набегов давно прошли! Насильник от насилья и погибнет! Пусть ваши руки, способные переворачивать тяжелые пласты земли, поднимут не только соилы, но и топоры и молоты. Если враги пустят в ход деревянные шокпары, вы встретьте их железным болтом. Если они, надеясь на свою черную силу, захотят ограбить вас, поставьте их на колени!
Пламенные слова Серке передались из уст в уста. Все кокенцы, способные держать в руках оружие, стар и млад, взяли дубины и топоры, готовые в любую минуту обрушить их на голову врага.
Не слезая с коней, зорко охраняли огромный табун шесть молодых жигитов, уже успевших завоевать славу конных бойцов. Невдалеке от них находились еще два десятка хорошо вооруженных смелых кокенцев, искусно владевших шокпарами. Были тут Бостан из Хандара и Конай из Балта-Орака, а также прославленные бойцы из других больших аулов — Енсебай, Марка, Кулжатай. В отличие от тобыктинских барымтачей это были честные-труженики — табунщики, пастухи, хлеборобы, косари. Сами они никогда не нападали на чужие табуны, но хорошо изучили все хитрые уловки тобыктинских конокрадов и смело защищали скот от грабителей. Недаром люди дали им почетные прозвища: «Смерть конокрадам», «Смелый табунщик», «Укротитель коней», «Лихой наездник».
У них был свой главарь — Бостан, подобно Беспесбаю славившийся в округе как непобедимый борец. О необыкновенной храбрости этого большеносого, густобрового человека с короткой шеей и жидкой бородкой ходили легенды, — по силе его сравнивали полушутя-полусерьезно с верблюдом. Не одному тобыктинскому конокраду он проломил в схватке череп. Завидев его, барымтачи спасались бегством.
Под стать Бостану был и широкоплечий Енсебай, высокий рыжеватый жигит, словно сотканный из одних сухожилий, у него, как говорится, «нет лишнего куска мяса на костях». Темными вечерами, когда долговязый Енсебай сидел на высоком вороном коне, казалось, что он взобрался на верблюда.
Особенно воинственно был сегодня настроен коренастый чернобородый Кулжатай, оседлавший буланого жеребца и державший поперек седла березовый шокпар, обструганный восьмигранником.
Ветер дул с Семейтауских гор и был очень благоприятен для врага, поэтому Бостан сказал:
— Если тобыктинцы, укрывшись в горах Кокена, заметили, что наши табуны отошли на запад, то они подойдут с подветренной стороны. Враг хорошо услышит топот наших коней, а мы никакого шума с их стороны услышать не сможем. Что надо сделать? Я сказал аксакалам, что вечером пущу табуны к Семейтауским горам, а когда стемнеет, быстро перегоню их вниз, по направлению Темирказык на подветренную сторону аула. Так вот, двадцать жигитов пусть рысью гонят табуны. А мы постараемся угадать, откуда подойдет враг, и встретим его. Разделимся по два и двинемся в разведку…
— Хорошо придумано! — одобрил Кулжатай.
— Так и надо сделать! — поддержал Марка. А Конай сказал:
— Хорошо, что наши люди понимают опасность и нас слушаются. Все аулы погасили костры, притворились спящими. Ни искорки нигде, ни шороха! А ведь у каждой юрты привязан конь и приготовлено оружие. Послушайте, какая тишина. Только собаки лают…
— Люди копят гнев в сердцах и ждут часа расплаты! — отозвался Бостан. — Это хорошо. Ну, давайте за дело!
Двадцать молодых жигитов повернули большой табун лошадей и рысью погнали к подветренной стороне аула. Оставшаяся пятерка разделилась. Бостан с Конаем вдвоем, а Кулжатай, Енсебай и Марка втроем поскакали на разведку по равнине, растянувшейся между горами Кокена и Семейтау.
Кулжатай первым заметил на ней бесконечно длинный ряд всадников, пересекавший степь наискосок, навстречу ветру.
— Стой! — приглушенно крикнул он своим спутникам, а сам приник к гриве коня.
Кулжатай был храбрым жигитом, но при виде огромного отряда конных он струхнул и невольно воскликнул:
— Да это настоящий набег! Не сосчитаешь даже сколько их! Пропадать сегодня Уаку…
Целый день сердце Енсебая горело гневом и решимостью, он ездил с товарищами молчаливый и только изредка цедил сквозь зубы: «Ну, попадись мне тобыкты в открытом бою!» И сейчас, услышав испуганный возглас Кулжатая, Енсебай разозлился не на шутку:
— Бес тебе в бородатый рот! Чего мелешь! Ведь это же и есть враг, которого надо разбить… А ты что думал: он к тебе с распростертыми объятиями явится, радость тебе принесет? Дожидайся!.. Надо живей попасться им на глаза и увести за собой погоню… Моего чалого коня, а твоего буланого не сразу заметят… А ты, Марка, не показывайся им на своей белой лошади, а жди здесь… Как услышишь наши голоса, с криком «Аттан!»[147] скачи в сторону аула и поднимай тревогу.
Енсебай закусил повязку от треуха и толкнул нагайкой в бок Кулжатая.
— Подождем немного! — нерешительно забормотал Кулжатай. — Может быть, за ними еще скачут…
Енсебай ожег нагайкой коня и направил своего скакуна на вереницу всадников. Тогда оправившийся от страха Кулжатай стегнул своего буланого и легко, словно тростинку, выхватил из-под колена восьмигранный шокпар. Высоко подняв его над головой, он быстро нагнал Енсебая. На полном скаку они догнали мчавшихся тобыктинцев и врезались в самую гущу всадников.
— Бей их! — заревел Енсебай, размахивая шокпаром.
— Бей! — еще громче заорал Кулжатай.
Не давая опомниться врагу, они неожиданно повернули коней. Вожак отряда Кулайгыр, заметивший смельчаков на расстоянии длины аркана, закричал во все горло:
— В погоню!
Он первым кинулся преследовать Енсебая и Кулжатая и увлек за собой добрый десяток жигитов.
«Должно быть, впереди засада!» — подумал Кулайгыр, стараясь не упустить двух всадников из глаз.
Но они рассеялись, как степной мираж, исчезнув в бледно мерцающем ковыле. Кулайгыр в недоумении придержал коня, стараясь разгадать странную загадку: что же произошло?
Увидев за собой преследователей, Кулжатай и Енсебай поняли, что хитрость их удалась: за ними увязалась погоня. Уйти от нее было нетрудно, главное сделано — враг обнаружен, теперь надо дать знать Марке, чтобы он забил тревогу в аулах. И Кулжатай с Енсебаем во всю силу своих легких закричали:
— Аттан! Аттан!
Марка, услышав их крик, нахлестывая коня камчой, во весь опор помчался к озеру Тущи-коль. Подскакав к аулу, он заорал душераздирающим голосом:
— Аттан!
Это слово было страшнее пожара, бури и сверкающих молний. Оно донеслось до озера Тущи-коль, где все жители аулов, начиная с четырехлетнего ребенка и кончая впадающим в детство девяностолетними стариками и старухами, только и жили ожиданием тревожных вестей. Возле костра за обедом, на полянке возле скотины, под рваным одеялом перед сном — всюду и везде звучали тревожные слова: «Идут враги!», «Угонят коней!», «Драка будет!», «Прольется кровь!»
В аулах еще никто не спал. Почти возле каждой юрты стояли на привязи кони, сидели по два-три жигита. Мирно и неторопливо беседуя, они с удовольствием попивали айран. Почти никто из них не испугался тревожного крика, все были подготовлены Серке к неизбежности схватки с врагами.
Быстро, но без излишней суеты храбрые жигиты схватили свои нагайки, вооружились соилами, секирами, пиками, шокпарами и вскочили на коней. Они знали, за что им предстоит пролить кровь, и верили в правоту своего дела. Озлобленные постоянными насилиями тобыктинцев, они горели желанием отбить нападение врагов, нисколько не думая о том, что противник может быть многочисленнее и сильнее.
Марка, стрелой подлетевший на белом, как заяц, коне к берегу озера, кричал без передышки. У него оказался на редкость громкий голос и неутомимая глотка; не умолкая, он вопил изо всех сил: «Аттан! Аттан!»
Этот призыв подхватили по очереди один аул за другим, и он перекатился гулкой волной по берегу озера, наполнив тревогой безлунную, темную ночь.
Слышался плач перепуганных женщин, провожавших мужей и братьев, многочисленные голоса матерей и отцов, благословлявших своих сыновей — защитников, севших на боевых коней. Сердца жигитов наполнялись яростью против тобыктинцев, нарушивших их мирную жизнь.
Пока тобыктинцы доскакали до кокенских табунов, многоголосый шум поднял всех жителей округи от мала до велика, и они дружно встретили стремительную лавину всадников, во главе которых мчались Беспесбай, Дубай, Кусен и Саптаяк.
— На-за-ад! — прогремело гулкое эхо над озером.
Бостан занес над головой дубину, его примеру последовали Енсебай и Марка. Кокенские жигиты густым потоком ринулись вслед за ними на врагов. Первый натиск тобыктинцев был приостановлен. Послышались сухие удары шокпаров, соилов и дубовых пик.
Бостан и Беспесбай столкнулись в этой схватке первыми, обменявшись сильными ударами соилов. Обе руки Беспесбая сразу онемели — он почувствовал тяжесть Бостановои дубины и подумал: «Если хватит этак по голове, придется плохо!» Он понял, что только быстрота и натиск спасут его от неминуемой беды, и стремительно стукнул противника в правое предплечье: Бостан почувствовал страшную боль, правая рука повисла, как плеть, однако он изловчился и левой изо всех сил ударил своего врага по темени. Густая кровь залила лицо Беспесбая, он зашатался в седле, но не упал. С отуманенной головой он все же, следуя совету Есентая, начал валить коней противников дубиной в висок.
Долго длилась первая схватка, много голов было разбито соилами, много жигитов слетело с коней.
Когда ожила онемевшая рука, Бостан с криком: «Бей их!» — вновь возглавил ожесточенную битву. Увидев его в гуще дерущихся, снова кинулся в бой и разъяренный Беспесбай, крепко обвязавший свою раненую голову кушаком. В первую же минуту он двумя ударами дубины свалил двух табунщиков, подвернувшихся ему под руку.
Кровопролитное сражение шло всю ночь и продолжалось утром. Солнце поднялось над горизонтом на длину пики, а озлобленные противники яростно били друг друга, ожесточаясь с каждой минутой все более и более.
Хитер и изворотлив был главарь тобыктинских барымтачей, но и Бостан оказался не простофилей, он предусмотрел все, что нужно и можно было предусмотреть, а главное — правильно поступил, сбив табуны всех тридцати аулов в один огромный косяк. Табунщики и бойцы, собранные вместе, представляли собой грозную силу.
Сто тобыктинских жигитов на отборных скакунах, думавшие угнать весь табун целиком, не увидели ни одной лошади. Пока они доскакали до табуна, кокенцы, напав на них внезапно сбоку, так смело ринулись в наступление, что пришлось оставить всякую мысль об угоне коней, а думать лишь о том, как бы побыстрее унести ноги.
Беспесбай и Саптаяк все же сделали отчаянную попытку прорваться к табуну, но наперерез им кинулись многочисленные жигиты кокенского аула. А с тыла на тобыктинцев, почти наступая на копыта их коней, уже мчались грозные мстители, оглашая степь воинственным криком:
— Аттан! Аттан!
Беспесбай, Саптаяк и Дубай дали понять друг другу, что наступила пора спасать собственную шкуру. О новом нападении и думать не приходилось. Они повернули коней и закричали:
— Назад! Не попадайся в плен! Назад!
Увидев своих удирающих главарей, тобыктинцы поняли, что дело проиграно, и кинулись вслед за ними.
За время боя человек десять тобыктинских жигитов потеряли коней и сейчас, покалеченные, подгоняемые страхом плена, путаясь в ногах лошадей, бежали за всадниками, умоляя взять их с собой. Но лишь четырех счастливчиков успели тобыктинцы подхватить на скаку и посадить на крупы своих лошадей.
Так, не сумев взять ни одного жеребенка, налетчики бежали восвояси, на первых порах даже потеряв представление о том, куда они, собственно, скачут. Уаки гнали их до широкого перевала Кокен за лощиной Хандара, продолжая избивать на ходу. Только перевалив Кокен, тобыктинцы почувствовали некоторую безопасность и, придя в себя, стали собираться.
Ряды их сильно поредели, тринадцать человек попали в плен, не хватало свыше двадцати коней, у многих жигитов были разбиты головы, иные лежали без памяти. У всех, были измученные, изможденные лица, украшенные кровоподтеками и синяками.
Беспесбай в бою потерял треух. Распухший лоб его был туго перевязан поясным платком, кровь на нем запеклась коричневой коркой, а по бороде, алея, стекала свежая. С вывихнутым плечом, опираясь грудью на нагайку, еле держался в седле Саптаяк. Очень плохо было Жаркинбаю, Дубаю и Кулайгыру. У одного из них было изуродовано лицо, у другого кровоточило колено, третий выплевывал изо рта выбитые зубы.
Крепко досталось пяти главарям, но все же им удалось вовремя унести ноги и избежать плена. Куда хуже было тем, кто попал в руки кокенцев. А это были как раз наименее виновные в набеге тобыктинские бедняки: пастухи, табунщики, скотники, дояры, лишь волею своих хозяев оказавшиеся в шайке барымтачей. На их головы и обрушилась вся тяжесть беды, накликанной тобыктинскими главарями на мирных жителей Уака.
Огромная шайка конокрадов, опьяненная уразбаевским кумысом, выступала в поход, предвкушая легкую победу, а сейчас, потерпев поражение, она уныло тащилась в обратный путь.
Побежденным и разбитым оказался не только посланный Уразбаем отряд жигитов, уаки нанесли поражение самому Уразбаю и его приближенным — Жиренше, Абралы, Такежану. Сейчас эти люди, сеявшие вокруг себя беду и несчастье, оказались опозоренными перед сородичами.
2
Урочища Бугылы славятся обилием воды и хорошими травами. Глазом не окинешь равнину, посередине которой возвышается одинокая большая гора Улкен[148] Коксенгир. Откуда бы ни смотреть на нее с расстояния пробега коня, так и кажется, что она зовет: «Я тут!» А если посмотришь издалека — в мареве безбрежной степи гора покажется синей, как медный купорос. Сколько высоких гор подняли свои вершины за Чингизом — Бугылы, Машан или Акшатау, Кара-Шокы или Тезека, но они не притягивают глаз такой заманчивой синевой, как Улкен Коксенгир. Должно быть, потому, что вокруг теснятся другие сопки и скалы, эти горы, сливаясь с ними, не выделяются из общей цепи.
У подножья Коксенгира, особенно с северной его стороны, летом селится много аулов, выезжающих на жайляу. Гора богата родниками и ключами, вода в них, стекая по склону, образует ручьи, бегущие по влажной равнине. Хороши здесь заливные луга, удобны пастбища, а в прохладном горном воздухе нет никакой мошкары, обычно изнуряющей скот.
Каждое лето приезжают на Коксенгир многочисленные аулы Карамырза, Тасболат и Есболат, но в этом году здесь небывалый наплыв кочевников. В центре Тобыктинской волости Бугылы вот уже десятый день происходит необычайно большой сбор. Это не очередные выборы волостных или съезд, и даже не шербешнай и не торжественные поминки. Нет, здесь происходило нечто из ряда вон выходящее, чему местное население дало имя «санак» и что по-русски называлось переписью.
У подножья Коксенгира выделяются около полусотни юрт, поставленных, как на ярмарке. В трех местах стоят большие белые юрты, их окружают, тесно прижимаясь друг к другу; по четыре малые отау[149] с кошмой, расшитой узорами, а в самой середине возвышается огромная восьмистворчатая юрта, к которой с четырех сторон дверь в дверь присоединено еще четыре шестистворчатых.
Это сооружение из пяти юрт привлекает всеобщее внимание. Когда скотоводы, приехавшие на жайляу, заглянули внутрь замысловатой юрты, они зачмокали от удивления и восторга. И было чему удивляться! Даже для уездного начальства никогда не ставилось такой огромной юрты, с таким богатым убранством. Какие здесь ковры, покрывала, расшитые кошмы, разноцветные пологи, занавески!
Да, на совесть постарались баи подчеркнуть свое внимание чиновникам, приезжающим на жайляу для проведения переписи.
Эту замысловатую юрту, которую вполне можно было назвать «ханской ставкой», поставили по указанию Уразбая, для самого почетного гостя, главы влиятельного и крупного рода Есболат, насчитывающего четыреста семейств. Сын Уразбая, волостной управитель Елеу, считая очень важным оказать особое внимание главному начальнику переписи, высокопоставленному чиновнику казаху, посоветовал отцу поместить именно его в этой «ханской ставке» вместе с молодым слугой, секретарем и охраной.
В двадцати соседних юртах поселились его помощники — регистраторы, приехавшие проводить перепись, русские и казахи, молодые и пожилые люди. На жайляу приехало десятка два переводчиков — зеленая молодежь не старше двадцати лет, учившаяся в городе и решившая за летние каникулы заработать копейку. Для них сытая жизнь на жайляу имела особую прелесть. Работа переводчика не трудна, а время в ауле можно провести не скучно. После обеда, закончив свои занятия, они садились на резвых коней и пускались вскачь наперегонки, а по вечерам, тревожа ближние аулы, ухаживали за степными красавицами. Иногда им удавалось соблазнить свое начальство поехать на охоту — и тогда, прихватив гончих собак, они поднимались на хребет Коксенгира травить зайцев.
Вот от этих переводчиков, а также от казахов-регистраторов и пошел слух о необыкновенном уме и учености главного начальника «санака», молодого казаха Азимхана, приезда которого подчиненные ожидали со дня на день.
Хвалебные эти слова дошли до ушей Уразбая и его сына Елеу. Они с особым вниманием слушали семипалатинских чиновников, вместе с которыми приехали переводчик окружного суда Сарманов и переводчик государственного банка, выходец из Тобыкты, Данияр.
Ныне у тобыктинцев были волостные из молодых — Елеу, Жанатай, Азимбай и самый младший из рода Коныр-Кокше — Самен. Вызванные по делам переписи, они остановились в ауле Уразбая, где уже находились старшие чиновники и переводчики.
Угощаясь заколотым жеребенком, чиновники рассказывали, что санак не будет переезжать в другие волости Тобыкты, она останется как постоянная канцелярия на одном месте, и самым главным начальником ее будет Азимхан, самый образованный из всех сыновей казахов, известных в округе. Он учился в Петербурге, вырос среди петербургских и московских князей, знаком с русскими знатными дворянами, приближенными белого царя. Он видел восемь министров! Сын генерал-губернатора учился вместе с ним! С сыновьями миллионщиков он дружил!..
— Как же сын казаха достиг такой высокой вершины славы? — спросил недоверчиво Уразбай.
— Очень просто! Он внук Жабайхана, который управлял казахами Среднего Жуза!
Уразбай переглянулся с волостными управителями, сидевшими в его юрте, — с Елеу, Саменом, Азимбаем. Так вот почему Азимхан достиг высокого положения. Что же, это хорошо! К тому же он, оказывается, состоял в родстве с некоторыми из присутствующих: Уразбаем, Саменом.
Из дальнейших рассказов выяснилось, что отец Азимхана приходился родней старикам Куспеку и Жантаю.
По словам переводчика, они поочередно были ага-султанами в Каркаралах. Они-то в свое время и согнали Кунанбая с его поста, отобрав от него ага-султанство. По их доносам Кунанбай был вызван в Омск, где над ним учинили следствие, по окончании которого он чуть не угодил в Итжеккен[150] и в Жерсибир.[151] Все это, оказывается, было делом рук Куспека и Жантая. Азимхан обо всем этом хорошо знает и может рассказать подробно.
Уразбай, молча слушавший рассказ переводчика, задумался. Он не отрицал за своим кровным врагом Абаем некоторых достоинств, но был убежден, что во многом стоит выше него.
«Не только богатства, но и смелости у меня больше, и в народе я имею больше веса!» — думал он.
Только в одном он никак не мог соперничать с Абаем — это в родовитости. Отец Уразбая — Аккулы — простой казах, даже не был баем.
Оправдывая поговорку «Не пойман — не вор!», Уразбай всю свою молодость провел на лошади, занимаясь конокрадством. Почти все, что у него сейчас было, он приобрел и накопил сам. Кунанбай же был не только баем, но и ага-султаном, его называли «ханом, вышедшим из черной кости». Как он властвовал в степи! А теперь выясняется, что был человек, который и Кунанбая приторачивал к седлу, держа в страхе и трепете. Похоже, что Азимхан, потомок Жабайхана, не особенно любит всю родню Кунанбая.
Переводчик Сарманов, работавший с высокопоставленным начальником в одном уезде, рассказал, что Азимхан, выехав из Каркаралы для проведения переписи на больших жайляу, узнал от народа много разных новостей про Тобыкты. С особым интересом Азимхан слушал рассказы про весеннее нападение на Хандар, предпринятое Уразбаем.
Высокопоставленный начальник будто бы похвалил уразбаевских жигитов за отвагу: «Прошло время набегов или нет, не знаю, — сказал он, — но чего стоит это смелое нападение! В настоящее время в Тобыкты самый сильный и отважный из казахов — Уразбай. Поеду к нему, чтобы лично его приветствовать!»
Услышав такие слова, Уразбай велел вместо тридцати белых юрт поставить пятьдесят, а для самого Азимхана пять из них соединить вместе, как ханскую ставку. Вместе со своим сыном Елеу он явно старался заполучить на свою сторону едущего начальника и до небес возносил его высокий чин, родовитость, богатство и могущество.
— И среди русских и среди казахских чиновников нет такого другого! Если сравнивать со старым временем, то это хан, и родом и по положению, потомок тех, кому в прошлые века подчинялись наши прадеды! Сам «белый царь» хлопал его по плечу. Кому же нам еще оказывать почет и уважение, как не ему?
Так разглагольствовал Уразбай среди семипалатинских переводчиков. Он рассчитывал, что они донесут его слова до ушей казахского тюре, и, посылая ему свои пожелания, советовал:
— Пусть наш большой гость остановится в Коксенгире. Здесь он сможет провести санак всех четырех волостей Тобыкты, зачем ему утруждать себя лишними переездами. А мы встретим так, как никого еще не встречали.
При всяком удобном случае Уразбай усердно расхваливал Азимхана тобыктинским аксакалам и карасакалам:
— Человек он ученый, и по уму нет ему равного среди казахов! Вот мне намозолили уши: «Абай ученый!» «Абай много знает!» А кто такой Абай по сравнению с приезжающим тюре? Правильно говорят: «Для темных людей и плут — мулла!»
Появления Азимхана ожидали с великим нетерпением. Наконец он приехал на пяти тройках с оглушительным звоном медных колокольчиков. Первый день он отдыхал с дороги, на другой отправился в аул Уразбая, прихватив с собой молодых чиновников и переводчиков вроде Сарманова и Данияра, которые, хотя и были ему ровесниками, держали себя с подчеркнутым раболепием.
— С дружбой еду к Уразбаю! — объявил Азимхан своей пышной чиновной свите.
И дружба после первого же посещения завязалась большая. Днем Азимхан еще заставлял своих чиновников работать, но зато каждый вечер он гостил вместе со своей свитой или в юрте самого Уразбая, или в малом ауле его сына Елеу.
Чиновники зажили на жайляу, как в раю. Каждый день они съедали по жеребенку и по нескольку барашков. Благосклонно принимая высокие почести от Уразбая, аксакалов и молодых аткаминеров, высокопоставленный тюре без умолку рассказывал обо всем, что ему довелось увидеть и узнать. Слушая Азимхана и видя, какое большое внимание оказывает ему Уразбай, волостные управители и бии в свою очередь тоже стали славословить его в среде своих аткаминеров.
— Азимхан — не просто высокопоставленный царский чиновник, он потомок хана, властителя Среднего Жуза. Ему на роду написано править судьбами казахского народа, быть предводителем казахов!
Так говорил Уразбай, и слова его разносились среди родовитых баев, биев, хаджи, волостных управителей и главарей родов.
Не прошло и десяти дней после прибытия высокопоставленного тюре, а уже во всех четырех волостях стало известно, какой великий человек осчастливил Коксенгир своим посещением.
Азимбай, Самен, Жанатай, прибывшие с отдаленных жайляу, приглашали к себе своих единомышленников — баев из дальних аулов, обещая познакомить их с высокопоставленным чиновником-казахом, настоящим тюре. Получив такое приглашение от Азимбая, в Коксенгир приехал Шубар. Хотя он в это время и был внешне в хороших отношениях с Абаем, но внутренне таил против него злобу. Встречая противников Абая, Шубар быстро завязывал с ними дружбу и не скрывал от них своей вражды к поэту. На этой почве он и подружился с Азимбаем, который сделался для него ближе всей иной родни. Беседуя вдвоем, а иногда и втроем с Такежаном, они не скрывали друг от друга лютой ненависти к Абаю, не стесняясь обнажали свои низкие души. Поддерживая друг друга, они год от года все смелее клеветали на Абая, все больше теснили его, хотя знали, что он вступает в распри только в случае крайней необходимости, и то очень неохотно.
Абай догадывался, откуда дует ветер, но не допускал мысли, что Шубар участвует наравне с Такежаном и Азимбаем в распространении гнусных слухов и клеветы против него.
«Он может мне завидовать, но моим врагом не будет!» — утешал себя Абай, когда в его душу закрадывались подозрения.
Шубар умело вел тонкую игру. Никогда не выступая открыто, он ловко прятался за спину Уразбая, Такежана, Азимбая, Жиренше и Абдильды. Натравив на Абая торговцев Сейсеке, Хасена, Жакыпа и духовных лиц из мечетей и медресе, он вовремя отходил в сторонку, чтобы не навлечь на себя никаких подозрений.
Встречаясь с муллами, Шубар давал им понять, что он не расстается с кораном, читает религиозные книги и в своей набожности не уступит любому мулле, а в беседах с Азимбаем, Уразбаем и Такежаном так же оказывался на первом месте. Будучи в годы молодости волостным управителем, он заглядывал иногда в русские книги, и они действительно помогли ему почувствовать свое превосходство над своими единомышленниками. Завидуя Абаю и ненавидя его, Шубар стремился показать окружающим, что он ни в чем не уступает поэту, и в то же время делал вид, что во всем следует ему. Он стремился казаться таким же близким Абаю человеком, как Магаш, Какитай и Дармен, поэтому тщательно следил за его творчеством. Шубар прекрасно знал абаевские стихи и, когда выгодно было щегольнуть этим, легко и свободно пел их наизусть.
Азимбай и Такежан слышать не хотели ни одного слова из поучений Абая. Уразбай и Жиренше попросту отвергали все, что от него исходило, а Шубар хотел бороться с Абаем, досконально изучив его творения и проникнув в его самые сокровенные мысли.
Абай в своих стихах говорил о вероломных, изворотливых аткаминерах, которые, «распознав все твои тайники, откроют их врагу». Вот таким аткаминером и был Шубар, поспешивший в Коксенгир приветствовать казахского тюре, которого Уразбай и Азимбай превозносили, как хана.
Азимхан встретил приезжего гостя приветливо и говорил с ним так же ласково, как и со всеми другими набившимися в среднюю юрту «ханской ставки» баями и аткаминерами, которые ловили каждое слово высокопоставленного тюре. Облокотившись на четыре пуховых подушки, Азимхан покровительственно отвечал на почтительные вопросы слушателей, а перед вечерним чаем осчастливил их рассказом о прошлом казахского ханства. Воротилы Тобыкты и главы родов, бахвалившиеся знанием родословной своих предков, были изумлены. Возможно потому, что Азимхан был потомком хана, а возможно, и потому, что он много читал, — рассказ его был настоящим откровением для его слушателей.
Азимхан поведал им, во-первых, как казахская степь оказалась в подданстве у русского царя.
— Казахи Младшего Жуза сто шестьдесят семь лет тому назад приняли русское подданство, — говорил он. — Постарался в этом деле хан Абулхаир. Средний Жуз подчинил России Аблай-хан, но мой предок Жекей-хан тоже не был тогда в стороне.
Уразбай и Есентай одобрительно прищелкнули языками, а Жиренше с восхищении воскликнул:
— Ого! Его предки помогали белому царю! А сам-то каков! Батыр!
Рассказчик поднял палец.
— Прошло сорок лет, и сыновья Аблая Сок и Адиль, тоже наши тюре, подчинили России Большой Жуз…
Азимхан тут же похвастал, сказав, что его родные братья Куспек и Жантай недавно свалили с ага-султанства Кунанбая и отобрали его пост.
Уразбай и Есентай громко рассмеялись. Кунанбая давно уже никто не смел называть по имени, все его величали «хаджи», как глубокочтимого мусульманина, совершившего паломничество в Мекку, даже Шубара и Азимбая почтительно именовали «сыновьями хаджи». И вот молодой казахский тюре, знатный русский чиновник, без всякого стеснения произнес просто: «Кунанбай!» Такое пренебрежение к покойному родичу пришлось Уразбаю по душе — словно его врага ударили по голове.
И вместе с верным Есентаем он начал подзадоривать Азимхана на новые выходки против Кунанбая, а молодой тюре, почувствовав, как льнет к нему Уразбай, начал распоясываться все больше и больше.
Вернувшись к прерванному рассказу о бывшем казахском ханстве, он сказал:
— Древние роды казахов были под властью великого завоевателя Чингиз-хана, который имел четверых сыновей. Они и покорили все четыре стороны света.
Уразбай и остальные гости слышали об этом впервые. Раскрыв рот, они внимали рассказу тюре про Касым-хана, оставившего казахам «Лысую дорогу», и Есим-хана, оставившего «Старую дорогу».[152] Предков всех ханов, управлявших казахами трех Жузов, Азимхан связал с именем сына Чингиз-хана — Жоши, себя объявил потомком великого покорителя мира.
Это открытие очень понравилось Уразбаю. Он подумал: «В наше время казахами должен управлять именно такой человек — потомок казахских ханов, имеющий русское образование и получивший чин от самого «белого царя».
…Тесно в восьмистворчатой юрте, где ведет беседу тюре Азимхан. Бии, волостные управители, аксакалы, аткаминеры, слушая его рассказы, пьют кумыс, который в изобилии разливают шесть жигитов. Для гостей Уразбая вся история казахского народа ограничивалась до сих пор историей рода Тобыкты. Азимхан рассказал о бескрайних землях, населенных казахами, и приятно поразил всех, назвав их численность. Не только Уразбаю, но даже бывалому знающему человеку Шубару показалось просто невероятным, что на белом свете живет несколько миллионов казахов.
Азимхан, запомнивший цифры, опубликованные в пятнадцатом томе «Энциклопедического словаря», изданного в Петербурге год назад, так и сыпал ими, хорошо зная, что если он и ошибется, то никто из слушателей промаха не заметит.
— В Астраханской губернии — двести шестнадцать тысяч казахов, в Уральской — четыреста двенадцать тысяч, в Тургайской — сто тридцать восемь тысяч, в Акмолинской — триста сорок одна тысяча, в Семипалатинской, где вы живете, — пятьсот сорок семь тысяч, в Джетысу — шестьсот тысяч. А на берегах Сыр-Дарьи — в Туркестане и около Ташкента — семьсот тринадцать тысяч казахов!
Азимхан торжествующе посмотрел на своих слушателей, а охмелевшие от кумыса хвастливые пустобрехи — бии, волостные управители и баи, перебивая друг друга, загомонили:
— Как много казахов! Кто их только считал!
— Откуда он все это знает!
— Тот, кто смог все это узнать и запомнить, достоин стать главой всех казахов!
— Ни у кого нет такой учености, как у него!
— Ни один казах, даже самый умный, не сумел пересчитать всех казахов, а он вот пересчитал!
— Он это не зря сделал! Видно, хочет объединить весь казахский народ! — переговаривались между собой Жанатай, Самен, Азимбай, Шубар.
Азимхан, приметив восхищение слушателей, продолжал сыпать цифрами, которые, видимо, выучил наизусть:
— Есть еще казахи уральские и тургайские, живущие возле Уральских гор, — их около сорока тысяч! Они населяют уезды Верхне-Уральский, Челябинский и Троицкий. Тысячи казахов проживают в Хивинском ханстве. Около сорока тысяч казахов нашли приют в Туркмении, на берегу Аму-Дарьи, в Самаркандской области — двадцать а на берегах Каспия более сорока тысяч казахов. Даже на Китайской земле, на берегу реки Кара-Иртыш, на юге Алтая, на севере и юге Тарбагатая — Сауыра живет много казахов…
Азимхан, рассказывая, делил их на жузы и называл десятки родов, обнаружив исключительную память. Ошеломленные тобыктинские баи, разинув рты, только головами качали.
— Дай бог тебе успеха в жизни, дорогой Азимхан! — сказал Уразбай. — Даже не знаю, как и благодарить тебя за удовольствие, которое мы получили от твоих полезных рассказов за эти десять дней! Ты настоящий хан для казахов, и я с радостью назовусь твоим рабом. Есть у нас люди, которые любят кичиться своим умом и ученостью, да где им равняться с тобой! Пусть уж лучше они питаются милостыней от твоих знаний!
И Уразбай подмигнул Жиренше, кивком головы показав в сторону Азимбая. Он давал понять, что имеет в виду своего давнишнего недруга Абая.
Проведя всю ночь в восхвалении достоинств Азимхана, гости начали расходиться по отведенным им юртам. Шубар нарочно задержался, он хотел побеседовать с молодым тюре. Оставшись наедине, они сразу же заговорили об Абае.
Правда ли, что он пишет стихи и знает по-русски? — спросил Азимхан.
Хвалить Абая Шубару не позволила привычная зависть, но соврать он тоже не смог и ответил уклончиво, словно не желая из скромности славословить свою родню.
— По-русски кое-что знает!
Но Азимхан уже не раз слышал об Абае и задал прямой вопрос:
— Говорят, Абай переводит Пушкина, Лермонтова и создает песни из их стихотворений.
Шубар понял, что ему придется говорить правду.
— Да, Абай переводит, — ответил он кратко.
— А вы знаете стихи Пушкина и Лермонтова в переводе Абая?
Шубар понял, что песни Абая могут послужить хорошим поводом для более близкого знакомства с Азимханом и ответил:
— Знаю.
— А нельзя ли мне их послушать? Приходите завтра ко мне.
Шубар кивнул головой, и они расстались.
В прошлом году в начале лета Азимхан ехал из Петербурга в Семипалатинск и через Семейтауские горы направился в Каркаралы. По дороге ему пришлось остановиться на ночлег у богатого бая из рода Бура. Наступил вечер, и в соседней юрте, наверное отау, выделенной для молодежи, началось шумное веселье с песнями. Оказывается, в аул приехал жених со своим другом певцом Кокеном, которого хорошо знали все жители округи. Азимхан упросил хозяина вызвать приезжего певца, и тот явился с домброй. У него были, веселые глаза и приятное, полное бледно-матовое лицо, обрамленное черной бородкой. Не сказав ни слова, он сразу запел:
Я вам пишу, чего же боле, Что я могу еще сказать. Теперь, я знаю, в вашей воле Меня презреньем наказать.Слова песни показались Азимхану удивительно знакомыми. Где он их слышал? А певец, видимо довольный произведенным впечатлением, закончив песню и готовясь начать новую, сказал:
— А вот что ответил Онегин на это письмо! Азимхан быстро приподнялся на локте.
— Ого, да неужели ты поешь из «Евгения Онегина»? Певец, словно речь шла о самых простых вещах, пренебрежительно ответил:
— Да, это о Татьяне и Онегине. Ты, я вижу, и сам знаешь о них, тюре!
— Я-то знаю, — грубовато сказал Азимхан. — А вот ты откуда знаешь?
— А почему мне не знать?
— Тогда скажи, кто они?
— Русская девушка и русский жигит. Про них написал такой же акын, как я, — Пушкин. А наш друг, большой акын Абай, стихи Пушкина превратил в казахскую песню.
Так в прошлом году Азимхан впервые услышал имя Абая. Вначале он решил, что Абай — это простой акын. Но, выехав на перепись в степь, начиная от Кара-Откел, Каркаралы, Баян, — он все время слышал имя этого человека, слагавшего стихи и создававшего мелодии, слышал про его талант, про его мудрые назидания народу.
И теперь, встретив Шубара, Азимхан полдня не отпускал его от себя, все слушал в его исполнении песни Абая.
Хотя молодой тюре и был образованным человеком, но до его сердца не доходили стихи, он не любил родной поэзии и не понимал ее.
Однако Абай перевел стихи Пушкина и Лермонтова на казахский язык, и в степи их запели как песни. Это было и забавно и удивительно! Когда же Шубар стал читать стихи самого Абая о казахском народе, Азимхан лениво зевнул и, не дослушав до конца, сказал:
— А все-таки лучший казахский акын — это Бухар-Жирау!
Шубар с изумлением посмотрел на молодого тюре и невольно вспомнил недавно переведенную Абаем басню Крылова «Осел и соловей». Вот так точно и осел сказал, прослушав соловья: «А жаль, что незнаком ты с нашим петухом!»
Шубар считал Абая крупным акыном, хотя в глубине души и осуждал его за образ мыслей и поведение. Вместо того чтобы воспевать казахских ханов, предков, баев и превосходство мусульманской религии, что представлялось Шубару единственно правильным и достойным, он отдавал слишком много внимания в своих песнях безыменному «черному люду». Вот если бы Абая наставить на истинный путь, тогда из него вышел бы настоящий большой акын, которого полюбили бы «благородные казахи».
Но сейчас, после слов Азимхана, даже лицемерный Шубар искренне возмутился:
— Вы говорите, что Бухар хороший акын? Не знаю, скажу только, что в своих творениях Абай вступил с ним в спор и крепко поддел его на рога!
И Шубар запел песню Абая нарочито громко, чтобы нахмурившийся и явно не желавший его слушать тюре все же услышал:
Бухар-Жирау, Шортамбай и Дулат, Песни их все из пестрых заплат!— Абай не понимает важного значения казахских ханов в истории нашего народа, иначе он воспевал бы их подвиги! — упрямо сказал тюре. — Вот почему я считаю Бухара-Жирау лучшим казахским акыном…
И Азимхан стал расхваливать Бухара-Жирау, умевшего понимать интересы истинной знати, настоящего ханского и байского акына!
Неясно было, с какой именно целью Азимхан вызвал к себе однажды Елеу и Шубара и приказал:
— Велите оседлать коней для меня и для себя. Я хочу, чтобы вы меня сопровождали в поездке.
Елеу, не расстававшийся с тюре ни днем, ни ночью, быстро выполнил его приказание. Оказалось, что Азимхан решил навестить Абая, жившего в Шакпаке, в полудне езды от Коксенгира, познакомиться с ним и побеседовать.
Выехав после утреннего чая с многолюдной свитой, Азимхан приказал Елеу, Шубару и Азимбаю остаться при своей особе, а остальных спутников отправил вперед. Когда жигиты умчались, тюре завел разговор об Абае, — этот человек интересовал его с каждым днем все больше и больше. Сразу раскусив, что Уразбай враждует с Абаем, тюре верил далеко не всем его словам. Но вот об Абае заговорили его близкие родственники, расписывая характер и взгляды поэта, им-то можно было поверить. Вспоминая их рассказы, Азимхан не ждал ничего доброго от предстоящей встречи, но все же ехал, желая узнать лично этого загадочного для него человека.
Он просил своих спутников, молодых вожаков Тобыкты, высказаться откровенно, ничего не скрывая.
— Если он плох, дайте мне доказательства. Ну что, например, он сделал дурного?
Елеу, Шубар и Азимбай задумались, размышляя, как убедительнее ответить на этот вопрос. Первым заговорил Шубар:
— Абай за последние шесть-семь лет просто заморозил в нас все родственные чувства своими недостойными поступками.
— Это какими же?
— В Семипалатинске Абай восстановил против себя все духовенство города, всех ишанов, имамов и хальфе.
Во время холеры он перессорил между собой всех имамов. Он говорил простому народу, что мусульманское духовенство наживается на бедствиях народных, призывал к нарушению религиозных обрядов.
— Еще!
— Он помог безродному и бездомному нищему украсть из знатного аула невесту умершего родственника Уразбая. Он подучил увезти ее в город под защиту русских властей, нарушил обычай предков. Он перешагнул через шариат, заставил людей пренебречь мусульманским законом. Его поступки глубоко оскорбили и возмутили всех знатных городских казахов, духовенство, именитых купцов. Такие вещи непростительны.
Азимбай поставил Абаю в вину его постоянное заступничество за всякий нищий сброд: хлеборобов, косарей, ремесленников. Из-за них он вечно враждует с волостными управителями, с ходжами, с людьми благородного происхождения. Он ухитрился поссориться даже со своими родными братьями — Такежаном, Азимбаем, Майбасаром.
— Чего много в моей волости, которой я управляю? — спросил Азимбай и сам же ответил с возмущением — Жалоб, доносов и домогательств голытьбы, которую посылает ко мне Абай.
Азимбай умолк, и тогда заговорил Елеу, по привычке взвешивая каждое свое слово.
— Не буду говорить о прошлом, расскажу, как вел себя Абай нынешней весной. Тюре Азимхану понравилось смелое нападение моего отца на жителей Кокена, вызванное справедливым гневом тобыктинцев. Недаром он назвал этот поступок смелым подвигом, а совершившего его человека — достойным вожаком народа. А как держал себя Абай? Он осудил боевую доблесть тобыктинцев и отвернулся от всех благородных людей нашего рода. Даже со своими младшими братьями, даже со старшим, Такежаном он перестал разговаривать. Он открыто стал на сторону кокенских хлеборобов, а Уразбая назвал глупцом и разбойником! Всюду говорил, что время набегов прошло, что надо смотреть не назад, а вперед, — там, дескать, казахов ждет лучшее будущее.
— Что это за лучшее будущее? — спросил тюре. — И от кого он его ждет?
Шубар подравнял своего коня голова в голову с конем Азимхана.
— Не от казахов, а от русских! — ответил он вместо Елеу. — Скоро, говорит, в Росии все переменится и наступит другая жизнь.
Тюре насторожился.
— Переменится? А ему кто сказал об этом?
— У Абая много друзей среди ссыльных…
— Ссыльных?! — Тюре оживился. — Это очень интересно…
Шубар рассказал про Михайлова, потом про Павлова, с которым Абай дружил почти десять лет. Резко изменившись в лице, Азимхан весь превратился в слух, стараясь не пропустить ни одного слова.
— Елеу! — неожиданно закричал он. — Я передумал! Зови передних! Не поеду я к вашему Абаю! Он недостоин моего посещения. Все назад!
И тюре, повернув коня, поскакал обратно. Шубар кинулся за ним, а Елеу и Азимбай, обрадованные легким успехом, беспорядочно размахивая нагайками и малахаями, помчались догонять уехавшую вперед свиту тюре. Надрывая горло от крика, они быстро вернули ее назад.
Задолго до наступления вечера Азимхан возвратился в Коксенгир. Расспросив Елеу о причине неожиданного возвращения тюре и узнав, что тот решительно осудил Абая, Уразбай просто не находил себе места от радости. Он то и дело вскакивал со шкуры жеребенка, на которой сидел, и, не стесняясь присутствия сына, чуть не плясал от восторга.
Спустя два дня Уразбай вызвал из Коныр-Кокше своего родственника, волостного управителя Самена. Хотя земли их разделяло большое расстояние, но интересы в некоторых темных делишках были общими.
Пригласив Азимхана в свою большую юрту, Уразбай при Самене обратился к нему за советом, предупредив, что речь пойдет об одном сугубо важном и тайном деле.
Через полмесяца в урочище Аркат уездный начальник Маковецкий созывает чрезвычайный съезд, на котором будет разбираться тяжба между Уаком и Тобыкты и утверждаться раздел земли. Семипалатинские бии собираются осудить «уразбаевский весенний набег», тот самый набег, который одобрил Азимхан…
И Уразбай рассказал, какой узел завязали его враги вокруг этого дела. Только один тюре в состоянии его развязать, а еще лучше бы разрубить…
— Кровоточащая рана может загноиться, — говорил он заискивающе. — Чтобы насолить мне, Абай будет поддерживать уаков, а если это случится, то и среди тобыктинцев найдутся люди, которые поднимутся против меня. Стоит ему объявить «насильниками» Тобыкты, как его сразу же поддержат все роды, живущие вокруг — Сыбан, Керей, Бура, Матай, Уак, Найман… Все они станут чернить меня… Абаю лестно, когда его называют защитником всех плачущих и бедных казахов, и он обязательно выступит на шербешнае и свалит нас всех в одну кучу… Но вы же теперь знаете, какие черные мысли у этого человека, противника добрых старых казахских обычаев…
Волостной управитель Самен, имевший с Абаем личные счеты, ненавидел его едва ли не больше, чем Уразбай. Почтительно называя Азимхана, ровесника по возрасту, «ага-еке», он сказал:
— Пришли просить совета у твоего зоркого ума, ага-еке. Ты теперь наш вожак, благородный тюре! Скажи, как быть нам с Абаем?
Азимхан, нахмурив брови, закрыл глаза, словно обдумывая, какой бы лучше подать совет. Разглаживая кулаком щетину редких усов, он кратко ответил:
— Все слова сказаны, все пути пройдены. Не похоже на Уразекена, чтобы он сам не мог найти выхода. С такими людьми, как Абай, можно разговаривать только одним языком, и Уразекен его хорошо знает. Черный шокпар и гнев народа, который уаки испытали на берегу озера Тущи-коль, научат покорности и такого дикого медведя, как Абай.
Уразбай и Самен переглянулись с радостным изумлением. Преподанный Азимханом совет превзошел все их ожидания.
Некоторое время они посидели в молчании, словно обдумывая его слова.
А молодой тюре, развязав руки этим негодяям, к полуночи, вернулся в свою «ханскую ставку» и спокойно лег спать.
3
Вершина одинокой горы Аркат словно врезалась в небо острым причудливым пиком. Каменистые гребни на северной ее стороне очень красивы, но путь через перевал труднопроходим — высокие скалы громоздятся на склонах. Вершина Арката, гладко отграненная веками у основания, называлась Куйметас — «Утес-повозка».
С восточной стороны Куйметаса начиналось урочище Копа, славящееся тучными пастбищами. Здесь много было чистых родников, а сразу под горой зеленел молодой осиновый лес.
Сейчас на урочище Копа выросло более полусотни юрт, — они предназначены для сборов, которые здесь проводились от случая к случаю. На открытом месте юрты стояли кучкой, а там, где зелень кустарника протянулась длинной узкой полосой, они поставлены были по две в ряд вдоль этой полосы.
На каменистом холмике неподалеку от белых юрт сидели семь человек, приехавшие на сбор из Кокенской области. Здесь были Бостан, Кулжатай и Енсебай. Судя по веселым лицам, можно было понять, что настроение у них было хорошее.
В памятную ночь уразбаевского набега на берег озера Тущи-коль Бостана сильно покалечили, правая богатырская рука его стала короче левой и не действовала, кончики пальцев начали сохнуть. Но Бостан все же не унывал. Так же бодро чувствовал себя и Кулжатай. Черная густая борода и длинные усы закрывали ему рот, но когда он смеялся, легко было заметить, что передний ряд верхних зубов у него отсутствовал, — их выбили во время схватки тобыктинские жигиты.
Бостан, Кулжатай и Енсебай приехали на сбор, чтобы показать свои увечья и потребовать к ответу насильников-тобыктинцев за тот урон и страданья, которые им пришлось претерпеть. Но, сидя на каменистом холмике и беседуя с друзьями, они ни одним словом не обмолвились о пережитом. Все это осталось позади — обо всем было говорено и переговорено. Сейчас они с нетерпением ждали, что скажет съезд о кровавой схватке на берегу озера Тущи-коль. Многое зависит от важного свидетеля, который должен выступить сегодня с речью, он должен подсказать участникам сбора правильное решение. Вот Бостан, Кулжатай и Енсебай и забрались на холмик, откуда можно было увидеть, когда этот свидетель приедет. Но он, видимо, задержался где-то в дороге, и друзья коротали время за веселой шуткой.
Енсебай показал на Куйметас и сказал, обратившись к Кулжатаю:
— Ты любишь говорить о своей смелости и силе. А вот на Куйметас мог бы залезть? Говорят, что там еще никто не был. Попробуй-ка забраться раньше других!
— Это для того, чтобы ты после прозвал меня Бораном? — щербатым ртом усмехнулся Кулжатай.
— А кто такой Боран? — спросил Бостан. — Я о нем ничего не слышал.
— А вот кто, — сказал Кулжатай. — Среди тобыктинцев много врунов, но такого, как Боран, говорят, еще не было на всем белом свете. Однажды он рассказал своим друзьям: «Залез я на самую вершину Куйметаса и вижу всю нашу степь как на ладони, а под ногами у меня Семипалатинск… Вглядываюсь — и замечаю бая Сейсеке: идет он по своему двору с медным кумганом в руке в уборную совершать омовение перед утренним намазом…
Бостан и Енсебай расхохотались. У Кулжатая широкие плечи тоже затряслись от смеха.
— Про него даже песню сложили, про того Борана, что с Куйметаса увидел за полтораста верст Семипалатинск.
И Кулжатай пропел:
На верху Куйметаса Боран побывал — Из казахов никто так отменно не врал. Вслед за ним до вершины до той ледяной Лишь орел поднебесный едва долетал.Но Енсебай не унимался и продолжал поддразнивать приятеля:
— А ты все же заберись на вершину, пока здесь без дела торчим. И мы тоже песню про тебя сочиним:
Уж коль залез на Куйметас Известный всем Боран, То вслед за ним и Кулжатай Попрется, как баран.Но Кулжатай ответил серьезно:
— Не к чему воспевать Кулжатая, если он даже и заберется на Куйметас. Кулжатай предпочел, бы лучше прославиться победой над тобыктинским разбойником Уразбаем. Разве ты этого сам не хочешь, дурень?
— Подождите, друзья, — прервал Бостан. — Смотрите вон на тот зеленый перевал. Видите — шесть человек… Думаю это как раз и едет тот, кого мы здесь поджидаем. Пошли… Вон они куда повернули…
И Бостан первый торопливо поднялся.
Три друга направились к большим белым юртам, в которых остановился семипалатинский уездный начальник Маковецкий и сопровождавшие его два крестьянских начальника, управлявшие степными волостями. Вместе с ними поместились уездный переводчик Самалбек, канцелярские служащие и несколько стражников.
Маковецкий со своими чиновниками, приехавшими проводить шербешнай, жил как бы в центре большого аула. С правой стороны стояли юрты, в которых разместились представители шестнадцати волостей, в том числе и Кокенской, а с левой — представители четырех волостей Тобыкты.
Обычно на чрезвычайных съездах рассматривается много вопросов, но шербешнай в Аркате был созван, чтобы решить только один спор — о земле между Кокеном и Тобыкты, а в связи с этим, по указанию семипалатинского жандарала, рассмотреть дело о прошлогоднем набеге Уразбая на кокенцев. Это был особый съезд надолго сохранившийся в памяти многих.
Жители Кокенской волости, пострадавшие от набега, предъявляли иск тобыктинцам, жившим в четырех волостях, а представители остальных одиннадцати волостей должны были решить спор между ними. Согласно этому решению уездному начальнику Маковецкому предписывалось вынести окончательный приговор, обязательный для обеих враждующих сторон.
На шербешнай прибыли представители волостей с нижнего течения Иртыша — Басентиин, Найман, Бура; и с верхнего — от казахов, живущих в сосновом лесу, из Бельагачской волости. Кроме тобыктинских с ближнего побережья Иртыша явились также представители шести волостей. Все это были бии, выбранные по царскому закону, с одобрения крестьянских начальников. Каждая волость по числу аулов прислала от десяти до пятнадцати биев, а от всех шестнадцати волостей их собралось примерно до двухсот пятидесяти.
С утра и до вечера люди, съехавшиеся в Аркат на шербешнай, занимались одним делом: подсчитывали на чьей стороне больше доброжелателей — на стороне Кокена или Тобыкты.
Тобыктинцев недолюбливали за воинственный, задиристый нрав, соседи никогда не знали от них покоя. Особенно их ненавидели жители Кокена и Бельагача, труженики-хлеборобы. Недаром они часто повторяли слова Абая:
Самый злобный род — Тобыкты, Множество в нем смутьянов.Судя по разговорам, происходившим в юртах, у тобыктинцев было значительно меньше доброжелателей, чем у Кокена. Бывалые люди с наметанным глазом утверждали, что за тобыктинцев будут только пятьдесят-шестьдесят биев, а за кокенцев — остальные сто семьдесят-сто восемьдесят.
Но получится ли так на деле? Ведь бии отличаются непостоянством; не напрасно Абай о них сказал: «Сегодня опираются на холку коня, завтра — на горб верблюда».
Трудно было также предугадать, сохранят ли бии каждой волости единство при голосовании. Ведь в каждой волости всегда идет борьба между двумя воротилами, и невозможно предвидеть, кто из них в какую сторону потянет.
Уразбай приехал на шербешнай раньше других, в сопровождении полусотни аткаминеров. Волостных управителей Азимбая, Самена, Жанатая сопровождали по десять-двадцать человек, среди них были бойкие краснобаи. Возле юрт, где разместились аткаминеры, каждой ночью под прикрытием темноты развёртывалась ожесточенная борьба за исход предстоящего «правосудия». Шла торговля «конским жиром» и «верблюжьим горбом». В этой торговле честью и совестью «верблюда проглатывали вместе с шерстью», а «лошадь проглатывали с головой».[153] Деньги, врученные «под полой», быстро расходились по многим юртам.
Тот, кого с таким нетерпением ждал Бостан с друзьями, должен был приехать со дня на день и выступить главным свидетелем в споре. Выдвигала этого свидетеля потерпевшая сторона — кокенцы, прекрасно понимавшие, что его показания будут иметь огромное значение для решения шербешная, — ведь бии многих волостей в зависимости от этого выступления определят и свое поведение на съезде.
Уездный начальник Маковецкий и два крестьянских начальника тоже с нетерпением ожидали приезда этого человека, имевшего большой вес в степи. В жалобах и заявлениях истцы, называя его имя, писали:
«Кто из нас прав, мы или Уразбай, для человека, которого мы призываем в свидетели, яснее луны. Ему известна вся история давнего спора о земле между Кокеном и Тобыкты».
Ожидаемый свидетель принадлежал к роду Тобыкты, и все-таки кокенцы свято верили в его справедливость. Тобыктинцы попадали в тяжелое положение: если твой враг выдвинул для решения спора свидетеля из твоего же рода, как можно опорочить его показания? Даже у самого Уразбая не повернется язык выступить против него. И Уразбай в глубине души лелеял надежду:
«А что, если бы ему не удалось дать свои показания?!»
Тобыктинские аткаминеры старались успокоить себя:
— «Не может быть, чтобы он посрамил честь Тобыкты! Не посмеет он унизить своих сородичей перед врагами!»
Однако червь сомнения все же закрадывался в их сердца.
«Ну, а если все же он заставит тобыктинцев склониться перед противником? Что тогда?» Ответ был один: «Значит, покажет себя чужим для Тобыкты! Сам себя привяжет к позорному столбу».
Однако свидетеля этого ждали в Аркате с таким нетерпением не только люди, жаждавшие услышать правдивое слово. Было среди прибывших на шербешнай немало и таких, которые готовились нанести ему удар, строили против него козни. И аткаминеры задумывались: справится ли он с этим трудным испытанием, не запятнав своей чести? Сумеет ли, как говорится, и тело и душу соблюсти?
Наконец долгожданный свидетель приехал в сопровождении шести спутников и остановился в юрте Самалбека, сразу оказавшись в самой гуще борьбы. Это был Абай.
Мелкий чиновник Самалбек, по происхождению киргиз, работал переводчиком в Семипалатинске и принадлежал к числу каратаяков.[154] Абай ценил его за скромность и порядочность и с одобрением говорил:
— Хотя среда, где вращается Самалбек, и портит людей, но он сумел сохранить достоинство справедливого человека, присущее его народу.
Абай избрал юрту Самалбека с определенной целью: рассказать, чего хотели от него представители власти, несколько раз посылавшие за ним гонцов. С тобыктинцами и уаками, которые приходили к нему как представители борющихся сторон, он пока что отказался встречаться. Он хотел вначале решить для себя — зачем он будет выступать, кому нужны его слова и какой вес они будут иметь в предстоящем споре.
Самалбек, неразговорчивый от природы, не был откровенен и с Абаем. Он сказал только то, что и без него было хорошо известно поэту.
Обе борющиеся стороны одинаково нуждаются в показаниях Абая. Маковецкий и крестьянские начальники по требованию двух сторон решили выслушать его, но что у них на уме, сказать невозможно. Однако Абай ведь и сам хорошо знает, что ему делать. Если при даче свидетельских показаний он пойдет своим обычным, прямым, путем — это и будет самым правильным.
Такой совет дал переводчик, и на этом, разговор закончился.
Когда перед обедом Абай вышел было из юрты Самалбека, его на каждом шагу начали останавливать люди, желавшие с ним посоветоваться. Абай решил до своего выступления на съезде встретиться и поговорить со всеми, кто нуждался в его совете. Он тут же принял и по одному представителю от враждующих, сторон, от Тобыкты и Уака. А потом поэт до глубокой ночи выслушивал жалобы людей, пострадавших во время весеннего нападения уразбаевских жигитов. Пришли покалеченные кокенцы вроде Бостана, Кулжатая и Енсебая и показали свои увечья, полученные в схватке с тобыктинцами. И тобыктинцы пришли поведать свое горе. У многих участников уразбаевского набега были сломаны ребра, перешиблены руки и ноги, выбиты глаза. Пришли и родственники тринадцати жигитов, попавших в плен к кокенцам и до сих пор не вернувшихся домой; обнищавшая старуха мать, помешавшийся от горя отец, голодная, полуголая жена, осиротевшие дети, которые теперь ходили по миру.
Абай, не отдохнувший после дороги, не успевший даже поесть, сидел в юрте Самалбека и выслушивал одну жалобу за другой. И сердце его сжималось от горя и жалости — перед ним вереницей проходили бедняки тобыктинцы и бедняки кокенцы, принявшие на свои плечи все тяготы и беды весеннего уразбаевского набега.
На следующий день Абая пригласили в восьмистворчатую юрту уездного начальника, где уже собрались бии. И узнав об этом, сотни обитателей дальних юрт, спускаясь с холмов, выходя из зарослей кустарника, из леса, окружали его и следовали за ним. Абай переступил порог большой юрты, где сидели уездный начальник и волостные бии, и сразу же туда устремилась шедшая за ним по пятам толпа, окружая юрту и набиваясь в нее до отказа. Людей было так много, что стражники не в состоянии были их остановить.
Абай стал здороваться с чиновниками и биями, но шум толпы заглушал его слова. А жигиты все протискивались в дверь один за другим, и в огромном помещении стало так тесно, что, казалось, для Абая не найдется места, где сесть. Бии и волостные управители со значками на груди, сидевшие вдоль стен, вопросительно посмотрели на уездного начальника. Маковецкий посоветовался с крестьянскими начальниками, поднялся и объявил свое решение, которое тут же перевел Самалбек:
— Собрание в юрте проводить невозможно, оно переносится на воздух. Все должны немедленно выйти!
И уездный начальник вместе со своей свитой направился к выходу.
Не легко было вынести беспощадный зной летнего жгучего солнца. Волостные управители, подчеркивая свое внимание к уездному начальнику, расстелили кошмы и ковры на траве между кибитками, стоявшими вблизи друг от друга, а сверху натянули полотно. Сюда, в тень, принесли стол и стулья из восьмистворчатой юрты. Место для проведения собрания получилось просторное, но его вновь заполнила толпа простых людей, которых набралось гораздо больше, чем биев. Сотни людей стояли между юртами, желая услышать голос главного свидетеля.
Абай сидел между биями, зная, что сейчас наступит его очередь давать показания. Он знал, что все собравшиеся сейчас смотрят на него с надеждой и верят ему. Привыкший с юных лет выступать на различных сборах, Абай не стеснялся многолюдной толпы. Но все же никогда в жизни он не волновался так, как сейчас. Говорят, легко быть свидетелем, тяжелее — судьей. Абай подумал, что это не всегда так. Когда ему приходилось распутывать сложные узлы споров, решать, кто прав, кто виноват, — он следовал своей совести и за вынесенный приговор отвечал своей честью и своим добрым именем. Все было просто, ясно, и, выступая как судья, он был более уверенным, спокойным, чем сейчас, когда ему предстояло быть только свидетелем.
Абай мысленно оглянулся в прошлое, вспоминая свой долгий жизненный путь. Своим современникам и потомкам хотел он открыть правду, познанную горячим сердцем. Он понимал, что встанет сейчас не перед Уразбаем, который будет сверлить его своим единственным глазом, и не перед торгующими своей совестью и достоинством продажными биями, на шеях которых висят двести пятьдесят царских медалей, и даже не перед чиновниками, которые запишут каждое его слово на бумагу. Нет — он встанет лицом к лицу со своим временем, как сын его и в то же время как отец, желающий пересмотреть всю свою жизнь с детских лет, чтобы найти истину, и будет говорить, повинуясь только голосу своей совести. Сердцем поэта он почувствовал, что нужные слова придут сами собой. Когда уездный начальник назвал его имя, он поднялся, снял с головы треух и, держа его за спиной, слегка побледнев от волнения, начал свою речь:
— Братья мои! Вы меня вызвали свидетелем на съезд, где, словно угли в костре, собрались в одну кучу люди из разных мест. Я приехал, чтобы дать свое свидетельское показание должностным людям. Их тут собралось много, но не должность украшает человека, а человек украшает ее. Пусть правда восторжествует здесь при разборе дела. Как бы горька она ни была; но только правда может исцелить раны народа. А я, если хватит моего разумения, постараюсь открыть вам истину, какую чувствую всей душой. Даст ли это облегчение — не знаю. Ведь есть еще среди нас люди с нечестными сердцами, думающие только о вражде и насилии. Казахи говорят, что трудно выкопать иглой колодец. А я скажу: изгнать зло из человеческого сердца — еще труднее. Вот что я хотел напомнить прежде чем приступить к своим показаниям.
Так Абай сделал человеческую совесть границей, разделяющей мир надвое.
Неподвижно сидевшие бии хмуро молчали, но из толпы простых людей раздался гул одобрения.
— Сказал умные слова!
— Поднялся ввысь и дал людям понять, что он — Абай.
Закончив вступление, Абай перешел к рассказу о том, что так страстно хотели услышать люди, собравшиеся в Аркате. Уразбай и все его присные из Тобыкты как вздохнули, так и не могли выдохнуть до конца речи.
— Зачем спрашивать меня, напал ли весной Тобыкты на Кокен? Никто из присутствующих здесь не станет этого отрицать. Лучше разберемся — почему напал? Каким образом кокенцы довели вражду до кровавого побоища?
Абай оглядел присутствующих и начал говорить не только о весенних событиях, но и о далеком прошлом.
— Я — сын Тобыкты, но я буду говорить о вине тобыктинцев, об их произволе и насилии, об испорченности их нравов. Я не обвиняю простых людей Тобыкты, напротив — я хочу оправдать ни в чем не повинное большинство. Мои слова относятся к нечестному меньшинству рода, которое посылает мирных людей на разбой, заставляет чинить обиды и несправедливости. Я хочу оправдать мой род перед родом Кокена, хочу отделить честное большинство от злого, коварного, нечестного меньшинства. Кого же из тобыктинцев я имею право назвать насильниками, разбойниками, смутьянами и клеветниками? Наш народ говорит: «Если требует правда, не утаи и грехов отца своего». Так вот первым виновником раздора между Тобыкты и Кокеном я считаю своего отца Кунанбая! — сказал Абай, и ему показалось, что с этими словами он сбросил тяжелый груз, угнетавший его душу все эти дни, ему даже стало легче дышать. Но, услышав его слова, главари тобыктинцев вздрогнули от ужаса, в мертвой тишине раздались их негодующие возгласы:
— Астагпыралда![155]
— С ума сошел!
— Изменник!
Но Абай даже не оглянулся на своих сородичей и стал рассказывать о том, как в течение полувека Тобыкты во главе с Кунанбаем незаконно забирали земли у мирных уаков.
Урочища Жымба, Аркалык, Кушикбай, захваченные его отцом, Абай назвал «бесспорными землями уаков». Акжал, Торе-кудык, Кара-кудык, Обалы, Когалы, из-за которых началось побоище, всегда принадлежали кокенцам; Абай даже назвал, какие аулы владели ими и какие семьи там жили.
— Когда истинные хозяева захотели взять обратно свои незаконно отобранные земли, на них напали захватчики, избили, покалечили и их же обвинили в преступлении.
Абай говорил гневно, убедительно, словно вколачивая каждое слово в головы судей. Многие тобыктинцы не смели поднять на него глаза, а если кто и встречался с ним взглядом — спешил отвести его в сторону.
Рассказав все, что могло понадобиться биям и русским чиновникам из прошлого Тобыкты и Кокена, Абай перешел к весенним событиям, к уразбаевскому набегу.
— Это нападение было устроено кунанбаями наших дней. Они заставили плакать не только кокенские аулы.
В кровавой позорной битве пострадали как с одной, так и с другой стороны бедные табунщики, чабаны, пастухи. Это они горели в огне, раздутом Уразбаем…
Абай говорил страстно, горячо, задыхаясь от волнения. На побледневшем лице сверкали гневные глаза.
— Я приехал в Аркат с опозданием, заезжая по пути в аулы пострадавших. Я хотел узнать, что принесло народу это проклятое нападение, как там живут люди. Вчера до поздней ночи я выслушивал жалобы кокенцев и тобыктинцев, я видел их муки, их слезы. Из посланного Уразбаем отряда — тринадцать человек попали в плен к кокенцам. Они до сих пор не вернулись домой, томятся, закованные в цепях. Пятеро из них были табунщиками, шестеро — чабанами, двое— батрачили: один в доме Уразбая, другой у Азимбая. Семьи этих несчастных пошли по миру. — Абай назвал имя каждого пленника, имена их жен, детей, родителей и попросил переводчика Самалбека обязательно записать всех с указанием аула, где они бедствуют сейчас. — Сюда, на наш съезд, приехали кокенцы — Бостан, Кулжатай и Енсебай. Это были сильные, как верблюды, жигиты. Посмотрите на них сейчас. Один остался без руки, другой лишился всех зубов, у третьего сломаны ребра… Их покалечили в позорную ночь набега… Все трое — бедные люди, живущие своим трудом. Каждый из них работал, заботился о семье. Трое пострадавших жигитов были кормильцами двадцати четырех человек. Сердце сжимается, когда подумаешь о том, что малые дети и дряхлые старики, юные невесты и престарелые вдовы, которые кормились трудом эти молодцов, сейчас пропадают с голода!
Пострадали простые люди, бедняки, — гремел голос Абая, — но те, кто их натравил друг на друга, остались целы и невредимы. Ни один волосок не упал с головы Уразбая, Азимбая, Жиренше, волостного управителя Самена, Жанатая…
И Абай вновь и вновь называл имена жигитов, вернувшихся с побоища калеками и уродами, со страшными ранами на лице, с выбитыми зубами и глазами, охромевших, больных. Он давал свидетельские показания, но люди понимали, что они переросли в обвинительную речь, в иск, предъявляемый баям от имени бедняков.
Когда смысл абаевских слов дошел до волостного управителя Самена, он громко, во всеуслышание обратился к сидящим вокруг него:
— Что это Абай за никчемных людишек заступается? Вот уж правду говорят: «Похвали маляра, он себе и бороду покрасит…» Так и у Абая получается. Возомнил он о себе много! — Молодой бай замолчал, оскалив плотно сжатые зубы.
И в эту минуту из толпы раздался возбужденный голос Дармена:
— Ой, Абай-ага, как мало еще людей, понимающих высокий смысл вашей речи. Вы говорили: не будь сыном своего отца, а будь сыном человечества! Это не пустые слова, а правда, истинная вера ваша, добытая кровью сердца, сокровище ваше! О, как добра душа ваша, дорогой ага! Да буду я жертвой за вас!
В этих словах Дармена была и радость и гордость за Абая! Кулжатай, сидевший рядом, в восхищении подтолкнул его и сказал:
— Что такое Тобыкты! Во имя правды истинной Абай не пощадил даже предка своего, от родного отца отошел! Про таких, как он, и говорят: «Сын народа!» Впервые вижу такого человека. Пусть счастливым будет путь его!
Снова гул одобрения прокатился в толпе. И, переждав пока он затихнет, Абай продолжал:
— Я хочу спросить, так ли уж нуждались в земле, отобранной у Кокена, табунщики, чабаны, скотники, которым пришлось за нее драться? Может быть, им негде было пасти свою «бесчисленную» скотину, если бы они не отвоевали у кокенцев их пастбища? А может быть, этим беднякам негде поставить свои черные заплатанные юрты и лачуги? Может быть, сама горькая жизнь толкнула их на кровавую схватку? Нет, этим несчастным, обманутым людям не были нужны ни Жымба, ни Акжал, ни Кара-кудык. Их натравили друг на друга сытые нарушители спокойствия. Играя на темноте этих людей, льстиво называя жигитов «меткой пулей», «острой саблей», «смертельной пикой», Уразбай, Азимбай и их приспешники сумели собрать отряд из бедняков тобыктинцев и послать его для избиения таких же бедняков кокенцев. И вот сейчас это бессмысленное во всей своей жестокости побоище здесь склонны называть «спором». Нет, это не спор, а преступление, и виновники этого злодеяния должны быть примерно наказаны за то, что они заставили страдать стольких людей. Я требую для них особого приговора!
Абай говорил медленно, внимательно наблюдая за Самалбеком, чтобы переводчик успевал записывать его слова в протокол.
— Дело надо решить в пользу кокенцев, живущих честным трудом на своей земле!
Зная, что биям, чтобы вынести обоснованный приговор, нужны точные сведения о захвате тобыктинцами пастбищ, Абай закончил свои показания короткой, исчерпывающей справкой.
— Я уже в начале своей речи сказал, что первый отнял силой землю уаков мой отец Кунанбай. Он захватил урочища Жымба, Аркалык, Кушикбай и поселился на них в то время, когда мне было одиннадцать лет. Теперь скажу, в какие годы и кто именно захватил спорные земли, следуя его примеру. Вот перед вами сидит Жиренше — владелец тысячеголового табуна. Это его отец Шока забрал у уаков конец Бильды, местность Акжал и самовольно поселился там. Жиренше тогда было шестнадцать лет! А вот находящемуся здесь Абралы было одиннадцать лет, когда его отец занял Обалы и Когалы. Уразбаю было шестнадцать лет, когда его отец Аккулы, тоже вопреки воле хозяев, поселился на Кара-кудыке и Торе-кудыке. Подсчитайте, сколько прошло лет с того времени, и вы будете знать точно, когда началось насилие над Кокеном и произошел захват земель. А если вы, собравшиеся здесь бии, после моего свидетельства все же скажете, что обездоленным кокенцам нельзя требовать назад свои земли, то с вас взыщет бог! Я кончил!
И Абай тяжело опустился на стул, поданный Самалбеком. Вынув из кармана тонкого бешмета большой платок, он стал вытирать обильный пот с широкого белого лба.
Ни один тобыктинский главарь не решился выступить после Абая, после того, как сам, будучи тобыктинцем, не дорожа ложной честью своего рода, поэт прямо и недвусмысленно сказал, кто прав и кто виноват. Не посчитаться с такими показаниями съезд не мог. Воротилы Тобыкты во главе с Уразбаем потерпели полное поражение.
Решением шербешная размежевание, начатое весной землемером, должно быть продолжено и доведено до конца. Уразбай, Азимбай и Жиренше признаны главными виновниками весеннего раздора между двумя родами. Пятнадцать зачинщиков тобыктинцев должны выплатить кокенцам по девять голов разного скота, начиная с верблюда.
Слух о поражении коварных тобыктинцев быстро разнесся по Аркату, вызвав шумное ликование народа.
Теперь не Тобыкты — Аргын, а Уак — Аргын![156] — воскликнул какой-то шутник; и эти слова его облетели все юрты.
Уразбай, проходивший вместе с Саменом мимо Абая, приостановился, в упор посмотрел на него и сказал:
— Куда ты идешь, не знаю, но чувствую, что путь твой лежит к большому несчастью. Напоминаю тебе об этом!
— Эх, Уразбай! — Абай улыбнулся в ответ. — И сам ты толст, и слова у тебя толстые, и соил тоже толстый, а ты, бедняга, не знаешь, на что употребить все свои… толстые преимущества.
Люди, стоявшие поблизости, весело рассмеялись. Уразбай, потемнев лицом, отошел, но Самен остался. Хотя он и был моложе Уразбая, но ничуть не уступал ему в своей ненависти к Абаю.
— Господин Абай, — сказал он, злобно глядя на поэта, — вы добились, чего хотели. Самое святое, что есть в Тобыкты, лучших людей рода унизили и согнули до земли!
Абай от изумления широко раскрыл глаза. Кто это говорит о святости рода? Человек, совершивший столько позорных поступков!
— Не себя ли ты считаешь лучшим? Да тебя как милостыню нельзя подать в жертву за это святое! Тебе бы овец пасти, а ты управляешь народом!
— Управляю, потому что народ меня избрал!
— Тебя не народ, а взятки твои избрали! — Абай покачал головой. — Если нестоящему человеку достанется власть волостного — пропащая эта власть!
— Предстоящие выборы покажут, чего я стою! — надменно сказал Самен. — Только не советую вам со мной тягаться.
Кончик его носа покрылся крупными каплями пота, рябое лицо побледнело. Дрожа от злобы, он повернулся и отошел к поджидавшему его Уразбаю.
Они пошли рядом, озлобленные, затаившие в душе месть. К ним присоединился и сидевший во время речи Абая немного поодаль Есентай. Он молча шагал плечом к плечу со своими друзьями, готовый разделить с ними любую беду.
А Уразбай в этот час открыл Самену и Есентаю то, чего в другое время никому не сказал бы:
— Я говорил, что кровный враг наш не далеко, а рядом. Это — Абай.
— Да это Абай! — подтвердил Самен. — Сравнять с землей лучших людей Тобыкты! Нас с вами! Я знал, что он никого не пощадит!
Уразбай, передразнивая Абая, сказал:
— «Соил у тебя толстый, а ты не знаешь, на что употребить его…» Змея!
— А разве не подсказал нам тюре Азимхан, на что?
Самен, готовый хоть сейчас броситься в схватку, испытующе смотрел на Уразбая.
— Барекелде![157] — воскликнул Уразбай и ласково обнял Самена за плечи. — Хорошо, что напомнил! Тюре вложил мне в руки курук не зря. Дай бог исполнение всех его желаний. Я всегда говорил, Азимхан — настоящий глава казахов. Я закончу то, что он начал… но… — Уразбай вдруг начал кусать себе пальцы от досады. — Прозевал! Упустил время, вот он и оскорбил меня… Жалко… Не подготовился…
Самен понял, на что решился Уразбай, и у него захватило дух от радости. Только бы не передумал! Только бы не пошел на попятную!
— Не все потеряно, Уразеке! Время еще не ушло… Самая благоприятная пора впереди!..
— Какая еще там пора?
— Выборы. Маковецкий с крестьянскими начальниками едет не в город, а в степные волости Кызылмола, Енрекея, Кандыгатая проводить выборы и через двадцать дней вернется к нам в Тобыкты. Он мне наказал, чтобы в середине месяца я поставил юрты и приготовил волость к выборам. Лучшего времени не придумаешь!
— Но поедет ли туда Ибрай?
— Поедет! — ответил Самен и добавил — Надо договориться с мирзой Жакеном, чтобы снова сделали меня волостным. Ведь Абай будет этому мешать изо всех сил, постарается меня снять. Тут-то мы его и накроем!
Самен, утвержденный на прошлых выборах управителем по волости Коныр-Кокше, вел себя хуже хищного волка. Он грабил аулы, поджигал пастбища, заставлял конырцев воровать скот у соседей, издевался над вдовами. Недаром люди приходили жаловаться к Абаю: «Спаси нас от этого кровопийцы. Он хуже двуглавого змея, не только баранов и лошадей забирает, но уже до человеческой совести добирается. Скоро всех нас погубит!»
Когда Абай ехал на чрезвычайный съезд через многие жайляу Коныр-Кокше, он видел слезы и страдания народа. Вспомнив об этом, он и бросил в лицо Самену, словно хлестнув по нему нагайкой: «Не себя ли ты считаешь лучшим? Тебе овец пасти пристало, а не народом управлять».
Не случайно Самен и Уразбай пришли в выводу, что им надо спешить, и в тот же день, покинув Аркат, выехали в аул Самена.
В Коныр-Кокше жили казахи рода Жаман-Тобыкты. Не желая называться жаман-тобыктинцами,[158] они стали именовать себя «жакен». Вместе с ними жили казахи племени Мамая и Кокше.
Приехав в аул Абена, Уразбай за три дня собрал всех аткаминеров Жакена, и пригласил баев Мамая.
Призвав в свидетели духов покойных предков, он принялся всячески поносить своего врага:
— На съезде в Аркате Абай помог уакам свалить тобыктинцев и сравнять их с землей! На предстоящих выборах он приторочит ваши головы к седлу какого-нибудь безродного нищего! Хотите ли вы такого позора?
Аткаминеры Жакена и баи Мамая не захотели. Тогда Уразбай заставил их в том поклясться, а для крепости сговора зарезать несколько серых баранов и принести их в жертву. Так Уразбаю удалось вновь склонить верхушку Жакена на сторону Самена, после чего он вернулся в свой аул.
Через две недели на Жакенском жайляу в Акшатау начали ставить юрты. Выборы должны были проводиться на урочище Кошбике.
За три дня до выборов Самен отправил к Уразбаю гонца на двух сменных конях с письмом, в котором писал:
«Если судить по шарам выборных, победа будет за мной. Похоже, что меня вновь изберут в волостные. Но сюда собирается приехать Абай. Он договорился с уездным начальником и переводчиком, — может помешать. Без тебя не обойдусь, появись там, где будешь нужен!»
Получив эту весть, Уразбай немедленно сел на своего белогривого коня и выехал в сопровождении двух жигитов и молчаливого чугунно-тяжелого Есентая, на которого мог рассчитывать как на верную свою дубинку. Старые товарищи по разбою, они сейчас дружно скакали рядом. Хотя до Кошбике было далеко, Уразбай решил останавливаться на ночлег только на одну ночь, выбрав для отдыха аул Такежана.
Предварительно поговорив с Азимбаем и Такежаном во время чаепития, он вызвал к себе из соседнего аула Шубара. Когда тот явился, Уразбай вывел всех троих на воздух, подальше от посторонних глаз, и загадал им свою страшную загадку. Еще до полуночи между ними по сути дела было сказано все. А под конец Уразбай сделал последний нажим на Такежана, Азимбая и Шубара, весьма прозрачно намекнув:
— Вы оба — божьи дети! Настоящее имя Такежана — Танирберды, что означает: «Небо дало». Отца Шубара зовут Кудайберды — «Бог дал». Вот и выходит, что оба вы — сыновья неба. Я хочу вспомнить далекого предка нашего — бия Унсенбая, и близкого — хаджи Кунанбая, и призвать их дух во свидетели. Вы их родные дети, вот и держите вдвоем крепкий союз. А Ибрая я не считаю сыном вашего отца и приношу в жертву духам предков. Вот мое решение, и с ним я уеду от вас!
Так иносказательно Уразбай приоткрыл тайну своего замысла и замолчал.
Он поджидал, что ему ответят три иргизбая. Они не проронили ни звука, но и не содрогнулись от ужаса, не запротестовали. Их молчание можно было считать за согласие. А Шубар, когда Уразбай особенно пристально посмотрел на него, даже слегка кивнул головой.
«Все решено», — подумал Уразбай и, облегченно вздохнув, опираясь на нагайку, поднялся.
— Подать коня! — приказал он.
Черные дела творятся ночью, пока у людей завязаны глаза темнотой, а Уразбай хотел сохранить в тайне свое посещение такежановского аула. Такежан и Азимбай тоже хотели остаться в стороне и отнюдь не стремились показываться вместе с Уразбаем. Его решение немедленно уехать устраивало всех. К тому же Уразбай вдоволь наелся мяса и напился кумыса, и ничто не задерживало его в ауле сородичей. Вскочив на своего белогривого коня, он погнал его теперь, как бывало в молодости, крупной рысью, торопясь поскорее добраться до Кошбике.
В эти дни Абай не мог усидеть дома. В Аркате он успешно боролся против угнетателей народа и на предстоящих выборах в Коныр-Кокше решил продолжить эту борьбу, понимая, что, если Самен и Азимбай не будут избраны в волостные управители, жизнь людей станет намного легче. И он поехал на выборы в Кошбике.
Уразбай, сделав по пути только одну ночевку, приехал под утро, а Абай вместе с четырьмя своими спутниками не спешил и добрался до Кошбике лишь к закату солнца следующего дня, когда верующие творили вечернюю молитву.
Из близких Абай взял с собой одного Какитая, остальные три попутчика, ехвашие на выборы, примкнули к нему в дороге.
Уездный начальник Маковецкий приехал к Кошбике почти одновременно с Абаем — надо было с ним поскорее встретиться и поговорить. Но прежде чем пойти к уездному, Абай попросил напиться у жигитов, хозяйничавших в юрте, где он остановился. Молодой быстроглазый человек, который разливал кумыс, услыхав о том, что Абай собирается к Маковецкому, торопливо выскочил из юрты, шепнул беззубому рыжему жигиту, ожидавшему возле дверей:
— Хочет сейчас идти к уездному. Передай! Беззубый кивнул головой и исчез.
В соседних юртах в это время собралось до полусотни озлобленных аткаминеров во главе с Саменом. У некоторых были в руках нагайки, у других короткие шокпары и даже ножи.
— Собирается уходить! — принес весть беззубый жигит.
Самен первым вышел из юрты. Есентай нагнал его и, заслонив своим тучным телом, оттеснил от других. Исподлобья глядя на него узкими заплывшими глазами, он сказал:
— Пока рука не будет батыром, сердце не станет смелым…
С этими словами он вырвал из рук Самена тонкую плеть и вложил в его ладонь восьмигранную нагайку.
— Хорошо для жигита, когда гнев пронизывает его до костей. Пусть с тобой будет дух нашего предка Жаке. Не шади их и не щади себя… — И, не дав Самену возразить ни слова, подтолкнул его вперед… Дьявол дал понять, что жаждет крови.
Быстрыми шагами Самен дошел до юрты, где находился Абай, распахнул дверь настежь и стремительно вошел. Следом за ним, открыто держа в руках шокпары и нагайки, в юрту протиснулись пятнадцать жигитов. Их появление было столь неожиданным, что Абай невольно растерялся.
Размеренным шагом, подойдя к молча смотревшему на него Абаю, Самен громко произнес гнусное ругательство и добавил:
— Теперь ты наконец отстанешь от меня, черный пес! — И, высоко занеся нагайку, изо всей силы ударил Абая по голове.
Это послужило сигналом: грузный Абай не успел подняться, как на него градом посыпались удары. Но среди злодеев нашлось несколько человек, которые, увидев, что Абая хотят забить насмерть, ужаснулись и пожалели поэта — они нарочно падали на него, стараясь прикрыть от ударов своим телом. И таких оказалось несколько человек. Зато другие, не доставая нагайками до Абая, принялись избивать Какитая. Каким-то чудом сумел он вырваться из юрты и помчался по направлению юрты уездного.
— Спасите! Помогите! — кричал он по-русски.
Но никто не спешил ему на помощь.
Через некоторое время загремели выстрелы — это стражники, не трогаясь с места, палили для острастки в воздух. Стая хищников во главе с Саменом разбежалась в разные стороны.
Окруженный коварными врагами, способными на любое злодеяние, Абай ожидал от них всякой мерзости и полагался только на свою судьбу. До сегодняшнего дня она его еще миловала. А вот сегодня случилось нечто более страшное, нежели сама смерть! Удары, нанесенные поэту по голове, кровавые раны, иссеченное нагайками лицо — эти следы волчьих зубов были оскорбительны не только для честного сына казахского народа, родившегося раньше своего времени, но для совести и чести всех казахов.
Когда Абай пришел в сознание и понял, что случилось, он с ужасом прошептал:
— Зачем я остался жив! Лучше бы мне умереть!
Он много раз повторял эти слова, горькие, как отрава. Они лучше всего выражали единственное желание, которое он сейчас испытывал.
Абай вернулся в свой аул на Шакпаке. Бледная, словно полотно, с глазами, полными слез, Айгерим встретила Абая, помогла ему сойти с лошади, открыла дверь и проводила в юрту. И днем и ночью, втихомолку от мужа, она проливала слезы. За два дня на ее лице появились черточки морщинок, неожиданно свалившееся горе словно состарило ее. Абай, казалось, находился на рубеже между жизнью и смертью, он неподвижно и молча лежал на подушках. Сразу же по приезде его стали навещать соседи, знакомые и кровные родственники. Никто из них не смел смотреть ему в лицо. Все считали себя виновными перед великой душой поэта, над которой так гнусно надругались враги. Люди словно на собственном теле ощущали побои, нанесенные Абаю. Все, кто любил и уважал поэта, мучительно переживали позор, выпавший на его долю. Для каждого это было так же оскорбительно, как если бы кто избил его ни в чем не повинную родную мать.
Страшное событие этих дней тяжело переживал Дармен. Войдя в свою отау, он невнятно пробормотал несколько слов Макен, сидевшей возле высокой кровати за шитьем, и тут же, упав лицом в белые вышитые подушки, зарыдал, задыхаясь от слез.
Макен вскрикнула в ужасе, она то трясла Дармена, прильнувши к нему и утешая его, то сама безудержно рыдала. Перебивая друг друга, они горестно восклицали:
— Бесценный ага, милый!
— Дорогой наш ага!
— Ох стану жертвой за тебя, родной!
— Лучше бы это стряслось со мною!..
Придя в себя и горестно размышляя о страшном событии в Кошбике, Дармен правильно разгадал тайну позорной кары, которой подвергли Абая.
— Ты потерпел за свои свидетельские показания на Аркатском съезде! За совесть, за доброе имя человека! За то, что был лучшим из лучших, явил справедливость, — за это ты пострадал от злодеев! Опора, слава ты наша! Драгоценный наставник, брат мой родной!
Так наедине с Макен Дармен открывал ей свои мысли, возникшие в глубине его души.
В эти дни в Шакпак перекочевал аул Такежана, видимо с целью выразить «свое сочувствие» горю Абая. Магаш, Какитай и Баймагамбет, проезжая мимо этого аула, заметили запрятанного в зарослях тальника оседланного коня. Почуяв недоброе, они подкрались к нему и сразу узнали крутобедрую лошадь, которая некогда принадлежала Акылбаю, а у нее под животом прятался знаменитый уразбаевский приспешник, конокрад Кийкым, — его также сразу можно было узнать по носу, который своей формой напоминал серп. Этот прохвост торчал здесь недаром.
— Эй, стой! — крикнул Какитай.
Кийкым мигом вскочил на своего крутобедрого коня и во весь опор поскакал в сторону аула Уразбая. Магаш, Какитай и Баймагамбет кинулись вдогонку, но беглец не дал им догнать себя и легко ушел от погони. Магаш и Какитай были возмущены до глубины души. Кийкым спасся на знаменитом гнедом скакуне с меткой на лбу. Некогда этого коня Акылбай подарил Азимбаю, а в прошлом году на жайляу уразбаевский аул выпросил его у Азимбая в подарок. Ходили слухи, что с тех пор, как гнедой конь попал к есболатам, он уже три раза приходил первый на байге.
И вот теперь на знаменитом гнедом скакуне, принадлежавшем Уразбаю, приехал отъявленный конокрад Кийкым и прятался около аула Такежана. Молодые жигиты сразу догадались, зачем он это делает. Несомненно, Уразбай подослал к Такежану и Азимбаю своего лазутчика, разведать, что собираются предпринимать сторонники Абая.
Какитай и Магаш поспешили вернуться в аул. Задыхаясь от негодования, они вошли в юрту Абая.
Лежавший в одиночестве поэт, увидев их взволнованные лица, приподнялся на локте.
— Ну, что еще случилось? Говорите правду…
Магаш рассказал про Кийкыма, скрывавшегося возле такежановского аула, добавив:
— Пусть бог накажет за это Такежана!
По лицу Абая прошла тень гнева, и он протянул руку Баймагамбету:
— Дай треух!
Баймагамбет вместе с треухом подал и нагайку. Абай быстро поднялся и дрожащим голосом сказал:
— Значит, змея приползла и сюда, к моей груди, чтобы меня ужалить? Зачем я остаюсь, здесь, на этой земле, с этими людьми? Нет меня больше для вас. Идем, Баймагамбет!
И он вышел из юрты. На привязи стоял иноходец Есентая, на котором Абай ездил последнее время. Он сам отвязал его и сел в седло, а Баймагамбету показал нагайкой на коня Магаша:
— Уйдем с этого места, от этой проклятой жизни! Лицо его сделалось мертвенно-белым, от сдерживаемого гнева вздыбились волосы его бороды.
Баймагамбет вскочил на коня.
— Куда поедем?
— Туда! — Абай кивнул головой в сторону заката и хлестнул иноходца нагайкой. Два всадника помчались один за другим.
Магаш и Какитай стояли оробевшие. Ужас охватил их, и они не знали, что им делать.
В это время к ним подскакали Исхак и Шубар.
— Что случилось? Куда поехал Абай? — испуганно спросил Исхак, глядя на расстроенные лица братьев.
Магаш, не глядя на подъехавших родственников, словно в забытьи, говорил сам с собой:
— Что делается на свете… Уехал… Покинул родную землю… родных людей… Потерял в них веру… Вон скачет как… Назад не вернется…
На глаза его навернулись слезы.
— Боже мой! Что он говорит? Неужели отпустили Абая? Едемте, Исхак-ага! — с ужасом воскликнул Шубар.
И, нахлестывая изо всех сил своего коня, он первый поскакал догонять Абая. Исхак ринулся за ним.
На жайляу ясный, теплый вечер. Багровый диск солнца опускался за горизонт, и когда он наполовину скрылся за далеким желтым хребтом, степь и далекие горы сразу покраснели, словно облитые кровью. В алом свете преобразились пасущиеся стада, юрты и бежавшие рысью кони Абая и Баймагамбета.
Исхак и Шубар, понукая своих коней, скакали сзади. Вот они поравнялись с Баймагамбетом, перегнали его и на полном скаку с двух сторон подлетели к Абаю.
— Агатай! Абай-ага! Куда едешь?! — умоляюще завопил Шубар, соскакивая с коня и хватая поводья серого иноходца.
— Отпусти! Отойди! — крикнул Абай с отвращением глядя на смертельно бледное лицо Шубара.
А Шубар быстрым движением вырвал из рук Абая повод и обвязал им свою шею, прихватив и черную бороду.
— Если уедешь — задуши меня, растопчи копытами своей лошади… — Голос его дрожал от слез; искусный притворщик, он бросал горячие слова, способные тронуть любое сердце. — Не покидай родного народа! Вернись! Милый Абай-ага, не отпустим тебя! Жертвую своей головой ради тебя! — кричал он, громко рыдая.
Теперь и Исхак взял под уздцы лошадь Абая.
— Успокойся, Абай, — сказал он тихо, без всякого притворства, и по голосу его можно было почувствовать, что он по-настоящему мучается. — Я только перед отъездом узнал, что вдова Абиша, несчастная Магиш, гаснет от горя. Она просит тебя принять ее последний вздох. Неужели ты уедешь и не попрощаешься с нею? Ведь она тоже твое дитя!
Услышав эти слова, Абай растерялся.
— Вот кто страдает еще больше меня! — воскликнул он. — Бедняжка моя! Как я тебя забыл…
И Абай повернул коня.
Как раз в это время в маленькой юрте, прощалась со своей короткой жизнью Магиш. Она лежала в постели, разостланной на земле, потому что ей трудно было подняться на высокую кровать. Голова ее покоилась на коленях Макен, задушевной подруги, с которой они за всю жизнь ни разу хмуро не глянули друг на друга. Некогда здоровое и красивое тело молодой женщины сейчас было истощено безутешным горем. За два года Магиш сгорела, тоска извела ее, и теперь она выполняла обещание, данное Абишу, — уходила к нему.
Абай торопил коня, охваченный думою о Магиш, об Абише, мысленно слагая стихи:
Я стал бедней бедняка, Меня сгибает тоска. Опоры ищет рука,— А где она, где она?! Лишь горечь сердцу близка, Ему отрады не знать. Мне наша скорбь тяжела. Мой сын не встает от сна. Мне трудно стало с людьми, Навеки я одинок. Магиш, родная, пойми![159]И, повторяя последнюю строку, он чувствовал, как его горе сливается с горем любимой невестки.
Абай и Баймагамбет доехали до малой траурной юрты покойного Абиша и молча сошли с коней.
Когда поэт увидел плачущую Макен, он понял, что Магиш закрыла глаза навсегда. Из груди его вырвалось глухое рыдание. Перешагнув порог, он кинулся к постели, где, вытянувшись, лежала Магиш, обнял ее голову, и из глаз его полились крупные горячие слезы.
В СХВАТКЕ
1
Молва о покушении на Абая, совершенном в Кошбике, долго переходила из уст в уста. Люди толковали судили и рядили об этом событии по-разному. По всей округе шли слухи и слушки — противоречивые, неясные, подчас один нелепей другого. Одержимые спесью и мнящие себя храбрецами «герои» Иргизбая и тут не пошли дальше пустых угроз. В день возвращения Абая иные из аулов рода даже посадили на коней своих молодчиков жигитов, способных держать соил и пригодных к бою. Они хвалились, что подкараулят Уразбая на пути из Акшатая домой, куда он возвращался после выборов. Жигиты скакали взад и вперед на конях—главным образом днем, — горланя: «Убьем!», «Уничтожим!». Шумной толпой они заезжали в каждый попутный аул, попивали кумыс кучками гарцевали на ближних холмах.
Однако, как только проходил хмель от кумыса, они не дожидаясь вечера, убирались восвояси.
Все же Уразбай, услышав об этих угрозах, встревожился не на шутку. Его путь лежал мимо аулов Иргизбая, и он проскочил к себе домой под покровом ночи, словно беглец, спасающийся от погони. По приезде в свой аул он тайно послал к Азимбаю своих приспешников: мелкого воришку Кийкыма и других таких же, как и он, плутов и пройдох. Иргизбаевцы, воспылавшие было праведным гневом, теперь стали украдкой поглядывать в сторону Такежана, Азимбая и Шубара. Они уже не были склонны провозглашать на каждом шагу во всеуслышание: «истребим», «изничтожим», «ударим», «совершим набег»!
Только появляясь в ауле Абая, эти люди, с которых соскочил весь их вчерашний пыл и спесь, еще пробовали шуметь, будто бы они способны были покарать обидчика. Старейший из иргизбаевских аксакалов Ырсай ворвался в дом Абая в сопровождении молчаливой кучки никчемных белобородых и чернобородых людишек. Ырсай громко плакал, возмущался, негодовал, рвался в бой.
— Прикажи, родной! Мы пришли умереть от руки твоего врага. Велишь разорить его — разорим! Велишь биться насмерть — готовы сразиться хоть сейчас! — вопил он.
Вместе с ним к Абаю вошли Какитай и Магаш, чтобы узнать, что он собирается теперь делать. Молчавший со дня возвращения Абай, с трудом преодолевая свои тяжкие думы, вымолвил кратко:
— Если я, желая отомстить укусившей меня собаке, тоже начну кусаться, не оскверню ли я этим свои уста! — И снова замолк.
Аулы двух других сыновей Кунанбая отнюдь не кипели негодованием. Своей молчаливой сдержанностью они давали почувствовать сородичам свое особое отношение к событию в Кошбике.
Так вели себя так называемые «единоутробные братья» и «родные». Зато простые люди Чингизской волости ото всей души негодовали за Абая. Их решительные и гневные голоса звучали все громче и громче. Возмущение наглой расправой, учиненной над уважаемым всеми человеком, уже распространилось через рубежи Чингизской волости и охватывало многочисленных тобыктинцев за ее пределами. Не родовитые баи, не волостные управители или коноводы-аткаминеры, главари вечно враждующих партий и групп, а большинство простых, незнатных люден скорбело за Абая.
Зазвав к себе Магаша и Какитая, они говорили о мести:
— Будем мстить Уразбаю. И не за одного только Абая — за народ. Не Уразбая одного накажем, найдем и того преступника, который вложил в его руку кистень. Заставим уплатить пеню, заклеймим позором. Сторицею воздадим негодяю, а добро его по ветру пустим.
Обращенные к Абаю, эти слова высказывались перед Магашем — его любимым сыном, «самым ученым и разумным среди молодежи». Возмущенные тобыктинцы посылали друг к другу гонцов. Лучшие люди родов Мотыш, Кулык, Дузбембет, Карамырза, родов, хотя и захудалых, но все еще считавшихся знатными, совещались между собой. К Магашу приезжал их посланец по имени Кодыга. Приезжали люди из родов Сактогалак, Жуантаяк, селившихся вблизи урочища Уразбая. Были сочувствующие Абаю и в соседних родах Кокше и Мамая. Все в один голос заявляли: «Заклеймим позором лицо Уразбая, заставим его припасть к ногам Абая с повинной».
Всем приезжающим к Абаю со словами сочувствия Магаш пока что отвечал сдержанно и скупо:
— Честь моего отца не продается. Его достоинство не может быть восстановлено уплатой мзды, искупающей подлость злодея, или его признанием вины своей. Такого лечения нанесенной ему раны отец мой не примет, да и я одобрить не могу!
Эти исполненные достоинства слова Магаша доставили Абаю минуты истинной радости: сын вырос настоящим человеком!
Как бы то ни было, весть о разбойничьем покушении разнеслась далеко за пределы тех мест, где жили Абай и Уразбай. Вот уже год минул со времени злодеяния. Аулы снова разместились на своих обычных летних урочищах, на тучных пастбищах близ рек и ручьев, а молва народная все ширилась и росла. Теперь уже не только тобыктинцам, но и всем родам и племенам, где знали и любили стихи Абая, пламенное слово его поучения и добрые дела заступника народного, стало известно о гнусном насилии, совершенном над ним. Теперь эта черная весть облетела многие земли, пришла к найманам, кереям, уакам, самым крупным родам среди многочисленных аргынов. Она стала достоянием не только степных обитателей на их летних, осенних и зимних кочевьях — мало-помалу она достигла и городов всех пяти уездов Семипалатинской области. Об этом говорил и весь Семипалатинск — центр, куда стекаются жители из всех уголков густонаселенной области, приезжают уездные управители, просители, тяжебщики и торговцы.
В Каркаралинске, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Зайсане, Кокпекты, Баян-Ауле — во всех городах, так или иначе связанных с Семипалатинском, узнали об этом событии. Слухи доходили и до Кара-Откела — соседней Акмолинской области, и даже до отдаленных городов Семиречья: Лепсы, Аягуза и Копала.
Так медленно, но неуклонно и неудержимо распространялось известие о страшном ударе, нанесенном чести Абая, человека высоких достоинств, достопочтенного и высокочтимого сына казахского народа. И снова новые люди по-разному толковали о нем, обсуждали его со всех сторон, высказывали разное к нему отношение. Но везде и всюду большинство простых людей по-прежнему выражало свое сердечное сочувствие поэту. Своим отношением к покушению на жизнь Абая люди невольно обнаруживали свое истинное лицо.
Если послушать, например, волостных управителей, хаджей, мулл и знатных баев любого рода, то они не так-то уж сильно сокрушались об Абае. Встречаясь, они кичливо разглагольствовали о том, как их предки получали чины от высокого начальства, какими богатыми и сильными заправилами они были, или о том, как сами они совершали паломничества в Мекку, либо как ездили на Макаржи. Хвалились тем, что побывали в канцелярии таких-то губернаторов, выступали на таких-то чрезвычайных съездах.
Эти люди упоминали имя Абая в одном ряду с именем Уразбая, отнюдь не порицая последнего. «Значит, так сделал», «Так, значит, поступил батыр», — говорили они, ревнуя Абая к его славе и преклоняясь перед злобной волей и душевной мерзостью Уразбая. Были среди этих влиятельных насильников и такие, которые слышали о беспощадном обличении Абаем баев и волостных, а потому смертельно ненавидели его. Они раздували слухи об унижениях, которые претерпел Абай, и поносили его, приговаривая: «Сам во всем виноват, поделом ему и досталось». Они не прощали Абаю его разящих стихов и метких обличающих слов, его пламенного учения — того независимого пути, которым он неуклонно шел всю жизнь.
— Ибрай возгордился! Зачванился сверх своих сил! Лучшим людям казахским нанес оскорбление словом, — понятно, задел их за живое! Вот Уразбай и вступился за их честь, за честь большинства! Все это не так-то просто! — говорили они.
Так толковали многие степные заправилы, известные хаджи Усть-Каменогорского, Зайсанского, Павлодарского, Каркаралинского уездов. Сильные мира сего, встречавшиеся с Абаем на могих сборах, воочию видевшие его превосходство над собой, затаили завистливую злобу. Теперь они считали своевременным поддержать Уразбая. Потому-то они не только не осуждают его, но со смаком рассказывают о его «подвиге».
А что же народ? Много было людей из народа, горько туживших об Абае. Они не делились на ближние и дальние аулы, на «участливых сородичей» или «иноплеменных чужаков». Это были просто друзья и доброжелатели поэта, бескорыстно преданные ему. Им не было числа, и для них не существовало ни дальности расстояний, ни отдаленности родства. Вести о жестоком произволе, от которого страдал Абай, задевали их собственную честь, и, сокрушаясь о нем, эти люди еще сильнее тянулись к нему, к его мудрой песне, к его светлой мысли, дошедшей до них еще задолго до покушения. Преданных друзей в самой гуще народной было у Абая немало и в аулах и в городах, а особенно много — в Семипалатинске. Слова и песни Абая не сходили с уст учеников и мусульманских и русских школ. Абая любила рабочая городская беднота. Множество ремесленников, казахская голь перекатная, заполняющая базары, даже мелкие торговцы с обоих концов города за последние годы наслушались песен и изречений, о которых говорилось: «Это сказал Абай». Город оказался восприимчивым, он чутко прислушивался ко всему новому. Стоило какой-нибудь семье сегодня услышать свежую весточку, необычное слово, назавтра оно с быстротой птицы облетало базары, улицы и переулки. А с тех пор как мудрое слово Абая проникло по обе стороны Иртыша и распространилось по Затону, по Жоламановским Жатакам, волнуя и радуя их обитателей, прошло уже немалое время.
Провожают ли невесту, или справляют свадьбу, празднуют ли рождение ребенка, или собираются на той, либо попросту на вечеринку — никогда не обходится без абаевских песен и стихов, без его дорогого слова. Понятно, что об оскорблении чести Абая городской трудящийся люд говорил с великой тревогой и негодованием.
Близилась осень. Вода в Иртыше пошла на убыль, и широкая река становилась уже. Ее прозрачные воды отстаивались, делались еще синее и чище.
Два парома перевозили путников через Иртыш и Кара-Су. На середине реки был островок, поросший высокими тенистыми тополями, соснами и карагачами. Люди со стороны слободки садились на паром, пересекали Иртыш и сходили на круглый островок, потом перебирались через него, пешие или на подводах, к берегу Кара-Су, где их ожидал второй паром, который перевозил их с островка в Семипалатинск. Путники тратили больше часу на эту переправу. Парусные лодки у Верхних Жатаков были едва ли не единственным средством «прямого сообщения» между обоими берегами. Стар и млад, пешие и конные, русские и казахи, горожане и степняки, обозы, идущие из дальних городов, и караваны из чужих земель — все вынуждены были терпеливо переносить неудобства такой переправы.
Вот и сегодня множество ямщиков на телегах, степные караваны и горожане с обоих берегов ожидали парома, отчалившего от острова к слободке. Как только паром коснулся берега, все конные и пешие, ехавшие из Семипалатинска, освободили переправу. Тогда телеги, стоявшие вплотную одна к другой по обе стороны мостков, соединяющих паром с берегом, стремительно хлынули на эти мостки. У кого сытый конь, бодрый посвист, зычный окрик да длинная плеть, тот всегда раньше пробьется на переправу. Сейчас первыми ринулись ямщицкие телеги из Джетысу. Стоит выскочить вперед хоть одной подводе, как остальные рванутся за ней очертя голову. Причиной тому мешочек с кормом, привязанный к грядке повозки, — он-то и заставляет коней брать с места в карьер без понуканья.
Обычно на паром в первую очередь садятся пешеходы и верховые. Прорвавшись в обгон телег, они забавляются, глядя, как повозки, опережая одна другую, с грохотом влетают на мостки. Глядишь, у плохонькой степной арбы выскочит чекушка из колеса, а то и обод треснет, либо переломится ось. Телега, опрокинутая в воду норовистым верблюдом, тоже потешает проезжих.
Шум и гам. «Ой-ой», «Стой, уйди с дороги!», «Собачий сын!», «Сам ты свинья!», «Я тебе покажу!», «Гляди в оба!», «Будешь знать своего отца!» Отчаянная брань, просьбы о помощи, скрежет немазанных колес, плач детей, пронзительные голоса женщин и истошные вопли не ко времени раскричавшегося осла — у парома стоит дым коромыслом. Подоспевшие со стороны слободки — Марков, фельдшер Девяткин и их общий друг-приятель грузчик Сеит вскочили на паром, когда он уже отчаливал и суматоха улеглась.
Паром был полон. Теперь никто не рвался даже на мостки. Телеги, которым не хватало места на переправе, плотно сбились на берегу, напирая одна на другую, как льдины во время ледохода. Сеит, Девяткин и Марков перебрались на нос парома, чтобы полюбоваться на мощные воды Иртыша. Здесь разместилось около десятка телег. Когда Сеит, сгибаясь, пролезал под мордами лошадей, его с воза окликнул по имени какой-то ямщик. Сеит быстро обернулся: «Ой, никак Жунус! Здорово! Откуда едешь!» Весело здороваясь с добрым знакомцем, он быстро поставил ногу на колесо и вскочил на высокую телегу приятеля, груженную пушниной. Так как на пароме не было скамеек, Сеит позвал к себе Маркова и Девяткина. Они не заставили себя просить и тоже взобрались на воз, заботливо укрытый брезентом и перетянутый арканом. Сеит тут же познакомил приятелей с Жунусом.
— Он тоже работал грузчиком в нашем Затоне. Мы с ним, бывало, все спорили: кто сильнее, кто больше поднимет! А вот сейчас Жунус, оказывается, сильнее меня. Богачом стал. Имеет коня с телегой, битком набитой лисьими да волчьими шкурами. Видать, издалека приехал. Сами посмотрите, какое огромное богатство везет из чужедальних краев! И вправду, откуда едешь, Жунус? — выспрашивал Сеит.
У Жунуса лицо загорелое, руки потрескались, остренькая бородка, подстриженная клинышком, выгорела на солнце и из русой превратилась в желто-пегую. Он с добродушной улыбкой слушал веселую болтовню Сеита, видно, обрадовавшись старому дружку. На вопрос: «Откуда едешь?» — отвечал коротко: «Из Джетысу», «Из Шубар-агаша», «С Ой-жайляу».
Ничего сказать, хорош богач! И конь и телега чужие! Зимой и летом гоняет хозяйские подводы. Он и сейчас нанимался ямщиком у бая-полуказаха Матели.
На этот раз его ямщики на давадцати подводах везли пушнину, собранную со всех волостей, до самой китайской границы. Хорошо, хоть десять телег попали на паром, остальные десять — вон они, на берегу.
Рассказывая друг другу о своем житье-бытье, Жунус и Сеит повели беседу вдвоем, а Девяткин разговаривал с Марковым. Оказалось, что Девяткин возвращался из аулов в низовьях Иртыша, где пробыл целую неделю, лечил больных от какой-то заразной болезни вроде тифа. А Марков ехал с охоты и рыбной ловли. Он побывал у жатаков Жоламана в верховьях Иртыша, на пикете Шоптигак. С Сеитом оба они только что встретились — у переправы. С минуту Марков и Девяткин помолчали, прислушиваясь к разговору. Девяткин хорошо знал по-казахски. Многозначительно посмотрев на Маркова, он сказал:
— О чем они говорят, обратите внимание, о ком толкуют! — И, помолчав, промолвил — Об Ибрагиме Кунанбаевиче они говорят.
Марков подивился тому, что рабочий, встретившись с ямщиком, с первых же слов заговорил о тяжелом положении поэта. Не понимая сам по-казахски, он попросил Девяткина:
— Давайте послушайте; заметьте, как будут говорить.
Жунус приехал в город сегодня ночью и сразу же услышал здешние новости. Однако речи, которые вели об Абае на последнем пикете, он что-то не понял. Какие-то плохие люди покушались на Абая, «совершили неслыханное злодеяние»! Жунус частенько пел песни Абая вместе с Сеитом и теперь жадно расспрашивал его:
— Что это за вести? Что за разговоры?
И Сеит стал рассказывать обо всем, что услыхал сам. Привлеченные разговором друзей, вокруг телеги Жунуса постепенно начали собираться другие ямщики и наконец окружили ее плотным кольцом. Прислушиваясь к словам ямщиков, Девяткин коротко переводил их Маркову. Оказывается, все они, кроме Жунуса, были родом не из Семипалатинской области, а издалека, из Шубар-агаша, Аягуза и Копала. Однако, то ли по рассказу Жунуса, то ли понаслышке, они, видимо, хорошо знали Абая.
Сеит подробно рассказал о подлом деле, совершившемся в Кошбике:
— Абая истязали за то, что он заступался за бедняков Кокена, за доброе имя простых дехкан. Баи говорили, будто он унизил память великого предка Тобыкты, знатных правителей, оскорбил прах благородного отца своего, Кунанбая. Хотели даже убить Абая, да не удалось им довести свое черное дело до конца!
Ямщики, возмущенные, зашумели:
— Вот собаки! Вот звери!
— Разве такие кровопийцы кого пожалеют!
— Ну, над другими издеваются — ладно! Как же они посмели тронуть Абая, бесстыжие?!
— Мало того, что эти воры-пройдохи разоряют народ, караваны грабят, дома поджигают, — до Абая добрались!
— Как же это они его? Один он оставался, что ли? Бросили одного такого прекрасного душевного человека?!
И, присоединяя свой голос к голосам негодующих товарищей, седобородый старый ямщик молвил недоуменно:
— А начальство чего смотрело? Абай ведь почитает русские порядки, почему же начальство-то его не охраняет, не бережет?
Сеит хотел было заступиться за русское начальство:
— Да что же тут поделаешь? Если на то пошло, так ведь Абая начальство-то и спасло. Сам уездный послал стражника с ружьем толпу разгонять. А то бы не миновать Абаю лютой смерти.
Но тут в разговор вмешался Девяткин:
— Ты не знаешь, Сеит, совсем не так это было. Разве уездный начальник заступится за такого человека, как Абай Кунанбаев? Сам народ — вот кто может его защитить! Вот ты, например… — и он указал на Сеита, — ты,— ткнул он пальцем в грудь Жунуса, — и еще ты, — кивнул в сторону седобородого ямщика, а потом широко обвел рукою вокруг, — все вы, весь народ ему защита. Больше за него заступиться некому!
Девяткина слушали с радостным изумлением.
— О-о! Правду он говорит!
— Справедливые твои слова! Прямо в точку попал! Сеит, подумавши, заключил:
— Ну да, как же неправильно! Верно! Говорим: «Лучший из людей, заступник народа». Да кто же народ-то, уразбаи, что ли? Тысячу раз твердил нам Абай, что народ не уразбаи, а простой трудовой люд, такой вот, как мы с вами… А раз Абай сказал, значит так оно и есть… И справедливо нас осуждает Девяткин: мы, народ, за все в ответе!
Приметив, что слушатели прекрасно поняли его скупой намек и горячо откликнулись на него, Девяткин стал рассказывать о том о сем — о своей поездке, что он видел, что слышал в аулах Кара-Шолак, Шалакбас, Кенжебай.
— Как-то вечером зашел я в Кара-Шолаке к одной старушке, у которой внучек заболел. Землянка у нее бедная, сырая… и там в углу, в темноте, старик стоит на молитве, плачет, причитает. Я думал, он за своего больного внучка молится, а он, оказывается, услышал дурную весть об Абае, — и вот, жалеючи его, плачет.
В другом ауле Девяткин видел, как ученики у муллы нараспев твердили стихи Абая. И эти ученики тоже тревожились за поэта, с жадностью расспрашивали о нем у своего учителя, некоторые даже со слезами.
— В ауле Кенжебай живет замечательная девушка Акбалык. К ней приехал жених; вечером затеяли игры, веселье. Сама Акбалык долго пела песнн Абая, спела «Письмо Татьяны», а потом и говорит: «И вот такого благородного человека, творца золотых слов — Абая — хотели убить бесстыдные кровопийцы, выродки, недостойные называться казахами! Много еще у нас таких собак! Много кровожадных волков!» Вот что сказала девушка Акбалык.
Девяткин от души восхищался.
— Своими глазами видел я простую аульную девушку, умницу, которая хорошо поняла и полюбила Абая. Поэтому-то я и считаю, что его знает народ, что друг Абая — народ и что только народ может его отстоять и оберечь.
Разговоры об Абае не умолкли и тогда, когда проезжие пересели на второй паром. Марков также порассказал о том, как много, он слышал сочувственных речей об Абае от стариков и молодых, когда охотился и работал на Иртыше.
А потом обо всем, что говорилось в народе, Марков передал Павлову. Вскоре то, что рассказывали об Абае на переправе через Иртыш, можно было услышать то тут, то там — в разных местах, в городе и в ауле. Обрастая новыми подробностями, обогащаясь чувствами и мыслями многих людей, эти рассказы становились печальной, из уст в уста передававшейся легендой о безвинных страданиях народного заступника. Легенду эту рассказывали и в лачугах таких бедных тружеников, как Дамежан, и в лодке старого Сеиля, и на пристани, и особенно в бараках, где ютились бездомные грузчики. Рабочие клеймили врагов Абая, решительно осуждая подлое злодеяние Уразбая.
Когда после события в Кошбике минул год, в ауле рода Тогалак появился грузчик Сеит. Он пришел сюда на побывку. В конце зимы Сеит болел тифом, а когда поправился, навигация уже открылась, и ему предстояло, как всегда, грузить баржи и пароходы. В прежние времена он работал за двоих, но недюжинная сила его нынче пошла на убыль, не было прежней крепости в спине и в руках, ноги, когда он шел с грузом, подгибались. И без того скудный заработок его упал еще ниже. Друзья и товарищи, Абен, жена, — все говорили о том, что не худо было бы ему поехать на лето в родную степь.
С весны Сеит и оказался у родственников в давно покинутом им ауле. Прибыв на родину во время перекочевки на летовку, Сеит гостил здесь уже около двух месяцев, пил кумыс, набирался сил, — и вот теперь, когда аулы снимались с горных пастбищ, чтобы перекочевать на равнину, больной уже окреп, на изжелта-сером лице заиграл здоровый румянец, прежняя сила возвращалась к нему.
Хотя Сеит в городе жил бедно, тяжким трудом зарабатывая себе на хлеб, но если в его доме появлялся гость, он делился с ним последним куском. Таков же был и Абен, который, как и Сеит, свято соблюдал обычаи грузчиков, щедрых и хлебосольных бедняков.
Зимой и летом степные гости, приезжающие в город во время забоя скота или с щетиной и шерстью на рынок, до отказа переполняли дома и дворы затонских рабочих.
Под плоской кровлей низенького саманного домика Сеита в Затоне постоянно гостил кто-нибудь из земляков. Иной раз люди приезжали к нему целыми караванами и со всеми своими верблюдами, санями, поклажей еле вмещались в его маленьком дворике. Не только заезжие одноаульцы из рода Тогалак, к Сеиту ехали в расчете на его радушие, на широкую его натуру и родные его товарищей-грузчиков и знакомые друзей из чужих волостей и селений.
Бывали дни в жизни Сеита, когда ему не на что было угостить постояльцев не то что мясом, даже хлебом. И лишь немногие из приезжих, понимая тяжелое положение бедняка, умели вовремя и без лишних слов оказать ему посильную помощь. Ведь Сеит и его великодушная жена, пока не истратят последнюю полушку, скрывают свою нищету, стесняясь признаться, что им нечем угостить людей.
Перехватив деньжат то у соседа казаха, то у русского товарища грузчика или мастера, а иной раз у живущего с ним бок о бок дружка, кузнеца Кирилла, Сеит с почетом встречал и провожал своих гостей, а потом из скудного своего заработка с трудом расплачивался с долгами.
Но это не печалило Сеита, щедро наделенного не только могучей силой, но и веселой широкой душой, что называется нараспашку. За легкий нрав и открытое сердце особенно любил Сеита Дармен. В свою очередь и рабочие Затона, а Сеит и Абен первые, особенно радушно принимали искусных певцов, домбристов, поэтов, таких как Дармен, Альмагамбет, Муха. Любили и уважали они и Баймагамбета. Если дорогие гости долго не появлялись в городе, о них тревожились, по ним тосковали.
От них к рабочим Затона приходило песенное слово Абая, которое Сеит с Абеном и другие грузчики широко распространяли в народе. Речистая трехструнная семипалатинская домбра висела в доме Сеита на почетном месте. В редкие минуты отдыха Сеит, лежа на спине и положив поперек груди свою звучную домбру, громко распевал песни Абая, которые были в ту пору на устах всех казахов гор и равнин. Пел Сеит под свой собственный аккомпанемент и татарские песни, мурлыкал себе под нос мотивы без слов. И теперь, отдыхая все лето в аулах родного Тогалака, Сеит веселил и потешал своих сверстников и всех, кто хотел его слушать.
Многочисленные бедняки, приезжавшие к Сеиту в город, как в свой собственный дом, теперь наперебой старались отблагодарить его за щедрое гостеприимство. Один ставил Сеиту кумыс, другой потчевал его простоквашей и варенцом; третий резал для него ягненка или козленка. Неутомимый певец и непобедимый силач, Сеит сделался всеобщим любимцем, и его с почетом принимали в любом доме целой округи.
У многочисленных тогалаков было мало земли, а потому на любом их урочище аулы селились тесно один к другому. В родстве с тогалаками состояли и саки, одна из ветвей общего многолюдного рода. Иногда самые названия этих родов произносились слитно — Сак-Тогалак, и жили они в мире и дружбе, как одна семья. Они не затевали смут, не угоняли чужого скота, не чинили набегов, берегли свое честное имя. И хотя в соседних сильных родах, Есболат и Олжай, было немало баев-насильников, охочих до споров и раздоров, над многочисленными и дружными родами не так-то легко было чинить расправу. Потому-то смутьяны избегали столкновений с сак-тогалаками.
Один из жигитов-бедняков рода Есболат, Айса, добрый знакомый Сеита, зазвал его к себе погостить. Сеит, прихватив с собой молодого паренька из тогалаков, отправился в гости и очутился в близком соседстве с аулом достославного Уразбая. Вот уже два дня грузчик пел и веселился в доме своего сверстника в обществе батраков и пастухов, подчас больше интересовавшихся стихами, чем музыкой и пением. Сеит, хотя и не обладавший сильным голосом, но умевший петь мягко и приятно, казался своим невзыскательным слушателям заправским артистом и, превратив юрту своего сверстника Айсы в своего рода театр, сумел увлечь их песнями Абая. Из уст Сеита лились слова, дотоле неведомые здешним чабанам, доильщикам, табунщикам и скотникам. Иногда он пел их под звуки домбры, иногда пересказывал речитативом, и прекрасные стихи журчали, как неиссякаемые струйки родника. И все это — стихи, песни и напевы — принадлежало Абаю. Вот Абай издевается над волостными, осуждает жадного богача, изобличает их острой насмешкой. Он клеймит аткаминеров, верховодов и заправил враждующих групп и родов, беспощадно сечет метким словом насильников и смутьянов. Сеит пел, увлекая слушателей и увлекаясь сам, вызывая горячий отклик в сердцах людей, заставляя их то плакать, то заливаться смехом.
Прохладным вечером, выйдя вместе с жигитами на зеленую лужайку, Сеит показал и свою удаль в борьбе. Он поочередно положил на обе лопатки трех сильнейших жигитов рода, специально выбранных Айсой для состязания с городским гостем. Одного за другим взваливал Сеит себе на спину, а потом перекидывал через плечо и бросал, как шапку, оземь, приговаривая: «Вот оно как грузчики-то делают!»
Сегодня в полдень друзьям сообщили, что в колодец, из которого брали воду все окрестные аулы, еще с вечера провалился верблюд, и, разумеется, Сеит с Айсой и пареньком-тогалаком, гостившим у Айсы вместе с Сеитом, тут же отправились к месту происшествия. Так как и верблюд и колодец были Уразбаевы, его подручный, конокрад Кийкым, согнал сюда жигитов со всех аулов. Множество мужчин, бестолково суетясь и мешая друг другу, тщетно старались вытащить тяжелого старого верблюда из глубокого колодца. Для того чтобы совладать с этим делом, нужна не только огромная сила, но и сноровка, а ее-то ни у кого и не было.
И вот под шумное одобрение двух десятков мужчин Сеит потащил за голову из осыпающегося старого колодца громадного многопудового верблюда, в то время как остальные вытягивали его туловище, пропустив арканы ему под брюхо. Теперь нужно было вычистить колодец, вычерпав из него всю воду, так как из него не только поили скот, но и пили все люди ближайших аулов. На пути к осенним пастбищам больше не было ни рек, ни ручьев, никаких других водоемов.
Почти до дна вычерпав колодец ведрами, усталые люди тут же расположились на отдых и, разумеется, вспомнили о Сеите. Его начали просить повторить еще раз понравившиеся всем накануне хорошие песни и «поучительные слова».
Когда Сеит был в добром настроении, он без долгих уговоров выкладывал все, что знал и умел. Так и на этот раз он, не заставляя себя просить, запел стих Абая «Алыстан сермеп»,[160] то растягивая слова, то снова переходя на быстрый игривый речитатив; целиком отдаваясь ритму, всем своим существом погруженный в словами мысли любимого поэта, Сеит и не заметил, что иные жигиты и даже старики, сидевшие около него, то и дело смущенно поглядывают в сторону, словно кого-то опасаясь. Чувствуя, что люди перестают слушать, присматриваясь к чему-то позади него, Сеит убыстрил темп и, заканчивая песню, резко оборвал на высокой ноте. Обернувшись, он только сейчас заметил позади себя восседавшего на сытом белом коне Уразбая, гневно вперившего в певца свой единственный глаз из-под надвинутой на самые брови белой заячьей шапки.
Уразбай не принял приветствия Сеита и, еще крепче сжав плетку, злобно прошипел:
— Ты чьи слова принес в мой аул, голодранец? Сеит сначала и не понял в чем дело.
— Какие я принес к вам слова, о чем вы говорите, бай?
— Что, или отпираться задумал? Ведь я только что сам слышал все своими ушами!
Только теперь понял Сеит, о чем толкует Уразбай, и весело засмеялся.
— Ага! Вы имеете в виду слова Абая, которые я тут пел. Это верно. Такая уж у меня привычка. Пою их в ауле да и в городе вспоминаю частенько. На то они и написаны, чтобы их петь. Что ж еще прикажете с ними делать, барин дорогой?
— А ну-ка, попробуй повтори еще хоть словечко! Покажи свои тайные подвохи!
— Раз вы просите повторить — повторю. Только никаких тайн и подвохов у меня нет. Я что знаю, то и говорю! — И он начал было читать наизусть стихотворение Абая «Нет дум иных у бая», написанное в позапрошлом году и тут же заученное им самим и Дарменом. Сидя на корточках и повернувшись всем своим могучим корпусом к Уразбаю, Сеит бросал гневные слова прямо в лицо зарвавшемуся злодею, возомнившему себя всесильным, но презираемому всеми честными людьми своего народа.
Казалось, сам Абай вручил борцу соил и говорил: «Бей его, Сеит!» Вперив свои острые маленькие глаза в единственное око Уразбая, грузчик громко и раздельно произносил обличительные строки, словно раз за разом ударяя противника по голове:
Богатство копит богатей. Чтоб похваляться им, Чтоб тыкать им в глаза людей, Чтоб жить не дать другим. Свинья и тех, кто рядом с ней, Считает за свиней,— Мол, всех подкупим, коль дадим Помоев пожирней. Сегодня совесть, ум и честь Едва ль на свете есть. Брось баю золото в навоз. Навоз он будет есть…[161]Не успел Сеит дочитать стихотворение, как Уразбай обрушился на него с бранью:
— Хватит! Замолчи! Довольно болтать! Ишь какой подарок мне приготовил!
На секунду запнувшись от неожиданности, Сеит смело ответил:
— Аксакал, я только повторяю слова поэта, а до вас мне и дела нет!
Уразбай рассвирепел еще пуще:
— Хоть ты и бродяга, но, видно, бродяжничаешь неспроста! Вот я тебе сейчас и воздам за все твое бесчинство. Лезь сейчас же мой колодец чистить! — громогласно приказал он.
— Нет, аксакал, хоть я и брожу по вашим аулам, а в рабы к вам не продавался. Я сюда не колодцы чистить пришел — не понимаю, что вы такое тут говорите!
— Говорю, что хочу: спускайся в колодец! Уразбай наезжал на Сеита, стал теснить его конем.
— Лезь сейчас же! Не то за все твои пакости я тебя к такой казни приговорю, о какой ты и слыхом не слыхивал!
Сеит, разгневанный, вскочил.
— За что приговоришь? За какую такую мою вину хочешь меня казнить?
— За то, что ты восхваляешь моего врага!
— А кто же он, враг ваш?
— Как будто не знаешь! А сам по его наущению слова его ко мне принес!
— А-а, ты говоришь об Абае?
— Да, об Абае говорю, о бесчестном человеке я говорю, о нем, о смутьяне говорю!
Сеит был так взбешен, что теперь шел напролом.
— Конечно, если вас послушать, так, кроме ругани, ничего не услышишь! Только мы считаем, что такие баи, как вы, недостойны стать даже жертвенной овцой за него! — Он дружески кивнул Айсе и решительно зашагал прочь.
— Держите его! — завопил Уразбай. — Кидайте его в колодец!
Кийкым, подхватив на лету приказание своего бая, устремился в погоню. Держа плетку наготове, ринулся было вслед и сам Уразбай.
— Догоняйте! Налетайте! — хрипел он.
Бедняки, хотя и знали Сеита только со вчерашнего дня, не тронулись с места, наблюдая, как Кийкым с двумя такими же, как он сам, головорезами; с криками «стой!» нагоняет Сеита.
Сеит круто повернулся к нему, гневно глянул налитыми кровью глазами и, яростно молвив: «П-шел с глаз долой! Морду разобью!» — продолжал свой путь.
Пастухи молча уставились на повернувшего назад и бесновавшегося теперь перед ними Уразбая: «Что же вы стоите! Бегите! Хватайте его, волоките сюда!»
Трое пожилых мужчин, одетых в рваные чапаны, попробовали было урезонить бая:
— Полно вам, успокойтесь! На что он вам? Ведь он гость!
Но Уразбай, проехавшись плеткой по головам непрошеных заступников, загорланил еще громче, угрожая Сеиту неслыханной карой:
— Будь я неверный гяур, коли не вобью его живым в землю! — И, пришпорив своего Акбозата, поскакал прочь, вопя: — Все сюда! На коней! На коней!
Не успел Сеит, добравшись до дома Айсы, поймать свою лошадь, как банда в двадцать—тридцать разъяренных конных жигитов, вооруженных соилами, шокпарами, арканами и недоуздками, нагрянула на бедняцкий аул. Они избили Айсу, который попробовал было заступиться за гостя, окружили Сеита и, навалившись на него всем скопом, уволокли за собой. Уразбай неистовствовал с пеной у рта, словно шаман, одержимый бесами. Он велел своим людям рыть глубокую яму в степи за аулом. Когда палачи подвели к ней Сеита, Уразбай отдал неслыханное, чудовищное приказание:
— Говорил я, что покараю его, так и будет. Я обещал вбить в землю этого зарвавшегося голодранца, вот и кидайте его в могилу! Живым закопаю, в землю втопчу!
Заставив своих приспешников скрутить Сеиту руки волосяной веревкой и бросить его в глубокую яму, Уразбай сам первый начал забрасывать его землей. Вскоре на поверхности чуть возвышалась только голова Сеита с запрокинутым бледным лицом, которое оставили открытым, чтобы он не задохнулся сразу.
Это было слишком даже для таких разбойников, как Кийкым, которые из буйного озорства охотно шли на барымту и набеги, не один раз полосовали людей кнутами, в драках разбивали головы и ломали кости. Теперь им стало не по себе от никогда не виданной страшной казни, которую они совершили своими руками. Отважный нарень Сеит, в полдень зарытый в землю, до самой ночи безмолвно, у всех на глазах, терпел нечеловеческую муку.
Уразбай задумал свое черное дело отнюдь не тогда, когда увидел Сеита у колодца. Он знал, что вот уже два дня пришелец гостил в доме бедняка Айсы, увлекая и восхищая слушателей стихами и песнями Абая. За одно только это решил Уразбай поймать Сеита, затащить к себе и, примерно наказав, вытолкать в шею.
— Вышвырну его из своего аула! Не могу я терпеть лай абаевской собачонки около своего двора! Изобью, как собаку, и выгоню бродягу вон!
Почетные старики, сидевшие с Уразбаем за кумысом, уговаривали:
— Ну что ты будешь тягаться с каким-то бобылем, у которого нет ни веса, ни силы, с каким-то ничтожным бродягой!
И они первое время сдерживали бая, говоря, что не стоит, мол, ему возиться с нищим, недостойным даже гнева такого знатного барина, как он.
Сегодня, направляясь к колодцу, Уразбай спросил у сопровождавшего его жигита: «Уехал, что ли, этот Сеит?» И тут-то узнал еще об одном обстоятельстве, окончательно приведшем его в ярость: о том, что Сеит был тем самым грозным силачом, который прославился в стычках из-за Макен. Уразбай вспомнил, что еще тогда ему рассказывали о непобедимых мстителях-жигитах, которые настигли на пароме Корабая и его сообщников и отбили у них увезенную из Затона жесир. Говорили и о затонском рабочем, который один на один одолел буяна и силача Дондагула, державшего весь город в страхе, посланного на подмогу Корабаю Уразбаем и Сейсеке. Так вот взял да и повалил его с одного удара. Молва называла имя Сеита: есть, мол, в Затоне некий страшной силы богатырь, грузчик Сеит.
И этот издавна ненавистный баю человек оказался сегодня здесь. Подъезжая к колодцу, разъяренный Уразбай упрямо твердил про себя: «Накажу Сеита! Как не наказать, когда у меня есть к тому все основания? Один за всех мне ответит! Посмотрю я на того, кто вырвет бродягу из моих рук!»
Живьем закопав человека, Уразбай и знать не желал, жив он или умер. Так силен был гнев бая, во всеуслышание объявленный перед его семьей и всем аулом, что ни одна душа не посмела приблизиться к Сеиту. Лишь глубокой ночью, когда все улеглись спать, Айса, который весь день терзался жалостью и тревогой, прокрался к ночному сторожу уразбаевского аула. Забитый старик, раньше служивший у бая чабаном, невнятно бормоча проклятия хозяину и всем его предкам и потомкам, повел Айсу к месту казни. Вдвоем, разгребая землю руками, они с трудом вытащили заживо похороненного. Когда друзья освободили Сеита от страшной тяжести и вытянули наверх, он потерял сознание. Долгое время лежал неподвижно, безмолвный, словно онемевший, а потом еле слышно попросил:
— Пить!
Вдоволь напившись из кожаного черпака студеной колодезной воды, он будто снова обрел силу, и хотя с трудом, но без посторонней помощи встал на ноги. А молодой парень из тогалаков, который ходил повсюду вместе с Сеитом, все еще оставался в руках Уразбая, истерзанный и избитый, привязанный за руки и за ноги к решетчатому остову байской юрты.
Далеко отойдя от аула врага, Сеит велел Айсе и старику сторожу возвращаться восвояси.
— Из-за меня и вам, глядишь, достанется. Мне теперь помогать не надо — сам доберусь. Век не забуду вашей доброты, а только идите-ка скорей по домам, не то попадетесь кому-нибудь на глаза: кривой людоед Желмауз, барин ваш живьем сожрет.
Сам он еще днем заприметил ладного коня, на котором ездил пастух Уразбая и который пасся неподалеку на привязи. Сеит отвязал коня, вскочил на него и наметом погнал к аулам Тогалака.
Наутро у тогалаков, где гостил Сеит, происходил большой сбор. Был праздник курбан-байрам. Люди из многочисленных аулов, находящихся в этом урочище, собирались все вместе на торжество.
Аулы, расположившиеся один подле другого, сплошь состояли из черных юрт, ветхих лачужек и дырявых шалашей. На всей обширной долине Еспе, где через короткие промежутки попадались нарытые кочующими неглубокие колодцы, не виднелось ни одной белой юрты, ни одного байского становища, окруженного многочислеными стадами. Зато бедняцкие роды жили дружно и сплоченно, не было у них ни тяжбы, ни раздора, делили, как говорится, горе и радость пополам.
В дни празднества ни на один аул, ни на одну юрту не налагалось бремени каких бы то ни было расходов. Все мужчины, пообедав каждый у себя дома, садились на коней и со всех концов долины съезжались к покрытому травой холму, возвышавшемуся к западу от главного аула.
И вот когда у подошвы холма начали уже «драть козла», когда жигиты уже летели на конях, на всем скаку поднимая монету, когда повсюду кругом закипело беспечное веселье — в самую гущу праздничной толпы ворвался Сеит а за ним двое его верных друзей, известных в округе жигитов. Это были не знатные баи и не богачи, а простые разумные и степенные люди. Мужественные, совестливые и сильные, они уважали того, кто почитал их самих, делились задушевными своими мыслями с тем, кто хотел отвечать им тем же, и враждовали с тем, кто сам желал вражды. Один из них, Жомарт, происходил из рода Тогалак, а другой, Омар, — из Саков. Оба они были сверстниками Сеита, оба наперебой звали его к себе гостить, оба были любителями-борцами, обоих их жаловали все аулы в долине Еспе. Сейчас они примчались вслед за Сеитом, — едва переводя дыхание, расстегнутые, растрепанные, без шапок.
Люди расступались перед ними, тревожно переговариваясь:
— Что с ними такое? Видно, что-то стряслось! Куда это они так спешат? Какую черную весть принесли?
Среди белобородых и чернобородых аксакалов из сак-тогалаков и жуантаяков, расположившихся на холме, не было, невзирая на их почтенный возраст, ни одного богатого и влиятельного аткаминера. Зато среди них внезапно оказался Базаралы и его любимый сородич, ближайший друг Сеита, известный своей храбростью Абды.
Сеит не проронил ни слова. А Жомарт, понося Уразбая, весь его род и весь его скот, громовым голосом поведал почтенным старейшинам о чудовищной расправе, учиненной над Сеитом.
Ему гневно вторил Омар:
— Народ или последние твари вы, собравшиеся тут жигиты?! Видано ли, слыхано ли о таком позорном издевательстве! Хватит у вас мужества, чтобы отомстить одноглазому людоеду, или нет у вас ни совести, ни чести? Ведь он уже через край хватил! Неужели мы будем сидеть сложа руки?
Жигиты, только что услыхавшие обо всем происшедшем, съезжались на конях к подножью холма, выкрикивая слова сочувствия и угрозы. Однако старейшины, сидевшие на холме, не решались сразу ответить на призывы к мести. Жомарт уже давно знал Базаралы, он подъехал к нему вплотную, прося у него совета, жалуясь на обиду, уповая на помощь.
Базаралы прибыл к сак-тогалакам только вчера. Здесь жили его родственники по женской линии: матери целого поколения тогалаков были дочерьми жигитеков. Поэтому здесь его встречали радушно и, считая близкой родней, величали «нагаши» — дядюшкой. Вот и теперь Жомарт и Омар кинулись к нему за помощью.
— Дядюшка, да говори же хоть ты! Видишь, мирный наш народ растерялся, не знает, что делать. Ты-то что посоветуешь? Скажешь: «Лягте костьми», — ляжем! Приказывай же, говори!
Базаралы, исполненный жалости и негодования, и без того еле сдерживался.
— Какое гнусное надругательство! Умереть бы мне лучше, чем слышать о таких делах! — прошептал он, обращаясь к Абды.
Его слабое сердце болезненно билось, комок подступал к горлу. Возмущенный до глубины души, он стоял, стиснув зубы, едва переводя дыхание. Он видел, что все окружающие — и старые и молодые — смотрят на него с нетерпением и надеждой.
— Сказал бы свое мудрое слово, Базеке! Указал бы нам путь!
— Ведь это ты вдохновлял упавших духом, ободрял растерянных!
— Ты был вожаком многих!
Требовательные голоса звучали все громче, сливаясь в сплошной гул.
Базаралы понимал настроение народа. Словно старый опытный лекарь, он чутко улавливал биение его сердца. Просыпаясь от тяжелого сна, встрепенулась его светлая мысль. Возвышаясь над толпой на своем огромном старом коне, выделявшемся среди других лошадей гордо вскинутой головой, Базаралы приподнялся на стременах и, обращаясь к Жомарту, заговорил громко — так, чтобы слышали все вокруг:
— Вы, доблестные жигиты, просите у меня совета, как у ближайшего родственника. А я нахожусь здесь глубоко сокрушенный, руки себе ломаю — ибо, хотя мысль моя птицей стремится вперед, но тело придавлено тяжелым недугом, от меня остались лишь кости. Однако недаром говорят в народе: «Не делай того, что делает мулла, делай то, что он говорит». А я скажу вам: не слушайте слов своего дяди, а делайте его дела! Вот вы в тяжелую минуту обращаетесь ко мне. Так ведь, братья мои, народ мой, вы знаете сами, как я поступал, когда был в силе! Чего же вам еще ждать? Есть ли среди вас хоть один человек, который так или иначе не пострадал от Уразбая, как сегодня вот пострадал Сеит?
И он, нахмурившись, умолк.
Множество всадников, растянувшихся от вершины Бозбиик до равнины, простирающейся далеко внизу, затаив дыхание, внимали голосу Базаралы. Все мужчины округи, от мала до велика севшие на коней, приняли слова Базаралы как приговор Уразбаю и призыв к бою. А он гремел, все сильней напрягая свой голос:
— Одноглазый кичится своими табунами. А ведь в этих табунах — кровь и слезы всей округи… ваша кровь, ваши слёзы! Кто из вас не проливал пота у него на работе, взамен получая один тычки?! Над кем из вас он не глумился, кому не грозил своей силой? Не хватил ли через край этот Уразбай? Можно ли дальше терпеть то, что он совершил вчера, совершает сегодня, сделает завтра? Найдется ли наконец хоть один доблестный муж, хоть один славный род, который бы стал ему поперек, дал бы ему по рукам?! Или же так и ускользнет от вас нестриженным черный этот дьявол? Нет, не давайте ему уйти подобру-поздорову! Отомстите ему за народ, за отважных его жигитов! Отомстите ему за Абая, чтимого всеми родами казахскими! Отомстите за благородного Сеита — вот он, оскорбленный, стоит перед вами. Нагрянь набегом на злодея, многочисленный народ Сак-Тогалака! Погляжу я тогда, как он задрожит, как заскулит, этот одноглазый!.. Нагрянь! — повелительно крикнул он.
Вмиг облетели его слова тесные ряды плечо с плечом сомкнувшихся жигитов.
Жомарт, Омар, Абды и множество всадников с криками: «Нагрянь! Налетай!», «Где ты, аул Уразбая?!»— ринулись вниз по равнине. Широким потоком неслись мстители, вооруженные соилами, куруками, шокпарами, пиками, которые им давали в попутных аулах. А иные всю надежду возлагали на свои тяжелые плети.
Жомарт, Омар и Сеит скакали впереди лавины. Больной Базаралы не в силах был участвовать в набеге и оставался с небольшой кучкой стариков аксакалов на холме. Вручая Абды свою тяжелую восьмигранную камчу с вплетенным в нее свинцом, Базаралы сказал: «Разбей за меня головы десятку супостатов. Без этого и назад не возвращайся!»
Докатившись до аула Уразбая, грозная лавина набега разнесла его вдребезги. Жигиты угнали весь целиком трехтысячный табун, принадлежавший Уразбаю и его сыновьям, мирно пасшийся на равнине между аулами. Жеребят спустили с привязи, и они, напуганные, умчались прочь. На юрты обрушились удары дубинок, круша и ломая их до основания. Мстители избивали всех оказавшихся на улице мужчин, вынуждая их прятаться по домам. Пятьсот всадников ураганом пронеслись взад и вперед по аулам Уразбая, сметая и громя все на своем пути.
Уразбай, его сыновья и родичи, жены и дети не только не сумели оказать отпора, но в страхе попрятались кто где мог. Сам бай забрался под перину в юрте своей молоденькой токал. И та, увидев, что муж совсем растерялся, укрыла его, как умела, от рук разъяренных мстителей, завалив грудой подушек и одеял. Справедливый гнев нежданно-негаданно разразился над кровожадным хищником, долгие годы угнетавшим вокруг себя многочисленные роды. Этот смелый набег был истинным судом народным, покаравшим и опозорившим Уразбая.
Если до сей поры Уразбай безнаказанно поднимал руку на свой народ, то сегодня испытал на собственной шкуре всю мощь его тяжелой руки. Если до этого дня он один обрекал множество людей на слезы и нищету, то сегодня это множество заставило его лить кровавые слезы о своем разгромленном богатстве. Вот тут-то малочисленные баи Сак-Тогалака и Жуантаяка-Абралы, Наманая, Мусралы, Байгулака и Каражана — стали поспешно отмежевываться от участников набега. Как воры, тайно бежали они прочь от аулов своего рода. Одни из них были сватами Уразбая, другие — его друзьями-приятелями, третьи — соучастниками его бесчисленных злодеяний. Понятно, что они, стремясь отстраниться от рискованной затеи неимущих сородичей, быстро снимались с места, чтобы откочевать куда-нибудь подальше.
Так год спустя после событий в Кошбике народ, долгое время безропотно сносивший обиды, совершил над Уразбаем свой суд, без громких слов и клятвенных обещаний отомстил ему за надругательство над Абаем.
2
Дармен, ездивший в аул Базаралы по своим делам, вернулся оттуда после полудня. Базаралы и Абды поведали ему целое богатырское сказание о событиях, разыгравшихся у тогалаков. А он теперь с увлечением пересказывал его Абаю, Баймагамбету и Мухе. Хорошо запомнивший мысли и слова Базаралы, Дармен передал их Абаю полно и точно, не упустив ничего.
«Я почувствовал себя на седьмом небе от радости, когда увидел с вершины холма, как пятьсот всадников с боевым кличем: «Сак-Тогалак!», «За честь нашу!», «За доблестных жигитов!», «За Абая!»— ринулись в степь, с гулом сотрясая землю, — говорил Базаралы. — Когда лавина эта устремилась на аул кривого людоеда, я подумал, что если довелось мне дожить до такого счастья, если дано глазам моим увидеть великолепное это зрелище, то не о чем мне в жизни сожалеть и нечего мне больше желать! Словно вдруг сгинуло все, что долгие годы камнем лежало на сердце, будто вдруг я распрямился и вырос. Ведь с прошлого года совсем было пригнула меня беда, а теперь будто одним взмахом крыльев взмыл я в недосягаемую высь! Теперь и умереть не жалко! Возвращался домой от тогалаков и думал: «Верно я направил соил народный — прямо в голову самого злого, беспощадного врага угодил! Быть может, не суждено мне дожить до новых радостных дней — все больше гнетет меня мой недуг, — но я уже не страшусь смерти, ибо мечта моя исполнилась! Это мои последние слова, братья, передайте их моим задушевным друзьям».
В этих словах был весь Базаралы, вся его отважная, мужественная душа.
Баймагамбет и Муха слушали рассказ Дармена, причмокивая губами от переполнявших их чувств восторга и благодарности. Дармен так и сиял, сверкая огненными своими глазами, окрыленный сознанием того, что принес Абаю радостную целительную весть.
Абай слушал Дармена с явным одобрением, но лицо его оставалось серьезным и спокойным. Казалось, он погрузился в глубокую думу.
Когда день начал клониться к вечеру, поэт, оставив своих друзей за беседой, вышел из дому и пешком направился к желтоватым глинистым холмам, протянувшимся за аулом. Абай медленно всходил на холм. Отсюда, с небольшой возвышенности Ортен-тос, перед ним раскинулся широкий простор. Уже близился вечер, и солнце стояло на длину аркана от линии горизонта. С желтого горба Ортена Абаю были видны горы, холмы и равнины, на которых располагались многочисленные зимовья. Слева высились Ордынские горы, коричневатые Токымтык-кан и окутанные синеватым сумраком Бокай. В безбрежной дали небо и земля сливались в голубом мареве. У края горизонта едва угадывались в сизом тумане причудливые очертания Аркатских гор с могучим Байжановым утесом.
На юге взору открывался широко простиравшийся вдаль Чингизский горный массив с его бесчисленными синеющими вершинами. Высятся его сопки и холмы с затерянными среди них аулами. Каждая семья в них с детства знакома Абаю. Сколько хватает глаз, тянутся мощные гряды хребтов Чингиза с возвышающимися над ними дальними гребнями Борлы, ближними скалами Хан-Караша, с крутыми горбами Туйе-Оркеша и Токпамбета. Еще дальше поднимается широкогрудый Карашокы, населенный родными Абая, ближе — Кыдыр. На востоке высится двуглавый Шунай, пониже его — зигзаги пестрых скал Догалана, а еще ниже, начинаясь у подошвы Туйе-Оркеша и Караула, расстилается безграничная белесая степь.
Словно плывущие в мареве обширной желтой равнины, одинокие горы Шунай, Догалан, Орда представились Абаю исполинскими голубыми кораблями, пересекающими гладь спокойного моря.
Они выплывали из таинственного царства сказки навстречу путнику, затерявшемуся в пустыне. Застывший в дреме вечный мир предстал перед взором Абая: окаменевшие древние чудовища, окаменевшие в безмолвии люди, окаменевшие мертвые города — нигде ни звука, ни единого признака жизни. Только бесшумно плывут в бесконечность по желтой равнине каменные корабли одиноких вершин.
Абай испытывал приятную легкость. Прохлада, повеявшая со стороны Чингиза, наполняла все его существо неизъяснимым блаженством. Ох, какой ласковый ветерок! Он распахнул чапан и широкую рубашку, подставляя грудь благодатной прохладе, которая мягко омывала его шею, руки, лицо, словно струи прозрачной, чистой воды.
Отсюда, с вершины холма, овеянного вечерней прохладой, Абай обновленным взором вглядывался в обширный тихий край, где он родился и вырос.
В лучах заходящего солнца неузнаваемо преображался весь окружающий мир. В закатном свете отчетливо вырисовывались высоты Караула и Кольгайнара. Теперь они не казались мертвой бесформенной громадой, а представали в золоте косых лучей радостными, обновленными, живыми.
И с ними вступают в спор высящиеся на западе коричневые сопки Кыдыра и затененные склоны Шуная. Вечерние тени сгустились на тесных грядах хребтов, словно сумерки бытия. Будто застывшее в холодном мраке времен тяжелое прошлое оставило здесь свои губительные следы. Вечным выражением безнадежности и безвременья в хмуром отсвете ушедшего дня возвышаются покрытые холодной пасмурной тенью крутизны, как бы напоминая о неких ужасах и скорбных сомнениях сияющим солнечным вершинам Караула и Кольгайнара. Немного спустя, словно внимая этому предупреждению, начали тускнеть и эти вершины. И здесь шла борьба между лучезарным светом и мрачной, прибоем наступающей тенью, словно разыгрывался поединок между добром и злом. Абай медленно скользил взглядом по горам и долам и всем существом своим чувствовал, как неуклонно надвигался сумрак, отмечая каждый свой шаг все новыми и новыми изменениями. Ночь побеждала, тени сливались в сплошной мрак.
Наступило время, о котором некогда сказал Абай: «Сердце печальное делится тайнами с сумраком ночи». Желтоватый отсвет заката умирает на гребне скал, слегка озаренных сиянием последнего золотистого луча. На западе горы слились в единый темный массив. Сумрак, сравнивая все, затягивает окрестность своей непроницаемой завесой. Еще недавно ласковый ветерок, крепчая, потянул холодом.
И в этот миг Абая озарили новые мысли, неожиданные для него самого. Родная земля, раскрывая свои тайны, заговорила с поэтом живым и внятным языком. Перед Абаем, поднявшимся на высокий перевал своей жизни, чередой проходили минувшие дни. Эти горные теснины и туманные степи раскрылись, как книга, страницы которой хранили суровую историю его многотрудной жизни. Каждое из этих мест, на которых задерживался его взор, напоминало о минутах радости и веселья. Но они приводили на память и часы тяжелого горя, гнетущей печали, смертельной скорби, говорили об отравленных стрелах и бесчисленных покушениях врагов.
Сменяя одни других, бесконечной вереницей теснятся перед его мысленным взором давно ушедшие из памяти люди, отдалившиеся события, отшумевшие происшествия. Словно вновь перебирал Абай длинную цепь своей жизни, и родная земля внятно свидетельствовала о каждом ее звене. Еще и еще обозревая эти горы и скалы, привидевшиеся ему волшебными кораблями заколдованного моря, поэт погрузился в глубокие думы. «Кто знает, не хранят ли они еще неведомые человечеству тайны? Не дремлют ли в недрах этих гор некие загадочные силы, скрытые богатства, способные превратить эти желтые равнины в сказочные долины счастья? Быть может, этот дремлющий в вечном безмолвии мир лишь скован злым колдовством безвременья. Но настанут иные времена, придут другие, новые племена и пробудят эти погруженные в сон, завороженные силы каменных городов».
И в душе Абая шевельнулось робкое желание: «Увидеть бы тот новый мир, ту грядущую эпоху! Пусть ненадолго, на краткий миг, воскреснуть в ином веке и хоть краешком глаза увидеть его чудеса».
И вместе с мечтою о будущем пришла тревога о настоящем: «Да, грядущее прекрасно, но ведь оно растет из настоящего, как настоящее возникло из прошлого. Разумеется, времена меняются, и ничто не придет в новую эпоху таким, как оно есть в наши черные дни, неизменным. Но все же, что из нашего дня достойно сохраниться и расцвести в веках, принося свои плоды новому, счастливому человечеству? Кто из людей нашего общества, нашего поколения способен готовить почву для лучезарного будущего?»
Задумавшись об этом, Абай вздрогнул всем своим существом от ужаса и отвращения, сердце его сжалось. Народ его живет в безысходном мраке. Он темен и невежествен. Силы, правящие им, черным дьяволам подобны. И жестокая скорбь овладела душой поэта: «Уйти бы из этой жизни! Умереть бы, сгинуть, пропасть!» И снова манила светлая надежда: «Умереть, чтобы воскреснуть в будущем, на краткий миг приобщившись к новому бытию».
Эти высокие мысли будили в сердце Абая отвращение к сегодняшней его жизни. «Теперь, пожалуй, можно и умереть! Много уже, много пройдено, пора бы кончиться моему пути. А что, если действительно мне умереть?»
Но это не была бессильная мольба о смерти сердца, побежденного невзгодами и скорбями. Это был гневный порыв: отмести прочь мерзости своей среды, отвернуться от ее нелепых и позорных дел. Это был как бы внезапный шквал возбужденной мысли. Он проносился, а настойчивый вопрос, заданный Абаем самому себе, оставался.
«Бесспорно, вечная природа придет в новую эпоху вот с этими своими горами и равнинами. Тогда, как и теперь, будут возносить свои величественные вершины Шунай, Чингиз, Балапан, Агадыр, Орда. А что дойдет до той эпохи от людей— от нас, — развиваясь и укрепляясь от поколения к поколению?» И новая мысль озарила Абая, его лицо стало светлеть, уголки губ тронула горделивая улыбка. Он вспомнил рассказы Дармена, которые как бы лежали до времени в глубоком тайнике его сердца. Да, есть сегодня злодеи, неистовствуют опустошительные вихри, но есть и настоящие люди, отважно стремящиеся навстречу новому дню, который неизбежно наступит. О нем свидетельствуют вещие слова Базаралы: «Не о чем мне теперь сожалеть!..» Это зов мужественной души, на который откликнулся родной Абаю народ… Да, здесь его истинная родня — простые люди, грудью вставшие на защиту человеческого достоинства, а не все эти кунанбаи, ускенбаи, иргизбаи, пресловутые родственники, выдающие себя за поборников чести. Не под родовым знаменем объединились безвестные выходцы из безлошадных аулов, чтобы покарать угнетателя за попранную справедливость. И не в их ли, пусть еще небольшом, но благородном деянии проявились новые силы нового общества? Не им ли суждено посеять благие семена будущего!.. — Таков был итог долгих раздумий, терзавших Абая в эти тяжелые дни. Медленно возвращаясь один в темноте, Абай горел думой о грядущем. Поэт перекликался с будущими поколениями счастливых людей, мечтал о некоем мыслителе того времени, которому он мог бы доверить все свое самое сокровенное. И по мере того как поэт погружался в думы о нем, сердце его билось все беспокойнее. Встать бы лицом к лицу с ним, человеком иной эпохи, подать ему весть о себе, от сердца к сердцу! Ведь сын своего времени, Абай — сплошная загадка для человека будущего.
«Поймет ли он меня, выросшего в смутную эпоху безвременья, не заглянув в глубины своего сердца? В степи, окутанной кромешной тьмой, один боролся я против тысяч, упрямо поднимая свой малый светильник в слабой руке. Как поймет, прочитав строки, мною написанные, счастливый потомок одинокого искателя путей в бездорожье?»
Много накипело у Абая на сердце, и вот теперь изливает он свое самое заветное, не плача, не скорбя и не ища сожаления, а лишь настойчиво взывая: «Познай меня и пойми!»
Горячее волнение, вихрь мыслей, дотоле неведомых ему, охватили поэта, приведя его в нетерпеливый трепет.
Поспешно войдя в юрту и бросив Айгерим: «Зажги лампу!» — Абай достал бумагу и карандаш из резного, инкрустированного костью шкафчика, стоящего в изголовье кровати, и грудью прильнул к большому круглому столу. Заключенный в светлый круг лампы, он торопливой рукой набрасывал на бумаге трепещущие свежие строки. В этот вечер рождались новые стихи вдохновенного мастера, взошедшего на вершину поэтического искусства. Он знакомил будущее с настоящим, словно бы сделал легкий знак, издалека кивнув головой.
В глубины сердца своего ты погляди. О новый человек, идущий впереди. Я вырос в смуте, в мраке безысходном, Один боролся я, меня не осуди… . . . . . . . . . . . За мною не идут, страшась стези моей, Не прерывай мой сон, пойми и пожалей![162]Так своим стихотворением «Если умру я…» Абай впервые заговорил о смерти, обращаясь к человеку будущего и раскрывая свои сокровенные думы о бессмертии. Это не были сетования печального старика, стоящего у отверстой могилы. Это были стихи о жизни, рожденные для жизни, слова о смерти, идущие от сердца, трепетно верящего в свое бессмертие в грядущих народах и временах.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дописав последнюю строфу, Абай взял в руки домбру и заиграл веселый, задорный кюй. Облегчив душу в поэтических строках, он всецело обратился к милым радостям домашней жизни. Айгерим, приметившая, как посветлело его лицо, взглядом сделала знак Злихе, которая живо втащила большой кипящий желтый самовар, уже давно подогревавшийся у земляного очага на улице горячими таволожными угольками.
Только что начали разливать чай, как пришел Кишкине-мулла, возвратившийся из города; Магаш и Какитай, которые были в Семипалатинске, прислали с ним спешное письмо Абаю. Они, передавали ему привет от Павлова и советовали не мешкая ехать в город. «Именитые», «знатные», «мудрые» люди из крупных родов, считавшиеся «лучшими» и «старейшими», белобородые и чернобородые, вот уже несколько дней как съехались в Семипалатинск на особое совещание. Во главе его стоят умудренные опытом старейшины из родов Аргын и Каракесек. Они имели вес и в городе и в степи, пользовались влиянием на многие роды. От степных кереев приехал маститый старец Бегеш, от низинных кереев — ловкий делец Ракыш.
Были здесь и прославленные мужи из рода Майман — Матай и Сыбан; среди них родственник хаджи Серикпая — Жумакан. От соседних с Тобыкты ближних Сыбанов прибыли Камбар и Каблан, от кызылмолинских уаков, Матая и Буры — Казангап и Канкожа. От уаков Кокена и Семейтау приехали такие ловкие краснобаи, как Серке, а от бельагачских равнинных казахов — Айтказы. Все эти люди собрались по особому сговору с родственником Уразбая, городским торговцем Сейсеке, в доме которого они уже не раз совещались.
Чтобы завершить свои переговоры общим решением, все это множество влиятельных людей из ближних и дальних родов пригласило в гости в двухэтажный особняк хаджи Блеубая родственников Абая, оказавшихся в это время в городе.
Во всех четырех просторных комнатах второго этажа, предназначенных для приема гостей, были разостланы огромные, во всю комнату, скатерти — дастарханы. Вокруг широких скатертей лежало множество одеял и пуховых подушек, — видно было, что сбор предполагается большой. В каждой комнате стояли до краев налитые кумысом огромные желтые чаны — тай жузген, в которых «жеребенок может плавать». Отсюда, беспрестанно взбалтывая, черпали кумыс для многочисленных гостей. Расписные деревянные чашки — тостоганы — беспрерывно ходили вкруговую, то наполняясь, то опорожняясь. Сваренная в больших казанах жирная парная баранина подавалась на больших глубоких блюдах.
Магаш, как сын Абая, а Какитай, как его племянник, были посажены на почетное место в самой обширной из всех четырех комнат, вместе с тридцатью-сорока самыми знатными гостями. Тут же, на почетном месте, оказались и Шубар с Азимбаем, видно, хорошо осведомленные обо всем происходящем.
Магаш и Какитай долго не понимали цели этого сборища. Уже гости попили кумыса, поели мяса и принимались за плов и вишневый сок, когда сидевшие поблизости прославленные краснобаи из уаков и кереев начали наконец долгожданный разговор.
Вскоре, несмотря на густой туман их многословия, стало ясно, что речь идет о тяжкой обиде, нанесенной Абаю в прошлом году.
Рассыпая бисер витиеватых красных слов, непривычных Магашу и Какитаю, первым начал Бегеш:
— Об Абае благородном, досточтимом Абае-ага мое слово. Абаю вы — дети, нам — младшие братья, потому-то вам, здесь сидящим, и хотим мы предложить общее наше решение, светики наши! Через вас мы Абаю-мирзе наш привет посылаем.
Кто же мы такие, спросите вы? Посмотрите, окиньте взором вокруг. Здесь — лучшие люди каракесеков из старшего рода Аргын; тут и сыны кереев, равнины и горы населяющих, с ними вместе почетные граждане верхнего и нижнего Наймана. Рядом с вами сидит достославный Серке. А собрал нас к святой трапезе этой почтенный хаджи Блеубай. Так кто же мы такие? Если внимательным оком на нас, здесь сидящих, посмотрите — «Вот казахи», — скажете вы. Здесь всех четырех арысов — родов дети, все четыре столпа Среднего Жуза представляющие. Вот кто такие мы, — объяснил Бегеш и пустился дальше по волнам красноречия. — А кто же такой Абай? Разве он принадлежит только племени Тобыкты? Нет — он общий наш, всех своих соперников опережающий, Среднего Жуза непобедимый скакун! — Бегеш снова принялся восхвалять Абая и снова задал себе вопрос — Кто же он такой? — И снова тут же сам на него отвечал речитативом — Лучший из лучших среди людей, как кудрявый нар[163] с бубенцом на шее среди верблюжьего стада, как весенний дождь, тучные пастбища животворящий.
Слова его подхватил Серке и стал в свою очередь сыпать хвалы Абаю.
— Язык его языку соловья подобен; ноги его — крылатому коню Дуль-Дулю под стать! — только теперь начал он издалека, многозначительными намеками подбираться к цели совещания. — Успокоение кочевья — на зеленых лугах, успокоение раздора — в справедливом суде… «Если золото кинешь в огонь — не сделается оно медью, если парчу порвешь на портянки — не станет она холстиной». А мы не собираемся здесь умалять великие достоинства Абая, — заключил он.
Тогда Айтказы от лица своих многочисленных сородичей заявил, что если даже Абай и претерпел унижение, то он все равно остался заступником народа своего. Путь лучшего из людей, печальника о доле народной, легким не бывает. И тут сквозь традиционную пышность речей Айтказы глянула острая, никем еще здесь не высказанная мысль: он напомнил, что путь этот долог и труден, а в ответе за него — сам народ.
— Недаром говорят: «Иди через огонь да через воду— другого к цели нету ходу». Вот так и Абай за народ в огонь и в воду бросался. Не за себя он страдает, за народ терпит.
После того как высказались по одному человеку представители всех родов, снова заговорил Бегеш, возвращаясь к тому же, с чего и начал:
— Хоть ты, светик мой Магаш, годами молод, но ведь говорится, однако: «Молодость — пламя, а старость — пепел». Молодежь в самом жестоком бою не растеряется, из любого положения выход найдет. Хоть мы, старики, и видывали виды на своем веку, но против молодой силы не выстоим, поперек юному сердцу не пойдем. На тебя мы возлагаем большие надежды и вот о чем тебе поведать хотим: нам теперь с людьми из Старшего и Младшего Жузов стыдно встречаться из-за кровной той обиды, какую незаслуженно претерпел Абай. Как мы можем смотреть чужим людям в глаза, когда единственному нашему, лучшему из лучших — Абаю — нанесена такая тяжкая рана?
Пусть Абай-мирза примет наше слово, наше послание! Есть у нас сила и есть у нас воля, чтобы укротить обидчиков. Виновника на колени перед ним поставим. Буяна исправим, на истинный путь наставим. Заручитесь только его согласием, пусть нам дозволят стать заступниками и ходатаями за него.
Мирза Магаш, Какитай, Шубар, Азимбай! К вам обращается все наше собрание. Мы вам высказали все. Дело за вами. Когда захотите ответить — сегодня или завтра, — сообщите слово ваше любому из собравшихся здесь, — завершил Бегеш.
Магаш и Какитай не торопились с ответом. Шубар и Азимбай прислушивались к каждому слову ораторов, разинув рот и вытянув шеи. Они готовы были тут же согласиться на все, что им предложат. Но взоры присутствующих были обращены на сына Абая — Магаша, решительного ответа ждали от него. А он нимало не расчувствовался от замысловатых речей степных говорунов и вовсе не был убежден шумными потоками красивых слов, извергавшихся из их уст. Прослушав многословные выступления записных краснобаев с холодным, замкнутым лицом, он в душе оценил их по достоинству и ответил коротко и ясно: хотя слова присутствующих и были как будто бы обращены к нему, Магашу, но на самом деле относятся они к самому Абаю. А Магаш не привык распоряжаться за отца. Поэтому он не может сказать, каков будет ответ Абая, если он вообще пожелает ответить.
— О намерениях ваших мы слышали. Наш долг сообщить об этом отцу, а затем передать сбору ответ того, к кому обращены сегодня ваши речи, — сказал Магаш. Больше он не добавил ничего и Шубару, который рвался вставить свое словечко, также не позволил говорить.
Со сбора все четыре внука Кунанбая возвращались вместе, в одной тележке. Шубар всю дорогу старался умаслить сумрачного Магаша.
— Ну и мастера они говорить, эти маститые старцы! — воскликнул он. — Ни от кого мы таких слов замечательных раньше не слыхали! Один другого красноречивей! И Азимбай поддакивал Шубару:
— Действительно, таких речистых людей я нигде больше не видел! Плетут слова, что узоры на ковре!
А Магаш посмеивался над обоими:
— Нашли речистых! Вот уж верно сказано: «Иные бии-пустозвоны налегают на поговорки да прибаутки», — больше-то им нечего сказать!
Какитай весело расхохотался. Он был целиком согласен с Магашем, но сам Магаш потускнел. Он внутренне досадовал на двоюродных братьев: ведь они знали в чем дело, и все-таки ничего не сказали, ведя его с Какитаем на сбор. И Магаш напомнил Шубару строки известного стихотворения Абая: «Не стану, как старые бии, пустые пословицы сыпать, не стану, как ваши акыны, песней лгать за дары».
— Видно, ты, Шубар, забыл эти слова! А напрасно: ты акын, они бы тебе пригодились, помогли бы избавиться и от твоих собственных ошибок!
— Что ты плетешь? О каких это моих ошибках ты говоришь? А, Магаш? — трусливо забормотал Шубар, наседая на Магаша. — Разве я кому-нибудь лгал?
— Да будет тебе прикидываться! — оборвал его Магаш. — Хоть бы ты одним словечком обмолвился, когда вели меня на этот сбор, что собираешься лечить отца фальшивыми речами этих пустозвонов! — И он, с досадой отвернувшись от Шубара, замолчал.
Вот обо всех хлопотах родичей и писали Абаю сын и племянник, спрашивая: может быть, стоит ему самому приехать в город?
Приехав в Семипалатинск и выслушав подробный рассказ Магаша и Какитая обо всем происходящем, Абай ни одним словом не обмолвился о своем решении и не дал никому никакого ответа. Даже Магаш не знал, что у отца на душе, и все оставалось по-прежнему. Зато Абай с распростертыми обьятиями встретил Федора Ивановича Павлова, также соскучившегося по другу и с нетерпением ожидавшего встречи. Ведь они не видались более года. Павлов много размышлял над тем: выстоит ли Абай, окруженный ненавистью степных воротил, или будет окончательно сломлен горем и обидой? Чтобы узнать об Абае, Павлов зазвал к себе Магаша и долго расспрашивал об отце. И к письму, которое Магаш с Какитаем посылали в аул, Федор Иванович сделал приписку: «Хорошо было бы, в самом деле, если бы вы приехали в город!»
После первых горячих рукопожатий и беспорядочных восклицаний Павлов, всмотревшись в лицо Абая, отметил, что виски его засеребрились сединой, а темные искрящиеся глаза окружены частой сетью морщинок.
— Ну как, Ибрагим Кунанбаевич? Как живется? Настроение как? — заботливо спросил он.
С глубоким чувством признательности заглянул Абай в синие глаза друга. Только ему мог он доверить свою тайную боль, да и то смягченную поэтическим образом.
— Что сказать вам о жизни, Федор Иванович? Жизнь с ее днями и ночами — это полосатая змея, обвивающая человека. Она только и знает, что жалить его да душить. Это, видимо, и есть бытие — по крайней мере то, какое я знаю!
Образно мысля по-казахски, Абай затруднялся высказываться перед Павловым по-русски. Он досадовал на себя, смущался и запинался, широкое течение его мысли прерывалось, и он с горечью усмехался своему бессилию. Но образ, созданный поэтом и одушевленный его неподдельным чувством, дошел до глубины сердца Павлова.
— Да, да, верно! — говорил он, кивая головой, подбадривая друга улыбкой и думая про себя: «Какое дарование у Ибрагима Кунанбаевича! Настоящий философ и большой поэт!»
И все же Павлов заспорил:
— Конечно, Ибрагим Кунанбаевич, жизнь нередко бывает довольно мерзкой штукой! Но ведь не всегда и не везде, не будем к ней несправедливы!
— Вы, вероятно, правы, — быстро ответил Абай. — Но я-то говорил о той жизни, какой сам живу!
— И все же безнадежность не пристала поэту. Ведь ему надо писать, воодушевлять своей мыслью других!
— А для кого писать поэту? Кому нужны мои мысли? Как, зачем, для кого я буду писать?
— Вы спрашиваете — как и зачем? Да затем, что вы поэт и учитель всем своим существом. Ваша мысль как бы непроизвольно облекается в образ, как, например, те мудрые слова о жизни, которые вы мне только что сказали. Хотите вы или не хотите, а образы рождаются у вас постоянно. Значит, и писать вы должны постоянно, всегда!
— Ну, хорошо; а для кого, кому я должен посвящать это свое писание?
— Посвящайте его меньшинству нашего дня и большинству завтрашнего! — весело воскликнул Павлов.
Абай посмотрел на друга с живым интересом. Веские и убедительные слова Павлова заставили поэта задуматься: видимо, Павлов уже давно наблюдает за его творчеством и размышляет о его пути.
Федор Иванович часто бывал и у грузчиков Затона, и у рабочих шерстомойки, и на пристанях. Он был своим человеком и на овчинном и на кожевенном заводе, встречался с паромщиками, с лодочниками. Он познакомился и с жатаками Озерке, Секленке, жатаками Жоламана, казахской беднотой, живущей на берегу ниже лодочной переправы. Куда лучше, чем местные казахи-старожилы, знал Павлов обитателей шалашей, лачуг и землянок: дровосеков, пастухов, косарей— многочисленный трудовой люд пригородов и окраин. Рассказывая о них Абаю, он называл их по именам, и Абай, слыша о своих знакомых, переполнялся чувством радостной признательности к другу. А Павлов рассказывал еще и о том, как сходился с людьми из Байгели-Шагала, Кенжебая, Коп-Тарактов, Жалпака, как обходил пригордные поселки с охотничьим ружьем за плечами и куцей собакой на сворке, чтобы не привлекать к себе особого внимания полиции. По праздникам он частенько брал с собой Сеита и Абена или лодочника Сеиля. И там, где жили казахи, проводившие свой век не в праздной болтовне, а в тяжелом труде, стихи и песни Абая были необходимы, как хлеб и как соль. Его песни знали, понимали и любили.
Вот о чем Павлов с прошлого года собирался обстоятельно рассказать Абаю. А уж со времени событий в Кошбике Абай стал для рабочего люда самым близким, дорогим человеком. Когда в какой-нибудь дом приходили Павлов с Сеитом, туда буквально днем и ночью валил народ, чтобы послушать рассказы мужественного жигита, песни и стихи Абая, которые он исполнял охотно, талантливо, с огоньком. Павлов встречал много молодежи, подростков, даже детей, которые наперебой старались перенять У Сеита абаевские песни. Среди девушек и молодок находились настоящие искусницы, которые великолепно пели и читали его стихи.
Павлов считал, что Абаю надо непременно знать о том, как любят его в народе. Ведь Павлов — русский, и его слова — это результат наблюдения беспристрастного свидетеля. Он ничего не выдумывает, не льстит поэту, а просто рассказывает о том, что видел своими глазами.
Признательный за этот неожиданный дружеский дар, Абай жадно впивался в каждое слово Федора Ивановича. А тот заговорил о новом поколении казахской молодежи — учениках русских школ и школ-интернатов, имеющихся по обе стороны Иртыша. Летом они ездят на побывку в свои аулы, а на зиму возвращаются в город. Эта молодежь тесно связана с народом. Надо серьезно подумать о ней, ведь Абай своими песнями и стихами участвует в ее воспитании.
Так постепенно раскрывал Павлов перед Абаем глубокий смысл дела всей его жизни, от которой он, казалось, уже готов был отвернуться. И Абай слушал затаив дыхание, чувствуя, как согревается его застывшее в невзгодах сердце.
В начале этой беседы, которая длилась до глубокой ночи, Павлов говорил Абаю про людей будущего, и теперь поэт расспрашивал друга об этих грядущих светлых днях.
— Скажите, а каково оно, это будущее? Вот мы говорим, что оно принесет людям добро. Так когда же оно придет? Долго ли нам еще ждать? — Этот вопрос в последнее время неотступно преследовал Абая.
На этот раз Павлов отвечал гораздо более прямо и определенно, чем прежде.
— Во-первых, Ибрагим Кунанбаевич, это будущее, о котором мы с вами так много говорили, безусловно придет. Если предшествующие поколения могли только верить в него и мечтать о нем, то мы уже можем надеяться его увидеть сами, своими собственными глазами, Ибрагим Кунанбаевич!
— Но когда, когда? — настойчиво вопрошал поэт.
— Ну, время-то определить трудно! — заметил Федор Иванович и прочел стихотворение. Пушкина «Послание в Сибирь», написанное десятки лет назад, но уже проникнутое твердой верой в неизбежность прихода лучших дней. А потом рассказал о вещих словах Белинского, который уже в сороковых годах высказывал свою веру в счастливую жизнь потомства, которая наступит через сто лет.
— И вот уже прошло пятьдесят, мы стоим у порога нового века и представляем себе этот счастливый день еще более ясным и близким. Сейчас мы уже можем сами приблизить его, и мы работаем во имя этого упорно и много. А раз так — то вот оно, новое время, стучится к нам в дверь! — горячо заключил Павлов.
— А что же произойдет в нашей жизни, какие события, по чему мы узнаем его приход? — упорно выспрашивал Абай.
И Павлов, понизив голос, доверил ему свою тайную, но совершенно ясную мысль: главное, чем будет отмечено наступление новой эпохи, — это крушение царизма. Когда царь лишится трона и власти — вот отсюда и надо вести счет! Все восемь сенатов, как именуют казахи министерства, все генерал-губернаторы, вся власть вплоть до уездных и волостных управителей — рухнет, развеется в прах. Будет установлен новый, справедливый порядок, новый образ правления, соответствующий нуждам и чаяниям народа.
— Вот все, что я могу сказать вам о будущем сегодня. И вы не думайте, что об этом говорю только я — некий мечтатель-утопист Павлов. Обо всем этом уже давно и много говорится и пишется во всем мире. Эти слова стали боевым знаменем, под которым борется множество людей. Это клич нового общества. Верьте мне, оно победит!
И, окрыленный словами друга, стремясь почувствовать и как бы воочию увидеть распахнувшийся перед ним ослепительный простор, поэт воскликнул:
— Но хоть дети-то наши доживут до лучезарного этого времени?
И Павлов ответил:
— Доживут. Верьте мне. Они будут жить в обновленном мире!
Драгоценная эта встреча согрела животворным теплом печальное сердце Абая, озарила радостью его взор, уже давно затуманенный скорбью. Он приказал принести обильное угощение, потчевал дорогого гостя и сам с наслаждением пил вино, которого давно уже не касался.
За столом Абай читал Павлову новые стихи, написанные в последние годы, а переводы свои из Лермонтова, Байрона, Гете спел под домбру на собственные, им самим сочиненные мотивы.
Поздно ночью, когда все кругом уже спали, Абай вышел проводить Павлова на тихую темную улицу. Подсаживая его в тарантас, поэт пообещал на этот раз не торопиться с возвращением в аул, остаться в городе и часто встречаться с другом. Абай твердо решил поближе познакомиться с городским рабочим людом, походить по домам предместий, покороче сойтись с учащейся казахской молодежью. Сердцем и сознанием глубоко и страстно откликался Абай на советы Федора Ивановича.
В один из ближайших дней наступил черед и того дела, ради которого Абая вызвали в город. Рассказы Какитая о подробностях блеубаевского сбора, о достойном ответе Магаша старейшинам и о его иронических замечаниях Шубару и Азимбаю доставили Абаю чувство глубокого удовлетворения. Магаш оказался человеком не только с характером, но и с высоко развитым сознанием собственного достоинства, осмотрительным и разумным. И хотя ему, слабому здоровьем, не удалось закончить образования в городе, в нем угадывались черты новой культуры. Он был достоин того общества передовых людей, за которое ему предстоит бороться и в котором, может быть, — теперь Абай трепетно надеялся на это, — доведется Магашу жить.
Но хотя исстрадавшаяся душа Абая постепенно оживала и крепла, он все еще не в силах был ни слушать, ни говорить о недавнем сборе старейшин и обо всех произнесенных на нем никчемных словах.
Истомившись ожиданием, Бегеш и Серке подослали к Магашу и Какитаю своего человечка, чтобы разузнать о решении Абая. Но и на этот раз Магаш отделался коротким, уклончивым ответом: «Отец, как вам известно, приехал в город. Нам он своих соображений не сообщал. Если аксакалы желают получить ответ, пусть благоволят обратиться к нему самому». Тем самым Магаш освобождал и себя и Какитая от всякого дальнейшего посредничества, толков и пересудов.
На другой день к Абаю явилось несколько почтенных старейшин, якобы для того, чтобы просто повидаться, засвидетельствовать свое уважение, «отдать салем». Это были: Бегеш — из Кереев, Серке — из Уака, Камбар — из Наймана и Сыбана, Кали — из Каракесека, — словом, специально прибывшие от лица сбора представители всех «четырех арысов», столпов Среднего Жуза. Вместе с ними явился и Айтказы, слывущий за одного из самых изворотливых людей так называемого «внутреннего лесного района». Его прихватили с собой главным образом потому, что он был хорошо знаком с Абаем, частенько бывал у него в гостях.
И здесь первое слово принадлежало Бегешу. Как всегда, начиная издалека и лишь постепенно, окольными путями приближаясь к цели, Бегеш, рисуясь перед Абаем, дал волю своему красноречию. Первым делом он вспомнил о том, что Абай человек высокоученый и во всех отношениях выдающийся. К этому он присовокупил, что «наука — основа счастья, а счастье без науки — избранных доля», — и пошел, и пошел вышивать словесные узоры!
Что же будет — страшно подумать! — если такой высокообразованный человек, как Абай, изменит своему благородному делу народного проводника по путям истины и добра?! Что же сможет обрести невежественный народ, покинутый учителем своим? И вообще, что такое народ? Народ тогда лишь может называться народом, когда во главе толпы стоят достойные люди. Народ же, лишенный водителя, лишается и достоинства своего. Он станет изменчивым, как мираж, будет таять, как снег, распадется и рассеется в прах. А разве люди, достойные идти во главе кочевья, рождаются каждый день? Разве они встречаются на каждом шагу?
— Много есть среди нас людей, языком луну достающих, а руками, и тушканчика не способных поймать! — так закончил Бегеш, стремясь задеть самолюбие Абая, задеть его за живое.
Отдавая должное красноречию Бегеша, Абай коротко высказал ему горькую правду, вычурными словами пародируя пышную речь аксакала.
— Эх, Бегеш! Если даже и правда все то, что ты сейчас говоришь, то есть ведь и горшая забота у моего несчастного сердца. А что ты ответишь, если скажу тебе: лучше быть соломой пшеницы, чем зерном овсюка? Лучше быть последним среди добрых людей, чем первым среди негодяев?
Бегеш слушал поэта, раскрыв рот от растерянности. И тогда в беседу вступил Айтказы. Он напомнил слова самого Абая:
И жизни будешь ты не рад, Коль ты не глуп, не пьян.Чтобы доказать, что он не зря слушал стихи и прозу Абая, Айтказы заговорил о том, сколько печали уготовано в сегодняшней нашей жизни порядочному человеку. Отсюда он ловко повернул речь к тому, что, пусть народ наш и плох, однако он ведь свой, пусть темная наша среда, но она ведь своя. Если же человек мудрый и хороший не будет прощать народу своему, на чем тогда свету стоять? А в заключение он сказал:
— Я прилежно изучал ваши назидания, Абай-ага! Кажется, есть у вас и такое изречение: «Отвечать добром на добро сумеет каждый, но отвечать добром на зло способен только мужественный человек». Так вот к вам, как к мужественному человеку, и пришел ваш народ!
Айтказы действительно почитал Абая как человека мудрого, красноречивого, необыкновенного. И, обдумывая свой ответ, Абай испытующе глянул в его умные светло-карие глаза. Человек небольшого роста, с широким круглым лицом и высоким лбом, Айтказы скорее нравился Абаю, но сейчас было не время для искренних чувств и откровенных излияний.
— Уразбай не тот человек, которому можно простить, — сказал Абай. — Что там ни говори, но никто из присутствующих не знает Уразбая так, как знает его Абай. Это не простак, который случайно оступился или заблудился ненароком. Это человек, возведший свой безобразный произвол в незыблемый закон. Не Уразбай, а злодей— его имя! — И Абай всем своим тучным телом, всей широкой грудью повернулся к Айтказы. — А в ответ на то изречение, что ты напомнил сейчас, уместно было бы привести другое: «Доброе слово о плохом человеке подобно клятве, написанной на воде», — заключил он, невольно восхищая сидящих перед ним знатоков и ценителей красного словца внезапным блеском своего остроумия.
Серке всегда любил слушать Абая. А с тех пор, как на прошлогоднем Аркатском чрезвычайном съезде Абай поверг в прах перед его родными уаками знатных заправил своего рода, Серке в глаза и за глаза превозносил поэта. Теперь он приветствовал меткий удар Абая веселым смехом, с восхищением думая про себя: «Придешь к Абаю — всегда душу насытишь, идешь домой с драгоценным словом». И он от чистого сердца воскликнул:
— Если кто из казахов и достоин имени могучего дерева, благодатную тень народу дающего, то только вы! Чего стоит весь наш Средний Жуз, если вас, единственного, мы уберечь не сможем. Вот потому-то и пришли мы сюда чтобы стать щитом вашим!
Но Абай не был падок на похвалы:
— Достоинство только тогда достоинство, когда его свято оберегают. Но подумайте, что от него останется, если его ногами топтать, смешивать с грязью, убивать унижением!
И Абай подкрепил свои слова изречением достославного Саади: «Легко разбить рубин Бадахшана, но попробуй воссоединить его из осколков!»
Давний знакомец и сотрапезник Абая, городской казах из Каракесеков, Кали, которого горожане почитали как человека, умудренного жизнью, немедленно выставил против мудрых слов Саади изречение другого восточного классика:
— «Не трогай муравья, зерно на себе несущего, ведь он борется за жизнь. А жизнь так прекрасна!» Вы, наверное, помните, Абай-мирза, что так говорил Фирдоуси? Вот я и хочу заступиться за вас, как за муравья, несущего на себе зерно для своего народа. Кажется, винить меня тут не за что? Ведь родичи ваши приехали сюда не ради потехи. Слов на свете много, можно говорить без конца. Однако же, я надеюсь, мы не собираемся доказывать, что «уста—ворота, а слова — ветер». Если хватит у нас ума-разума и силы-умения, рассудим обе стороны, установим, кто прав, кто виноват, и приведем добро и зло в соответствие друг с другом. Попробуем, собравшись вместе как представители Среднего Жуза, испытать свое собственное достоинство как достоинство самого народа. Вот в чем вся соль наших разговоров! — сказал он с легкой досадой, и его слова показались Абаю более убедительными, чем пространные рассуждения всех остальных.
Хотя Абай отнюдь не заблуждался относительно искренности всех этих речей и полезности затеваемых сородичами дел, он больше не спорил, как бы признавая слова Кали за окончательное решение. Абай умолк и, в упор глядя на оратора, утвердительно кивал головой.
А тем временем домашние Кумаша уже накрыли стол, и на широкую скатерть посыпались сдобные баурсаки, принесли румяные пышки, смазанные сбитым желтком, и блестящий никелированный самовар. Уставшие от длинных словопрений гости с наслаждением принялись за горячий ароматный чай.
Хотя Абай и вертел в руках пиалу, но он не пил чаю и не коснулся угощения, стоявшего на столе. Приметивший это Бегеш подвинул к нему блюдо с пышками.
— Что же вы ничего не кушаете, Абай-мирза? Отведайте хоть пышек. Недаром ведь говорится, что хлеб — это божья благодать! — любезно пошутил он.
Абай засмеялся, и тут же блеснуло снова его от юности горькое разительное остроумие. Всколыхнувшись всем своим грузным телом, он заметил с усмешкой:
— Ты говоришь, Бегеш, что хлеб — это божья благодать. Вот что значит «Много неслыханного тобою у народа на устах. Много среди сартов тех, кто ездит на ишаках!» Если хлеб — божья благодать, стало быть, чем больше хлеба, тем больше божьей благодати? Значит, эта божья благодать, о которой так пекутся правоверные мусульмане, находится у горемычных русских мужиков?!
При этих неожиданных его словах все старейшины во главе с самим Бегешем залились неудержимым смехом.
Перед тем как расстаться, Абай спросил у Бегеша, кто же именно примет участие в посредничестве? Ему назвали многих людей из аргынов, найманов, кереев, уаков, представляющих пресловутые четыре столпа Среднего Жуза, и в первую очередь всех участников сбора в доме хаджи Блеубая. Узнав, что от равнинных кереев на сборе присутствовал Ракыш, Абай бросил еще одно крылатое слово, приведшее в восторг «мастеров степного красноречия».
— Так, так, и Ракыш, оказывается, с вами! Вчера он, говоря: «Ибрай враг народа», — лебезил перед Уразбаем; говоря: «Абай враг начальства», — науськивал на меня уездного и судью. А сегодня этот самый Ракыш грудью стоит за Абая, из кожи лезет вон, чтобы сделать ему добро! А? Каково? Откуда же быть постоянству в мире, если нет постоянства в человеке, миром управляющем? Откуда же тут взяться спокойствию! Поистине, если бы горы Семей-тау и Кокен обрели ноги, то и они не стояли бы на этой земле: сорвались бы с места и пошли!
Возбужденный соревнованием с искусными степными ораторами, Абай внезапно ощутил как бы прилив вдохновения, и слова его, рожденные силой поэтического дарования, засверкали острым блеском живой, беспокойной мысли.
После встречи с Абаем его собеседники действовали уже самостоятельно, торопясь закончить начатое дело. Они то встречались в домах баев Жакыпа или Сейсеке, то перебирались на ту сторону Иртыша, чтобы сойтись за обильным дастарханом у одного из тамошних торговцев. Их слова доводились до сына Уразбая Елеу, приехавшего держать ответ за отца. А другой конец дела тянулся к драчливому Самену — этой «черной дубине» Уразбая, еще вчера занесенной над головой Абая.
Теперь Абай не хотел больше ничего знать обо всей этой возне, целиком поглощенный знакомством с многообразной жизнью городских казахов. Встретившись на базаре с мелким перекупщиком Еспергеном, Абай побывал в его чистеньком трехкомнатном домике на высоком кирпичном фундаменте, а потом и в домах его товарищей, таких же алыпсатаров, как и он сам.
К Еспергену Абай отправился вместе с Баймагамбетом. Несмотря на кажущееся благополучие своего хозяина, гости с первых же сказанных им слов поняли, что он, как и сотни других мелких торговцев, целиком зависел от богатых баев, вроде Сейсеке, Хасена, Жакыпа или Блеубая-хаджи. У Абая создалось впечатление, что алыпсатары постоянно находились в стесненных обстоятельствах. Об этом говорили и на базаре, и в лавках, и на постоялых дворах, и на лодочной переправе. Особенно круто приходилось им в дни осеннего урожая, которые они на своем жаргоне почему-то называли «иманпос».
Сегодня Абай услышал из уст Еспергена забавную поговорку, сочиненную алыпсатарами: «Либо с мира по нитке возьмешь, либо сам по миру пойдешь». И Есперген объяснил, что это значит. Тысячи городских казахов кормились тем, что вели мелочную торговлю с воза в степных аулах. Так как у них не было ничего, кроме единственной лошаденки с телегой, то за товаром они шли кланяться к именитым баям вроде Сейсеке, а те вели их на ту сторону, к русским купцам Дерову, Плещееву, Михайлову-Малышеву, либо к таким татарским богатеям-магазинщикам, как Вали или Исхак. Этим крупным предпринимателям «все банки открыты», у них есть свои солидные счета. Они безжалостно гонят от своих дверей мелких торговцев, приходящих с предложением своих услуг, либо берут их чуть ли не задаром в работники. Другое дело, если человек пришел с поручителем — казахским баем. Баям и русские и татарские купцы доверяют.
Приведя к магазинщику десять — пятнадцать нищих алыпсатаров, вроде Еспергена, Сейсеке, казалось бы, облагодетельствовал их с ног до головы. Ведь каждому из них он дает товаров в кредит на сто, триста, пятьсот, а иногда — правда очень редко — на всю тысячу рублей. Но бай имеет тут свой интерес. За привод оптовых покупателей в магазин Сейсеке получает скидку на забираемые ими товары, по восемь копеек с рубля. А передавая эти же самые товары Еспергену, накидывает ему двенадцать копеек на рубль. Так бай за здорово живешь получает чистого барыша по двадцать копеек с рубля. Одновременно он еще и закабаляет алыпсатара, вяжет его по рукам и по ногам.
Как он это делает? А очень просто: дав Еспергену на пятьсот рублей товаров, баи берут с него «белый вексель», то есть чистый вексель, с одной только подписью должника. Потом, если Есперген, скажем, не сможет уплатить деньги в срок, Сейсеке начислит ему еще по двадцать копеек, а потом собственноручно припишет еще и штраф по своему усмотрению и передаст вексель латаресу — городскому нотариусу, от одного имени которого трепещут все городские торговцы и алыпсатары. В случае невозвращения денег домишко и все имущество Еспергена продадут с молотка.
Мелкий торговец, таким образом, живет по воле бая, как овца на аркане. Двухэтажные, под нарядными зелеными крышами дома богатеев высились среди низкорослых лачужек жатаков, как гнезда коршуна над птичьим двором. Говоря языком мечети, эти богатые дома расставляли свои сети на целые махалла вокруг. Прибрав к своим рукам всю торговлю в городе и степи и ведя ее через своих закабаленных перекупщиков, баи использовали их еще и как приманку для новых жертв.
Караваны, приходящие из степи зимой и летом, естественно не проезжали мимо относительно просторных домов и дворов таких «приличных» обывателей, как Есперген и ему подобных алыпсатаров. А уж расположившись у Еспергена, они попадали в зависимость от своего хозяина, вернее — от бая, которому волей-неволей служил сам Есперген.
Разумеется, бай старался не выпускать из ворот своего клиента привезенные степняками кожи, кошмы, волос, шерсть, пушнину и живой скот, пригнанный на продажу. Все это скупалось баем при помощи Еспергена, который вынужден был, верой и правдой служа большому дому под железной крышей, всячески надувать, обмеривать и обвешивать своих степных гостей.
А крепкие ворота солидных, прославленных баев и правоверных хаджи неизменно оставались наглухо закрытыми. Их почтенные обитатели были выше повседневной низкой суеты торговых дел.
Одетый, как и все городские торговцы, в степенный длиный черный ламбуковый камзол с короткими рукавами, Есперген по привычке вертел в руках счеты, словно приросшие к его пальцам. Он то бойко отщелкивал свои приходы и расходы, то в рассеянности водил по ним рукою.
В промежутке между чаем и поздно приготовленным ужином Есперген успел порассказать своим гостям немало интересного.
Полулежа, облокотившись на две большие подушки, Абай, захваченный рассказами Еспергена, не сводил с него глаз. Баймагамбет также внимательно слушал хозяина, сидя, по своему обыкновению, на корточках. Изредка отправляя в левую ноздрю щепотку насыбая, он прищелкивал языком и потряхивал рыжей бородой от удивления.
А Есперген, убедившись, что его пожилые гости знают о торговом мире, в котором он жил, не больше грудных младенцев выкладывал им всю правду, что называется, до самой подоплеки.
Сам Есперген в эти дни висел на волоске, не будучи в силах погасить тысячерублевый вексель, и ему очень хотелось излить свою горечь перед таким добрым и мудрым человеком, как Абай.
— Почему именно сейчас многие горожане оказались в трудном положении? — спрашивал Абай. — Вот уже несколько человек жаловалось мне: Карипжан, Толепбек, Кайнарбай… Они прямо-таки в смятении. Спрашиваю их: «В чем дело?» Говорят: «Ой-бой, иманпос подходит! Иманпос жмет! В этом году иманпос боком вышел!» И ты говоришь то же самое. Как же это вы все сразу оказались в тисках какого-то иманпоса?
Баймагамбет загорелся любопытством.
— Все говорят «иманпос, иманпос!» А что это за слово: казахское или русское — никто этого не знает.
И Есперген объяснил, как умел:
— Я же вам говорил, что мы через наших баев берем взаймы товар у русских купцов. Так он на десять месяцев или там на год не дается, а дается всего только на восемь месяцев. Если будете считать с января, то оказывается двадцать девятого августа наступает русский праздник: то ли пост, то ли еще что-то в этом роде. Вот это и есть «иманпос!»
Абай рассмеялся, он только теперь понял, что слово «иман» обозначает русское имя «Иван» и речь идет, очевидно, о празднике, который русские называют «Иван-постный», о дне усекновения главы Иоанна Крестителя.
По рассказам Еспергена выходило, что, получив в кредит мануфактуру и галантерею, мелкие торговцы тут же, в мороз и буран, выезжали с ними в степь, по отдаленным аулам. Намучавшись со своими товарами в лютую стужу по бездорожью, они, понятное дело, стремятся продать их хотя бы с какой ни на есть прибылью. А разве это торговля? Их товары с надбавками баев-посредников и так уже подорожали. Да еще сам алыпсатар вынужден накинуть копейку-другую. Такой дорогой товар в ауле за наличные не продашь, приходится торговать в кредит, а потом мучиться летом, таскаясь по аулам, чтобы выколачивать долги, получая их опять-таки не деньгами, а скотом.
Вот и ездит такой Есперген по кочевьям, отбирает у добрых людей — у кого овцу, у кого козленка, теленка или стригуна. И стыдно ему и тяжко, а делать нечего — едет! Потом пригонит скот на базар, и хорошо еще, если цены стоят подхоящие, — удастся и расходы окупить и с баем в иманпос расплатиться. А ведь это сказать только легко: расплатиться! Тут надо, чтобы и скот был в цене, и чтобы дорогой падежа не случилось, и чтобы скотина не отощала. Э, да что там говорить! Обычно-то отдашь Сейсеке какую ни на есть часть, он тебе вексель перепишет — глядишь, и оказался у него на привязи, а он тебе норовит и вовсе на шею сесть!
Побывав в гостях еще у нескольких бродячих торговцев, соседей Еспергена, Абай и Баймагамбет убедились, что только со стороны люди эти кажутся зажиточными, благополучными, а поглядишь в корень, и выходит, что, обкрадывая бедняков, сами они оказываются в жестокой кабале у богачей. Один из этих людей, пожилой балагур Карипжан, когда Абай начал было обличать нечестные его дела, смеясь согласился:
— Правду говорите, Абай-ага! У таких мелких людишек, как мы с Еспергеном, праведных дел искать не приходится! Коли попадутся нам в руки степные простачки с караваном, то мы уж бога не побоимся: сдерем с них шкуру, как с нас бай Сейсеке да Блеубай-хаджи дерут. Где уж там думать о шариате!
И с горечью ответил ему Абай шуткой, которую долго потом повторял сам Карипжан своим приятелям на базарах:
— В степи есть конокрады, а на городском рынке — воры, но если те честно называются ворами, то эти именуют тебя торговцами!
А позже присовокупил:
— Удивительно, как постоянен человек в своем стремлении делать зло другому человеку. Ведь волки и те пожирают себе подобного только в исключительном случае, а не набрасываются друг на друга всегда. Вот иной раз и подумаешь, что волк добрей городских торговцев!
Частенько Абай ездил на ту сторону реки и брал книги из Гоголевской библиотеки. Он подолгу сидел неподвижно один и читал. А по вечерам ходил в гости к своим многочисленным знакомым из бедняков. Городские казахи в одном только ничем не отличались от своих степных сородичей: любили принимать гостей. Приглашая за свой бедный дастархан уважаемого человека, они не жалели для него последнего куска.
Абая нарасхват звали к себе и вдова Дамежан, и лодочник Сеиль, и дровосек Саудабай, и сапожник Салмакбай, и портной Сагындык. Иные ремесленники, побывав у своих товарищей в гостях вместе с Абаем, после тоже звали его к себе. Некоторые из них раньше, чем с самим Абаем, познакомились с Баймагамбетом. Бывая у своих друзей, Баймагамбет, отличный рассказчик, охотно рассказывал им сказки, а иной раз и целые романы, которые читались вслух в доме Абая. Желанный гость, Баймагамбет, стремясь сделать приятное своим радушным хозяевам, читал наизусть стихи Абая, которых знал множество.
Теперь бедняки обоих побережий наперебой зазывали их к себе. Однажды Абай и Баймагамбет целую неделю подряд ходили по домам затонских грузчиков и рабочих кожевенного завода. Они побывали у Ак-Шолака, Жапека, Алипбека, Исака, Кусака и других ближайших друзей Сеита и Абена, а также у Павлова и Маркова.
Это постоянное хождение по гостям как бы вошло в обиход Абая. Раньше, приезжая в город, он редко выходил из дома, где остановился, любил принимать и угощать нужных ему людей — и степняков и горожан — у себя. Теперь, наоборот, он стремился больше бывать в рабочих семьях, чтобы узнать истинное положение трудового люда так же хорошо, как знал его Павлов. Любопытные спрашивали его или Баймагамбета: «Где это вы все пропадаете!» Они уклончиво отвечали: «Да так, в разных местах!»
В Затоне Сеит и Абен стали постоянными спутниками Абая. К ним пристал и еще один забавный человечек, бедняк Даулеткельди из соседнего многочисленного поселка жатаков — Байкадам-Сапак. Судя по тому, как его принимали, было видно, что Даулеткельди все знали и любили за его веселый нрав. Только завидя его, рабочие, старики и молодки, весело смеялись, заранее ожидая от него чего-то забавного: песен, шуток, рассказов. Даулеткельди, глядя по обстоятельствам, становился то поэтом, то рассказчиком, то певцом. Бедность не омрачила его легкого характера, в любую лачужку он приносил с собой смех и веселье.
В доме гостеприимного хозяина, широкоплечего, рыжего и курносого грузчика Ак-Шолака к Абаю подвели Даулеткельди, который для того и пришел, чтобы приветствовать поэта. Горбоносый, с глубоко запавшими глазами, с острыми скулами, выдающимися над худыми щеками, безбородый и сутулый, Даулеткельди невольно обращал на себя внимание. Он отнюдь не был красив, но было что-то привлекательное в его лице, особенно в маленьких блестящих глазах, от которых лучами расходились добродушные морщинки, следы безобидного и беспечального смеха. Еще до знакомства с Даулеткельди, Абай слышал от кого-то его маленький шуточный рассказ.
— Раньше, чем ты сам, дошли до меня твои слова. Расскажи-ка о том, что ты сказал своей матушке, когда вороной стригун пал от сибирской язвы, — попросил Абай.
Даулеткельди, не заставляя себя уговаривать, тут же начал свои побасенки. Лицо его сохраняло при этом полную серьезность.
— У бедняка Даулеткельди и его старухи матери была одна-единственная корова, и от этой коровы — хорошая трехгодовалая телка. Вот эта самая телка и осталась яловой в прошлом году. Когда Даулеткельди был в отлучке, пришел к его матери сосед и стал ее уговаривать. «Твоему сыну приходится ездить в город, а коня у него нет. У меня есть ха-ароший вороной стригун. Хочешь, я его уступлю тебе, а ты мне отдай свою телку. Она у вас, оказывается, яловая. А я зимой заколю ее на мясо». Старуха и поверила соседу. «И вправду ведь бедный Даулеткельди ходит пешком продавать сено на базар дай я его обрадую!» И обменяла телку на стригуна.
Проходит неделя, возвращается Даулеткельди домой и видит, что стригун-то болен сибирской язвой. Вскорости он и подох. А мать убивается: то в юрту войдет, то на улицу выйдет, то на почетное место усядется — и все вздыхает. Только Даулеткельди хочет ей слово молвить, утешить, она на него давай кричать — не даст говорить, да и только. И самому-то бедняге впору лопнуть с досады, а он, сидя у очага, посмеивается над матерью, развеселить ее хочет. «Расселась, говорит, как сваха»! А мать, то молчит-молчит, а тут, опасаясь насмешки, чуть он рот откроет, приказывает: «Довольно вздор молоть! Молчи!» Тогда, уставясь на нее в упор, и сочинил Даулеткельди такие стишки:
Ну зачем тебе стригун? Ну твое ли это дело? Поздно ты взялась за ум. Стать богатой захотела. Неужели не поймешь. Что дала большого маху, А теперь сидишь и врешь. Похваляясь, будто сваха…[164]Тогда опечаленная родительница берет в руки кочергу, лежащую у очага, и бросается на любимого сына с криком: «Сгинь с глаз моих, собачий пастух!» Что остается делать Даулеткельди? Бежать. И Даулеткельди кидается прочь. Однако и на бегу он вежливо обращается к матери: «А тебе не кажется, мама, что это совсем как восьмистишие Абая? Строк-то ведь у меня тоже восемь!»
Даулеткельди рассказывал все это с невозмутимым лицом, как будто речь шла о совершенно безразличном ему предмете; и Абай, оценив в нем превосходного мастера-рассказчика и добрейшего человека, смеялся от всей души.
Бедность уже давно сидела на шее Даулеткельди. Все эти Байкадам-Сапаки, Жоламан-Жатаки, Байгели-Шагала и Затоны, где проводил свои дни Даулеткельди, были придавлены нуждой. Бедняки были загнаны в безвыходный тупик. А Даулеткельди, деля с ними и труд и горе, нашел чудодейственное средство от всех невзгод: своим непокорным смехом он помогал им побеждать и нужду и печаль.
И сам никогда не падал духом, как бы жизнь его ни трепала. Утешая плачущих — он утешается сам, одолевая свои несчастья — придает силы другим. И когда Даулеткельди издевается над самим собой, над незавидным своим пололожением— он побеждает свое горе-злосчастие смехом.
Заметив, что Абая развлекают росказни Даулеткельди, Сеиль попросил его прочесть стихи, сочиненные во время посещения лачужки бедняка в Байгели-Шагала. Даулеткельди и тут заговорил без тени улыбки.
— Люди говорят, что в день айта правоверный должен посетить сорок домов своих единоверцев. Ну, я и пошел по домам жатаков. Иду, ни одного не пропускаю, думаю себе: коли всех бедняков в поселке обойду, сорок домов как раз наберется. И вот открываю дверь в один дом, а порог, оказывается, мне по колено. Высоко занеся ногу, переступил я через этот порог, а там, изволите ли видеть, лужа, и я, не успев шагу шагнуть, прямо в нее шлепнулся. А пока летел, я приметил, что в переплете оконной рамы недостает стекла и это местечко затянуто бычьим пузырем. Откроешь дверь, она взвизгнет «ах», а пузырь эхом отдается — «ух». И я, сидя в луже, изрек:
Дверь откроешь — скажет «ах», А окно ответит «ух», Коль не тверд ты на ногах, Здесь как раз испустишь дух.[165]Произнеся, как воспитанный человек, приветствие дому, я встаю и здороваюсь с хозяином.
А тут и Абен вспомнил один забавный случай, как Даулеткельди степенного бая обманул. Даулеткельди рассказал и об этом.
— Недалеко от жатаков Байкадам-Сапака стояли два богатых аула. В один прекрасный день в ближайшем из них умирает старейший аксакал. Ну, конечно, извещают всю широкую степь, и со всех сторон бела света скачут родичи с воплями и рыданиями. У покойного бая было много овец, но сам-то он был разиня, скотные дворы свои городил где попало. Посидев около покойника в доме, выходит Даулеткельди на улицу и видит: какой-то пожилой тучный бай скачет, зажмурив глаза и открыв рот, и орет во всю мочь, что положено: «Ойбой, родич мой!», «Ойбой, великан мой!», «Ой, куда же ты ушел!» Тогда Даулеткельди спешит ему навстречу, помогает слезть с коня и говорит. «Я вас сейчас к нему провожу, — и ведет бая не в дом, где живут люди, а в темный хлев. А грузный бай все продолжает вопить с зажмуренными глазами. Заведя плачущего родича в самый темный тупик, Даулеткельди и говорит: «Ну, а дальше я и сам дороги не знаю!»— и, отбежав в сторону, прячется за кормушку. Неуклюжий бай не перестает причитать: «Ойбай, где ты, родич мой!»— пытается нащупать дорогу, чтобы выбраться на свет божий, и то на один столб налетит, то о другой лбом ударится. Тут-то он приоткрывает глаза и, сообразив, что над ним подшутили, произносит нечто, не совсем подходящее к печальному событию. Так, перемежая вопли о погибшем родственнике с упоминаниями о живой и здравствующей родительнице Даулеткельди, бай этот долго путался по закутам и загонам, мыча, как вол, который провалился в колодец.
Развеселившиеся слушатели не давали Даулеткельди перевести дух, все просили рассказывать еще да еще. И он рассказывал, не чинясь, без отказа.
— Недавно, в дни поста, возвращался безбожник Даулеткельди из дальней поездки домой и по пути остановился в ауле одного почтенного бая. Даулеткельди — человек пожилой, и бай, считая его правоверным мусульманином, пригласил к себе после заката солнца разговеться. А в ауле оказались приезжие купцы из города, прекрасно знавшие, кто такой Даулеткельди. Вот они и договорились между собой сыграть с ним шутку — довольно ему морочить других!
Перед ужином человек восемь гостей во главе с хозяином-баем становятся на вечернюю молитву, окружив Даулеткельди со всех сторон. Не спрашивая даже, совершал ли он омовение перед молитвой, и вообще не интересуясь, имеет ли он обыкновение молиться, правоверные просят его стать имамом, то есть заменить отсутствующего муллу. Он хотел было удрать, но его, дружно тесня плечами, вытолкнули вперед, а один из продувных торговцев начал поспешно читать молитвы за азанши.
Тогда, решив будь что будет, Даулеткельди с места в карьер ринулся вперед, в молитву. Сначала, сложив руки на груди, он громко огласил первые слова намаза. «Албасин, лямга секин-альхисынхааль, ха мемге альхам, далтурду-алхамду». И пошел, бормоча себе под нос, повторять «алхамду» по слогам задом наперед. Никто из добропорядочных мусульман отродясь не слыхивал такой молитвы. А «имам» оставался совершенно спокойным и с постной физиономией нес свою белиберду. Как ни крепились верующие баи во имя господа бога своего, но под конец не выдержали и с хохотом попадали на молитвенный коврик — жайнамаз.
Даулеткельди, этот городской Алдар-Косе,[166] так понравился Абаю с первой же встречи, что он стал водить его с собой по гостям. Даулеткельди был не только рассказчиком-острословом, он знал на память много стихов Абая и читал их по-своему, нараспев, своим внимательным слушателям. Иной раз, сидя в гостях, когда Абай просил его что-нибудь рассказать, Даулеткельди начинал стихи самого Абая с таким видом, как будто сообщал поэту что-то совершенно ему неизвестное: «Хвастун, наглец…» или «Тот, кто заблудился, видит впереди простор пустой…»
Но Абай не только сам ходил в гости, он принимал гостей и у себя. Это были маленькие казахи разных возрастов, обучавшиеся в русских городских школах. В субботу вечером Баймагамбет запрягал коня и, насажав в кошевку ребятишек, привозил их в дом Кумаша. Иной раз ему приходилось съездить еще раз, так как в одну кошевку все гости не вмещались.
Весь субботний вечер после чая Абай отдавал школьникам. Он спрашивал у каждого, как он учится, какие сегодня заданы уроки, какие стихи он знает наизусть.
Мальчишки, уже не раз побывавшие в доме поэта, нисколько перед ним не робели, бойко отвечая на вопросы, которые им задавали Абай и Баймагамбет.
Сегодня у Абая гостили девять учеников из трех школ, все как один одетые в форму и подпоясанные ремнями с блестящими металлическими пряжками. Самый старший из них — сын Даркембая Рахим. Недавно ему исполнилось восемнадцать лет. За ним шли: четырнадцатилетний Асан и его двенадцатилетний братишка Усен — дети погибшего в снежный буран пастуха Исы, сына старухи Ийс. Дармен заботливо растил ребят, помогая им как ближайший родственник. Сперва он привез их в абаевский аул подучиться русскому языку, а потом устроил в городскую русскую школу.
Рахим, Асан и Усен учатся по ту сторону реки в пятиклассном городском училище и носят одинаковые темно-серые рубахи с белыми металлическими пуговицами. Все трое, по счастливой случайности, получают стипендии, которые выделяются детям бедноты из надбавки к покибиточному сбору, но на практике далеко не всегда достаются тем, кому предназначены.
В гостях у Абая сидят еще четверо малышей одинакового роста, в своих черных формах с желтыми пуговицами, со своими как на подбор румяными курносыми мордашками похожие на братьев-близнецов. Это дети казахской бедноты, воспитывающиеся в специально созданном для них слободском интернате. Двоим из них по девять лет. Они из Затона. Спросишь одного: «Ты чей?» Он бойко ответит: «Я Сеитов Аскар», — другой, большеглазый, шепчет стесняясь: «Абенов Максут». Двое других и вовсе маленькие: внуку Дамежан — Мурату Жабыкенову и младшему сыну лодочника Сеиля — Шакету по восемь лет.
Коренастые, как упитанные ягнята, с круглыми головенками, одинаково остриженными под машинку, смешливые и веселые, ребятишки были очень милы и чувствовали себя совершенно свободно. Особняком от всех держались два смуглых двенадцатилетних подростка, одетые в праздничные гимназические мундиры. Расшитые галуном воротники подпирают их короткие шеи, блестящие серебряные пуговицы украшают гордо выпяченные груди.
Гимназисты смеялись мало и неохотно; они с достоинством молчали, глядя свысока на всех остальных ребят: мы, мол Кунанбаевы, не вам чета! Нигмет был четвертым из одиннадцати сыновей Азимбая, прижитых им от трех его законных жен. Подражая Абаю, обучающему своих сыновей в городе, Такежан с Азимбаем решили выучить русским наукам хоть одного. Первенцы байбише, старшей жены Азимбая, были уже переростками по шестнадцать-восемнадцать лет; но ее последыш Нигмет еще мог учиться, и, с грехом пополам подготовив, его два года назад привезли в город и определили в гимназию.
Второй Кунанбаев, Жалель, был сыном Какитая. Внешне непохожих друг на друга мальчишек роднило, однако, одно их общее свойство: оба, будучи двенадцатилетними подростками, имели надменный, равнодушный вид умудренных жизнью важных баев. У Жалеля была круглая голова с высоким лбом, нависающим над словно бы припухшими веками, прикрывающими узкие и холодные маленькие глаза. Мальчик был совсем не красив: носик пуговкой и тонкогубый рот с редкими зубами. А большеротый Нигмет Азимбаев — вылитая мать. Оттопыренная нижняя губа придавала бледному лицу мальчика презрительное, не по летам брюзгливое выражение. Сердитые и в то же время лукавые глаза, выглядывающие из-под мясистых век, беспрестанно шарили вокруг, словно ища, к чему бы придраться. Так как оба юнца уже два года учились в русской гимназии и квартировали в русских семьях, они неплохо болтали по-русски.
Хотя Абай и пригласил обоих своих племянников к себе, но не оказывал им особого внимания. Зато он долго беседовал с Рахимом. В свое время, когда великовозрастному Рахиму пришлось садиться в первый класс с малышами, Абай шутил:
— Да, Рахим, опоздал ты с ученьем! Ты своим одноклассникам, пожалуй, в отцы годишься!
Теперь он пошутил снова:
— Ну как, Рахим? За три-то года подросли твои русские однокашники, больше папой тебя не зовут?
Рахим, который любил Абая, как родного отца, чувствовал себя с ним совершенно непринужденно и под веселый смех других ребятишек отшучивался:
— Что и говорить, Абай-ага! Вытянулись мои «сынки» в дюжих парней! Теперь мне полегчало. А раньше они мне ростом до пояса были. Выйду на перемену — как верблюжонок среди ягнят!
Абай захотел послушать, как Асан и Усен читают русские стихи. Он велел Усену прочесть последнее стихотворение, которое задавал учитель. И Усен, запинаясь и безбожно путая ударения, стал читать басню Крылова «Осел и Соловей». Абай остановил его и пожурил отечески:
— Ой, Усен! Я научился русскому языку в тридцать лет и то лучше справляюсь с ударениями. Вот беда, начинали вас учить по корану, вот теперь никак к русской речи не привыкнете! Ну, расскажи-ка мне теперь, что случилось с ослом и соловьем? Расскажи хоть по-казахски.
Но оказалось, что Усен не знает многих русских слов, а потому не понимает, что произошло с ослом и соловьем. И хотя Нигмет и Жалель смеялись над мальчиком и он весь покраснел от досады, но так и не смог рассказать Абаю, по какому случаю встретились и о чем беседовали друг с другом осел и соловей.
— Да, Усен. Тебе, видно, надо помочь. Ну, ничего, я что-нибудь придумаю! — воскликнул Абай и стал расспрашивать Аскара и Максута, какие басни Крылова учат они в школе. Оказалось, что им тоже задавали выучить басню «Осел и Соловей», а кроме того «Слона и Моську», «Стрекозу и Муравья» и много еще других басен.
После, ужина ребятам постелили постели в соседней комнате. Абай попросил Баймагамбета лечь вместе с ними, а Аскару и Максуту, пристроившимся к нему с обеих сторон, сказал:
— Знаете, дети, стоит только этому самому Баке приоткрыть рот, как сказки сами посыплются! Попросите-ка его рассказать что-нибудь на сон грядущий!
Пока ребята раздевались и укладывались, Абай стоял над ними, накинув на плечи широкий халат, и любовался их веселой возней. А когда была потушена лампа и они, угомонившись наконец в темноте, стали слушать бесконечные сказки затейника Баймагамбета, Абай приступил к исполнению обещания, данного Усену. В эту ночь он впервые начал переводить Крылова на казахский язык.
Утром, когда ребята пили чай, Абай подсел к Усену и сказал:
— Ты следи по русской книге, а я тебе буду читать по-казахски про осла и соловья. Ну-ка, ребята, послушаем, что с ними было! — И Абай стал медленно, с удовольствием читать строки, рожденные в минувшую ночь.
В первые месяцы зимы 1899 года, которые поэт провел в городе, он с жадным интересом перевел на казахский язык те басни Крылова, которые Усен, Асан и Рахим учили в русской школе.
3
В середине зимы нового, тысяча девятисотого года Абай снова приехал в город по особому вызову. В сумерки запряженные парой лошадей сани Абая въехали в ворота Кумаша. Выбежав навстречу гостю, хозяин помог ему отряхнуться от снега и провел на второй этаж, в его любимую просторную комнату рядом с лестницей. За чаем на вопрос Кумаша о цели своего приезда Абай ответил, что получил письмо с просьбой срочно приехать в город.
— Наверное, ты, Кумаш, больше знаешь о здешних делах, чем я. Говорят, что мусульмане разных областей собираются объединиться, как братья по вере. Со всех сторон созывают людей в город. И до меня дошла весть. Позвали — ну я и приехал!
Кумаш стороной слышал кое-что о деле, по которому вызывали поэта, но не знал никаких подробностей и, не повидав людей к нему причастных, по скромности своей не хотел о нем и говорить.
— Болтают люди много, и до меня слухи доходят, но толком-то я ничего не знаю.
В разгар чаепития вошел Баймагамбет, а за ним втащили большой тяжелый сундук и ковровую переметную суму — хурджун, оба отделения которой были битком набиты книгами.
— А это, знаешь ли, мои книги, — сказал Кумашу Абай. — Мы с Баймагамбетом решили набрать их с собой побольше, чтобы хватило до самого лета. Мы ведь их повсюду накупаем, где только найдем.
Хотя Кумаш был выходцем из Коканда, он постоянно общался не только с Абаем, но и со своими соседями казахами. И он сам, и его жена, и сын, торговец Алимхан, часто путешествовавший по чужим краям, по сути дела ничем не отличались от казахов.
Грамотный лишь по-мусульмански, Кумаш, когда представлялся случай, переписывал стихи Абая и хранил у себя, как свою любимую настольную книгу. Баймагамбета же он считал своим ближайшим другом и принимал, как родича. Приезжал ли Баймагамбет с Абаем или один, Кумаш всегда, улучив удобную минуту, просил его рассказать различные истории, которых у старика был неиссякаемый запас. Теперь, когда внесли целый сундук с книгами, у Кумаша глаза разгорелись, и он под видом вежливой шутки напомнил о своем постоянном интересе к чудесным рассказам Баймагамбета.
— Смотрите-ка, эти городские книги, погостив в степи, вернулись обратно. Наверное, много романов и рассказов поведали они вам, Баке! Неужели эти книги так и будут молча ходить туда и обратно мимо нас, не умеющих их читать? Неужели так и не заговорят с нами?
Абай с улыбкой глянул на Баймагамбета, зная, что этот вопрос обращен к нему. А Баймагамбет, который никогда не уставал в дороге, поудобнее усевшись около стола, пообещал, так уж и быть, рассказать после чая одну историю.
— Пусть это будет подарком гостя, — важно сказал он. — Вот с завтрашнего дня мы тут сами станем хозяевами в вашем ауле. Тогда уж будем угощать вас сказками, когда захотим. А сегодня воля ваша, хозяйская, имеете право требовать рассказа — не спорю!
Обстоятельно погревшись чайком, Баймагамбет начал не спеша, по порядку:
— Эта книга большого русского мудреца. Недавно мне ее прочитал Абай. А я сам ее еще никому не сказывал. Пусть сегодня будет мое начало. Итак, повесть называется «Князь Серебряный», — объявил он.
В этот вечер Абай не звал к себе никого из посторонних.
Хозяева и гости решили посвятить весь вечер рассказу Баймагамбета, а о городских новостях сегодня и не поминать.
Наутро, выспавшись хорошенько с дороги, Абай встал поздно и вышел к чаю уже около полудня. Не успел он позавтракать, как к нему явились к приветствием двое горожан. Первым вошел высокий грузный человек с двойным подбородком и жиденькой бородкой клинышком, в котором Абай с удивлением узнал Кокпая. Следом за ним шел низенький учтивый жигит с круглым рябым лицом и коротко подстриженной черной бородой. Это был Алпеим, также известный Абаю человек из рода Кокше. В том, как они вошли, как кланялись и как садились на почетное место, было, невзирая на внешнюю несхожесть гостей, что-то общее, что роднило их между собой, вызывая острую неприязнь Абая. А ведь оба они выходцы из родных поэту степей, а Кокпай даже был ему близок когда-то.
Вызывала недоумение их франтоватая одежда татарского городского покроя. Кокпай напялил на себя отороченную выдрой татарскую шапку с синим верхом, бешмет с прямыми плечами, видимо сшитый татарским портным, а сверху облачился в бледно-желтый тонкий чапан, который носят городские муллы. На обоих были городские ичиги и кожаные галоши. Старший стал, оказывается, муллой главной мечети, и его теперь величают Кокпай-хальфе. А второй, тоже великовозрастный бородатый дядя, не постеснялся пойти в ученики медресе, содержащейся при той же мечети. Правда, он было упирался, ссылаясь на свои годы, но Кокпай притащил-таки его вместе с другими жигитами учиться мусульманской премудрости в город. А ведь тучный, сорокалетний ныне, Кокпай был когда-то веселым певцом и неплохим поэтом. Теперь же надутый вид его вполне под стать его сану — мулла Кокпай, Кокпай-хальфе. Здороваясь с Абаем, он нараспев произнес «Слава аллаху! Вашими молитвами!»
Абаю показалось забавным, что в такой трескучий мороз Кокпай сменил добротную меховую шубу, казахский дубленый тулуп, теплый чапан и зимние сапоги на подбитую ветром городскую одежду. «Видно, хочет показать, что не только душой, но и телом предан божьему делу», — усмехаясь, подумал поэт.
После взаимных приветствий Абай повернулся к Алпеиму и спросил:
— Ну-ка, скажи, Алпеим, какой ты сейчас премудростью занимаешься?
— Изучаю арабскую грамматику, наху, — ответил Алпеим, сторожко, выжидательным взглядом уставившись на Абая.
— Э, смотри, жигит, так недолго и помешаться. Ведь у самих арабов есть поговорка, — и Абай процитировал по-арабски: «Кто долго учит законы — фихку, тот поумнеет, кто долго учит наху — последний ум потеряет». — Он рассмеялся и продолжал: — Это не я говорю, а арабские ученые богословы, которых ты зубришь! — и, помолчав, добавил — Ох, Алпеим, отец твой был разумным казахом, ведь это он первый посеял хлеб на Такыре. И тебе бы лучше всего было поехать к себе домой в степь да заняться полезным трудом. Наверное, это Кокпай притащил тебя и других таких же парней из рода Кокше и рассовал вас в медресе и мечети по обе стороны Иртыша? Незачем вам за ним тянуться! Уступили бы вы ему самому всю эту благодать, пусть ею один пользуется! — И в голосе Абая невольно прозвучала горечь разочарования: ведь когда-то Кокпай был его младшим товарищем, другом.
Кокпай со своей обычной вкрадчивой манерой — согласен или не согласен, подлаживаться к настроениям Абая — прикинулся безобидным добряком. Он молча терпел недобрые шутки поэта и виду не подавал, что они его задевают. «Начнешь возражать, так он тебя одним словом сразит наповал! — думал он про себя. — Уж лучше помолчу, от греха подальше».
После чаепития, во время которого все трое ощущали взаимный холодок, Кокпай осторожно сообщил, по какому делу он прибыл. Он, оказывается, и был тем лицом, которое прекрасно знало, зачем Абая вызывали в город. И пришел-то он не по дружбе и не для своего удовольствия. Его, как одноаульца Абая, слывшего даже другом поэта, заслали к нему некие заинтересованные лица для предварительных переговоров по важному делу.
Мало-помалу дело это стало проясняться. Абай только теперь из речей Кокпая начал понимать, кто его ждал в городе. Его ждали, во-первых, казахские и татарские интеллигенты — зиялы — с обеих сторон Иртыша. Если сказать, кто они, — так это прежде всего имамы наиболее прославленных, крупных мечетей того берега: Кос-мечети, Тас-мечети, Казахской мечети — имамы Габдул-Жаппар, Габдураззак, Хисами, Жамалиддин, кроме того, имам сартовской мечети — ахун Мир-Курбан. Мечтали встретиться с Абаем также имамы главной мечети этого берега и мечети Нижней слободки: Малик-Аждарнари, Ашим-ходжа и хазрет Ахметжан. И еще много других казахских наставников веры, кари и хальфе нуждались, оказывается, в Абае.
Не дослушав медлительной речи Кокпая, Абай прервал его шуткой:
— Э, да уж не для того ли собрались вместе все ваши хаджи, чтобы отправить меня, грешного, в Мекку? Не думаете ли угодить аллаху, склонив мою голову до земли, на путь истинный меня наставив?
Алпеим откровенно рассмеялся, а Кокпай, снова пропустив колкости поэта мимо ушей, продолжал как ни в чем не бывало.
— Слушайте дальше, Абай-ага! Все общество просит у вас совета. Я говорил о духовенстве, но вас ждут и многие другие люди с обоих берегов. Это известные татарские коммерсанты, домовладельцы, хозяева больших магазинов— такие, как почтенный Вали-бай, Сыдык-бай, Исхак, богач Икрам, мирза Шерияздан. А с ними вкупе и наши казахские городские баи: Сейсеке, Хасен, Жакып, Блеубай-хаджи. К ним присоединяют свой голос и недавно вступившие в ряды почетных граждан города, ныне известные вам купцы Бахия-хаджи, Балажан, Турбек, чьи караваны ходят от самого Ирбита до Китая.
По недовольному выражению лица Абая, от которого Кокпай не отрывал испытующего взгляда, он догадывался, что вряд ли поэт считает всех этих баев за порядочных людей. Но Кокпая послали говорить, и он говорил, ничего не поделаешь! Перечислил сначала имена знатных богатеев и хаджи, а потом перешел к другим: «Если, мол, эти не нравятся, то у нас всякие есть, на любой вкус».
Рассчитывая, что эти люди будут приятнее Абаю, Кокпай не преминул упомянуть, что и служилая интеллигенция — зиялы — также примыкают к духовным отцам и торговцам в одном общем для них деле. Двое из них — степенные пожилые люди, известные в народе толмачи, уже успевшие построить себе в городе приличные дома. А уж другие — это настоящие зиялы, передовые, просвещенные люди, получившие образование в Петербурге или в Москве. Иные из них и сейчас учатся: иные из них потомки ханов и высоких чиновников, дети «известных семей», «выходцы из верхушки рода Суюндик», «сыны прославленных родов Каракесек», «из знаменитого гнезда Токал-Аргына», или «из сильных аулов Наймана». Сев на своего конька, Кокпай неудержимо помчался вперед, до небес превознося ханов, султанов и тюре.
По просьбе Абая Кокпай принялся именовать всех постоянно живущих в городе и находящихся здесь проездом интеллигентов, которые, оказывается, тоже никак не могли обойтись без Абая. Первым Кокпай назвал крупного чиновника-тюре Азимхана Жабайханова. За ним некоего Сакпына Сакпаева, обучающегося в Петербурге «по адвокатской части». Потом Башира Баспакова, собирающегося стать ветеринаром, большого барина Кадыра Нуржанова, а также и хорошо известных Абаю, ныне вышедших в люди Сарманова, Самалбека, Данияра.
В конце концов Абай и действительно заинтересовался, как и на чем могли сойтись правоверные служители аллаха с образованными по-русски казахскими чиновниками из царских канцелярий. Кокпай умышленно тянул, не очень-то распространяясь на этот счет, а лишь добавляя все новые и новые имена. Все эти люди, вместе взятые и каждый из них в отдельности, будто бы имеют намерение лично говорить с Абаем с глазу на глаз. Он же, Кокпай, выполняет лишь скромное поручение — узнать мнение Абая и сообщить имамам этой стороны — Ашим-ходже и Ахметжан-хазрету — о готовности его присоединить свой голос к голосам упомянутых знатных людей.
А в чем же высокая цель, всех праверных вкупе объединяющая? Цель эта в создании единого всероссийского религиозного центра «муфтията», подчиняющегося муфтию, который станет верховным пастырем всех мусульман города; мало этого— всей Семипалатинской области, и— более того— всего казахского народа, якобы неотложно в этом нуждающегося.
Признавая муфтия своим главою, ему должны также подчиниться все приверженцы ислама в Казани, Уфе, Оренбурге, Троицке, Омске. Таким образом, «тридцатимиллионное мусульманское население Российской империи, братья и сестры в истинной вере, станут еще ближе друг другу, сплотятся в единую семью».
В Стамбуле, стране халифата, находится духовный оплот всех правоверных — Шейх-уль-Ислам. К нему должно присоединить и российскую мусульманскую общину. Вопрос этот поднят группой недавно побывавших в Мекке и Медине хаджи татарской, казахской и всяких иных национальностей, в России живущих. Из Семипалатинска в этом сговоре участвовали Габдураззак-хаджи, богач Икрам, а от казахов — Ахметжан-хазрет и бай Бахия-хаджи. Они дали слово от имени правоверных города всемерно добиваться того, чтобы в России был единый вероучитель — святой муфтий, для чего и просили соизволения «белого царя» и его сената на свободные общемусульманские выборы духовного наставника.
А российский царь потребовал собрать петиции и приговоры, от всех мусульманских народов Российской империи в том, что они действительно желают избрать себе муфтия и подчиняться ему. «Вот откуда идет начало всех начал. Вот где зарождается луч надежды для всех мусульман! К этому святому делу должны присоединиться лучшие люди казахского народа! Нужно всеми силами помогать его осуществлению, идти в народ, разъяснять и добиваться того, чтобы все казахи города и степи дали свои подписи под приговором». Ввиду того что Абай пользуется славой и уважением у всех казахов, почтенные хаджи и просят его помощи, возлагая на него большие надежды.
Сообщая все эти подробности, Кокпай не спускал испытующих глаз с Абая, в свою очередь пристально смотревшего на него. Как только Кокпай окончил свою пространную речь, Абай велел Баймагамбету запрягать, а сам, тяжело поднявшись с места, принялся одеваться.
Кокпай и Алпеим ни на шаг не отставали от Абая, пока он спускался по лестнице, выходил во двор и усаживался в сани. Они до последней минуты надеялись, что хотя Абай явно торопится, молчит насупившись, но в конце-то концов хоть что-нибудь да ответит. Устроившись рядом с Баймагамбетом и почувствовав на себе неотвязный взгляд Кокпая, Абай сделал еле уловимый знак придержать вожжи и, резко обернувшись к своему гостю, сказал:
— Ты ждешь от меня ответа? Пока не выясню все с нужными мне людьми, никакого ответа не дам. Хотя у меня все слова для тебя готовы, но не хочу говорить опрометчиво, без доброго совета. Если вашим имамам и вправду нужно мое мнение, пусть ждут, раньше чем через три дня ничего не узнаете.
И не интересуясь больше Кокпаем, Абай кивнул Баймагамбету, конь рванул с места, и сани исчезли в снежной пыли.
В эти дни множество духовных лиц посетило Верхние, Средние и Нижние Жатаки, почтило своим вниманием лачужки бедняков, лодочников, паромщиков, дровосеков в слободке и ближних аулах. Кроме хорошо известных горожан, муэдзина Самурата, слепого кари, Шарифжана-хальфе, здесь побывали и такие важные муллы, как известные хальфе Закен и Гадушукур, которые теперь соперничали с имамами двух других мечетей. Не довольствуясь обычными проповедями среди своих прихожан в мечетях, они стали посещать и другие места скопления народа. Они обходили грузчиков Затона, встречались с рабочими пимокатного и кожевенного заводов или, собрав множество бедняков — мужчин и женщин, молодежь и стариков, работающих на бойне, произносили перед ними прочувствованные речи относительно необходимости всемусульманского единения. Они наставляли верующих, чтобы те с благоговением произносили титулы «хальфе-султан» и «Шейх-уль-Ислам», призывали присоединить свои голоса к общему хору правоверных.
Сеит и Абен пошли советоваться с кузнецом Савелием и фельдшером Марковым и рассказали им о необыкновенном оживлении среди мулл. Русские друзья ответили:
— Мы, русские бедняки, не ждем ничего доброго от своих русских попов. Они здорово помогают начальству устраивать ад для грузчиков и кузнецов вроде нас. И вы от своих мулл и мечетей ничего путного не дождетесь, рая на земле во всяком случае не увидите. Лучше всего пойдите посоветуйтесь с Павловым. Мы ему обо всем сообщили. А товарищам, казахским рабочим, передадите, что он скажет, и объясните, что большинство населения — они, трудовой народ, и пусть все решается по его воле.
Таким образом и Павлов оказался втянутым в дело о муфтияте. Целые дни проводил он то среди рабочих, то среди слободских жатаков, а потому Абай разыскал его с большим трудом. Только поздним вечером поэт, дождавшись друга у него на квартире, увез его в дом Кумаша, чтобы ночью побеседовать с глазу на глаз. До сих пор друзья в своих продолжительных откровенных беседах избегали касаться вопросов религии. Однажды Абай недвусмысленно заявил Павлову, что он «истинный мусульманин, верующий в бога», и тот после этого остерегался говорить о вере. А сегодня Абай просил у Павлова совета именно по этому самому «запретному» для них вопросу. А это налагало на Павлова большую ответственность. Он не может кривить душой и должен разоблачить перед Абаем происки мусульманского духовенства, но ему нельзя умолчать и о той политике, которую преданные царизму служители православной церкви ведут с «иноверцами».
— Конечно, имамы и баи обманывают городскую бедноту и темный степной народ. Конечно, здешнее духовенство зря сваливает всю вину в бедствиях народных на так называемую «миссию». Ну что она, собственно, такое? Просто белая церковь, стоящая между почтой и пожарной каланчой! Однако присмотримся к ней поближе. Кто заправляет этой миссией? А заправляет ею крупная персона: Адриан, епископ двух областей — Акмолинской и Семипалатинской, по положению своему равный омскому генерал-губернатору. Заметьте, этот самый епископ не случайно обосновался в слободке, где живет много казахов. Он пришел сюда для того, чтобы крестить казахов и татар, «обратить безбожников в истинную веру». Как видите, словарь у отцов духовных, будь они правоверные мусульмане или православные христиане, примерно один и тот же.
И Павлов приоткрыл перед Абаем некоторые дела и делишки «святой» миссии.
При белой церкви есть школа, имеется и своего рода приют для сирот. Сейчас там содержится около тридцати казахских и татарских детей, воспитывающихся отщепенцами своего народа. И Павлов рассказал Абаю историю одного мальчика, которую сам недавно услышал от чиновника почтовой конторы Ивашкина.
— В прошлом году этот самый Ивашкин ездил в Знаменку Семейтауской волости по своим почтовым делам. Возвращаясь в город, он увидел на дороге плачущего оборвыша лет восьми-девяти. Стал его расспрашивать. Оказалось, что мальчика зовут Мекеш, отец и мать у него умерли, а родичи его прогнали. Вот он, чтобы не умереть с голоду, и пошел искать город, — будет там побираться. Ну, Ивашкин забрал мальчика с собой и сдал его в миссию. Мальчик этот шел из Акбутинской волости, вот ему и дали фамилилю — Бутин. Его, конечно, окрестили. Звали его Мекеш, нарекли Михаилом, зовут Мишкой. Ему внушают, что он теперь русский. Одели его по-русски — это ладно, а плохо, что говорить разрешают только по-русски. Мальчишка оказался смышленым. Я его видел недавно, такой хороший парень: глаза черные, большие, вздернутый нос — настоящий казашонок. А вот, поди ж ты, на ломаном своем русском языке ругает казахов и все казахское. Так вот, друг мой, — закончил Павлов, — к чему я это все говорю? А к тому, что и русские попы и мусульманские имамы друг друга стоят. От тех и других народу добра ждать не приходится. И те и другие, прикрываясь высокими словами об интересах религии, сеют вражду между трудящимися, разжигают национальную рознь.
И впервые за время их знакомства Павлов прочел Абаю отрывок из статьи подпольной газеты, тайно распространявшейся среди рабочих самой сильной и смелой из российских революционных партий. Павлов держал газету в руках, загнув и пряча ее заголовок, и все же Абай успел разглядеть дату — «первое декабря тысяча восемьсот девяносто девятого года».
В отрывке, который Павлов прочел Абаю, говорилось о том, что все сознательные рабочие должны бороться против злонамеренного противопоставления одного народа другому.
— Все истинно передовые, честные русские люди считают и царизм и русскую церковь повинными в разжигании национальной вражды, — сдержанно заметил Павлов. — Подумайте с этой точки зрения и о том, что затевает сейчас татарское и казахское духовенство? Не муллы и не баи, не хаджи и не волостные думают о благе народном. Трудящиеся люди, такие, как Сеит и друзья трудового народа, такие, как вы, должны решать, в чем это благо и как его достичь!
В свою очередь и Абай порассказал Павлову о грубом невежестве и подлых делах ревнителей ислама. Он понимал, что слова и мысли этих мракобесов подсказаны Стамбулом, халифатом, продиктованы в конечном счете султаном Абдул-Гамидом. Абай поделился с Павловым своими соображениями относительно того, что между проповедью Шейх-уль-Ислама и заветными мечтами местных сокыр-кариев нет никакой разницы.
Оказалось, что и сам Павлов именно так смотрел на вопрос о создании муфтията. В этой связи он рассказал Абаю немало интересного о положении дел в современной Турции— о том, что она представляет собою беспросветное, невежественное, темное царство, о том, что в гареме «прогрессивного» Абдул-Гамида содержится тысяча невольниц.
В этой беседе мысли Абая и Павлова, по словам поэта, «слились в единый поток на широком просторе». Павлов обещал присылать к Абаю казахских и татарских рабочих, для того чтобы он разъяснял им, к чему затеяна вся эта возня с подписанием приговоров. Сам Абай будет встречаться со своими городскими знакомыми в слободках и в Затоне.
С другой стороны, если это понадобится, он готов публично, в открытую, схватиться с городскими имамами и хазретами.
Прошло три дня, и люди со всех сторон валом повалили в дом Кумаша. Абай особенно долго беседовал с теми из них, чьи имена были уважаемы в народе, чье мнение имело вес. От лица Верхних и Средних Жатаков пришли к Абаю его-старые знакомые — Сеиль и широко известный горожанам своим красноречием пришелец из Акботы, кипчак Бектогай. Он был человеком среднего достатка, умен, смел, говорил увлекательно и свободно.
Что бы ни происходило в городе — бедствие или торжество, большой базар или конская ярмарка, обычный праздник или внезапный пожар, голод или падеж скота, — люди прежде всего идут советоваться к Бектогаю или Сеилю. Оба они поджидали Абая.
— Кто бы их ни уговаривал, пусть горожане никаких приговоров не составляют и подписей своих не дают, — говорил Абай Сеилю и Бектогаю. — Пусть отговариваются тем, что казахи испокон веку не были богомольными, а потому и муфтия не желают. Издревле есть, мол, у нас свои обычаи, — сами разберемся, что белое, что черное. У казахского народа свой путь и законы свои. Нет смысла ломать веками нажитое ради некоего неизвестного новшества, какой-то там «цветущей жизни по законам шариата». Скажите-ка людям, что новая жизнь и народное процветание создаются наукой, а не шариатом. А искусство и знание постигаются тоже не по шариату, а по примеру просвещенных народов. Разве мы уже всеми сокровищами мира овладели и нам только муфтия не хватает? Куда больше пользы получим мы от современной цивилизации передовых европейских стран, чем от всего этого крика об объединении единоверных братьев. Смело говорите народу: клич к объединению под знаменем ислама нам не подходит, потому что не приближает нас к просвещению, а отдаляет от него. Не нужно нам никакого муфтия, нам и своих мулл хватает!
Вечером Бектогай, который собирался выступать перед народом, пришел к Абаю еще раз. Будучи человеком положительным и неторопливым, он стремился до конца понять всякое дело, в котором доводилось ему участвовать. У Абая как раз в это время сидел Павлов, и они стали беседовать втроем. Изредка перебрасываясь с Павловым русскими фразами, Абай четким почерком набросал на большом листе бумаги своего рода план речи для Бектогая, свои мысли о муфтияте.
После позднего чая, прощаясь с Бектогаем, Абай вручил ему эту бумагу, предупредив:
— Это написано только для тебя, смотри никому не показывай! Прежде чем держать совет с людьми, ты почитай и запомни, что здесь написано, а уж потом говори по-своему, как умеешь, — тебя бог даром слова не обидел!
Шевеля рыжими усами и широко открывая в улыбке крупные белые зубы, Бектогай кивнул.
— Вы приказали, Абай-мирза, ваши слова держать в голове, а свои говорить людям. Хорошо, согласен. Хотя и есть у казахов поговорка: «Плохой бий пользуется чужим», — я всегда предпочитал унести от вас в кармане, а не в голове.
Бектогай намекал на новые стихи Абая, которых он еще не знал, но хотел бы, по своему обыкновению переписать и унести с собой, чтобы потом выучить на память и пустить в ход, выступая перед народом. Абай с удовольствием смотрел в живое дружелюбное лицо своего собеседника и думал о том, что этому человеку можно доверить любое самое трудное дело.
— Бумага эта, по всей видимости, немаловажная, — продолжал Бектогай. — Думаю, что она мне ох как пригодится! И вы не беспокойтесь: не только чужой глаза ее не увидит, никто не заподозрит даже, что она и на свете-то есть.
С этим обещанием Бектогай уехал.
К Абаю приходили также и Сеит с Абеном с той стороны; посоветовались и ушли. Побывал у него и бий Кали Акбасов, с которым поэт и раньше встречался по разным делам. И хотя Кали разделял далеко не все взгляды Абая, но за одно он ухватился крепко — за протест против назначения муфтия.
Поддайся только этому муфтию, и все наше кровное прахом пойдет, вся жизнь народа во власти мечети окажется. Казии будут по-своему вершить суд. Доведется ли казаху свататься или невестку принимать, жениха встречать, либо покойника хоронить — все придется делать по шариату, а не по старым дедовским обычаям. Народу шариат ни к чему.
Из-за одного этого Кали был готов поддержать Абая.
Особую позицию заняли в эти дни алыпсатары. Обычно они не решаются и пикнуть против своих «благодетелей». Как бы ни плакались и ни ворчали они у себя в семье на своих хозяев-баев, нужда гнала их к воротам высоких домов под зелеными крышами. Теперь они жаждали хоть немножко поквитаться со своими притеснителями. От имени сорока алыпсатаров к Абаю пришел Есперген с заявлением, что они единодушно решили не идти следом за баями.
— На что нам это все сдалось? Если всякие там Сейсеке снюхались с муллами, так у них один дастархан, одна лавочка. Почему это мы, которые на их пиры и в щелку посмотреть не смеем, в этих делах должны вместе с ними быть? Хазрет ли позовет, или наши баи, не пойдем за ними — и все тут! Это им не иманпос! Нотариусу белый вексель, не отдадут, имущество не опишут! — бушевал Есперген.
Разумеется, советов Еспергена слушались далеко не все торговцы. Их отношение к делу находилось в прямой зависимости от суммы кредита, получаемого у большого бая в январе. Если в самый удачный для них год еспергенам удавалось ухватить у бая тысячу рублей, то в городе имелась небольшая кучка алыпсатаров, вроде Конырбая или Кодыги, которая уже вывела себе домишки под тесовой кровлей и заслужила доверие кредиторов. Такие брали в долг товаров на три, а то и на все пять тысяч. Они свысока посмеивались над еспергенами и знать не хотели их советов.
Тем временем настал решительный момент, когда горожане и жители пригородных аулов и слободок, резко разделившиеся на два лагеря, должны были вынести свой приговор по поводу объединения правоверных мусульман под рукою отца духовного — муфтия.
Большие люди, о которых так пламенно разглагольствовал Кокпай — все эти имамы-хазреты, баи-мирзы и просвещенные интеллигенты, — пребывали в жестокой тревоге. Все их многодневные труды и заботы не приносили желаемых плодов. Приговоры не поступали. От тысячи домов верующих казахов и татар их набежало не больше сотни. Опечаленные и возмущенные равнодушием своей паствы, хазреты и хальфе всех девяти мечетей снова разослали своих людей по домам. В мечетях решили провести особые сборища, посвященные вопросу о муфтияте. Об этом оповещали везде и всюду, даже на базаре.
Однако тут-то хазреты и баи получили неожиданный удар. Казахское население не шло на эти сборища, если не считать постоянных посетителей мечетей — древних богомольных старичков. А вместе с тем со всех сторон доходили к ревнителям ислама всякие неприятные разговоры и безбожные заявления правоверных: «Муфтию не подчинимся! Пусть святые хазреты уберут это добро подальше! Казахам муфтият ни к чему!»
И вот вконец растревоженные хазреты и баи постановили собрать последний, решающий сбор, на котором вступить в открытый спор с противниками божьего дела, если такие окажутся. Сбор был назначен в медресе главной мечети, где имелся большой зал, способный вместить множество приглашенных с обоих концов города.
Разумееся, первыми узнали об этом Павлов, Бектогай, Сеиль и Сеит. Абай посоветовал всем знакомым городским казахам пойти в медресе. И сам туда явился.
В зале, рассчитанном на несколько сот человек, были разостланы ковры и стеганные одеяла — корпе. Угощения не было, ибо собирались только для разговора. На полу сидело множество народа. Почетное место заняли настоятели мечетей той стороны, хазреты Габдул-жаппар и Губдураззак и такие богачи, как Исхак-бай и Садык-бай. Там же сидели представляющие именитое купечество этой стороны — Сейсеке и Блеубай-хаджи, а также местные имамы — Ашим-хаджи и Ахметжан-хазрет. Все хазреты были в чалмах. По обе стороны этого пышного синклита рядами разместились казахские чиновники, одетые во фраки и сюртуки с крахмальными воротничками, а иные — в чиновничьи мундиры с золотыми пуговицами. Татарские и казахские купцы красовались в дорогих меховых шубах, крытых синим, зеленым и черным сукном. Преобладали модные в то время шубы на лисьем меху, лишь немногие носили енотовые.
С прочувствованым словом к «истинно верующим мусульманам исламской общины» обратился велеречивый Ахметжан-хазрет. Он говорил на странном языке, состоявшем из смеси книжных арабских изречений и казахских пословиц и поговорок. Абай внимательно слушал, сидя среди своих знакомых горожан. Тут были Бектогай, Есперген, Абен, Сеит, чуть подальше— Кали и Серке. Они перешептывались между собой в ожидании выступления Абая.
После Ахметжана-хазрета от татарских купцов долго и нудно говорил Исхак, доказывая необходимость муфтията. Бай Сейсеке, излишне часто ссылаясь на то, что он неученый казах, говорил нарочито просто и нескладно. «Мы все в одно слово — да сбудется во имя божье! Поддержим, значит, муфтия, сыны казахов!»
Абай рассматривал сидящих обособленно чиновников-тюре. Здесь был грузный, с насупленными бровями и рябым лицом, надутый от важности чиновник Нуржанов, а рядом с ним — будущий адвокат, петербургский студент Сакпаев, также старавшийся сохранять внушительный вид. За ними виднелись знакомые Абаю лица Сарманова, Самалбека, Данияра. Абай искал взглядом их вожака — знатного тюре Азимхана Жабайханова, о котором так много слышал, но которого никогда еще не видал. Оказалось, что Бектогай его знает, но сегодня Азимхана не было, он только вчера уехал в Петербург. Люди говорили, что он отправился хлопотать о благополучном завершении дела с муфтиятом, уверенный в успехе здешних чиновников, хазретов и мулл, которым поручил собрать петиции и приговоры и выслать следом за ним в столицу.
Абай пожалел, что Жабайханов отсутствовал. Поэту хотелось сойтись с ним в открытую и испытать на нем силу правдивого слова. После переписи девяносто седьмого года Абай составил об Азимхане весьма невыгодное мнение. Теперь этот человек со своим стремлением подчинить казахов чужой и враждебной им власти муфтия снова становился поперек дороги Абаю.
По установленному здесь порядку сбор должен был сначала выслушать всех сторонников объединения мусульман. Выступивший от лица городской интеллигенции студент Сакпаев выразил свое безоговорочное сочувствие этому, видимо, все-таки не вполне ясному для него делу.
Прежде чем объясниться с присутствующими языком, студент пытался выразить свои мысли руками. Он то сжимал кулаки, то раскрывал ладони, то хватался за свой широкий приплюснутый нос. Со своими выпученными от напускной важности глазами, пышными усами и двойным подбородком он стремился произвести впечатление человека, знающего цену себе и своим словам.
Порывисто и громко начиная фразу, он тут же сникал, мямлил, глотал концы слов. Его путаная речь была плохо слышна, понять его мысли, если они у него вообще имелись, было невозможно. Ясно было одно: он целиком и полностью «за».
Впрочем, студент и не утруждал себя доказательствами. Наверное, ему не доводилось учиться по-мусульмански: слово «муфтий» он произносил «мупти», ни одного книжного изречения выговорить не мог. Но это и не казалось ему существенным. Дважды не сумев произнести арабское «шейх-уль-Ислам», он, неопределенно покрутив рукой в воздухе, сказал: «Ну, этот самый, как его там, ислам», — и на том успокоился.
После короткого перерыва начал говорить Абай.
Он сразу начал свою речь с того, что казахам нет никакой надобности подчиняться муфтию, и привел три главных доказательства.
— Во-первых, — заявил он, — нам говорят, что это будет братская община, объединяющая в одну семью всех последователей ислама. Таким образом, казахам России и Сибири хотят подыскать новых родичей из дальних стран турецкого халифата, стамбулского шейх-уль-Ислама.
Но если мы возьмем любой народ в его повседневной жизни, то увидим, что, прежде чем заводить отдаленные связи, он нуждается в мире и дружбе со своими ближайшими соседями. Тот, кто хочет сблизить нас с мусульманами турецкого халифата, прежде всего стремится отдалиться от нашего соседа — русского народа. Хотя здесь об этом и не говорят, но это и так яснее ясного.
А как же ты будешь существовать, отстранившись от русских, казахский народ? Как отдельный человек, так и весь народ в целом живут своей живой жизнью в окружающей его естественной среде: он ест хлеб и пьет воду, одевается, строит себе дом. Оставим в покое правоверных из далеких стран, поговорим о вас, семипалатинские казахи. Вот течет перед нами русская река Иртыш — даже вода, которую мы пьем, связывает нас с русским народом! Ты, семипалатинский казах, — ты народ, хлеба не сеющий, не трудящийся на пашне. Значит, и хлеб, который ты ешь, вырастил на полях, убрал, обмолотил и смолол в муку русский мужик. Все твое имущество: одежда, которую ты носишь, утварь, дом и двор, кров над головой, — во все это вложена частица русского знания, опыта и богатства… И ты хочешь, отдалиться от всего этого русского мира?
Во-вторых, волею судьбы мы — народ темный. Вокруг нас— мрак невежества, над нами густой туман, беды наши неисчислимы. Что нам нужно прежде всего? Нужен свет знания! Если сами мы прожили век свой в невежестве, то поспешим приобщить к свету детей и внуков наших, раскрыть им на мир глаза. Мы отстали, нам надо спешить! И здесь, сумей только захотеть, щедро поделятся с тобой светом русской науки истинные друзья наши, передовые люди русского общества.
В-третьих, наш семейный быт, наши женщины будут жестоко страдать от подчинения муфтию. И без того в несправедливом унижении страдают жены и дочери наши. А подумать о тех народах, где укоренилось истинное мусульманство, где свирепствует шариат? Там женщины в еще большей беде, чем у нас. Жизнь их подобна темной могиле. Неужели мало еще обездолены казахские женщины, проводящие жизнь свою на привязи, как скот на базаре? Неужели должны мы надеть на них еще чадру и чачван, дать им паранджу и покрывало, желеком и чапаном отгородить их от белого света?
От стародавних обветшалых и несправедливых обычаев невежественных предков можно и нужно освобождаться в борьбе. Но идти дорогой поисков «братьев по вере», на поводу у муфтия, значит загнать народ наш в кромешную тьму, самим заблудиться и всех простых казахов сбить с пути безвозвратно. Идея всемусульманского объединения, мягко говоря, — заблуждение, а если сказать начистоту, — враждебное, вредное для народа дело. Не поддавайся сладким словам и лживым уговорам, казахский народ! Опомнись, народ мой, и не давай себя в обиду! Вот и все, что я хотел сказать, — закончил Абай.
И в ответ на его слова народ, бедно одетые люди громко зашумели:
— Абай правду говорит!
— Вот это слово так слово! Спасибо!
— Не надо нам муфтия, без него проживем!
— Мысли всего народа высказал Абай!
Не решаясь выступить против Абая, главари сбора — муллы, имамы и баи — испуганно молчали, раздражать и без того возбужденный народ было рискованно. Только один студент Сакпаев петушился среди кучки зиялов, не к месту щеголяя русскими словами. Задрав голову и глядя на Абая снизу вверх, он пытался ему возражать.
— Вы это что же? Вы как же? Вас называют Абаем, вы — поэт, а не знаете простых вещей… — залепетал было он.
Но Абай прикрикнул на него, махнув рукой:
— А вы? Вас называют образованным, просвещенным человеком. Так зачем же вы путаетесь сами и путаете других людей? Вы-то зачем лезете не в свое дело?! — Гнев охватил Абая.
А тот, сидя на корточках, упрямо бубнил:
— Нет, позвольте! Народа без религии не бывает. Все порядочные народы имеют свою религию! Ведь и знание и наука — все, все от религии. Посмотрите на католиков! Или на ваших русских. У них есть свои князья, дворяне, ученые, поэты. Но ведь у них и религия есть!
Абай резко оборвал студента:
— Ну, довольно болтать! Недаром говорит народ: «У горластого колокола внутри пусто!»— И, едва переведя дыхание, горячо продолжал — Конечно, религия на свете существует! Но зачем все валить в одну кучу, зачем обманывать народ? Европейцы и русские вовсе не от того стали образованными, что впереди них шли отцы церкви, наоборот— передовое человечество достигло истинного знания в борьбе с религиозными мракобесами. А ты, защищая фанатическое объединение мусульман, что несешь ты своему темному народу? В простоте душевной я надеялся, что вы, казахские интеллигенты, будете становым хребтом нового поколения, вы становитесь бичом его, суетные, своекорыстные чиновники!
О, как тяжко разочаровался я в вас! Сколько раз еще обманешь ты свой народ, сколько раз продашь его и предашь! Так поди же прочь от нас! Будьте осторожны с такими тюре, как этот. Запомни их повадки, казахский народ!
Как боевой клич прозвучали слова Абая, и люди поднимались ему навстречу, готовые смять жалкую кучку перепуганных чиновников, окруживших студента.
— Хватит, довольно мы вас терпели! — кричали люди, угрожая Сакпаеву.
— Никого не хотим слушать, кроме Абая!
— И с какой стати этот адвокатишка сделался другом имамов? — рассмеялся Абай. — Сам слово «шейх-уль-Ислам» выговорить не может, говорит «какой-то там ислам», а туда же лезет в ревнители истинной веры! Уже одним этим своим грехом он заработал себе проклятие отцов духовных. И если они меня назовут грешником — купиром, а тебя неверным — капиром, то мы с тобой оба честно заработали свои имена!
Народ с хохотом расходился. Абай одержал полную победу.
Вечером по тайному приказу семипалатинского полицмейстера Федор Иванович Павлов был снова заключен в тюрьму. В ту же ночь в доме Абая произвели тщательный обыск. Пять человек жандармов в течение трех часов переворачивали все вверх дном в доме ни в чем не повинного Кумаша. Они искали какую-то бумагу, которая согласно доносу, поданному полицмейстеру за подписью двух-трех баев и составленному будущим адвокатом Сакпаевым, хранилась не то у Абая, не то у Павлова. В доносе этом было сказано, что Абай подстрекает казахский народ к бунту по наущению ссыльного русского революционера Павлова.
Не найдя вышеуказанной таинственной бумаги у Павлова, жандармы теперь надеялись извлечь ее из кармана Абая, пока он «не успел замести следы преступления». Но бумага с запечатленной на ней думой о народе хранилась у Бектогая. Она была в таком надежном месте, где ее не отыскала бы и тысяча жандармов.
В ГОЛОЛЕДИЦУ
1
С наступлением холодов Абай поселился в отдаленной зимовке, которую построил для себя и для Айгерим на Арал-Тобе, примерно на полпути между Семипалатинском и Акшокы, где жили Магаш, Нурганым и Дильда. Верхом на хорошем коне отсюда можно было за день доскакать до города. Верст на восемь в окружности расположились многочисленные зимние аулы: совсем рядом — дом Акылбая, чуть подальше — беспорядочно разбросанные по холмам землянки жатаков. Дом Айгерим совсем такой же, как в Акшокы: просторные комнаты с большими окнами и деревянными полами. По соседству устроились Дармен и Макен да тихий и учтивый Хасан-мулла, который обучал внуков Абая и других ребятишек поселка.
Первый месяц зимы прошел спокойно и мирно. Абай ежедневно подолгу сидел за книгой, а затем звал к себе Айгерим. Айгерим посылала за молодежью, и поэт подробно и живописно рассказывал о самом интересном из прочитанного. Но уже с середины декабря поднялась тревога. Не только в ауле Айгерим, но и у Акылбая на Талдыбулаке, и у старожилов аула Ходжи страшились небывало сурового начала зимы.
Стояли сплошь морозные дни со снежными буранами и сильными ветрами. Холмистая, пересеченная оврагами местность Бауыра и Байгабыла была богата сенокосными угодьями и обильно орошалась многочисленными ручейками. Здесь были болота и кустарники, но довольно и хорошей земли, пригодной под пашню. Однако эти места оказались менее удобными для зимовья, чем многие другие урочища Чингиза, Жидебая и Акшокы. Снега здесь выпадают глубокие и особенно суровые зимы, которые обычо следуют за жарким засушливым летом с плохим травостоем, гололедица — джут прежде всего настигает жителей Бауыра.
Те, кто занимался земледелием, охотно селились на Бауыре. Однако, памятуя о здешних жестоких зимах, в каждом хозяйстве в погожую летнюю пору старались заготовить как можно больше сена. Близ зимовки Абая на Арал-Тобе, у Акылбая на Талдыбулаке, близ аула Ходжи на Борлы возвышались огромные стога. Здесь было больше сена, чем у казахов всего Чингиза вместе взятых.
Зимние запасы кормов — это первая забота здешних жителей, но у них есть и еще один выход на случай приближения джута. Уже с начала холодов зимовщики начинают внимательно следить за погодой, за состоянием снегов, заранее готовясь к борьбе со стужей. И если, как вот теперь, декабрь стоит лютый, на Бауыре оставляют только самый истощенный, слабый скот, всех коров и овец, пригодных на выгон, отправляют на укрытые от ветра далекие пастбища Чингиза, Жидебая и Акшокы. Бесконечной вереницей тянутся тогда в сторону горных ущелий стада, оберегаемые своими хозяевами и пастухами. Собравшись в доме Айгерим, жители четырех-пяти соседних зимовок посоветовались между собой и решили не мешкая спасаться от бедствия джута так же, как это издавна делали люди Бауыра.
«Начало зимы не сулит ничего доброго. Лето было сухое, кормов у нас у всех запасено мало. Не дай бог затянется зима, весь скот окажется на краю гибели. Пока он еще в теле, надо, гнать овец и коров к Акшокы, Жидебаю, Чингизу».
Абай в этом году совершенно не вмешивался в хозяйственные дела Айгерим. Он только прислушивался по утрам, как она распоряжалась или советовалась с соседями, но сам редко принимал участие в этих разговорах. Только теперь он с радостью увидел, какой она умела быть внимательной, предусмотрительной, настойчивой. И тревожилась она, видно, недаром.
Все окрестные аулы, каждый со своими стадами, решили сниматься и трогаться в путь вместе в один и тот же день. Снег лежал глубокий, и чтобы проторить дорогу для скота, надо было пробиваться через сугробы. Сопровождали скот мужчины и тепло укутанные женщины помоложе и посильней. Впереди каждого аула шли сани с сеном и съестными припасами для людей, а за ними длинной пестрой лентой тянулись вереницы отар и гуртов.
Айгерим душевно заботилась о людях, которые ходили за скотом, но и хозяйство вела обдуманно, разумно. Отправляя стада своего аула на Акшокы, она очень толково подобрала пастухов из своих сородичей Мамай-Байторы, ставших теперь ее соседями. На помощь опытному положительному Наймантаю она позвала еще троих дюжих парней — Тортая, Мангазы и Акжола.
Тепло одевшись и взяв с собой Дармена и Макен, Айгерим вышла во двор, чтобы проводить пастухов и распорядиться отправкой скота. Своими руками укутала она шарфом шею самого молодого из пастухов, коренастого краснощекого Акжола, заботливо наставляя:
— Смотри не обморозь лицо и руки. В случае чего, три хорошенько снегом.
Она пожелала соседям доброго пути, и в ее прекрасном голосе дрогнула неподдельная тревога. Пока трое саней и понурое стадо не скрылось за высоким бугром, она не уходила в дом и не отрываясь смотрела им вслед.
Стоял трескучий мороз. Хорошо, что сегодня было тихо. Обычно в этих местах в самые студеные дни поднимается еще и пронзительный обжигающий ветер. Не случайно здешний народ дал столько названий зимней непогоде: «трескучий мороз», «ревущий мороз», «воющий мороз», «каленый мороз».
В этом году декабрь сковал льдом окрестности зимовки, наводя ужас своим смертоносным дыханием. Опытный и выносливый чабан Тунликбай вернулся в аул с обмороженным лицом. Плохо одетые соседи не смели и носа высунуть со двора. Если изредка в зимовке и появлялся кто-нибудь из проезжих, значит его погнала из дому безвыходная нужда. В какой аул ни зайди — и стар и млад в страхе сжались от беспощадной стужи.
— Рано нас нынче прижала зима! Что-то дальше будет!
— С лета травы пожгло суховеем, негде пастись бедному скоту!
Вдобавок и снег сыпал без конца. Он сравнял хребты и низины; кругом сколько хватает глаз простирается белая стылая гладь. Ничего ты на ней не увидишь: ни кустика, ми травинки. Поискать бы овцам травки, роя снег в кустарниках таволги, в зарослях чия и камыша, но это мелкому истощенному скоту не под силу. Снег совсем затвердел. Десятидневный мороз с ветром утрамбовал сугробы, превратил их в глыбы литого стекла.
— Только сытые кони выбьют себе копытом корм из-под снега. А овца с коровой— и не суйся! — говорили люди.
Все население Бауыра тревожила одна забота.
— Надо ставить скотину на стойловый корм. Но у кого же на это корму хватит? Такого обилия сена ни у кого здесь отродясь не бывало, а уж в этом году и подавно! С лета видно было, что год идет тяжелый, где уже тут кормами запастись!
Абай и Айгерим неоднократно слышали такие речи от всех прохожих и проезжих, опытных в хозяйстве людей. Потому-то Абай сразу одобрил предложение Айгерим отогнать овец, лошадей и коров в Акшокы и Жидели. Теперь большая часть скота была отправлена в путь и канула в снежное пространство. На зимовке остались лишь полугодовалые ягнята, старые овцы, стригуны, телята, кое-какие верблюжата послабее — словом, те животные, которым не под силу был суровый зимний перегон. Здесь же оставлено было и несколько крепких сытых коней для разъездов. Уход за таким малочисленным скотом не так уже тяжел, с этим вполне справятся женщины и ребятишки. Суета, целых десять дней отвлекавшая Абая от его занятий, понемногу улеглась. Стала успокаиваться побледневшая от забот и тревог Айгерим. На ее сияющее приветливое лицо снова возвращался легкий румянец. Снова слышался ее звонкий, певучий смех. Казалось, она становилась еще прекраснее.
Еще вчера она могла говорить, слушать, заботиться только о пастухах, о корме для овец, а теперь иной раз за обедом она попросит Абая рассказать, о чем он читает. Абай поворачивается к ней, захлопывает толстую книгу и, чуть проведя пухлыми пальцами по усталым полуприкрытым векам, начинает рассказывать, да так увлекательно, живо, интересно! Айгерим сделает едва заметный знак Злихе, та сбегает за Макен, Дарменом, Хасен-муллой, и все, затаив дыхание, слушают. А Абай, увлекая их и увлекаясь сам, говорит о чудесных теплых странах, где сияет золотое солнце, о необыкновенных людях с прекрасными лицами и благородной душой, смелых и гордых, отважно борющихся со злом. Эти доблестные герои не страшились своих жестоких врагов, чья мощь вздымалась подобно черной горе, чья злоба и коварство были неистощимы.
Так спокойно текли дни после отправки скота из Арал-Тобе. Вот и сегодня в полдень Абай, сидя у круглого стола возле высокой кровати Айгерим, читал толстый французский роман, когда дверь большой комнаты открылась и весь заиндевелый, промерзший путник с приветствием переступил порог. Вся одежда гостя, от поношенных толстых опойковых сапог до ременной плетки, которую ои держал в руке, дымилась холодом. Как будто в теплую комнату, где укрылся Абай, глянула сама жестокая морда мороза, с окованными льдом усами и бородой. Сапоги путника сначала заиндевели, побелели, а затем закурились паром, и пар от них стлался по полу, словно само дыхание стужи. Опущенные уши малахая густо покрыты инеем, серая мерлушковая опушка превратилась в ледяной ком. Только когда гость, занимая по приглашению Абая почетное место, дружески, как старый знакомый, поздоровался с хозяином, Абай узнал в нем доблестного жигита Абды. В комнату, здороваясь, вошла Айгерим, а за ней Дармен и Макен. Когда-то мужественный и прямой Абды, не щадя, как говорится, жизни, бился за их счастье. Путник, сняв малахай и осторожно вытаскивая льдинки усов и бороды, начал рассказывать, откуда едет:
— Возвращаюсь из города. В пути два раза ночевал и то до вас еле живой добрался. Конь мой совсем выбился из сил. Жалеючи его, ехал не торопясь, да и мороза побаивался, все больше к аулам жался, — сегодня с утра выехал из Каная, Коп-Сакау.
Душевно расположенный к жигиту, Абай забеспокоился:
— Да ты совсем замерз! Шутка ли, такая стужа опять завернула! Ты скинь, скинь чапан, набрось его на плечи, грейся хорошенько! — и, обернувшись к женщинам, заторопил хозяек — Айгерим, Макен! Собирайте скорей чай, готовьте курт, да с обедом поспешите! Ведь Абды который день на морозе, замучился совсем! Позаботьтесь о нем как следует!
Айгерим и Макен пошептались между собой и, кликнув себе на помощь бледную, молчаливую Карипжан, засуетились по хозяйству.
Теперь в теплой комнате Абды начал отогреваться, его лицо густо покраснело. И он, как все в эту пору, прежде всего заговорил о зиме:
— Плохая зима, далеко свои сети расставила! Что ни день, то больше бедствующих. Теперь, Абай-ага, каждый встречный и поперечный только и говорит, что о проклятой этой стуже!
Абай спросил об уаках, через земли которых Абды проезжал, — как там у них?
Вдоль всей дороги — у Балта-Орака, Мукыра, Аркалыка, Кушикбая, Каная — везде уйма снегу. Скот переводят на домаший корм. Все, у кого только сил хватает, пробираются, говорят, поближе к горам или к берегам Иртыша, в надежде, что там можно будет хоть немножко кормом разжиться. Жалко смотреть на всех идущих и едущих по дороге в город. Лица обмороженные, в пятнах, страшные. В общем, начало зимы такое плохое, что и человеку и скотине помирать впору. Абды слышал, что весь Семипалатинский округ, а за ним и Карабужур, Калба, Усть-Каменогорск и еще дальше — Кокпекты, Тарбагай — тоже в тяжелом положении. А уж если говорить о краях, что на закат от нас, за Актобой, Дагаланом, в Каракесеке и еще подальше, где Кора-откель, и сюда поближе — Суюндик, Куандык, — отовсюду идут худые вести, и людям и скоту приходится туго.
За чаем и за обедом Абай и Дармен без конца расспрашивали Абды. Их тревожило положение горожан: как там Сеит с Абеном и другие товарищи в Затоне? Оказывается, суровая зима теснила и их. Летом по всей области был неурожай. Муки на базаре нет. Все дорого. В ином доме корки черного хлеба, щепотки чая на заварку не сыщешь.
А потом Абды, словно спохватившись, что неудобно потчевать гостеприимных хозяев одними только дурными новостями, круто переменил разговор:
— Да, так вот на этом и кончим говорить о нехватках да недостатках. У тех, кто с дороги, спрашивают обычно: «Что на свете хорошего, что плохого?» Потому-то я и худого не утаил. А под конец у меня для вас, Абай-ага, добрые вести!
Оказывается, в городе сейчас происходит большой чрезвычайный сбор шести уездов. Съехались так называемые лучшие люди, сливки родов горных, степных и низинных. Уже неделю идет большой спор, словесное состязание, борьба. Соседние роды двух уездов, как у нас керейцы с тобыктинцами или с найманами, враждуют, делают набеги друг на друга, разоряют аулы, угоняют скот. Дело до убийства доходит. Никому покоя нет. Абды рассказал о тех тяжбах, которые рассматривались на съезде, и о людях, прославившихся подвигами или позором.
— По слухам, — говорил Абды, — все люди на съезде в один голос хвалили неких «целителей недугов народных», «миротворцев, широкий путь находящих там, где другие и броду не могут найти». Среди выборных Тобыкты и даже всей Семипалатинской области прославил свое имя мудрым и справедливым своим словом — Магаш.
Абды, который хотел его навестить, своими глазами видел, что весь двор и вся улица перед домом, где он жил, были полны людьми, которые пришли к нему за помощью и советом. Судя по одежде, малахаям и по тавру на конях, тут были не только тобыктинцы, но и бошаны, шакантай-керейцы, терис-такбал-матайцы, сабаны. Абды очень обрадовался тому, что большинство людей, приходивших к Магашу, было в поношенных шубах, рваных чапанах, потертых малахаях и чекменях, — все как есть — беднота. Самому-то Абды так и не удалось пробиться к Магашу, но он ушел от его двора вполне довольным.
Абай со всеми домочадцами радостно слушал добрые вести о Магаше. Через два-три дня в Арал-Тобе остановился еще один проезжий. Он прибыл перед закатом солнца и долго возился во дворе, застывшими руками распрягая коня и бережно укрывая кошмой и пологом мешки с хлебом, которые вез на санях. В доме он появился перед вечерним чаем, когда уже зажгли свет. И он также принес с собой нестерпимый лютый холод этих дней. Легко одетый Абай почувствовал, как потянуло морозом, когда к нему в комнату вошел поздороваться добротно одетый путник, а с ним вместе Дармен и Хасан-мулла. Промерзшие сапоги всех дымились холодом, белые космы пара стелились по полу. Айгерим, которая накрывала на стол, вздрогнула от стужи и на минуту невольно прижалась к мужу. Путник с круглой обледенелой бородкой, заснеженными усами и бровями, еле ворочая языком, произнес слова приветствия.
— Уай, Алпеим, ты? — удивился Абай. — Ну как, все еще изучаешь наху или обрел другую цель жизни?
Неловко осклабясь своим сведенным холодом ртом, гость весело ответил:
— Куда там! Бросил я эту наху, Абай-ага. Ваше слово меня исцелило от дури. Как вы посоветовали, поехал я в свой аул, на Такыр, отцовским ремеслом занимаюсь. Как вы сказали тогда: «Сей хлеб, займись полезным трудом», — так я и сделал.
За чаем Алпеим рассказал, что ездил в город муку молоть. Половину хлеба продал на базаре, закупил сахару, чаю, кое-что из одежонки. Теперь он на зиму обеспечен. По сравнению с другими степняками он благодаря трудам своим — просто богач. Люди-то ведь голодают. Ободренный словами Абая: «Вот бы и другим с тебя пример взять!» — Алпеим разговорился. Парень он был дельный, обходительный, слов ему не занимать. Он подробно рассказал о трудном положении города и аула. Зима угрожает не только скоту, но и людям. Алпеим хорошо знал бедняцкие аулы, расположенные вокруг Семипалатинска, выше и ниже по Иртышу. Такие многолюдные поселки, как Шоптигак, Жоламан, Озерке, в низовьях Байгели-шагала, Карашолак, Кенжебай, Жалпак, — совсем в разор пришли. Люди разбрелись по городам на заработки, а кто и побираться.
Цены на базаре высокие. Съестного продают мало. Ведь аулы вокруг города тоже пострадали от неурожая. По дороге заезжих уже перестали пускать, берегут каждую травинку сена, стебелек соломы. Даже из своих продуктов ничего приготовить не разрешают, — каждое полено дров на счету. Да оно и понятно: морозы жмут без передышки. Возле Кушикбая и Мукыра свирепый и беспросветный буран метет уже который день подряд.
Суровые вести Алпеима дышали холодом этой беспощадной зимы. Но и он, так же как Абды, привез добрые вести с чрезвычайного съезда.
— Около сотни биев съехались из шести уездов и размещены в пяти-шести домах. Среди всех особо выделяется Магаш. Он, видимо, устал, что-то уж очень бледный. О нем люди так и говорят: «Ростом не высок, а мыслью велик — сразу видит, где черное, где белое!» Это я сам слышал и от горожан и от тяжебщиков.
Красноречивый и понятливый, Алпеим обладал еще и великолепной памятью. Когда Абай спросил, не помнит ли он, что именно говорил сам Магаш, Алпеим ответил:
— Я, как справился со своими делами, нарочно поехал в дом Сулеймана на ближнем берегу, где Магаш принимал жалобщиков, и пробыл там целых два дня. Слышал я, как он с людьми разговаривает, и кое-что для вас интересное запомнил.
У каракесеков есть известный своим острым словом бий Кали. Вы его знаете, он и с вами вступал в споры. Кали ведь намного старше Магаша, человек известный, его считают одним из четырех лучших биев Семипалатинска. Вот к нему и приходят с тяжбой два уаковца. Были они друзьями-тамырами, дарили друг другу подарки, а потом один у другого что-то уж больно много запросил, тот не дал, ну дело у них и расклеилось, поссорились. Пришли к Кали разбираться, с кого сколько назад получить причитается. А Кали что-то все тянет, спрашивает да переспрашивает, никак их тяжбу решить не может. Тогда Магаш вежливо так обращается к бию: «Кали-ага, мне кажется, этот спор разрешить не так уж трудно. Если позволите, я скажу». Ну, тот говорит: «Что же, послушаем!» Магаш и предлагает свое решение: «Тамыром стал — не спорь, подарил — назад не проси. Что, если на будущее сделать это постоянным правилом, ввести в обычай? Сколько тяжеб отпадет!» Все сидевшие в доме пятнадцать биев с медалями на шеях одобрили находчивость Магаша. Все это я сам слышал.
Абай задумчиво произнес:
— Раньше я ничего подобного не слыхал. Это что-то новое!
Дармен засмеялся.
— Потому и новое, что это сам Магаш, по-моему, сочинил. Да и как он сказал красиво! Сразу видно — слова поэта.
— После этого Кали шутя упрекнул Магаша: ты, мол, вперед выскочил, мое слово у самых уст перехватил! — продолжал Алпеим. — Но все же в шутке этой была и досада и колкость. «Милый ты, говорит, ягненок, быть тебе старейшиной рода! Но ведь для этого надо до старости жить, а ты, молодой, старикам дорогу перебегаешь!» А Магаш тут же ему в ответ: «Обманом аула не соберешь, жадностью славы не наживешь. Стоит ли вам с пустяками считаться?»
Кали было замолчал. Но ведь кругом сидели смутьяны, им пить-есть не давай, дай языком поболтать. Вот один бий и стал Кали на смех подымать: «Бывало, Кали всех нас опережал, но недаром говорят: «Борзая в теле и лису в горах схватит». Ловко молодой Магаш старого Кали поддел!» То ли Кали слова в ответ не нашел, то ли обидой захлебнулся, только Магаш поспешил поддержать старика: «Полно, Кали-ага! В шутке обиды нету, сплетне запрета нету, смущаться причины нету!»
Ну тут уж и Кали справился и ровесника своего — бия Буры прямо наповал уложил: «Недаром говорится: «Пустую голову глупые глаза украшают, грязные уста пустыми словами сыплют». За двадцать дней, что мы здесь находимся, ни разу я не слышал от тебя такого слова, которое дыру зашивает, оборванные концы связывает. Ты для меня сраму дожидался, а братец мой Магаш меня из беды вызволил». Так он и бия противника опрокинул и сам из скверного положения вышел. И все-таки Магаш там был хоть самый молодой, но самый находчивый.
Рассказ Алпеима, который отнюдь не был пустой лестью, снова порадовал отцовское сердце Абая.
Городские вести о Магаше через неделю привез и еще один приезжий. Это был близкий семье Абая Самарбай-мулла. Когда-то он был одним из тех мальчиков-сирот, которых Абай привозил в город учиться. Теперь он стал высоким, стройным молодым человеком, весьма хорошо воспитанным и начитанным. Хотя в свое время он и получил мусульманское духовное образование, теперь он хорошо понимал значение русской культуры и возмещал упущенное чтением книг. По окончании медресе он остался жить у Магаша как его названый брат. К тому же он уже два-три года как начал учить детей в Большом ауле. Он знал многие из переводов Абая, помнил и рассказы Абиша, переданные ему Магашем и Какитаем, свято хранившими память о брате. Самарбай был прекрасным рассказчиком и тешил взрослых и детей многочисленными романами, поэмами, сказаниями, которые сам слышал от Абая. В Арал-Тобе Самарбай-мулла приехал, чтобы приветствовать Абая и передать ему письмо от Магаша.
По лицу мужа Айгерим сразу поняла, что письмо неприятное: бумага дрожала в руке Абая, и у него был такой растерянный, беспомощный вид, словно он никак не может разобрать написанное. Айгерим быстро достала из костяного шкафчика очки и подала ему. Оторвавшись от письма, Абай испуганными глазами глядел на Самарбая, а тот печально опустил голову, словно не в силах был смотреть на взволнованного отца. Магаш в своем письме сообщал: «Последнее время мне что-то нездоровится. В городе у меня так много дел, что я приехать никак не могу. Был у доктора и жду его заключения. Не знаю, как поступить дальше: остаться лечиться в городе или же, получив указания врача и лекарства, вернуться домой? Очень, нуждаюсь в вашем совете!»
По природе скромный и деликатный, Магаш не пишет отцу: «Приезжайте!» Но его желание видеть отца сквозит в каждой строке. Абай попробовал успокоиться, обдумать все обстоятельно, сел даже пить чай, но не смог. Сердце его колотилось, холодный пот выступал на лбу. Он то вставал, то садился, то снова вставал.
«Опять горе надвигается! Опять призрак смерти передо мной. Единственная радость жизни моей, только начав цвести, — уже вянет; опора утомленного сердца, ужели она надломилась? Только начали созревать плоды отцовского воспитания, неужели и он, Магаш, не успев ничего совершить, исчезнет?»
Когда домашние расспрашивали Самарбая о здоровье Магаша, Абай молча боязливо заглядывал ему в лицо. Чуткий и сдержанный молодой человек старался осторожно отвлечь отца от мрачных мыслей и, как бы отвечая на вопросы других, говорил ему о том, какую добрую славу приобрел Магаш, как его любят в народе, как благодарят за помощь.
А Абай, словно прося утешения, все смотрел на Самарбая печальными своими глазами, и тот, понимая молчаливую эту просьбу, спокойно и ровно рассказывал еще и еще. Однажды Какитай и Самарбай были у Магаша, к которому целый день ходили люди и до того утомили его, что последнюю тяжбу он разбирал уже лежа. Когда примиренные спорщики ушли, Какитай и Самарбай стали ему советовать: «Поезжай ты скорее домой в аул! Ведь здесь на тебя с утра до вечера целые толпы наседают!» Тогда Магаш им ответил: «Стоит ли предупреждать: берегись смерти. Все равно, когда настанет твой час, меч всевышнего судии тебя настигнет. А он и железо крушит». И Магаш продолжал: «Люди приходят ко мне и спрашивают: «Есть ли у тебя разум и справедливость? Где то драгоценное, что ты получил от доброго отца, тебя воспитавшего? Все отдай нам, залечи недуги наши!» Как же я им откажу? А кто мы такие сами? Что мы храним в себе? Хочу испытать свои силы!»
Самарбай запомнил одно изречение Магаша: «Золото, спрятанное скупцом, не лучше простого камня, скрытого под землей».
Абай с удивлением слушает слова сына. Он говорил, оказывается, и о том, как дорог каждый час жизни, как важно не потерять его напрасно. И еще запомнил Самарбай, как верно и метко сказал Магаш: «Каждое дыхание жизни — драгоценно. Но что поделаешь? Не в нашей власти остановить его или продлить. Сколько ни умоляй: «Не проходи, не кончайся!» — тихое движение минут быстрее бега самого лучшего скакуна».
Восхищение талантом сына, который мог бы стать поэтом и мудрецом, смешивалось в сердце Абая с жгучей тревогой о его судьбе. Всю ночь он ворочался в постели, не находя покоя, а наутро вместе с Дарменом начал спешно собираться в путь.
Мороз не сдавал. Все вокруг застыло в белом тумане. Но это не останавливало Абая. На дно его кошевки постелили толстую кошму. Тепло укутанный Абай сел спиной к ветру и со слезами на глазах попрощался со всеми людьми аула. Айгерим тоже плакала, и слезы тут же застывали на ее истомленном, бледном лице. И долго еще, когда сани, запряженные парой добрых коней, уже неслись по дороге в город, Абай видел перед своим мысленным взором печальные глаза жены, неотрывно глядящие на него с беспредельной любовью.
В городе Абай велел ехать прямо к дому Сулеймана, где остановился Магаш. В дороге он ничего не ел, не спал, все время находился в беспокойном мрачном раздумье, и теперь у него было изнуренное лицо тяжелобольного.
Услышав скрип саней, въезжающих во двор, и разглядев закутанного Абая, Магаш быстро накинул теплый бешмет и малахай и поспешил навстречу отцу, сердцем чувствуя тревогу и стремясь хоть на миг успокоить его. Под шубой на Магаше был сшитый городским портным тонкий чекмень, сотканный из верблюжьей шерсти и розового крученного шелка и отделанный коричневым бархатом. С бледным лицом, на котором горели большие черные глаза, со своей ладной небольшой фигурой, к которой очень пристали темный бешмет и высокий лисий малахай, Магаш показался Абаю очень красивым.
Абай сперва даже и не узнал одетого по-городскому жигита, пока тот не поздоровался нарочито бодрым, веселым голосом. Абай ожидал увидеть сына в постели, и теперь, глядя, как быстро он сбегает вниз по лестнице, слыша его звонкое приветствие, радостно подумал, что Магаш, наверное, поправляется.
Растроганный отец, неповоротливый от надетых на нем теплых вещей, еще на лестнице притянул к себе сына и тихонько поцеловал его в глаза. Идти рядом по узкому пролету было неловко, и Абай пропустил Магаша вперед. Тут-то он с тревожно забившимся сердцем отметил его замедленную, не по летам тяжелую походку. Мелькнувшая было на миг надежда снова угасла, но Абай и виду не подал. Весь этот вечер Магаш бодрился изо всех сил. Он делился с отцом своими раздумьями, рассказывал о городских впечатлениях, о чрезвычайном съезде. Старался развеселить Абая, остроумно высмеивая близких и дальних сородичей, тонко подмечая в них все ничтожное и смешное. И когда этот мягкий и доброжелательный молодой человек начинал говорить о дурных нравах и низких поступках степных аткаминеров, управителей и сутяг, его шутки начинали звучать горечью и злостью. И все же, обличая этих людей, он стремился быть справедливым и к ним, объясняя их гнусные дела не злою волею, а невежеством и темнотой.
За несколько месяцев, проведенных в городе вдали от отца, Магаш сильно изменился и словно вырос. Абай понимал, что он выдержал суровое испытание в борьбе, принимал и отражал множество ударов, вступал в схватки с сильнейшими противниками перед лицом многолюдных сборищ. Вдумчивый, хорошо образованный, обладающий внутренним чувством меры, Магаш, участвуя в чрезвычайном съезде, приобрел немалый опыт, понял всю сложность людских отношений и теперь не уступал любому видавшему виды деятелю и борцу.
Только сейчас Абай по-настоящему понял и оценил то, что ему рассказывали о Магаше люди, приезжавшие из города в Арал-Тобе. И чем больше переполнялось отцовское сердце гордостью за сына, тем более страстно желал он ему здоровья и долгой жизни. Хотя Магаш в этот вечер умышленно переводил разговор на другое, Абай не переставал выспрашивать его о болезни и докторах. Насколько сведущ тот врач, у которого лечился Магаш, можно ли на него всецело положиться? Считают ли его достойным доверия Павлов и его жена?
И Магаш терпеливо отвечал, что его лечит недавно приехавший в Семипалатинск доктор Станов, человек средних лет, опытный, образованный, вполне заслуживающий доверия. В эти дни он не только лечил Магаша, но и подружился с ним. А привел его и познакомил с Магашем именно Павлов. Станов очень внимателен. Отец убедится в этом, когда поговорит с ним сам, а потом они все вместе посоветуются еще и с Павловым и решат, как быть дальше. Он говорит это не в утешение отцу, он сам чувствует, что в его болезни нет ничего особенно страшного. Так в первый день встречи Магаш старался хоть немного успокоить, отца.
Однако и в эту ночь Абай не спал. Он напряженно прислушивался к каждому шороху, вздоху, покашливанию, доносившимся из дальней комнаты, где Магаш тоже лежал без сна на своей высокой постели. В глубокой тьме, отделенные друг от друга пространством нескольких комнат чужого дома, не видя, а лишь угадывая на расстоянии друг друга по едва уловимому шелесту, дыханию, скрипу, отец и сын мысленно беседуют между собой. От сердца к сердцу идет тревожная и опечаленная любовь: отца к сыну, сына к отцу.
В эту ночь Магаш понял, что, живя вместе с ним, отец не найдет покоя. Его нужно чем-то утешить, позабавить, отвлечь. Ведь даже самые могучие души иной раз нуждаются в утешении и доверчиво, как малое дитя, принимают минутную передышку. Теперь Магаш, поглощенный заботой об отце, уже не думал о себе. «Если со мной, не дай бог, что-нибудь случится, рухнет его опора, последняя его надежда развеется в прах. Выдержит ли он это, переживет ли?»
И при мысли о страданиях отца впервые за свою болезнь Магаш почувствовал, как тяжелая душная волна подкатилась к его горлу. Задыхаясь, он мучительно удерживал слезы, вот-вот готовые хлынуть из глаз.
На следующий день вечером он сам посоветовал отцу переехать к Кумашу. Абай привык останавливаться там. У Кумаша тихо, уютно.
Была суббота — день, в который учащаяся молодежь обычно приходила к Магашу с ночевкой. Теперь он, снарядив большие розвальни, всей гурьбой отправил ребят к Абаю. Это были любимцы поэта: возмужавший сын Даркембая — Рахим, и его неизменные спутники — Асан, Усен, Аскар, Максут, Шакен и Мурат, которые тоже сильно вытянулись, подросли. Была здесь и неразлучная пара гимназистов Кунанбаевых — ученики пятого класса Нигмет и Жалель, которым уже сравнялось по шестнадцати лет.
Рахим — самый старший. Он уже самостоятельно распоряжался своей судьбой: окончив русскую школу, поступил в учительскую семинарию, которая открылась в Семипалатинске в эту осень. Асан в этом году кончает пятиклассное городское училище. Учение им пошло впрок, держатся они свободно, уверенно. Они уже отпускают себе волосы, совсем как большие. Им очень идет опрятная школьная форма. Лица у них умненькие, серьезные и в то же время веселые, чистые руки прекрасно справляются с перьями и карандашами.
А Нигмет и Жалель становились взрослыми молодыми людьми. Считая себя знатными, белой костью, они теперь держатся еще высокомернее. Нигмет с его тяжелыми веками и темным лицом был особенно неприятен, когда смеялся: сначала презрительно выпячивалась вперед его толстая и красная нижняя губа, а потом уже открывался ровный оскал крупных белых зубов. В его острых, блестящих глазах всегда, даже когда он, казалось бы, открыто и весело шутил, проглядывало что-то холодное, азимбаевское.
Совсем чужим показался на этот раз Абаю сын Какитая Жалель. Черные, как уголь, и жесткие, как конская грива, густые, торчащие щеткой волосы придают его большой голове упрямое выражение. Если его высокий и выпуклый лоб свидетельствует об уме, то косые, настороженно глядящие из-под припухших век глаза говорят о том, что ум этот расчетливый и жестокий. Отсутствие ресниц на бледных вывернутых веках делает его взгляд еще более отталкивающим, а кривая усмешка, обнажающая мелкие редкие зубы, кажется неискренней. Маленький, пуговкой, нос Жалеля совсем не идет к его угрюмому, замкнутому лицу.
Юные Кунанбаевы не очень-то стесняются Абая. Им дела нет до того, что он поэт, мыслитель, уважаемый всеми большой человек. Куда бы они ни являлись, все должны их баловать, угождать им, на руках их носить. Им и в голову не приходило, что степной казах может быть равным им, городским гимназистам. А так как одеждой, повадками, всем своим обликом Абай внешне не отличался от отцов и дедов этих юнцов, они и его считали одним из необразованных степных казахов, не заслуживающих особого внимания. Когда Абай называет имена русских поэтов, говорит о русских книгах, стихах, они слушают его, снисходительно посмеиваясь. Они не могут простить поэту, который начал учиться уже взрослым человеком, его неправильного произношения некоторых русских слов. Все его рукописи, книги, разговоры о просвещении они считают пустой и скучной забавой малограмотного старика.
И сегодня в гостях у Абая они остались верными себе: потребовали большие подушки; бесцеремонно задрав ноги, растянулись с папиросами в зубах; шепотом переговаривались по-русски. Они болтали о гимназистках, с которыми знакомились на вечеринках, о хорошеньких дочках квартирных хозяек или не слишком строгих молодых женщинах и невестах. Отнюдь не жаждавшие серьезной беседы, они вскоре уединились в соседней комнате, и там, валялись рядом на высокой постели, хихикая, поверяли друг другу свои сомнительные тайны.
Совсм по-другому ведет себя молодежь, оставшаяся с Абаем. Школьники горячо сочувствуют его горю и изо всех сил стараются получше выполнить просьбу больного Магаша, отвлечь отца от печальных мыслей. Старшие, Рахим и Асан, слыша тяжелые вздохи Абая, особенно остро ощущают его сегодняшнее настроение. Даже самые маленькие, Шакет и Мурат, пытаются развлечь поэта, отвечают на его вопросы быстро, весело, подробно.
Усевшись вокруг большого чайного стола, ребята рассказывают о своем житье-бытье, но разговор, несмотря на все их старания, выходит далеко не веселым.
Сначала Абай расспрашивал их о том, как живут их родные — Абен, Сеит, старик Сеиль и Дамежан с Жумашем. Не голодают ли их семьи, достаточно ли зарабатывают отцы? Оказалось, что в эту зиму и городской бедноте приходится плохо. Отцы всех этих ребятишек вовсе ничего не получают — в городе безработица, а из-за этого нет ни одной рабочей семьи, где бы не нуждались, не голодали. Слушая толковые рассказы ребят, Абай подумал, что они повзрослели—обо всем рассуждают, все понимают, как большие. Сынишка Сеита Аскар говорил как умудренный жизнью заботливый отец семейства:
— Наверное, такого тяжелого года, как нынче, никогда еще не было, Абай-ага. Даже такой умелый, хороший рабочий, как мой отец, и тот не может семью прокормить. Если бы я не отдавал маме свою стипендию, говорит она, ей иной раз и хлеба не на что было бы купить.
Этот мальчик выкладывал все начистоту. Ему нечего было скрывать — всей душой своей, всеми своими помыслами и бытием он был связан с кровно близким ему трудовым людом.
И те, что беспечно хохотали там, в соседней комнате, что бы они о себе ни воображали, тоже были плотью от плоти своей богатой и праздной среды. Не порог комнаты — целая пропасть отделяла их от маленьких друзей Абая, глубоко тронувших душу поэта своим недетским пониманием неотвратимой беды и готовностью разделить общую участь, нужду и горе. И Абай ласково одобрил ребят:
— Правильно мыслите, хорошо поступаете. Надо всегда быть вместе с народом!
Ободренный искренним участием Абая, Рахим заговорил о положении всего трудового населения города.
— В этом году всем жить стало труднее — и казахам, и татарам, и русским. Говорят, причина в том, что с осени в город прибыло очень много переселенцев из России. Шли-то они в Джетысу, а как узнали, что там засуха была, неурожай, так и хлынули обратно в Семипалатинск. Все-таки большой город, надеются здесь прокормиться. А ведь у всех у них детишки, беднота, ни еды, ни одежды нету. А у нас тоже недород. Теперь, лишь бы детям с голоду не умереть, переселенцы эти согласны на любую работу — и по домам ходят и к баям подешевле нанимаются!
Асан еще добавил:
— И ведь как дешево-то! Здоровенный мужчина за чашку супа да за кусок черного хлеба батрачит. А баям чего же лучше? Для них даровые рабочие руки — одно удовольствие! Они прежних своих рабочих увольняют — вы, мол, очень дорого просите — и берут себе дешевых батраков.
Теперь Аскар, Максут и Шакет осмелели и тоже начали рассказывать о том, что слышали дома от взрослых.
— На кожевенном, на пивоваренном заводах и в Затоне тоже уволили старых рабочих и эти самые дешевые рабочие руки себе берут, — еле слышно, смущенно проговорил Аскар.
А Максут добавил рассудительно, совсем как отец:
— Артельные баями увольняются — это еще не диво! А вот подрядчики затонские тоже за ними потянулись. Моего отца и опять же дядю Сеита уволили, Абай-ага!
И Усен, который больше помалкивал, тут внезапно ворвался в разговор своим ломающимся баском:
— Вы все об одном толкуете! А разве дело только в этих русских переселенцах, мужиках? Были бы одни они — это бы еще ничего! Ведь в город-то из всех окрестных сел и аулов люди валом валят. Если у них неурожай, есть нечего, куда же им деваться? Вот они и идут к городским богачам за одни харчи. А баям только того и надо!
Абай спросил Шакета и Мурата, как живут их семьи и семьи соседей, жатаков ближней стороны. И внук Дамежан, курносый Мурат, блеснув острыми черными глазами, степенно, подражая бабушке, заговорил:
— Только бродяги, пришедшие из аулов Карашолака, Шоптигака и из жатаков Жоламана обивают пороги у баев, у доверенных приказчиков во дворах толкутся. Городской человек из-за рабочей своей гордости не пойдет за кусок хлеба да за чашку супа наниматься, — он привык за честный свой труд определенную плату получать, хоть бы и тот же пятиалтынный. Выходит, что теперь городскому человеку некуда податься. Вчера на бойне скот забивали, так из городских ни один не смог работы получить. Нет у нас заработков, прямо-таки нечем дышать!
Усен смотрел на Мурата, разинув рот от восторга: ишь ловко говорит, как большой! — и вдруг неожиданно засмеялся, а другие ребятишки, глядя на него, тоже заливались смехом. Иные смутились до слез, но остановиться никак не могли — слишком долго они сидели смирно и вели серьезный разговор! Краска бросилась Мурату в лицо, и он сердито пробурчал:
— Ну, чего хохочете? Разве я соврал?
В ясных глазах, устремленных на Абая, была обида и просьба о помощи, и Абай вступился за него.
— Дети, Мурат очень хорошо говорил. Того, что он рассказал, я до сих пор ни от кого не слышал. — И он продолжал расспрашивать мальчика о его отце— Жумаше, о соседях — Бидайбае, Жабайхане, бабке Шарипе.
Мурат рассказал ему и о том, как богатеи — мясники и торговцы — издевались над парнями и женщинами, когда они приходили просить работы: «Двугривенный за день тебе хватит!», «Может, такой важной особе этого мало?».
«Уж если не тебя, то кого же баю и нанять!», «Если бы приходила не чванясь, я бы к тебе на дом нарочного посылал!» Вот как насмехаются над беднотой Сейсеке, Блеубай-хаджи да Жакып с Хасеном. А их доверенные приказчики, вроде Отарбая и Карабая, если кто-нибудь из бедняков обидится, еще скажут с издевкой: «Ой, он меня своей обидой совсем доконал!»—всячески обругают и прогонят прочь со двора.
И последыш старого Сеиля, Шакет, рассказал, что отец и все вообще лодочники никак не могут найти поденной работы. Сейчас Сеиль с русским бакенщиком на пару промышляют рыбной ловлей на Иртыше, а то на салазках возят с острова хворост или сенцо, что летом собрали, и на базаре продают. Глядя на мытарства отца, Шакет понял, как крепко прижала эта лютая зима бедноту в городе и в аулах.
— Люди сказывают, тридцать лет такой студеной, опасной зимы не было, — говорил он. — Отец у нас пальцы на ногах поморозил, а другой раз щеку ознобил. Лицо стало черное. Первый раз в жизни с ним такое лихо случилось, раньше какой бы мороз ни был — не поддавался… В этом году зима опасная.
А Рахим, не ограничиваясь разговорами о переселенцах и недороде, сообщил Абаю слова Павлова, услышанные им от Абена.
Город стоит перед угрозой голода. Если виною этому переселенцы, то почему же они именно в этом году бросили свои насиженные гнезда и хлынули сюда, целым народом с места снялись? Дело в том, что в самой России этот год очень тяжелый. И там идут слухи о голоде. Вот царь, опасаясь, что скопление голодающих, недовольных людей в центре России будет угрозой его власти, и переселяет мужиков в такие края, где земли много, а народу мало.
Абай одобрительно кивал головой, слушая Рахима, который своей живой и пытливой мыслью верно схватывал самое главное. Абай подумал о том, что юноша растет стремительно, правильно растет! Недаром учится — думает о народе.
— Правильно, умно говоришь, Рахим, — начал было он, но его прервал Жалель, который, соскочив с постели, появился в дверях.
Оба гимназиста, прекратив свою болтовню, уже несколько минут прислушивались к речам Рахима. Засунув руки и карманы и оттопырив полы праздничного мундира, Жалель вразвалку подошел к столу. Его косые глаза смотрели на юношу из-под мясистых век насмешливо и в то же время испытующе, с опаской. Щеголяя своим хорошим русским произношением, он начал приставать к Рахиму:
— Ты что же думаешь, Российское государство боится каких-то там мужиков, без году неделя освобожденных от крепостной зависимости? Русское крестьянство привыкло к своему скотскому состоянию не со вчерашнего дня. Думаешь, мужик голода не видал? Чем говорить о том чего не знаешь и понять не можешь, молчал бы лучше!
Рахим хотел было ему ответить, но Жалель только рукой махнул.
— Довольно болтать! И слушать не хочу!
— Нет, Жалель, ты не прав, — возразил Абай неодобрительно. — Рахим верно говорит. Если большинство народа бедствует, голодает, правительство оказывается не только в затруднении, но иной раз даже в опасности, а потому вынуждено принимать меры предосторожности. Ты плохо разбираешься в этих делах и судишь весьма поверхностно.
И, повернувшись спиной к Жалелю, снова заговорил с Рахимом. Жалель хмуро и враждебно глянул на Абая, но не нашел что ответить и, повернувшись на каблуках, вышел.
В эту ночь Абай, уложив своих юных гостей в соседней комнате, оставил у себя Дармена и Баймагамбета. По обыкновению, они стелили себе постели на почетном месте. И пока они раздевались, Абай улегся на своей широкой деревянной кровати. Лежа на спине и широко распахнув ворот рубахи, он заговорил, как бы сам с собой.
— Давно я наблюдаю за сыном нашего Какитая, этим самым Жалелем, и никак не могу понять, почему именно ему решил отец дать русское образование? Неужели нет у него наследника более достойного?
Дармен, который весь вечер молча наблюдал за Абаем, любуясь, как хорошо беседует он с ребятишками, заметил, что Жалель его не на шутку рассердил.
— О Абай-ага, если этот для учебы не годится, так другие у него еще хуже! — Дармен засмеялся. — Вот хотя бы старший его сын Дархан! Я сам слышал, Какитай спросил однажды нашего Магаша, какого он мнения о Дархане: «Как думаешь, вырастет из него хороший человек?» А Магаш посмотрел на тупую физиономию этого Дархана и ответил отцу жестокой и правдивой шуткой: «Откуда ему стать хорошим, сам посуди! Я еще не видел порядочного человека с таким лбом, как у него. Один из великих русских писателей так сказал об одном своем герое: «У его чести медный лоб». Боюсь, что и сын твой вырастет в меднолобого». Какитай после этого разговора и отдал с досады учиться Жалеля вместо Дархана.
Абай невесело усмехнулся.
— Бывает, что учение перерождает человека, — заметил он в раздумье. — Может быть, и Жалель исправится. А коли нет, худо будет. Ведь не только русская гимназия его воспитывает, они — Кунанбаевы. Могут из них вырасти чванливые степные баре, хозяева драчливых и задиристых богатых аулов. Станут бедой для народа!
И Дармен с Баймагамбетом, которые крепко не любили Жалеля за его пустую спесь и грубое слово, во всем согласились с Абаем.
2
Магаш, крепившийся в день приезда Абая, начал быстро сдавать. Отец со страхом заметил, что сын часто задыхается. Чуть что, на лбу у него выступает липкий, холодный пот, редкий сухой кашель усиливается. Немало перевидавший всяких болезней на своем долгом веку, Абай встречался и с этой, особенно опасной для неокрепших молодых людей. Охваченный жестокой тревогой, все свои надежды он возлагал теперь на врача и лекарства. Ведь Магаш еще на ногах. Пока болезнь его не одолела, хороший врач мог бы спасти сына! Пусть нельзя вылечить больного совсем, но ведь можно задержать неумолимое движение болезни, хорошим уходом отдалить неизбежный конец. С ужасом сознавая, что жизнь сына в опасности. Абай упорно и страстно цеплялся за эту последнюю надежду.
Сегодня в полдень, сидя в гостиной Магаша, Абай с волнением ждет врача. Строго соблюдавший день и час визита, доктор должен вот-вот приехать. Вместе с ним обещал быть и Павлов.
Вот Федор Иванович уже входит вместе с человеком средних лет, небольшого роста, с приятным, пышущим здоровьем лицом, обрамленным окладистой и кудрявой русой бородой. Открытый взгляд, высокий умный лоб, уверенные, неторопливые движения доктора — все располагает Абая к доверию. Вежливо поздоровавшись, Станов, неожидая особого приглашения, уходит в спальню Магаша и плотно прикрывает за собой дверь. Павлов и Абай остаются вдвоем и, присев у письменного стола, тревожно думают каждый о своем.
На этот раз доктор надолго задержался в спальне. Он особенно внимательно выслушивал Магаша и внушал ему, как тщательно нужно беречься, как строго следить за собой и неукоснительно выполнять советы врача. Станов категорически запретил Магашу появляться на городских сборах, утомляться, предписывая отдых и тишину: больше лежать в хорошо проветренной комнате, меньше встречаться с людьми; соблюдать диету. Ожидая выхода Станова, друзья понемногу втянулись в привычную беседу. При первой их встрече в доме Кумаша им все время мешали посторонние посетители, и Павлов не мог говорить свободно. Теперь он воспользовался возможностью с глазу на глаз сообщить Абаю важные известия, полученные от товарищей из Центральной России.
Царское правительство сильно побаивается революции в этом году. Летом по внутренним губерниям России прокатилась волна крестьянских бунтов. Протест назревает и среди городских рабочих. Тайные силы, готовящие восстание, безусловно используют недовольство крестьян. Поэтому царизм лихорадочно ищет выхода из создавшегося положения. Правительство идет на всяческие уловки.
— Во-первых, оно стремится переселить на окраины малоземельных, разоренных дотла голодающих крестьян, которые уже бунтовали прошлым летом или могут взбунтоваться впредь. Темных этих людей бессовестно обманывают легкими посулами «Джетысу, мол, край богатый, земли много, хлеб сам родится — приходи и владей». Вот эти самые голодающие обманутые мужики и наводняют сейчас Семипалатинск. Недород в этом году не только в Джетысу и Семипалатинской области — он повсеместно. Что же получится, если среди этой и без того готовой вспыхнуть крестьянской массы разразится еще и голод? Стоит довести со сознания народа: «Все эти беды от несправедливого царского строя, от угнетателей и эксплуататоров, помещиков и царя» — и крестьяне скопом поднимутся на восстание. А это— грозная сила.
Сейчас особое значение приобретают революционные элементы, возглавляющие протест трудового народа. Угроза надвигается на царское правительство со всех сторон. Будущее становится неясным, оно чревато революционным взрывом. Поэтому царское правительство, не ограничиваясь усилением переселенческого движения, ищет способов отвлечь от себя недовольство и других слоев населения, в особенности городского пролетариата.
Есть слухи о том, что с этой целью русское самодержавие затевает войну с Японией. Ему, в конечном счете, не важно, с кем и из-за чего воевать. Важно, что война открывает широкие возможности для лживой псевдопатриотической пропаганды под лозунгом спасения отечества.
Народ наш еще темен и может поддаться на удочку такой пропаганды. Правительство, видимо, рассчитывает, и на то, что, когда угрожает внешний враг, внутренние противоречия сглаживаются и оппозиционные, враждебные самодержавию силы также, хотя бы на время, откажутся от революционной борьбы.
— Я думаю, Ибрагим Кунанбаевич, что мы с вами в ближайшее время услышим о начале войны между Россией и Японией. — Так заключил Павлов свое сообщение о необычайных событиях, назревавших в стране, и теперь перед Абаем в новом свете предстало все то, что ему рассказывали школьники о голодающих крестьянах, заполнивших город, и о бедственном положении местной казахской бедноты.
И у Абая возникла новая, пугающая своей неясностью мысль.
— Скажите, Федор Иванович, — спросил он неуверенно, — если… если все будет так, как вы говорите, если возникнет война между Россией и Японией, то кому же мы-то должны желать победы?
И Абай умолк, не решаясь довести свою мысль до конца, но Павлов ответил немедленно, без запинки:
— Если вы хотите знать мнение мое лично и моих товарищей и единомышленников, то мы желаем поражения русскому царю.
И хотя Абай ждал именно такого ответа, поначалу что-то в нем воспротивилось такой непривычной и безоговорочной постановке вопроса.
— Я не уверен, что вы правы, Федор Иванович! — поспешно перебил он Павлова. — Пожалуй, я даже готов с вами поспорить.
— О чем же тут спорить? — Павлов улыбнулся. — А впрочем, говорите— послушаем1
— Мы… — Абай приостановился. — Вы думаете, что я говорю только о себе, — я говорю о народе. Будь то русский крестьянин, степной казах или миллионы тружеников, населяющих города, — как, по-вашему, рассуждают эти люди? По-моему, каждый из них, думая о России, говорит: «Мое отечество, мое государство», — и хотя Абай впервые произносил эти слова, они прозвучали уверенно и твердо. — Как я могу желать его поражения? Каждый человек, кто бы он ни был, стар и млад, у кого есть сердце в груди, тот желает победы своему отечеству. Это же естественно, иначе и быть не может! — горячо воскликнул Абай.
Павлов выслушал его с полным спокойствием. Его долгом было разъяснить, убедить Абая в своей правоте.
— С первого взгляда ваши слова действительно кажутся правильными, — заметил Павлов. — Можно подумать, что каждый здравомыслящий человек смотрит на вещи именно так. Однако у народа, у всех тех миллионов людей, о которых вы говорите, не один только внешний враг — в данном случае Япония. Если признать, что Япония ему враг, то это враг далекий; а у него есть враги поближе, и, пожалуй, не менее страшные.
— А, вы говорите о самодержавии? — Мысль Павлова становилась Абаю яснее. — Да, конечно, самодержавие сильный враг народа.
И теперь уже Павлов не мог сдержать своего волнения.
— Да, это самый близкий, самый коварный и самый беспощадный враг трудового народа! — воскликнул он. — Но если этот коварный и сильный враг получит оглушительный удар, потерпит военное поражение, он растеряется, будет ослаблен. А силы революции вследствие этого возрастут, получат реальную возможность действовать. Если же царизм выиграет войну, окрепнет, тогда наступит полный разгул реакции. Тогда революции уже не поднять головы, она будет отброшена на много лет.
Павлов не скрыл от Абая, что среди тех, кто называют себя революционерами, есть и такие, кто на словах всегда «вместе с народом» и «против самодержавия», а на деле в критический момент идут на сговор с реакцией, становятся агентурой царизма. В случае чего они будут отвлекать народ от дела революции болтовней о том, что вообще-то освободить Россию надо, но совершать революцию сейчас не время, рано, срок еще не настал. Так враждебные делу революции силы, пробравшись в ряды борющихся за свободу, стремятся подорвать их изнутри.
Павлов говорил об этом с гневом и возмущением, и Абай снова подумал, что вот и здесь, в этом святом и великом деле, как и везде, рядом с добром гнездится зло.
Но как бы там ни было, Павлов снова приносил Абаю радостную весть, вселял в его душу предчувствие победы нового. Непреклонная вера в конечное торжесто истины и добра звучала в словах Павлова. Он стремился поделиться с другом этой верой, вселить в него хоть частицу своей кипучей энергии. И он не только отвлекал Абая от его отцовского горя, он дарил ему надежду, которая проникала своим всепобеждающим светом в его окутанное мраком скорбное сердце.
Павлов помог Абаю овладеть собой, и он выслушал заключение Станова спокойно и терпеливо. Доктор признал положение Магаша тяжелым. Вылечить его, к сожалению, нельзя. Современная медицина еще не нашла действенного средства против его болезни. Все, что нужно больному — это воздух, хорошее питание и уход. Все, чего можно достигнуть— это затянуть болезнь, добиться, чтобы она из скоротечной перешла в хроническую. Что ж, такие больные нередко живут годами. Вот и все, что Станов должен был им сказать, и все, что он может им пожелать. Ведя друзей к Магашу, он советовал им, хорошенько закутав его, отправить как можно скорее в аул. В ауле надо пользовать больного кумысом. Пусть Абай от времени до времени сообщает Станову о ходе болезни. Он будет посылать лекарства, а весной, когда будет потеплее и наладится путь, Станов сам готов, невзирая на дальность расстояния, приехать в степь к больному, которого искренне полюбил.
В последующие дни Абай, Дармен, Баймагамбет и Какитай были заняты подготовкой к отъезду Магаша. Зима все еще неистовствовала. Было жутко смотреть на черные обмороженные лица приезжих из степи, а особенно тех, кто прибыл с медленно идущим верблюжьим караваном. Они просто приходили в отчаяние от небывалой лютости этой зимы. Январь шел к концу, мороз становился нестерпимым, теперь он нарушал обычный распорядок городской жизни. Дети по многу дней подряд не ходят в школу, да если не выгонит из дому самая крайняя нужда, взрослые тоже избегают выходить на улицу.
Абай опасался, как бы многодневный снежный буран не захватил сани Магаша в открытой степи. Не застудить бы больного! И он пришел к выводу, что отправлять его с одним-двумя сопровождающими нельзя. Вот если бы все родичи, друзья и знакомые семьи, которые приехали из аулов и находятся сейчас в Семипалатинске, в один и тот же день закончили свои дела и все вместе тронулись в обратный путь! Если даже буран и заметет дорогу, многочисленный обоз из нескольких саней, поочередно идущих впереди, всегда пробьется.
И люди откликнулись на просьбу Абая. Они только просили несколько дней отсрочки, чтобы закончить свои дела на базаре, закупить все необходимое для предстоящих еще холодных месяцев этой суровой зимы. Быстро промелькнули эти дни, и вот назавтра с рассветом множество путников одновременно выедут каждый со своего двора.
Накануне отъезда к озабоченому, подавленному горем Абаю неожиданно явился Павлов. Было видно, что он принес какое-то важное, волнующее известие. Обычно, придя в гости, он садился рядом с Абаем, а сегодня, словно не находя себе места, целиком поглощенный своими мыслями, ходил-взад и вперед по комнате. Дармен, Какитай и Кумаш, которые сидели тут же, заметив необычайное настроение Павлова и почувствовав, что он хочет что-то сказать Абаю наедине, один за другим вышли в переднюю.
Как только дверь за ними закрылась, Павлов вплотную подошел к Абаю.
— Вы помните, Ибрагим Кунанбаевич, на днях я говорил, вам, что будет война? — сказал он с волнением. — Так вот, она началась. Японцы без объявления войны напали на русские корабли в бухте Чемульпо и, несмотря на героизм наших моряков, потопили их. Царское правительство показало себя полностью неспособным ни к управлению страной, ни к обороне ее границ.
Павлов все более широко делился с Абаем тайными мыслями о революции. Царское правительство отнюдь не увеличивало славу и могущество России, а наоборот, уничтожало их. Все передовое человечество считает русское самодержавие темной силой, подавляющей все живое. «Жандармом Европы» зовут Россию царей и помещиков лучшие люди нашего времени. Поэтому реакционеры всего мира, стремящиеся задержать революционное развитие человечества, страшно боятся, как бы русский царизм не потерпел поражения от Японии. Зато трудовые массы России имеют все основания радоваться. Коли царская власть — наш злейший враг, то каждый основательный удар по ней приближает желанную свободу русского народа. С поражением царизма усилится и революционная борьба в Европе. И Павлов сообщил Абаю нечто такое, чего до сих пор никогда не говорил:
— Самодержавие ослаблено! Множество людей, сомневавшихся в возможности прихода революции, начинают верить в нее. А если вера в революцию охватит широкие массы, значит и сама революция не за горами!
Эта, пусть отдаленная, надежда, принесенная Павловым, озарила радостью горестное сердце Абая. Жизнь, которую он знал, среда, окружавшая его, горе, нагрянувшее в его дом, — теснили его со всех сторон, замыкая в своем кругу. И вот, словно кто-то сильный и добрый расправил его крылья, смятые бурями и непогодой, помог поднять голову, поникшую под ударами жизни, и сказал: «Оторвись от повседневности, смотри вдаль! Хоть день радости еще и далек, но он неизбежно настанет! Мыслью, сердцем, верой, мечтой своей устремляйся ему навстречу!»
Весь последний месяц Абай чувствовал себя словно бы на вершине утеса у края пропасти. Казалось, сама земля колеблется у него под ногами и какая-то непреодолимая сила влечет его вниз, в бездну.
Едва забываясь сном, он уже оказывался в плену безвыходных кошмаров.
Ему казалось, что он плывет куда-то вдаль по беспредельной и бескрайней кроваво-мутной воде. Тяжелая мгла бурной ночи надвигается на него. Один в холодном мире, захлебываясь мутной волной, он изнемогал, теряя последние силы.
Теперь, когда его любимый сын Магаш оказался в смертельной опасности, Абаю порой представлялось, что страшное видение холодной, безбрежной пучины и есть сама жизнь.
Радостная весть, принесенная Павловым, предстала в сердце поэта в образе юной золотой зари, забрезжившей у края ночи. С живой признательностью к другу ощутил Абай, как молодо встрепенулось его омраченное сердце. Посланцем будущего пришел к нему Павлов, и Абаю казалось, что он уже слышит шаги идущего к нему навстречу нового человека, хозяина неведомых могучих сил.
Ярким факелом вспыхивает перед Абаем надежда и снова меркнет, и тогда еще темнее и холоднее предстает перед ним его горестное настоящее.
А что же в недрах казахской степи, в том мире, где он живет, — есть ли люди, достойные вести народ навстречу грядущему? А сам он, Абай, где его место в предстоящей борьбе?
Ища опору для своей надежды, мыслью охватывая дали, старается Абай проникнуть в будущее. Пока еще степь слепа и глуха, покрыта непроницаемой мглой. Еще не забрезжил в ней ни единый луч. Поэтому-то так страшно человеку, одиноко плывущему вдаль по холодным тусклым волнам.
Еще вчера он не знал, куда устремиться, но сегодня впереди чуть виднеется новый, неведомый берег.
Что там: крутые неприступные скалы или прекрасная, цветущая долина? Что бы ни было, теперь перед ним распахнулся простор, и там, у небесной черты, сверкает далекий луч. Он будто манит Абая: приди!.. Иногда он кажется обманом — кругом, куда хватает глаз, беспросветная ночная мгла, холодная, темная муть. Но нет — там, вдали, за черной горой, чуть брезжит неясный свет. И вот уже приподнимается завеса ночи, потоки ослепительного света хлынули в прорыв туч, и вот уже распахнулось во весь горизонт чудесное прозрачное небо вешнего месяца мая. Весь необозримый ликующий мир осиян победным светом молодой зари. Перед поэтом возникает обетованная земля, о существовании которой он доселе даже не подозревал.
Прослышав о том, что Абай собирается уехать в аул вместе с Магашем, его старшие друзья, Сеиль и Дамежан, пришли попрощаться. Несмотря на трескучий мороз и до костей пронизывающий ветер, пришли пешком с той стороны, из Затона, и несколько человек рабочих с Сеитом и Абеном во главе. Абай радушно принял дорогих гостей и, позвав Баймагамбета, приказал сварить побольше мяса и принести кумыс.
Абай понял, что его друзья явились все вместе не случайно. И действительно, Сеиль передал через сынишку привет людям Затона и сообщил: «Абай нынче находится в горе. Тяжело болен его любимый сын. Говорят, несчастье совсем его одолело, и он превращается в согбенного горем старца. Абай был с нами в дни нашей беды. Неужели мы теперь оставим его одного? Давайте хоть навестим его, скажем слово сочувствия и привета. Друзья, которых любит Абай, собирайтесь вместе и приходите!» А Дамежан привел к Абаю он сам.
Все эти люди, как и их дети в прошлый раз, коротко и скупо рассказали Абаю о своих делах. «Когда человек не знает, как быть со своей печалью, незачем нести ему еще и наши заботы да нужды».
Весть о начале русско-японской войны, которая была на устах всего народа, дошла уже и до гостей Абая. Среди них были такие, кто доселе и знать не знал, что это за Япония такая. Им было мало того, что им удалось в эти дни услышать о японской земле и о боях на Дальнем Востоке, они наперебой расспрашивали Абая об этих неожиданных для них событиях.
Абай подробно и внятно рассказал обо всем, что знал сам. По лицам Сеита, Абена и Сеиля Абай понял, что они не только хорошо схватывают самую суть того, о чем он им говорит, но что связывают с этой войной и кое-какие надежды, видимо, до них тоже в той или иной мере дошли разъяснения Павлова.
Сеит и Абен расспрашивали Абая не из пустого любопытства. Они испытующе смотрели ему в лицо в ожидании того, что и как именно он скажет. Есть ли у него свое отношение к событиям, более глубокое и верное, чем людские толки и слухи, которыми был полон город?
В самый разгар оживленной беседы в комнату вошли Дармен, несколько приезжих из абаевского аула и вместе с ними Шубар. Абай коротко обменялся с ними приветствиями и снова обратился к прерванному разговору.
— Сколько еще времени пройдет до тех пор, пока мы увидим новую жизнь, бог знает. Года или десятки лет — мне судить трудно. Люди, знающие больше меня, видящие дальше меня, истинные мудрецы передового русского общества, возможно, и назвали бы вам точные сроки! Так или иначе, но нам есть о чем пораздумать! Тот мир, в котором мы с вами живем и который знаем вдоль и поперек, будет потрясен до основания, все в нем изменится и обновится. Наступит такое счастливое время, какое и не снилось ни нам, ни предкам нашим!
Абай замолчал, а гости его продолжали сидеть, как завороженные, неподвижно уставившись на хозяина. На их лицах, изборожденных морщинами, горькими следами обид и напастей, на миг заиграл отблеск радости.
Сеиль, Дамежан, Сеит и Абен замерли со счастливой улыбкой на устах, с глазами, полными невысказанной благодарности. Да и не только они, Дармен и Баймагамбет тоже сияли.
Правда, Баймагамбет был рад просто-напросто тому, что удрученный горем молчаливый Абай хоть немножко приободрился и разговорился. Старик с признательностью глянул на Сеиля и Дамежан.
Дармен слушал Абая с особым чувством душевного подъема. — О Абай-ага, острым лучом своего разума ты рассеиваешь туман в сознании людей! — подумал он, и в глубине его благодарного сердца возник прекрасный поэтический образ. «Абай — неустанный сеятель в пустынной степи. Всю жизнь разбрасывает он в неоглядных просторах семена света и добра. Пусть еще не расцветают прекрасные луга и нивы, пусть нет еще плодов обильных, но в сердца сотен и тысяч людей запали добрые семена твоей правды, о добрый отец! И они еще взойдут в народе подобно тому, как всходят сегодня в душах твоих друзей, сидящих здесь, отдаленные потомки будут дорожить твоим благодатным дерном!»
Увлеченный беседой, Абай совершенно забыл о вновь пришедших гостях, которые, отдав ему салем, расселись у него за спиной. Теперь об их присутствии напомнил резкий, издавна знакомый Абаю голос Шубара. Этот голос всегда обдавал его холодом.
Обычно Шубар говорил с Абаем посмеиваясь, и сегодня он так же остался верен этой привычке. Если друзья Абая обрели в его словах радость и веру в будущее, то голос Шубара выдавал его ироническое отношение ко всему тому, о чем здесь говорилось.
— Вот, Абай-ага, одни обещают конец света, а вы — рай на земле. Уж коли это действительно рай, так пусть он наступал бы скорее! Может быть, вы будете так любезны, что скажете нам и о том, когда именно придет вся эта благодать? А главное — сподобится ли ее увидеть хоть кто-нибудь из нас здесь присутствующих, или, на худой конец, из ныне живущих на земле? — И он громко захохотал, хотя никто и не подхватил его натянутого веселья.
Абаю не понравилось и то, что Шубар пришел незваным, и то, как он говорил и смеялся. Не оборачиваясь и ни слова не отвечая ему, он тут же заговорил о другом. Гости начали расходиться уже в сумерках. Угостив их на прощанье чаем, Дармен и Баймагамбет развезли всех по домам, а потом вернулись к одиноко сидящему в потемках Абаю.
Дармен зажег большую лампу и, ставя ее на стол перед Абаем, задал ему вопрос, мучивший его весь день. Он еще не успел сесть и стоял перед Абаем на одном колене, вопросительно заглядывая ему в лицо. Его слегка приоткрытые губы оттенялись небольшими темными усами, в умных смелых глазах горела беспокойная мысль, всегда зажигавшая и Абая: в ней поэт безошибочно различал огонь вдохновения.
— Абай-ага, целый день не дает мне покоя эта мысль. Вот только что здесь вы говорили Сеилю, вашим друзьям о той замечательной жизни, которая настанет однажды. Я понимаю, почему вы не хотели ответить Шубару. Но ведь этот вопрос был на языке и у Абена и у меня. Когда же настанет время, о котором вы говорили? Если не мы, так дети наши доживут ли до этого дня? А может быть, посчастливится и кому-нибудь из нас умереть, краешком глаза глянув на новое счастье? — Дармен с мольбой смотрел на Абая, задавая ему тот самый вопрос, который сам Абай еще так недавно задавал Павлову.
Абай очнулся от задумчивости.
— Конечно, молодое поколение наше увидит новые времена, — медленно проговорил он. — А может быть, и кое-кто из ныне зрелых уже людей дойдет до нового дня. Возможно, что дойдут и хорошие и плохие: хорошие — с добром, плохие — со злом. И там каждый получит свое по заслугам. А я хотел бы, чтобы дожил до нового времени ты, хоть бы удалось тебе дойти! — И голос Абая дрогнул.
Дармен встревоженно посмотрел в его лицо. Удлиненные глаза поэта, устремленные вдаль, были влажны: в них были и скорбь и высокое озаренье. Это были не безнадежные слезы уныния, а слезы обновления мудрой души.
Наутро Абай, Дармен и Баймагамбет, спозаранку напившись чаю, приготовленного еще с ночи, торопливо подкатили в широких, запряженных парой санях к двухэтажному дому Сулеймана, где жил Магаш. Как раз в это время, хрустя по остекленевшему снегу, со двора выезжали одни за другими шестеро пароконных саней. Самой последней шла кибитка Магаша с крытым верхом, обитая толстой кошмой. Узнавшие Абая возницы начали было останавливать лошадей, но он, махнув рукой, приказал — Не мешкайте! В путь!
Обоз из восьми саней с кибиткой Магаша в середине вереницей потянулся мимо вросших в сугробы землянок слободки. Стоял леденящий душу мороз, пронизывающий ветер с зловещим визгом завивал воронки сухого снега.
3
Хотя начавшаяся в этом году раньше времени зима приближалась к концу, все еще стояли лютые морозы. Обычно к середине марта в степи уже начинали чернеть проталины. А сейчас об этом нечего и мечтать. Непрерывно дующий белый буран продолжает сыпать снег, поверхность степи, словно вылизанная ветрами, однообразно гладкая, как яйцо. Начинался джут.
Многие маломощные аулы стали нуждаться уже с декабря. Теперь жестокими бедами этой зимы изнурено большинство. Скот, опустошив все запасы, голодает. Начался падеж. В скотных дворах и за дворами обледенелой горой громоздятся трупы овец. Во множестве падают от бескормицы и коровы. Даже известные своей выносливостью верблюды истощены до предела. Пролежав ночь в хлеву, наутро они разбредаются по степи в поисках хоть какой-нибудь пищи. Что бы ни попалось им на глаза — кончики заметенных сугробом стеблей камыша, какая-нибудь колючка, верхушки утонувшего в снегу кустарника, — голодные животные все это немедленно поедают. Кое-как держатся лишь сильные, взрослые верблюды. А тощие верблюды, старые животные, двухгодовалые верблюжата и одногодки, еле-еле дотянувшие до конца зимы, теперь устилают своими трупами окрестности зимовок.
И все же казахи, когда начинается джут, с благодарностью повторяют старые присловья и поговорки: «Самое выносливое из животных — верблюд», «Хороший верблюд с шести глотков сыт бывает», «Верблюд — благородное животное. Он один человеку не в тягость». Ведь тощие ягнята, стригуны и телята везде давным-давно вымерли.
И в хороший год они выживали с грехом пополам. Теперь же хозяева о них даже и не заботились. Каждый клочок сена или соломы берегли для более стойкого, здорового скота. В зимовках оставались только кони для разъездов, все остальные животные находились в отарах возле пастушьей юрты. Уже давно расставшиеся со своим скотом, хозяева начинали беспокоиться о лошадях, отогнанных на дальние пастбища, надеясь, что хоть они-то перенесут эту небывало тяжелую зиму. И тут добрым словом поминали стойкость и выносливость коня.
— Лошадь не поддается джуту!
— Была бы на земле травинка, конь по ребра в снег зароется, а ее добудет! На коня всегда можно надеяться, — говорили хозяева.
— Лошадь другому скоту не чета! Она, где траву найдет, с того места не тронется, в самый сильный буран по ветру не пойдет.
— Какой скот с конем сравнится! У коня и топор и мотыга при нем!
Однако в этом году даже кони потерпели большой урон.
Всю зиму многочисленные аулы в горах, низинах и поймах рек держали непрерывную связь друг с другом. В середине марта весь край облетела печальная весть. Говорят, что находящиеся в отгоне табуны лошадей уже косит белая гибель. Говорят, что косяки, отправленые на жайляу в так называемые внешние районы, растерялись в буране и теперь пропадают. Говорят, что много коней погибло среди скал, попадало с обрывов либо провалилось в сугробы. Говорят, что из тысячи, полутора тысяч голов иного табуна едва выжило триста, двести, а то и полтораста. Если зима еще затянется, останется от всего конского хозяйства только юрта пастушья.
Впрочем, если скоту было худо, то и человеку в степи приходилось не многим лучше. Ознобленные стужей лица и руки огрубели и почернели; измученные непосильными тяготами, и сами-то люди стали жестче и злее. Уже несколько месяцев кряду женщины с утра до ночи бродят по степи с мотыгами в руках, ища корма для своих падающих от истощения животных, откапывая кустики чия — верблюжью колючку. Их лица покрылись ранними морщинами, обветренные губы и руки потрескались; ветхая одежонка не греет, — сжавшись, они трясутся от холода. Древнюю старуху не отличишь от еще недавно красивой, молодой девушки — всех сравняла лютая эта зима.
Кочевники говорят: «Джут семь братьев с собой ведет». Пришел мороз-гололед, за собой скотский падеж ведет, за гибелью скота — голод, — в доме холод, за холодом — болезни, за болезнями — разобщение, а за ним и последний брат — по миру пешее хождение. Люди в аулах уже оставались без топлива, последние запасы еды истощились, ехать в город на базар не на чем. На дорогах стали появляться пешие скитальцы, бредущие со своими детишками куда глаза глядит. Иные из них падали в снег и больше не поднимались.
Так как проезжих становилось все меньше, а бураны продолжали мести с прежней силой, снег постепенно заваливал дороги, связь степи с городом, аула с аулом замирала. Обитатели зимовок затаились в своих оторванных от всего мира уголках, как сурки в норах.
Настало время, когда, как говорится, «и коршуну и цыпленку надо душу спасать». Небывало жестокую эту зиму, обездолившую людей и погнавшую их искать спасения по белу свету, народ, сокрушаясь, назвал «годом белого зайца», «годом бедствия», «годом великого джута».
Настигла беда и косяк лошадей, вышедших из аула Абая. Осенью Абай, Магаш и Какитай объединили своих коней, к ним пристал и еще кое-кто из соседних маломощных аулов, и общий большой косяк был отправлен на пастбище. Пять табунщиков и один подпасок, на обязанности которого лежало варить пастухам обед, пасли огромный табун в тысячу двести голов. Старший табунщик Алтыбай, считая это доброй приметой, назвал свой косяк именем Абая. С приближением зимы Алтыбай повел свой табун в низину, на земли соседнего рода Ажи, так как, по слухам, летом там была хорошая трава.
У ажинцев лошадей было мало, и поэтому они не пожалели для Абая своей земли с обильными, оставшимися под снегом кормами, тем более, что Абай прислал им привет и обещал уплатить за пастьбу.
Ажинцам заплатили, отдав им во временное пользование несколько сытых коней, и хотя зима и была суровой, до февраля косяк кое-как просуществовал на небольшом клочке их земли. Однако к середине февраля морозы еще усилились, и здесь тоже начался джут. Пастбище было выбито до травинки, лошади начали худеть, жеребята-стригуны и трехлетние кобылицы были до того истощены, что ложились и не могли подняться с места. Начался падеж не выносящих стужи жеребят.
Вдобавок пошел мокрый снег с дождем, и земля обледенела. За ночь пять — десять жеребых кобылиц скидывали приплод. Видя все это, Алтыбай решил откочевать куда-нибудь в другое место. Приехавший из аула Какитай велел «во что бы то ни стало гнать лошадей по направлению Байгабыла, Акшокы».
Целый месяц двигались табуны из Кзыл-Молинской волости назад к аулу Абая. Алтыбай не знал покоя, тщательно выбирая места для остановок, неустанно заботясь о сохранности косяка. И все-таки у всех оставшихся в живых жеребят страшно удлинились хвосты. Опытные люди хорошо знают, что это значит. Подъезжая к незнакомому табуну они определяют его состояние по длине хвостов жеребят.
Если у стригунов хвосты короткие, то гость не преминет сказать об этом хозяину, а хозяин косяка поблагодарит бога и пастухов. Люди говорят: «Хвост у стригуна укоротился, быть всему табуну сытым». А в теперешнем косяке Алтыбая даже у двухлеток гривы, холки и хвосты удлинились.
У многих лошадей гривы и хвосты свалялись, к ним пристали репейники и колючки. У молодняка ощетинилась шерсть. Взрослые кони — кожа да кости, шерсть на голове стоит дыбом, все жилы видны. И молодняк заметно исхудал, а уж у кобылиц, скинувших жеребят, ребра наружу торчат. Словом, во всем косяке Алтыбая не стало ни одного мало-мальски упитанного коня.
Двигаясь по дороге к родным местам, табун прямо на глазах таял. Немало конских трупов было похоронено в белом буране. Упорно пробиваясь к дому, Алтыбай каждый день садился на свежего коня из наиболее сильных и ехал впереди всего косяка, следом за ним вели свои табуны и другие пастухи, так же часто меняя головных коней. Так как пробивать путь сквозь снежную целину было очень тяжело, группу коней, шедших впереди, также постоянно меняли.
Однако, несмотря на все заботы табунщиков, лошади продолжали падать. Всюду была гололедица, наступившая сразу после осенних ливней, когда преждевременный мороз внезапно сковал землю. Целыми днями, разгребая глубокий снег на жестоком морозе, выбиваясь из сил, лошади наталкивались на лед, и только на лед. Двухдневный путь верхового косяк Алтыбая прошел за месяц. Теперь табуны приближались к аулу Абая у подножья Арал-Тобе. Уже добрались до земель, называемых Жымба и Итжон, где хотя и лежали глубокие снега, но зато и росли кустарники таволги и попадались заросли чия. На Нижней Жымба табунщики установили свои потрепанные кибитки, и Алтыбай разрешил молодым пастухам отдохнуть. Уже незадолго до вечера они слезли с коней, и он им сказал: «До сумерек погрейтесь и поспите» — а сам, как человек бывалый, выехал один караулить табуны. Удаляясь от места стоянки, табуны в поисках пищи потянулись на запад. Измученный целодневной ездой по глубокому снегу, перемерзший, Алтыбай дремал верхом на сером жеребце, волоча по земле курук и уронив на грудь отяжелевшую голову в черном малахае. Он то на минуту пробуждался, то опять, впадал в дремоту. Проголодавшемуся, ослабевшему Алтыбаю снились бесконечные путанные сны, прерывавшиеся, когда он просыпался, и продолжавшиеся, когда он снова засыпал. Вот его добрая жена Инкар, исхудалая, к рваной одежде, — он не видался с ней целую зиму. Она жалеет его: «Устал, наверное, перемерз! Ляг отдохни. Я тебе постель приготовила, усни!» Ничего на свете ему сейчас не нужно, только бы выспаться хоть немножко, — и Инкар, милая, понимает, заботится о нем!
Изнурительно долгая езда верхом приучила Алтыбая дремать в любом положении. Вереницей тянутся его неясные думы-сновидения, и нет им конца. Добраться бы только до своих, побыть с женой и детьми в старой дырявой юрте, вздремнуть на жесткой тряпичной постели. Так и ехал Алтыбай со своими дремотными мечтами, прикорнув на осторожно шагающем коне, за бесшумно идущими табунами. И вдруг его проняла тревожная дрожь. Он очнулся.
Левое плечо его коротенькой шубенки было подбито старой шерстью, и он всегда чувствовал, когда ветер дул с левой стороны. Проснувшись и протерев глаза, он увидел, что ясный день мгновенно померк. Ветер усилился и, взметая снег, переходил в буран, впереди уже ничего не было видно, свирепый вихрь в немой желтоватой мгле бешено бил ему в лицо.
Алтыбая мгновенно прохватило насквозь ледяным ветром. Собирая последние силы, он начал было погонять коня, но тот, целый день не бравший в рот ни травинки, не двигался с места, тяжело водя боками, как запаленный. Потом он рванулся, пробежал несколько шагов и снова стал. Сквозь летящую массу снега Алтыбай не мог различить, сколько лошадей впереди него и вокруг, и он закричал своим зычным голосом, к которому за зиму привык весь косяк.
Как раз в это время он увидел множество плотно сбившихся лошадей, которые бежали прямо на него вместе с бураном. Сердце Алтыбая дрогнуло: мало было им бед и напастей, теперь голодные, усталые лошади не выстояли против снежного урагана и пошли по ветру.
Время близилось к ночи, товарищей-табунщиков не было рядом, последним из лошадей, которые еще могли бы кое-как добраться до дома, угрожала смертельная опасность. «Вот бедняги! Еще эта ревущая беда идет на вас! Ни за что пропадете!»— И Алтыбай ринулся на борьбу с воющей мглой. Высоко поднимая дубинку и часто покрикивая, он ворвался в самую гущу табуна и пытался если не завернуть его, то хотя бы приостановить. Он не знал, где все остальные лошади, заметил только, что во главе идущих на него был рыжий скакун Абая. Всю зиму его табун шел впереди других, пробивая путь и разворачивая снег во время тебеневки. Среди передовых встречались кобылицы еще более истощенные, чем в других, идущих позади табунах.
Вожак этой группы все еще был сравнительно в теле. Он не давался в руки Алтыбаю, а сам, проторяя тропу в глубоком снегу, шел впереди. Если по пути попадался хоть клочок земли, на котором сохранилась трава, то, какой бы ни был буран, рыжий жеребец останавливался и начинал копытами разрывать снег. И там, где останавливался он, весь его табун от мала до велика приступал к тебеневке, а за ним постепенно задерживался и весь косяк, и все остальные лошади также начинали выбивать копытами корм из-под сугробов.
Алтыбай ужаснулся: теперь табун рыжего жеребца также пошел по ветру. Значит, никакая сила уже не остановит устремившихся в пространство коней. А ведь сколько времени продлится буран — неизвестно. Если на пути движущейся массы лошадей попадется глубокий овраг или впадина, соленое озеро или обрыв, косяк потерпит огромный урон.
Во время слепого бурана на лошадей нередко нападают волки: лошади, идущие по ветру, разбиваются на мелкие кучки, отстают, блуждают, их не так то легко найти и собрать. Многие из них так и не возвращаются к своему косяку. В белой степи после таких буранов остаются бесчисленные темные холмики конских трупов.
Поспевая за табуном рыжего жеребца, Алтыбай думал о многочисленных опасностях, которые поджидали косяк впереди. Самое страшное сейчас было в том, что серый жеребец окончательно терял силы. Вскоре Алтыбай отстанет и уже не сможет подать голос, чтобы сбить привычный к к нему косяк вокруг себя. Было бы легче, если бы его догнали другие, оставшиеся отдыхать табунщики, но о них не было ни слуху ни духу.
С тех пор как Алтыбай встретился с идущим по ветру косяком, он непрерывно кричал. Он хотел приободрить измученных лошадей, а коли поблизости есть волки, припугнуть волков. Он кричал во всю силу своей могучей груди долго, громко, протяжно. Его одинокий голос, врезаясь в свист ветра, разносился далеко по степи: «Уа-ха-хау!», «Ой-айт!»
По, расчетам Алтыбая, сейчас табун идет прочь от стоянки. Вскоре они пройдут подветренную сторону, стоянка останется в направлении ветра, и тогда там не будет слышен не только одинокий голос человека, но и грохот обвала. А буран крепчал, и все кругом заволоклось бешено мчащейся белой мглой.
Наверное, солнце уже село, воющая белая завеса начала меркнуть. «Эх, если бы жигиты на стоянке проснулись и, сев на коней, прискакали на помощь!» Думая о них и страшась надвигающейся ночи, Алтыбай кричал не переставая. Наконец и его сильный, казалось бы, неутомимый голос начал хрипнуть. Но, напуганный жестокой силой, которая неудержимо гнала его табуны вперед и вперед, Алтыбай продолжал кричать. Рыжий жеребец, привыкший подчиняться голосу табунщика, и теперь не изменял своему обыкновению. Когда голос Алтыбая удалялся или замирал совсем, умное животное замедляло шаг или на миг приостанавливалось перед табуном.
Алтыбай на своем еле передвигавшем ноги сером жеребце медленно ехал по тропе, проторенной бегущими лошадьми. Чем больше усиливался буран и свирепел мороз, тем чаще попадались навстречу табунщику отставшие, изнуренные лошади. Они медленно отделялись от табуна и тут же падали, уткнувшись мордой в снег, или грохались набок, как деревянные лошадки. Больше они уже не шевелились. И хотя сердце Алтыбая обливалось кровью от жалости, он понимал, что им, может быть, так было лучше, ибо жизнь их превратилась в сплошную муку.
Прошло уже много времени, но никто из табунщиков не догонял стремительно уходящий косяк. Лошади, у которых сохранился хоть какой-то остаток сил, позволявший им двигать ногами, все еще не могли остановиться. Какая беда на какую новую муку их гонит, как они еще двигаются — неизвестно. Худые, голодные, они мелькают перед Алтыбаем, как тени, иные внезапно падают — и все нет им конца. Иногда он готов был остановиться, бросить уходящий табун — и не мог, трупы павших лошадей указывали ему путь вперед.
Теперь плотная, стремительно мчащаяся масса снега не давала ничего различить и в двух шагах, но Алтыбай, привыкший находиться в степи в любую погоду, умел приметить и то, что было скрыто от глаз другого человека.
Буран, воронками завивающий снег, заволакивает небо и землю, точно неведомые злые силы влекут все живое в бездонную белую пучину. Лишь мгновениями непрерывно льющийся снежный поток слегка редеет, и тогда становится видно землю на расстоянии дубинки от морды лошади. Зорко стороживший момент, когда снежная пелена разрывалась, Алтыбай бросал свой отчаянный крик в этот разрыв.
Неизвестно, сколько осталось в живых лошадей, но табунщик временами различает их неясные тени, мелькающие впереди. «Почему рыжий скакун сегодня не останавливается? Что случилось с беднягой? — в отчаянии думает Алтыбай. — Неужели под снегом нет ни одной травинки? Неужели летом дотла выгорела эта голодная степь?»
Словно разъяренный дракон, стремящийся поглотить, все живое, чем дальше, тем больше неистовствовал ветер. Свист, вопли и завывание наполняют воздух, словно празднуя торжество смерти, холодную гибель всего, что еще дышит. И рыжий жеребец неуклонно движется в отверстую пасть белой гибели.
Алтыбаю нестерпимо жаль погибающих животных. Временами рыдания подступают к его горлу, и тяжелые вздохи сотрясают грудь. И он снова понукает измученного серого жеребца, бьет его плетью, тщетно силясь догнать уходящий табун, и кричит, кричит в снежное пространство…
Вдруг по обе стороны его коня, взметая снежный прах, промелькнуло что-то темное: Алтыбай своим криком вспугнул волчью стаю, которая, обнаглев, ринулась в наступление, едва не опрокинув самого табунщика с его еле передвигающимся конем.
Когда, разделившись на два потока, стая проносилась мимо, Алтыбай закричал еще громче. Его зоркие глаза впивались в ночную мглу, стремясь определить численность нового врага. Около двадцати голодных волков налетело на гонимый ветром табун и набросилось на коней, шедших впереди. Как ни гнал Алтыбай вперед своего серого жеребца, тот еле переставлял ноги.
«Что будут делать бедные кони?» — с ужасом думал табунщик.
При виде волков лошади обычно с громким ржанием сбиваются вместе и, окружив ослабевший молодняк, жеребят-стригунов, встречают нападение врага.
Жеребцы, скача вокруг косяка, отгоняют приближающихся волков. Иной конь, выгнув шею, оскалив зубы и меча искры из глаз, с грозным визгом бьет копытами землю, нагоняя ужас на хищников. Иной, жертвуя жизнью ради своего табуна, бросается на волков и бьется с ними, обливаясь собственной кровью.
Рыжий вожак некогда славился тем, что сам, как медведь, наседал на хищников, обращая их в бегство. А теперь изнуренные лошади были не в силах сопротивляться, как прежде.
Раздалось едва слышное ржание нескольких кобылиц да рыжего жеребца. Некогда Алтыбай узнавал его трубный голос из-за шести хребтов, теперь он уже не звучал так грозно. Алтыбай различал также слабое ржание большой игреневой кобылицы да ширококостной рыжей, которые откликнулись на зов вожака. Им не под силу уже было поднять всеобщую тревогу и дать отпор кровожадному врагу всем косяком.
Волки уже привыкли в эту зиму безнаказанно расправляться на пастбищах с изнуренными лошадьми. Три стайки, ведомые тремя короткохвостыми серыми вожаками, следуя за быстро мчащимися белыми волчицами, с трех сторон вихрем налетели на табун рыжего скакуна.
В эту пору лошади добежали до края глубокого оврага на Верхней Жымбе, которому суждено было стать их могилой. Рыжий жеребец, который еще в силах был сопротивляться, пытаясь остановить свой косяк, стал было с громким ржанием обходить его спереди и внезапно провалился в сугроб. Вся низина и яр были до краев полны снегом. Чрево прожорливой белой смерти было столь глубоко, что до дна его не достанешь и пикой. Рыжий жеребец, увлекаемый своей тяжестью, катился с края обрыва в снег. Матерый серый волк с коротким хвостом и широкой грудью, бежавший впереди стаи, прыгнул следом за скакуном и, опираясь лапами на его круп, быстро перерезал ему горло. Остальные лошади, испуганные приближением неминуемой смерти, прыгали в яр следом за своим вожаком.
Кто из них погиб, кто спасся, куда девались все остальные кони? Алтыбай пытался криком отогнать волков. О себе он совершенно забыл. Когда он увидел лошадей, бьющихся в предсмертных судорогах под обрывом, ему и в голову не пришло, что они — чужие.
Доброе, умное животное, которое летом и зимой было перед ним, слушалось его голоса, повиновалось ему — стало для него другом, взывающим о помощи в свой смертный час. И он не выдержал, спрыгнул со своего серого коня и, утопая в снегу, размахивая дубиной, пустился вдоль яра. Нащупав твердую почву под ногами, он изловчился и обрушил удар на голову короткохвостого волка, расправлявшегося с рыжим жеребцом, который бился с предсмертным хрипом.
Однако стая волков была так велика, что, не обращая внимания на человека, продолжала свою расправу, распарывая животы и перекусывая глотки лошадям, по самые ребра увязшим в сугробах и не имеющим сил даже шевельнуться. Алтыбаю нельзя бросаться в эти сугробы, там он увязнет и пропадет, — он только и может кричать и грозить дубиной на краю оврага.
Опьяненные запахом горячей крови и отведавшие ее на вкус, волки не слышат криков и угроз Алтыбая, и ему удается ударом дубины свались еще одного хищника, вцепившегося в ногу коня и вырвавшего из нее мякоть.
В эту минуту табунщик заметил какую-то возню позади себя и увидел, что несколько волков набросились на серого жеребца, понуро стоявшего у обрыва. Они распороли ему живот и перерезали горло. Совсем охрипший, шепча проклятия, Алтыбай, не помня себя, кинулся на них с дубинкой, и только когда он приблизился к ним вплотную, они неохотно, не торопясь убрались восвояси. Серый жеребец был уже мертв.
Спустя немного, насытившись, волки, взвихривая снег, бросились бежать и исчезли с глаз Алтыбая. Все лошади, оставшиеся здесь, либо валялись мертвыми на снегу, либо по ребра утонули в сугробах и стояли неподвижно.
Алтыбай только теперь сообразил, что перед закатом на него шел по ветру весь табун рыжего скакуна, а в нем было около ста лошадей. Здесь, в сугробах, их около пятидесяти. Остальные за этот гибельный вечер растерялись, разбрелись кто куда, а иные, обессилев, попадали в снег на глазах Алтыбая.
Бесконечно длится ночь. Буран бушует, час от часу нарастая. Мороз пробирает до костей пешего табунщика. Да, это совсем не то, что верхом на коне! Его косяк постигла общая для многих косяков в эту зиму участь. Скакуны, дойные кобылицы, породистые жеребцы, любимцы детей, украшенные перьями и амулетами, двухлетки, трехлетки и пятилетки — все остались в голой снежной степи, похороненные в сугробах.
Буран неистовствовал шесть дней. На седьмые сутки на безоблачное морозное небо поднялось холодное солнце, настал безветренный, тихий день. Молодые табунщики, которых с такой надеждой и отчаянием звал Алтыбай, пришли к яру Жымба и увидели торчащие то там, то тут гривы и хвосты погибших лошадей и их наполовину объеденные волками трупы.
У подошвы холма валялись разбросанные клочья старой шубы Алтыбая, чуть подальше нашли оторванные голенища и головки его сапог. Из-под снега торчала половинка истрепанного черного малахая.
Двенадцать лет из своей тридцатилетней жизни табунщик провел с лошадьми. Не видевший ни дня, ни ночи, он погиб, до последнего дыхания защищая чужое добро.
Когда с наступлением тепла снега растаяли и земля просохла, путникам, подъехавшим к яру Жымба, представилось необычайное зрелище.
На дне яра стояли, прижавшись друг к другу боками, около тридцати мертвых лошадей. В ночь большого бурана, спасаясь от наседавших волков, эти лошади бросились в овраг вслед за рыжим вожаком, скользили в сугробах и останавливались, сбиваясь в кучу. Так, бок о бок увязшие в глубоком снегу, они замерзли стоя. Весной, когда начало таять, застывшие трупы лошадей, опирающихся друг на друга, не меняя своего положения, стали оседать вместе со снегом. Так они и стояли теперь, сбившись в плотную кучу, как это обычно делают летом живые конские табуны, спасаясь от оводов. Было страшно видеть, что, мертвые, они стояли прямо, словно изваяния мартовской стужи.
В ауле Акшокы рядом со скотным двором в низких, темных землянках ютилось несколько семей бедняков. В одной из них оплакивали гибель Алтыбая его старая мать и жена с тремя маленькими сиротами. А в соседней землянке маялся на голом полу его двоюродный брат, двадцатилетний чабан Байтуяк. И его настигло несчастье в степи возле байского стада. С начала зимы он пас овец Дильды в урочище Акшокы, и там его прихватил январский лютый буран. Задолго до этого дня, изрядно промерзнув на пастбище, юноша жаловался Дильде, что «одежда у него плохонькая, сапоги рваные, в дыры снег набивается». Расстроенная вестью о болезни Магаша, Дильда и слушать не стала сетований пастуха.
— Дала ведь я осенью твоей матери овечьи шкуры. Если она поленилась дубить их да шубу тебе сшить, пеняй на себя. И так мою душу тревога о Магаше нашем гложет, взвалить мне, что ли, еще и твои заботы на себя? Уходи и больше на глаза не являйся! — Так, накричав на парня, она прогнала его ни с чем.
В эти дни весь аул тужил, получив из города сообщение о тяжелом положении Магаша. Услыхав от людей, что его болезнь похожа на болезнь Абиша, Дильда плакала и причитала дни и ночи напролет. И вообще-то плохая хозяйка, в этом году она уж вовсе забросила все дела, не обращала никакого внимания на предупреждения близких, что в этом году будет джут, что зима все лютеет и что «пасти скот нынче не легче, чем биться с врагом».
Черствое, себялюбивое даже в горе сердце Дильды было глухо к страданиям других людей. Вот ее печаль должна быть общей печалью. А что такое рядом с ее бедой какие-то там жалобы пастухов! Что они пьют, едят, во что одеваются, на чем ездят, каково им приходится в морозной степи, сытые у них семьи или голодные? Даже если об этом говорили другие, Дильда пропускала все мимо ушей.
Тщетно жаловался Байтуяк: «Шубенка у меня старая, чекмень дырявый, ветер прожигает до костей. В мороз мне на коне усидеть невозможно, приходится слезать и пешком по степи бегать. И тут беда: сугробы выше колен, снег набивается за голенища, а я уже обе ноги себе ознобил!»— Говоря об этом, он плакал, но так и не услышал в ответ ни единого теплого слова.
В укрытых холмами ущельях Акшокы, где паслись аульные овцы, не бывало сильных буранов, гонящих скот по ветру. Зато каждый день метет злая поземка, которую в этих местах зовут «белым иноходцем». Никогда не утихающий холодный ветер бьет в лицо мельчайшей снежной пылью, загоняет ее за ворот, за пазуху, в голенища сапог. В зиму большого джута, если «белый иноходец» и не превращался в «белый буран», то дул день и ночь без передышки. Ледяной северный ветер, полосуя степь, заваливал все овраги глубокими снегами.
Не только перемерзшее тело юного Байтуяка изнывало от муки в изношенных, драных лохмотьях, за последние дни и душа его истомилась от горя и досады. Исхудалый, с выпирающими под кожей костями и багровыми пятнами румянца на острых скулах, Байтуяк не выдержал — лютый январский день свалил его с ног.
В сумерки вернувшийся в аул юноша, едва переступив порог своей землянки, упал наземь, дрожа всем телом, стуча зубами и плача. Маленькие жесткие ладони матери, в страхе гладившей его холодные щеки, стали мокры от слез. Еле ворочая языком, с трудом раскрывая застывшие губы, он шептал проклятия:
— Доконали меня, довели! Холод пронял насквозь. Смерть моя приходит, мама дорогая! Накажи их бог! Голым, в лохмотьях жизнь прожил! — И он вытянулся на полу, теряя сознание.
Теперь, когда весть о смерти Алтыбая пришла в темные лачуги пастухов, Байтуяк совсем обессилел. Болезнь с первого же дня круто взялась за него. Целый месяц он пролежал в жару и бреду, а под конец месяца начал кашлять. Жестокий недуг поразил не только легкие, но и горло. Он уже едва мог глотать свою скудную пищу. Юное тело Байтуяка было быстро побеждено чахоткой. Он таял, как восковая свеча, угасал.
Сломленный болезнью, он не мог, однако, успокоиться: вся его душа, охваченная гневом против тех, кто безжалостно загубил его жизнь, изливалась в потоке скорбных жалоб и проклятий. Задыхаясь, он поверял свои горькие мысли старой бабушке, день и ночь безмолвно проливавшей слезы у его изголовья, да безутешной матери, вдове Талымды.
Наступил апрель. Но беспощадная зима все еще не выпускала степь из своих ледяных объятий. По-прежнему шел снег и держался мороз. Гладкая, как яйцо, поверхность снегов еще не была тронута таянием.
В хижинах пастухов на Акшокы уже давно вышли дрова. Холод, мучивший Байтуяка на пастбище в январе, преследовал его по пятам. Теперь пастух замерзал в темном углу своей закопченной землянки. Загнав юношу в тупик, стужа добивала его, пробирая дрожью.
Так и угас юный Байтуяк в холодном ознобе, до последнего дыхания не испытав благодатного тепла, о котором тщетно мечтал всю свою короткую жизнь.
Как раз в эти дни одолевала болезнь и Магаша. «Совсем обессилел», «и в чем только душа держится», «скрутил его недуг», «не встанет», — дыханием смерти веяло на родных и близких от этих вестей.
Немного спустя, когда апрель перевалил за половину, мороз отпустил, стало таять.
Забрав у охваченного джутом казахского народа все его достояние, зима уходила. К концу апреля весь снег на Акшокы и Корыке растаял. Открылся путь и к аулу Дильды. С холмов и низин хлынули участливые сородичи и друзья.
Перекочевала сюда и Айгерим, и у нее проводил все свое время Абай. Ближайшие родные — Акылбай и Какитай также выставили здесь свои кибитки. По распоряжению Абая, Дармен и Макен привезли сюда свою малую юрту и в ней принимали приезжих гостей.
Эти ранее обычного выставленные белые юрты предназначались не для праздничного веселья. Это была подготовка к ожидаемому со дня на день печальному событию, нависавшему над людьми, как вот-вот готовая рухнуть скала.
Эти кибитки, поставленные в стороне от других, в дни расставания подавленного горем аула с лучшим из его сыновей, станут домами траура.
После бурного таяния снегов, как только чуть подсохла земля и стало возможно передвигаться пешком, множество людей, обездоленных прошедшей зимой, пришло в движение. Одинокие семьи, целые кочевые аулы, у которых кончилось продовольствие и дрова и вымер последний скот, теперь побрели на все четыре стороны.
Бесконечные вереницы людей: мужчин, женщин, стариков и детей — потянулись к ближайшим аулам, где, по слухам, сохранился хоть какой-нибудь скот, хоть малейший достаток. Те, у кого еще были силы, шли работать задаром, надеясь получить, как подаяние, хоть немного еды, чтобы прокормить голодные семьи.
Иные горемычные вдовы, таща своих ребятишек на спине или за руки, приводили их к родичам, у которых было что поесть, оставляли, а сами уходили прочь. Это была последняя материнская забота, последние попытки спасти своих ребятишек от смерти. Осиротевшие старики и старухи, еле живые от голода и дряхлости, шатаясь и падая, добирались к порогам домов, в очаге которых еще теплился огонь.
Покинувшие свои разоренные гнезда, бедняки бродили взад и вперед по склонам Чингиза, Кыдыра, по долинам Караула, Балапана и Шикорыка.
У кого хватало сил, те, соблазненные слухом, будто там нет голрда, тянулись в города. Пешие изнуренные люди в своем рванье казались живым воплощением самой степи, истощенной нуждой и печалью. Они двигались, как колеблемые ветром тени всенародной беды. За ними шли рассказы о погибших матерях и отцах, осиротевших детях. На окраинах аулов день и ночь раздаются их горестные вопли. Все чаще бросаются в глаза опухшие с голоду лица женщин и стариков.
В каждом дворе валяется падаль: коровы и кони со вздувшимися боками, плоские от худобы верблюды. На яру, на обрывах, возле скотных дворов и кладбищ лежат трупы павших животных. Возле выгонов, на буграх из навоза и золы горкой громоздятся погибшие овцы. Шерсть на них свалялась, торчат обнаженные мослы, тускло поблескивают остекленевшие глаза. Вся эта падаль гниет, заражая воздух зловонием.
Над зимовками реют тучи неумолчно каркающих серых ворон и черных воронов. Рано прилетевшие коршуны и стервятники стаями справляют свой пир.
Богатые аулы, также пострадавшие от джута, но еще сохранившие свой достаток, холодно смотрят на бродяг-бедняков. Показывая на груды дохлых овец, иные баи еще срывают свое сердце на обессилевших стариках и плачущих с голоду матерях с детишками. А скупые байбише с криком проклинают нищих, будто бы они повинны в общей беде!
Даже в аулах, прежде владевших бесчисленными табунами, жизнь уже стала не та. День и ночь считая свои убытки, причитают хозяева: «Наступили богом проклятые дни!», «Настал год с чужим лицом!»
С первых же дней мая из уст в уста пошли гибельные вести: «Такой-то аул из четырехсот коней, отогнанных на пастбище, получил назад только двадцать три», «Три-четыре аула, отправивших в Аягуз косяк в тысячу голов, увидели теперь всего двадцать семь лошадей», «Из всех табунов, которые с начала зимы паслись на землях Уака и Керея, возвратилось только пятьдесят голов».
Пять-шесть табунщиков каждого косяка, часто батрачивших не на одного бая, а нанимаемых целым аулом, расходясь по домам, разносили слухи о разорении.
Говорили о том, что иные табунщики, ушедшие с косяками за Чингиз, в низины Тобыкты, к уакам и кереям, оттуда возвратились пешком, некоторые из них несли на спинах седла, а иные будто бы ослабели и, чтобы нанять себе подводы, продали и седла и шубы и вернулись домой в чем мать родила.
Многие из этих пастухов, в лютые бураны и свирепые морозы не покидавшие байских табунов, тяжело обморозились, а то и вовсе погибли. В богатых аулах не удостаивали и единым словом храбрецов, которые, спасая байское добро, занемогли, подобно Байтуяку, и теперь маялись в тяжком недуге по сырым углам своих нищих землянок.
В эти тяжелые дни и разразилось горе, нависшее тучей над Акшокы, — горе, которого давно ожидали и которому уже покорились.
Дней десять назад Магаш, когда они остались в его комнате вдвоем с отцом, собрав последние силы, попрощался с Абаем. Видимо, он жалел отца, исхудавшего, упавшего духом перед лицом неизбежного. Держа своими прозрачными сухими руками широкую ладонь Абая, тихонько гладя ее, Магаш еле слышно шептал:
— Ага, помните… я вернулся из Алма-Аты… после кончины Абиша… — Утомленный, он тяжело задышал. — Я привез вам тогда привет от акына Джамбула… Из Большого Жуза… Помните?
— Помню, сынок. Еще ты передал мне тогда слова Дата о нем: «Джамбул хоть и неграмотный, но он из тех простых казахов, у кого мудрое сердце и меткое слово…» Почему ты сейчас вспомнил о нем?
— А помните… я привез его стихи… Он же сказал вам… Он о вас говорил, что Абай брат и отец многим плачущим и страждущим… И его печаль — печаль многих… Многие будут рядом с ним… Пусть приходится расставаться с близкими… родными… с народом он никогда не расстанется… Пусть не уединяется в горе… Пусть всегда помнит: родной народ с ним… так сказал Джамбул!
Скупые эти слова Магаш выговорил с трудом, задыхаясь, от времени до времени прерывая свою речь, чтобы отдохнуть, и под конец закашлялся.
Чуткий и мудрый, он прощался с отцом участливым словом Джамбула. Голосом престарелого акына он выразил соболезнование отцу по поводу своей предстоящей кончины.
Абай все понял.
Наклонившись, он прильнул своим широким лицом к лицу умирающего и долго целовал его покрасневшие от слез веки.
— Светик мой! Все, что ты мне сказал, я навсегда сохраню в своей памяти!
С тех пор Магаш начал угасать…
Сегодня Абай с двумя маленькими детишками Магаша и десятилетней дочкой Абиша Рахилей сел пить чай в войлочной юрте Айгерим. Всю ночь поэт вместе с ближайшими родственниками и друзьями не смыкая глаз провел у постели Магаша. Надежды уже не было, люди говорили друг другу: «Не сегодня так завтра…»
Абай словно онемел, но тем горестнее были его мысли, исполненные пламени и льда. Сейчас он сел за стол, но камень лежал у него на сердце, и оно билось неровно, кусок не шел в горло.
Внезапно узорчатая дверь юрты распахнулась настежь и вбежала Злиха, которая плакала, не скрывая своих слез. Всем стало ясно, что она принесла страшную весть.
— Абай-ага, Магашу тяжко… Вас зовут!
Дети, почувствовав недоброе, заплакали в голос. Абай вскочил на ноги с легкостью юноши, накинул было на плечи халат, но тело его била такая крупная дрожь, что халат свалился наземь. Обессилевший, готовый упасть, чувствуя противную слабость в коленях, Абай никак не мог попасть ногами в кебисы.
Айгерим, быстро подхватив его под руку, помогла ему надеть кебисы, подняла и набросила на его плечи халат, сама неудержимо плача и с испугом глядя в неузнаваемо изменившееся лицо Абая.
Ей показалось, что он состарился вот сейчас, у нее на глазах: борода поседела, щеки покрылись восковой бледностью. Страх объял Айгерим. Она никогда не видела на лице мужа такого бессмысленного выражения, такого блуждающего взгляда.
Мысленно повторяя про себя: «Боже мой, сохрани его самого… Абая сохрани, как бы он не помешался!»— бледная, без кровинки в лице, Айгерим побежала вслед за мужем.
Когда Абай вошел в комнату Магаша, мужчины и женщины, сидевшие у кровати больного, пристально глядя ему в лицо, поспешно расступились, пропуская поэта. Все еще дрожа от ужаса, Абай, тяжело дыша, почти упал на край постели умирающего. Глаза его, испугавшие Айгерим, по-прежнему смотрели безжизненно, и из этих широко раскрытых глаз непрерывно катились крупные, словно зерна пшеницы, слезы.
Магаш, почувствовавший, что это отец пришел к нему, сделал ему слабый, едва уловимый знак — чуть-чуть шевеля костенеющими пальцами неподвижно вытянутой правой руки. С уст его вместе с последним дыханием сорвался внятный шепот, достигший ушей Абая:
— Отец… вот он… мир… — И дыхание оборвалось. Магаш отошел.
Все находящиеся в комнате громко зарыдали, плач распространялся по дому, а затем все дальше и дальше — по всему Большому аулу, — как говорится, вся земля наполнилась печалью: седобородые мужчины, морщинистые старушки, цветущие женщины и малые дети, обливаясь слезами, громко причитали: «Магаш мой», «Магатай!», «Родной, сила моя!», «Братец мой!», «Брат мой!».
Эти привычные слова были языком сердечной кручины, они текли неудержимо, как слезы из глаз. Теперь, когда все кругом вопили и плакали, Абай впал в невменяемое состояние. Он не проронил ни одного слова, ни одного вскрика — молчал, как немой. Только из неподвижных, широко открытых глаз глядел ужас да непрерывно лились слезы, то медленные, крупные, как горох, то сплошным, внезапно хлынувшим потоком.
Теперь, если кто-нибудь поддерживая поднимет его с места, — он встанет; поведут — пойдет, не спрашивая куда; посадят — сядет, безмолвный и покорный.
На поминки Магаша собралось множество народу. Семь дней над аулом стояли плач и стенания.
В эти дни спешно приехавшие родичи Кунанбаевых, иргизбаевцы, составляли особые группы плакальщиков. Старики и молодежь Иргизбая, опираясь на длинные белые посохи, сгибаясь, как бы под непосильным бременем горя, и непрерывно причитая, встречали всех людей, родных и чужих, кто приезжал читать молитвы над покойным.
Первые три дня среди длинного ряда плакальщиков, опирающихся на белые посохи, находился и Абай, которого с двух сторон поддерживали Дармен и Какитай. Вспомнив без особых приглашений о том, что «родичи должны быть вместе в дни скорби и в дни торжества», явились выполнить свой долг и занять свое место в ряду горюющих и Такежан с Азимбаем. Грузно опираясь на толстые белые палки, они также стояли здесь с поникшими головами.
И другие родственники вроде Шубара, стараясь держаться поближе к Абаю, от времени до времени, старательно выжимая слезы из глаз, особенно громко поднимают плачущие свои голоса. Среди пожилых женщин аула в Большой юрте, выражая свои соболезнования Дильде, пребывают жены Такежана — Каражан и Зейнеп, с грозным видом восседает байбише Исхака — толстая Манике. Здесь можно увидеть и Нурганым, которая располнела, отяжелела и, видимо, сама уже начинает ощущать свой возраст.
Испокон веков существует обычай в народе, чтобы все близкие умершего скакали к его аулу с громкими возгласами: «Ой, родич мой!»— и, доскакав, не слезали бы даже, а просто падали с коня. К ним навстречу выбегают молодые жигиты, подхватывая и поддерживая их. Другие жигиты под руки провожают приезжающих к мужчинам, стоящим за аулом, чтобы они поздоровались, обходя всех поочередно. После этого те же жигиты ведут их к Большой юрте здороваться с женщинами, которые сидят там в трауре, оплакивая усопшего. Внутрь этой юрты приезжего вводят обычно служанки или плакальщицы-молодухи.
На похороны Магаша собралось очень много людей, поэтому вблизи от зимовки, где он скончался, было воздвигнуто множество новых белых юрт. Они были привезены не только из аула Абая, но и из всех ближайших селений Акшокы и Корыка. Здесь были кибитки и для гостей и для приготовления пищи.
Бесчисленных людей, приезжавших на похороны и на поминки и желавших переночевать, либо пополдничать, родичи умершего разводили угощать по своим юртам, вмещавшим по двадцать-тридцать человек.
До семидневных поминок по Магашу Каражан, Манике, Нурганым, Акылбай, Шубар и все «благорасположенные» к покойному родичи принимали гостей на свой счет, в своих специально для этого выставленных кибитках. Состоятельные сородичи Иргизбая и Олжая встретили смерть Магаша и справили его похороны как полагается. Делали все, что обычно принято делать на похоронах уважаемого лица.
Однако в одном эти похороны отличались от многих других.
Оплакивать покойного хлынули толпы оборванных бедняков. У кого еще остались кони, приезжали на конях. У кого была хоть какая-нибудь еда, приносили ее с собой. У кого не было ничего, тот шел пешком с пустыми руками. Нескончаемой вереницей тянулись люди в изношенных шубах, в рваных чекменях и стоптанных сапогах, люди с изнуренными, морщинистыми лицами. Выходцы из разных родов, многие из них раньше лично встречались с Абаем или Магашем, это были жатаки, ремесленники, труженики города и степи, окончательно обнищавшие от джута, лишившиеся последнего достатка, дряхлые старики, мужчины и женщины зрелых лет, жигиты-работники и пастухи — все они, обливаясь слезами, пешком тянулись к траурным юртам аула. Не обращаясь ни к кому другому, они обнимали только Абая.
Хотя и был траур, но темные мысли и мелочные соображения никогда не покидали Азимбая и Шубара, и они вслух осуждали бедняков:
— Под видом сочувствия подбираются, к еде, на подаяние рассчитывают! — говорили они с холодной насмешкой, глядя на плачущих людей.
Но Абай верил, что именно эти бедняки искренне разделяют его горе. Эти безвестные люди стояли особняком от гордых сородичей, кунанбаевцев и иргизбаевцев. Им есть о чем плакать и сокрушаться, и это понимают только два человека из всего многолюдного сборища: Абай и Дармен.
Весь простой народ в трауре, а потому он нелицемерно плачет сегодня с Абаем. Три беды, три тяжелых невзгоды тому причиной.
Первая беда — зима большого джута, доконавшая простой народ. Умершие с голоду матери и отцы, опухшие дети, иссякшие силы — все это исторгает слезы из их глаз.
Вторая невзгода — горе Абая, которого с болью сердечной, от всей своей широкой души жалеет народ. Не этих, картинно опирающихся на белые палки спесивых кунанбаевцев и иргизбаевцев, — народ печалится не с ними и не о них. Об отцовской утрате Абая плачет он нынче кровавыми слезами.
И третья беда — смерть самого Магаша. Хоть и мало он прожил, хоть и не кичился перед людьми многочисленными своими делами и заботами о ближнем, но в нем народ видел свою надежду. С его уходом уходила и эта надежда, рушилась ее опора.
Да, у простых людей, приходящих плакать с Абаем, было о чем горевать! К человеку, другу народа и сыну народа, пришел народ, чтобы кручиниться вместе об общих утратах.
Из густой толпы рыдающих бедняков вышел Даулеткельди. Громко плача, он с раскрытыми объятиями приблизился к Абаю и в отчаянии воскликнул:
— О благородный брат мой, Абай-ага! Как посмею отдать тебя жестокой смерти!
И эта встреча, этот плач друга вдруг круто изменили состояние Абая! Он перестал видеть смерть Магаша: все, что происходило вокруг, было его собственной кончиной. И Даулеткельди оплакивал его самого. «Да, так оно и есть… Это правда… Я должен умереть… Вот это все и есть моя смерть». Эта мысль произвела в Абае разительную перемену. Его слезы мгновенно высохли. Он больше не плакал.
Перед ним совершались его собственные поминки. На всех людей и на жизнь вокруг он смотрит глазами отошедшего, глазами человека, дыхание которого прекратилось. Теперь он совсем замолк.
Душа его сдалась, перестала бороться… Одно неотвязное видение перед ним, одна нескончаемая мысль в голове: «Народ плачет. Жизнь ушла, прошла. Эти слезы — о моем уходе».
Он поддался горю, горе отняло у него силы. Его разум меркнет. Минуты прсветления сменяются мраком. Ни одной душе не говорит он о том, что открылось ему в минуту встречи с Даулеткельди.
У Дармена мысль о гибели Магаша неразрывно связывалась со скорьбью Абая, с представлением об утрате, понесенной народом. Конечно, тяжелый недуг Магаша давно приучил всех окружающих к неизбежности его конца. Жестокое горе, хочешь не хочешь, заставляет человека смириться подобно тому, как опытный всадник, взнуздав, подчиняет себе необъезженного коня.
Но Дармен не мог и не хотел смириться с кончиной Магаша: вместе с ним рушился целый мир, оставляя по себе зияющую пропасть. Отрешенный в этом сознании от окружающих людей, Дармен все глубже и глубже погружался в печаль. Только с неразлучным другом — Макен делился он своею тоской в бессонные, бесконечные ночи.
— Так вот он каков, этот мир, мир предательства и потерь! Что же, так и все мы исчезнем бесследно? Такова судьба прекрасного и безобразного в нем? Неужели вчера еще казавшийся вечным широкий простор вселенной так вот и растает перед нашими очами, полными слез, безвозвратно уйдет в небытие?
И рядом с ушедшим Магашем перед мысленным взором израненного горем Дармена неотрывно стоит отец — Абай, пребывающий между бытием и смертью, а за ним и друг — народ, голый, голодный и нищий, со стонами бредущий по неоглядным пространствам степи. Их горе — общее горе, их слезы — общие слезы, один и тот же яд сжигает их души.
Это не тот народ, которого обычно изображают Азимбаи и Шубар своекорыстным и жадным, норовящим выманить, выпросить что-то у согбенного горем Абая.
Нет, это щедрый отец, который пришел к любимому сыну, чтобы в дни его тяжкой кручины отдать ему самое дорогое, что есть, — неподкупные свои слезы.
После семидневных поминок по Магашу наступила пора откочевки на летние пастбища. Аулы, находившиеся на Акшокы, тронулись к исконным урочищам Тобыкты — Ши и Чингизу. Опять, как и в первые дни после кончины Магаша, хлынули люди оплакивать его.
На двенадцатый день Какитай и Дармен после долгих колебаний решились сообщить Абаю еще одну скорбную весть.
В эту весну два верных спутника всей жизни Абая, Ербол и Базаралы, два до последнего дыхания преданных ему друга, тоже скончались. Сперва голодный тиф свалил Ербола. Услышав об этом, Базаралы пришел к нему и десять дней ухаживал за ним. В час смерти друга, прощаясь, он держал его голову на своих коленях.
Была пора, когда между аулами не было никакого сообщения, да и народ был изнурен голодом, поэтому, широко не оповещая о смерти Ербола, его хоронили только самые близкие родственники и друзья.
Как раз в эти дни, сидя около усопшего, Базаралы почувствовал, что и сам он тоже заболел. Стиснув зубы и собрав всю свою богатырскую волю, Базаралы преодолевал тяжелый недуг и продолжал распоряжаться похоронами.
В тот же день, приехав домой, он свалился. Его тело горело огнем. Только три дня сопротивлялось его ослабевшее, усталое сердце. Не успели даже самые близкие люди узнать о его болезни, как Базаралы скончался.
Услышав о новой потере, Абай вышел внезапно из своего безразличного состояния и громко зарыдал. Долгое время он не мог остановиться. Дух его рухнул, ему казалось, что его неудержимо влечет в бездонную пропасть. Долгие дни охваченный ядовитой, немой скорбью, в этот миг он пожелал в последний раз излить свою горечь словами.
— Кругом ограблен я жизнью! Стою одинокий, как могила шамана. Кто у меня есть и что мне осталось? — преодолевая многодневную свою немоту, зашептал Абай невнятно. — О злосчастное время мое, какой толькой пыткой ты меня не терзало?.. Есть ли еще яд, коего я не отведал?.. Смотрите в сердце мое, есть ли живое место на нем?.. В чем вина моя, тяжкий грех, чтобы так страдать безысходно?.. Или много мне и того, что все еще бьется печальное мое сердце? — Горькие мысли, пробуждаясь в нем, пробуждали и его самого…
Какитай, не выдержав муки Абая, заплакал и, чтобы скрыть свои слезы, выбежал вон из юрты. Рядом с Абаем остался один Дармен, который не сводил с него глаз, пристально следя за каждым его движением. А Абай продолжал, все глубже погружаясь в свою печаль.
— В безлюдной и бездорожной степи росло одинокое дерево. Оно жило многие месяцы, долгие годы. С надеждой и радостью раскрывало оно свои листья навстречу каждой весне… Каждый год цвело оно, и цветы опадали, а семена его ветер уносил в широкий мир… Много раз желтели, сохли и облетали его листья. Но дерево жило и плодоносило вновь и вновь. Но вот однажды молния ударила в одинокое дерево и расщепила его. Огонь опалил его ветви, уничтожил листья и семена. Поверженное, обугленное, сухое, оно обратилось к высокому синему небу: «Чем виновато я и перед кем? Разве я растило и сеяло зло и беду? Вот настала кончина моя, только ты было ее свидетелем, и к тебе мое слово. Ты видело и расцвет мой и гибель мою. Необъятное, отвечай! Пусть я умру, но останется ли жить потомство мое? Взошла ли юная поросль от семян моих, которые ежегодно уносил ветер? Хоть одно из них прорастет ли на дне оврага, потянется ли к небу молодою своей вершиной и, когда придет срок, отдаст ли земле плоды свои? В каком краю и в какие времена зашумят листвою сады мои, осеняя цветущие луга? Будет ли петь на ветвях от семени моего рожденных деревьев сладкогласый соловей, воспевая вечное цветение? В тени садов моих созреет ли новая пора счастливой жизни?! — Так, озаренный внезапно вспыхнувшим вдохновением, говорил поэт со своей судьбой. И так же внезапно умолк.
Оплакав дорогих ему людей высоким поэтическим словом своим, он снова впал в свой непонятный недуг. Дармен рассказал обо всем Айгерим:
— Боюсь, что в последний раз раскрывал нам Абай-ага великую душу! — И он поднес дрожащуя ладонь к глазам, мокрым от слез, которых он и не замечал.
Только передавая близким сказанное Абаем, Дармен вдруг начал по-настоящему постигать глубокий смысл его слов. Они раскрывались перед Дарменом, как песня всей жизни Абая, родившаяся в час смертельной борьбы в его потрясенной груди. А может быть, она слагалась годами, копилась по капле на самом дне его великого сердца, и ее появление на свет знаменовало собою второе рождение поэта? Пусть переданные прозой, даже в изложении самого Дармена, который мог ведь что-то и упустить, эти строки были так новы, так необычайны! Они превосходили все, что было создано Абаем до сих пор, исполненные истинного изящества зрелой мысли, подобные крупному жемчугу, извлеченному взволнованным морем из самой глубины бездонной пучины. В этих словах, как в слитке драгоценного металла, сгустился смысл высокой и самоотверженной жизни поэта и гражданина.
И, становясь соучастником вдохновенной скорби Абая, Дармен видел в нем самом это гигантское плодоносное дерево, всю свою жизнь щедро рассеивающее свои бесчисленные семена в открытых просторах голой степи.
Когда обратил могучий чинар свой дерзновенный вопрос к небу? В дни, когда молния сожгла его последние цветущие ветви, когда обнаженным остался его ствол. Только тогда изрек поэт свою грозную жалобу и свой приговор. Только три прекрасные ветви оставались еще у него. Первая — сын и поэт Магаш; вторая — любимец народа и друг Базаралы; третья — ровесник, от юных дней ставший родней всех родных, за всю жизнь не причинивший и тени огорчения, — светлый Ербол. Когда разом не стало их троих, чистым пламенем вспыхнуло сердце Абая и осветило мгновенно высокий его дух.
Дармен понял: своим вдохновенным словом Абай прощался навсегда, как друг, отец, гражданин и поэт с самыми близкими ему: Магашем, Ерболом и Базаралы.
Глубоко постигая, как только может постичь поэт поэта, образ, созданный Абаем, ясно увидев, что жизненный путь его названного отца окончен, Дармен впал в безутешное горе.
Абай теперь общается только с самыми близкими ему: Айгерим, Дарменом и Баймагамбетом. Они его одевают, сами приводят к столу и кладут ему пищу, но он почти ничего не ест. Если его выводят из дому, он беспрекословно, как малое дитя, подчиняется этим троим, покорно идет за ними. А эти трое — день и ночь неотрывно при нем, день и ночь в тревоге за него — поддерживают друг друга, делятся своими горестями, своими опасениями за Абая.
Когда пришло время кочевью уходить далеко от зимовки на Акшокы, люди потянулись к могиле Магаша, чтобы с ним попрощаться. Пришел туда и Абай с Баймагамбетом и маленькими сиротами усопшего. Он подождал, когда мужчины и женщины, заполнявшие ограду, уйдут, и вошел с детьми в надгробный мавзолей. Немного посидев вместе со всеми, он молча сделал знак Баймагамбету увести ребят. Посадив детишек в повозку, Баймагамбет терпеливо ждал. Два часа неподвижно просидел Абай у свежей могилы сына. Когда уже перед вечером он вышел на вольный свет, борода у него была совершенно белой, лицо землистого цвета, все тело расслабленное, изнуренное, словно он не сидел на одном месте, а пахал землю. Обратившись к Баймагамбету, он сказал коротко:
— Дни мои сочтены, нет мне исцеления, не считайте меня в живых.
Когда племянник или сын, Какитай или Акылбай, настаивали на том, чтобы привезти к нему доктора, Абай, отчужденно глянув на них, отрицательно качал головой. Он уже не нуждается во врачах. Все ночи напролет он лежит без сна. Лишь изредка произносит он одно-два бессвязных слова и вновь умолкает.
Три дня Айгерим, обливаясь горючими слезами, допытывалась у него: «Что с вами случилось?», «Что с вами, дорогой мой, мой сердечный?» Абай ничего не отвечал и ей. Только однажды поднял руку и ласково провел по ее голове, по лицу, по плечам.
Потом он тихонько поцеловал ее в глаза, из которых непрерывно лились слезы, и, как бы моля: «Ни слова больше», — сделал ладонью знак запрета. Абаю казалось, что мир раскалывается, рушится в хаосе.
Народ изнурен голодом, гибнет. Степные люди бродят без цели и без пристанища. То множество, которое именуется «народом», — самое святое для Абая, — разбрелось, рассеялось, перестало существовать. Надломилась опора жизни Абая — ушел Магаш. И сам он, Абай и его бытие, все обветшало, рассыпалось в прах. День за днем одна за другой покидают его душевные силы и способности.
Соответственно этому и тело его увядает, силы уходят, жизнь его изношена дотла. Многого он уже не чувствует. Его сознание как бы в дремоте, он не воспринимает того, что происходит вокруг. Поэтому и сон ему не нужен, еда тоже не нужна. У него нет слов, и как будто бы нет мысли.
Радость и горе, добро и зло, день и ночь становятся неразличимыми, сливаются в сплошной мрак.
И последними проблесками сознания он ощущает свое бытие изъятым из живой жизни других людей. Он снова плывет один в мутной, холодной, бездонной воде. И снова нет ей ни конца ни края. Только вдали, у небесной черты, едва различимая глазом, высится во мраке черная гора. А за ней — чуть приметная — занимается золотая заря. Она еще только едва брезжит, но чудится Абаю, что медленно и неуклонно разрастаясь, она уже приподнимает край ночи — вот-вот ослепительные лучи ее хлынут потоком и победят мглу. Всем существом своим устремляется Абай к этой далекой золотой заре, как к земле обетованной. А окружающий его холодный грозный мир влечет к себе, влечет в бездонную мутную пучину, где он должен угаснуть; утонуть, погибнуть. До последнего вздоха стояла перед глазами Абая далекая гора, за которой занимался рассвет, и он плыл, плыл к ней, напрягая последние силы. Так в густом сером тумане холодной предутренней поры великая душа поэта покинула мир. Абай отошел на следующий день, после сорокадневных поминок по Магашу.
Горячее биение большого сердца остановилось. Благородная жизнь, подобная обильной реке, несущей свои животворные воды через иссыхающую от жажады пустынную степь, иссякла. Могучий чинар, одиноко выросший на голой каменистой земле и поднявший вершину свою в сверкающую высь, рухнул!
Эпилог
Приближалась осень. Возвращаясь с летних пастбищ, кочевые караваны снова перевалили Чингиз и потянулись один за другим в долины. На земле, где некогда родился Абай, на стоянке аула его матери, неподалеку от зимовки Жидебай, выросли высокие травы, настало время косить. Степь кругом пожелтела, одинокая возвышенность Ортена густо заросла седым ковылем, ее выгоревшие склоны побурели. Унылый вид увядающей природы представал образом обветшалого мира, напоминая о горестях минувших времен..
Эта желтая равнина говорит о горькой печали, о тяжком недуге края, иссохшего от жестоких бедствий и скорбных дум. Тихий ветер беспрерывно волнует ковыль, раскачивает густой чий, колышет зеленую траву Жидебая, низко пригибая их к земле — все в одну сторону, на север. Мягкий ветерок, непрерывно дувший с Чингиза, в теплые дни шел обыкновенно с юга.
Последние дни на опустевшем, безлюдном Жидебае, тихо дремавшем в забытьи, единственным живым движением было это непрестанное колыхание трав. Некогда здесь, на Жидебае, под крылышком старой бабушки Зере и доброй матери Улжан счастливо и беспечно, как маленький жеребенок, рос мальчик Абай. На этих каменистых бугорках и прогалинах, окруженных густыми зарослями высокого чия, он играл и резвился.
Теперь на склоне большого холма, к востоку от зимовки, возник просторный и высокий четырехугольный мавзолей, видимо, воздвигнутый недавно. Внутри, в левом его углу, находится старое высокое надгробие. Поверхность его выветрилась, но грани углов сохранились. На камне начертано имя Оспана. В середине лета возле могилы Оспана появилось еще одно новое, такое же высокое надгробие — здесь похоронен Абай.
Сегодня эти могилы посетили кочующие караваны многих аулов. С утра здесь побывало множество народа: матери и отцы, едущие во главе кочевья, ребятишки, скачущие на двухлетках-стригунах, пастухи и батраки, перегоняющие стада, — никто не прошел мимо.
После полудня к могилам потянулось все население аула Абая: мужчины и женщины, старики и молодые. Верхом, на телегах, а то и пешком — густой человеческий поток хлынул к мавзолею.
Просторный четырехугольный могильник, прохладный и обширный, начисто вытоптанный двор до отказа заполнились навзрыд плачущими людьми. Уже столько горючих слез было пролито со дня смерти Абая, столько высказано бессвязных, из сердца исторгнутых возгласов скорби и причитаний, что настала теперь пора родиться у этой могилы настоящему песенному слову об ушедшем, достойному его высокой жизни.
Когда рыдания людей, оплакивающих Абая, начали утихать, какая-то пожилая женщина громким и скорбным голосом завела поминальный плач. Отчетливо слышные всем, неоднократно повторялись в ее песне два слова: «Кос коныр, кос коныр» (двое смуглых).
— Кто это? Чей голос заводил плач? — спрашивали стоящие у входа пожилые люди.
Им отвечали:
— Зейнеп.
А женщины помоложе, оборачивались назад, шептали:
— Мулла-апа.
Зейнеп училась мусульманской грамоте. Она сама сложила свою песню, исполненную глубокой печали. «Двое смуглых» — так величала она своего давно умершего мужа Оспана и лежащего рядом любимого брата его, Абая. И, внимая скорбному голосу Зейнеп, люди долго и молча плакали.
Затем, когда стала утихать ее песнь, впереди, у самой могилы Абая, возник новый, необычайно мягкий, сильный высокий голос, который струился серебряными переливами. Это плакала прекрасная супруга Абая Айгерим, которую он любил всю жизнь, любил преданно и восхищенно. Долгое время молчавшая, эта удивительная певица теперь отдавала всю свою душу и все свое мастерство вдохновенной песне скорби.
В этой песне прощания были новые светлые думы, в ней было свое печальное изящество, доселе незнакомое слушателям. И слова ее были свежими, иными, не похожими на те, что произносились в поминальных плачах обычно.
Эти слова сложил Дармен, а волнующий грустью протяжный напев родился в сердце самой Айгерим. И эта вдохновенная песнь, которую без слез, чистым и ясным своим голосом пела Айгерим у могилы Абая перед лицом его родного народа, была не просто причитанием об ушедшем, одним из тех, что во множестве посвящались ему ежедневно. В ней дар поэтического слова слился со стихией прекрасной музыки. Соединившись вместе, сородичи сердца воздвигали поэту бессмертный памятник искусства.
То, что произносила сейчас Айгерим, никто еще и никогда не говорил об Абае. Устами его верной супруги сын народа Дармен обращался к Абаю от имени всего народа.
«Чем дорог народу Абай, за что его чтут люди? Его словами плакали обездоленные, горемычные матери. Его мыслями вооружались доблестные мужи. Его голосом молодежь говорила с будущим, отрекаясь от зла прошедшего, устремляясь к светлой надежде грядущего. Потому-то — не умер Абай!
Подумайте, можно ли сказать о нем: его больше нет? Может ли умереть, бесследно исчезнуть тот, кто оставил после себя бессмертное слово? «Великий человек, обращавший взоры свои в золотую высь, никогда не умрет, — говорил ты, Абай-ага. Пока будет жива на земле хоть единственная душа, дочь или сын народа твоего, в нем будешь жить и ты! — Впереди, у небесной черты, забрезжил рассвет», — говорил ты. — Значит, в нем разгорается и твой свет, в нем будешь и ты! Нет, народ благодарный твой смерти тебя не отдаст!
Когда с жалобным криком на Жидебае ты появился, чтобы жить, мать твоя Улжан под защиту тебя взяла. Это одна твоя мать — мир праху ее!
Сегодня приемлет, как сына, тебя другая бессмертная мать. Отчизна в далекую, светлую жизнь, в бессмертье тебя уведет. Есть дух, над которым смерть не властна. Такая душа у тебя!»
Так пела Айгерим у свежей могилы Абая, утверждая неувядаемую, вечную жизнь его в народе.
Чудесный голос скорбной певицы возводил прекрасный купол над гробом поэта. Песня трепетала, как белоснежные крылья лебедя, парящего в бездонной синеве неба, сверкающего золотом солнечных лучей. Не взмахи ли крыльев благородной птицы веют над склоненными головами людей? Не ее ли прощальная песнь раздается в сердцах плачущих? Тот, в чью душу вошла эта вдохновенная красота, сохранит ее в памяти на всю жизнь.
Так, в скорбный час расставания была спета последняя песня Айгерим. Вместе с этой песней навсегда замерли звуки прекрасного голоса, некогда опьянявшего Абая.
Печальная душа высокого искусства Айгерим угасла у могилы Абая, вместе с ним отошла в небытие. Если, по собственным словам ее, вместе с Абаем ушла из ее объятий любовь, то вместе с ним угасла в ее сердце искра песенного дара. Серебряный чудный голос певицы навеки замолк у нее в груди. Больше она никогда не пела. Потрясенный и бледный Дармен не сводил глаз с могилы Абая. Рядом с ним плакал сын Даркембая, взрослый юноша Рахим, а за ним теснились Усен, Мурат и Шакет, некогда желанные маленькие гости Абая.
И, чувствуя на себе их горячее дыхание, Дармен давал ушедшему пламенный обет: «Как золотой клад, буду беречь оставленные вами ростки будущего, отец… Драгоценные ваши семена». Он ни на минуту не забывал о последнем вдохновенном слове Абая, в тоске вопрошавшего безмолвное небо о судьбе рассеянных им по свету зерен грядущего… Теперь Дармен понял, что это было самой глубокой и важной тайной всей жизни Абая… Слушая Айгерим, Дармен мысленно искал ответа на страстную мольбу поэта.
«Нет, не погибнет твое семя, высокочтимый отец! Твоя жизнь не пройдет бесследно. Пусть сейчас еще нет широкошумной рощи, осеняющей цветущие луга, но по всей беспредельной шири степей рассеяны и взойдут твои семена, взрастут во множестве в невиданном доселе цветении. Они будут расти ввысь, укрепляясь с годами… Ради этого всю свою жизнь до самой смерти клянусь я беречь и лелеять драгоценные твои слова… Я оправдаю заботу твою, дорогой отец!»
Так в песне-плаче верной своей подруги Абай вступил в бессмертие. Песня Айгерим и произнесенные ее устами слова Дармена стали началом нового искусства, возникшего после Абая. Потому-то в этой песне и совершилось его второе рождение.
И как бы для того, чтобы засвидетельствовать это, к его могиле стекались все новые и новые люди из многочисленных кочевых караванов. Удрученные своей печалью, погруженные в свои мысли, Айгерим, Дармен и юные друзья Абая — семипалатинские школьники не заметили, как росла толпа у них за спиной.
Отцы и матери — бессмертный народ — принимали новое рождение Абая.
Примечания
1
А г а — обычное у казахов обращение к старшим мужчинам, близкое по смыслу русскому «дядя», но без обозначения родственной близости. (Ударение, как во всех казахских словах, — на конце: ага.)
(обратно)2
Суюнши — подарок в награду за радостное известие.
(обратно)3
Жигитек — название рода, находившегося в состоянии постоянной вражды с родом Абая — Иргизбаем.
(обратно)4
Д ж у т — стихийное бедствие, когда в суровые зимы скот не может добыть подножный корм из-под сугробов снега или корки гололедицы и гибнет.
(обратно)5
Женеше — почтительное обращение к жене старшего брата.
(обратно)6
То есть настал радостный день.
(обратно)7
Аткаминеры (буквально: всадники) — старейшины родов и влиятельные богачи, разъезжавшие по аулам и вершившие степные дела.
(обратно)8
Елюбасы — лица, выбранные аульным сходом по одному на пятьдесят семейств. Елюбасы на волостном сборе выбирали нового управителя, а также биев (судей). В елюбасы попадали лишь люди зажиточные и влиятельные.
(обратно)9
В административном отношении — по «Временному положению» 1868 года, введенному царским правительством для управления Казахской степью, — волость делилась по признаку общности территории кочевки на такие аулы, объединявшие от 80 до 100 хозяйств. Во главе административного аула стоял аульный старшина, назначенный волостным управителем.
(обратно)10
М а з а р — надгробное сооружение.
(обратно)11
А б ы з — предсказатель, пророк.
(обратно)12
По обычаю, Б о л ь ш о й а у л, то есть значительнейшую долю скота и имущества, наследовал младший сын.
(обратно)13
Онка — бабка, вставшая после удара битком неправильно — основанием кверху.
(обратно)14
Имя Кунту буквально означает: взойди, солнце!
(обратно)15
Т у л п а р — легендарный крылатый конь.
(обратно)16
Ж а т а к и — люди, охраняющие зимовье и обслуживающие его постройки: обычно это были бедняки, не имевшие своего скота. Жили на зимовьях безвыездно, не уходя в летние кочевья.
(обратно)17
Кияспай — упрямец.
(обратно)18
Байбише — первая жена, главная хозяйка.
(обратно)19
С о и л — длинная, утолщенная к концу березовая палка, употребляемая в конном бою.
(обратно)20
Звуки «ф» и «в» не свойственны казахскому языку. Поэтому русские имена и фамилии искажались: Казансып (Казанцев), Педот (Федот), Лермонтып (Лермонтов) и т. д.
(обратно)21
Шокпар — дубинка для конного боя.
(обратно)22
Аксакалы и карасакалы — дословно: белобородые и чернобородые, то есть люди преклонного и зрелого возраста.
(обратно)23
К ш и — а п а младшая мать (обращение к младшим женам отца).
(обратно)24
Апа — мама.
(обратно)25
Джин — бес, злой дух.
(обратно)26
Борбасар — волкодав.
(обратно)27
Корер — зоркий.
(обратно)28
К о к — ш о л а к — «серый-куцый» — так в казахских сказках зовется волк.
(обратно)29
Шолпы — серебряные украшения в косах молодых женщин и девушек.
(обратно)30
Кимешек — головной убор замужней женщины, большой белый платок с вырезом для лица.
(обратно)31
Жели — веревка, протянутая между вбитыми в землю кольями, для привязи жеребят-сосунков.
(обратно)32
Каргибау — подарок родителей жениха родителям невесты в день первого сговора.
(обратно)33
Тостик — герой казахской сказки, попавший в подземное царство и нашедший там после долгих приключений красавицу невесту.
(обратно)34
Средний Жуз — казахская Средняя Орда, населявшая юг нынешней Семипалатинской области.
(обратно)35
К у я н г — ревматизм.
(обратно)36
А р и-айдай бойдай-т а л а й — обычный припев казахских песен, вроде русского «ай-люли».
(обратно)37
«Белый козленок» — творог со сливками.
(обратно)38
С ы б а г а — угощение, особо припасенное для уважаемых лиц.
(обратно)39
То есть потребует невозможного.
(обратно)40
К о ж е — суп из пшена или из толченой пшеницы, подбеленный молоком, — пища бедных семейств.
(обратно)41
Т а л к а н — жареная пшеница, растолченная в порошок.
(обратно)42
Так казахи называли русских женщин, выговаривая по-своему слово «матушка».
(обратно)43
«М е н и к и — с е н и к и» — мое-твое.
(обратно)44
Ж е т ы с у — казахское название Семиречья.
(обратно)45
А р х а р — горный баран.
(обратно)46
Жаман — плохо.
(обратно)47
Жалкау — ленивый.
(обратно)48
Б о к а н — подпорка внутри юрты.
(обратно)49
А й р ы л м а с — не разъединяйся! — обычный клич во время боя.
(обратно)50
А к т а б а н ш у б ы р ы н д ы — буквально: «Великое бедствие перехода босиком». Под этим названием известно переселение казахов с берегов Сыр-Дарьи в северные степи Арка в XXYIII веке под натиском джунгар, когда большую часть пути народ прошел пешком.
(обратно)51
А м е н г е р — родственник умершего жениха или мужа, по обычаю адата имеющий право взять в жены оставшуюся после него невесту или вдову.
(обратно)52
А с — большой, торжественный поминальный пир.
(обратно)53
Тюре — начальник.
(обратно)54
Ерулик — угощение по случаю прибытия аула на новую стоянку, чаще всего — на летнюю, жайляу.
(обратно)55
То есть у мужчин.
(обратно)56
С у й е м и к а р ы с — меры длины вроде русской «четверти»: суйем — расстояние между концами большого и указательного пальцев, карыс — большого и среднего.
(обратно)57
Г р я з ь — по казахски «сор»; это слово означает бедствие.
(обратно)58
Шербешнай — так произносили казахи слова «чрезвычайный съезд».
(обратно)59
О я з — начальник.
(обратно)60
По старинному поверию казахов, если врагу бросить в спину горсть земли, он больше не возвратится.
(обратно)61
Таксыр — начальник.
(обратно)62
К е б и с ы — кожаные калоши.
(обратно)63
Ж а т а к — бедняк, не кочующий вследствие отсутствия тягла, а живущий оседло.
(обратно)64
Шарши — головной платок.
(обратно)65
Т ы м а к — мужская теплая шапка.
(обратно)66
А л ы п с а т а р — перекупщик.
(обратно)67
Ласкательное от Магрифа.
(обратно)68
Забедейши — пристав.
(обратно)69
Х а л ь ф е — окончившие медресе ученые богословы, из них избираются имамы.
(обратно)70
К а р и — духовное лицо, заучившее наизусть весь текст корана.
(обратно)71
М у э д з и н — служитель мечети, призывающий с минарета мусульман на молитву.
(обратно)72
Ф и д и я — отпущение грехов.
(обратно)73
Х а т ы м — поминальная молитва.
(обратно)74
А й т — мусульманские годичные праздники: рамазан-айт, крбан-айт.
(обратно)75
Х а з р е т — святой. Старшее духовное лицо в мечети.
(обратно)76
Прости, господи.
(обратно)77
Первая строка молитвы.
(обратно)78
Макам — манера чтения.
(обратно)79
Слова молитвы.
(обратно)80
Кауман — общество; калан — слово. Сказав одно слово вместо другого, священнослужитель искажает священный текст, что считается у мусульман страшным грехом и позором.
(обратно)81
Великий боже.
(обратно)82
Свод молитв.
(обратно)83
Ж а м а г а т — миряне.
(обратно)84
М и н б е р — возвышение.
(обратно)85
А б у-л ь-А л ь-М а а р р и — классик арабской литературы X–XI вв.
(обратно)86
Эфенди — господин.
(обратно)87
К у м г а н — кувшин.
(обратно)88
Толмач — переводчик.
(обратно)89
Женге — невестка, почтительное обращение к жене старшего.
(обратно)90
К а л я п у ш — расшитая жемчужным бисером, маленькая бархатная шапочка татарки.
(обратно)91
Т а х и я — тюбетейка.
(обратно)92
К а л ф а к — круглая, вышитая бисером женская шапочка, надевающаяся на лоб.
(обратно)93
М а х ш а р — судный день.
(обратно)94
Б а р а б а й — паровая мельница.
(обратно)95
К е р е й — название рода. Во имя аллаха.
(обратно)96
Во имя аллаха.
(обратно)97
Дивана — юродивый.
(обратно)98
Ж а й н а м а з — вышитое полотенце, подстилаемое молящимися.
(обратно)99
Хорошо, хорошо, очень хорошо.
(обратно)100
Нет бога, кроме бога.
(обратно)101
Наваждение.
(обратно)102
О х о т ш и — полицейские, обходчики.
(обратно)103
Д а г у а — заключение.
(обратно)104
Перевод Я. Смелякова.
(обратно)105
Ж а р а п а з а н — нечто вроде колядок.
(обратно)106
Перевод Я. Смелякова.
(обратно)107
Ж е с и р — девушка или женщина, за которую выплачен калым и которая становится собственностью рода, за нее заплатившего.
(обратно)108
Н а с ы б а й — жевательный табак.
(обратно)109
Десятирублевые ассигнации.
(обратно)110
Зиндан — темница, вырытая в земле.
(обратно)111
Т у н д и к — верхнее покрывало юрты.
(обратно)112
Т у ы р л ы к — нижнее покрывало юрты.
(обратно)113
Т о р ь — почетное место.
(обратно)114
Аза — особое приношение после смерти близкого человека.
(обратно)115
Дакен — почтительная сокращенная форма от имени Даркембай.
(обратно)116
Перевод Я. Смелякова.
(обратно)117
Перевод Я. Смелякова.
(обратно)118
В переносном смысле подкупить, подарив жирного коня.
(обратно)119
Вид взятки: предоставить для временного пользования верблюда до исхудания его, то есть истощения горбов.
(обратно)120
Перевод Я. Смелякова.
(обратно)121
Перевод 3. Кедриной.
(обратно)122
Ж а м б а — серебряный слиток.
(обратно)123
Перевод Я. Смелякова.
(обратно)124
М а к а р ж и — Макарьевская ярмарка, которая бывала в Нижнем-Новгороде (ныне г. Горький).
(обратно)125
Перевод А.Жовтиса.
(обратно)126
Перевод В. Бугаевского.
(обратно)127
Перевод Я. Смелякова.
(обратно)128
Перевод Я. Смелякова.
(обратно)129
Перевод А. Жовтиса.
(обратно)130
Т у с к и и з, с ы р м а к, т е к е м е т — настенные украшения (с орнаментом, аппликациями, вышивками), которые иногда расстилаются на полу.
(обратно)131
Перевод А. Жовтиса.
(обратно)132
Ж е и т — сушенный творог с маслом и медом.
(обратно)133
У й с у н ы, д у л а т ы — названия родов.
(обратно)134
Перевод А. Жовтиса.
(обратно)135
Перевод А. Жовтиса.
(обратно)136
Перевод А.Жовтиса.
(обратно)137
Перевод Я. Смелякова.
(обратно)138
Перевод Я. Смелякова.
(обратно)139
Перевод Я. Смелякова.
(обратно)140
Перевод Я. Смелякова.
(обратно)141
Ж о к т а у — плач по покойнику.
(обратно)142
Ш а х р и я р ы — четыре соратника Магомета.
(обратно)143
Ш ы р а к — светик. Казахские женщины обычно не называли по имени родственников мужа, а давали вымышленные имена в знак уважения.
(обратно)144
Т е м и р — к а з ы к — Полярная Звезда.
(обратно)145
У р а з д ы — тот, кому в жизни везет. При гадании на бобах у него всегда получается счастливый расклад, якобы предопределяющий большую удачу.
(обратно)146
Х а н д а р — ханы.
(обратно)147
На коней! (боевой клич).
(обратно)148
Улкен — большой.
(обратно)149
О т а у — юрта, в которой живут сыновья хозяина.
(обратно)150
Итжеккен — край земли, где ездят на собаках.
(обратно)151
Жерсибир — Сибирь. Буквально: земля сибирская.
(обратно)152
Своды старого обычного права: «Путь, проторенный Касым-ханом», «Старый путь Есим-хана».
(обратно)153
То есть верблюды и кони дарились не на временное пользование, а навсегда.
(обратно)154
К а р а т а я к — буквально — «черная палка», в переносном смысле — интеллигенция.
(обратно)155
А с т а г п ы р а л д а — боже упаси!
(обратно)156
А р г ы н — самый сильный род у казахов, к которому принадлежали Тобыкты. Уаки считались слабым родом.
(обратно)157
Б а р е к е л ь д е — одобрительное восклицание: «Вот кстати!»
(обратно)158
Ж а м а н-т о б ы к т и н ц ы — плохие тобыктинцы.
(обратно)159
Перевод М.Петровых.
(обратно)160
Удаляясь, взмахну…
(обратно)161
Перевод З.Кедриной.
(обратно)162
Перевод 3. Кедриной.
(обратно)163
Н а р — одногорбый верблюд.
(обратно)164
Перевод Я. Смелякова.
(обратно)165
Перевод 3. Кедриной.
(обратно)166
Алдар-Косе — герой шуточных казахских сказок, острослов, плут и проказник, ловко обманывавший баев.
(обратно)

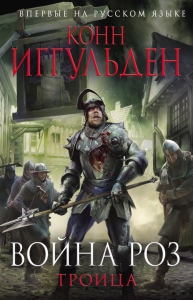
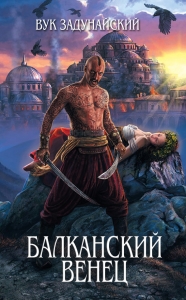


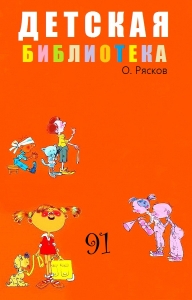
Комментарии к книге «Путь Абая. Том 2», Мухтар Ауэзов
Всего 0 комментариев