Дмитрий Сергеевич Мережковский Любовь сильнее смерти
Флорентинские граждане старого рода Альмьери с незапамятных времен принадлежали к двум благородным цехам: одни чтили покровителя мясников св. Антония, другие имели на своем знамени изображение овцы и занимались шерстяным промыслом. Подобно предкам, к этим цехам принадлежали братья Джованни и Маттео Альмьери. Джованни торговал мясом на Старом Рынке – Mercato Vecchio. У Маттео была шерстобойная мельница вниз по течению Арно. Покупатели охотно заходили в мясную лавку Джованни не только потому, что здесь можно было найти свежие окорока, нежных молочных телят и жирных гусей, но и потому, что хозяина любили за веселый нрав и за острый язык. Никто не умел перекинуться такою меткою шуткой со случайным прохожим, соседом или покупателем, как мясник Альмьери, никто не говорил с такою свободою о всех делах подлинного мира – дипломатических ошибках Флорентинской Республики, намерениях турецкого султана, происках французского короля и о неожиданной, по-видимому беспричинной, беременности соседки-вдовы, которая в последнее время слишком часто повадилась ездить в монастырь к достойным братьям чертозианцам.[1] Впрочем, редко кто обижался на шутки мясника, и он приводил в свое оправдание старинную пословицу: «Шуткой добрый сосед не порочится, а язык на шутке как бритва точится».
Не таков был брат Маттео, шерстобой. Человек себе на уме, ласковый, всегда немного угрюмый и молчаливый, вел он дела свои лучше, чем беспечный и добродушный Джованни, и каждый год два корабля Маттео, нагруженные шерстяными товарами, отправлялись из Ливорнской гавани в Константинополь. Замыслы имел он высокие и честолюбивые, смотрел на торговлю, как на путь к должностям государственным, всю жизнь льнул к аристократам, «жирному народу» – popolo grasso, как их называли во Флоренции, и питал надежду возвысить род Альмьери, быть может, предать имя его крылам бессмертной молвы. Часто убеждал Маттео младшего брата бросить мясную торговлю, как недостаточно для них почетную, и присоединить свои деньги к его, Маттео, собственному обороту. Но Джованни не соглашался, и хотя уважал и ценил «тихоню» брата за ум, втайне побаивался его и если не говорил, то думал: «Мягко стелет, жестко спать».
Однажды, в жаркий день, воротившись из лавки усталый, плотно по своему обыкновению поужинав и напившись холодного греческого вина, Джованни почувствовал себя дурно, слег, и с ним сделался удар, который был тем опаснее, что мясник имел тучное телосложение и короткую шею. В ту же ночь он отдал душу Богу, не успев приобщиться св. Тайн и составить духовное завещание. Вдова мона Урсула, женщина скромная, добродетельная, но недалекого ума, доверила торговые дела мужа брату Маттео, умевшему ее обойти вкрадчивыми и тихими речами. Он убедил простодушную женщину в том, что покойный, благодаря легкомыслию, оставил свои счетные книги в беспорядке, умер накануне разорения, и что необходимо, если она желает спасти остаток имущества, прекратить торговлю и закрыть мясную лавку на Mercato Vecchio. Злые языки утверждали, будто бы этот «продувной тихоня» Маттео безбожно обманул вдову, чтобы, согласно своему давнему желанию, отвести всю воду из торгового оборота Джованни на колеса шерстобойных мельниц. Как бы то ни было, но с этого времени дела Маттео сильно пошли в гору, и он стал отправлять ежегодно из Ливорно в Константинополь уже не два, а целых пять или шесть кораблей, нагруженных превосходною тосканскою шерстью. Через несколько лет ему обещали выгодное и почетное место знаменосца Льняного Цеха – именитого флорентийского Arte di Lana. Вдове брата великодушно выдавал он небольшое ежемесячное вспомоществование, так что моне Урсуле приходилось жить, во многом себе отказывая и терпя лишения, тем более, что на руках ее осталось единственное и нежно любимое дитя, молодая дочь, по имени Джиневра, а в те времена во Флоренции таких женихов, которые не зарились бы на приданое, было столь же мало, как и теперь. Но благочестивая мона Урсула не падала духом, весьма усердно молилась святым Божьим угодникам, в особенности же св. Антонию, неустанному и горячему заступнику мясников как в сей жизни, так и в будущей, питала надежду, что Господь, защитник вдов и сирот, пошлет ее дочери-бесприданнице доброго и достойного мужа, и имела тем больше права рассчитывать на это, что Джиневра отличалась редкою красотою.
Трудно было поверить, чтобы у этого толстого и неуклюжего балагура Джованни могла родиться дочь, одаренная такою нежною прелестью.
Джиневра всегда одевалась в простые и темные ткани; но сквозь вырез на груди ее виднелась в мелких сборках рубашка тонкого «ренского» полотна, и вокруг ее прелестной шеи, немного худощавой и длинной, как у всех флорентийских девушек, обвивалась жемчужная нить, на которой висела древняя камея из хризолита с изображением кентавра. Светлые бледно-золотистые волосы были покрыты кисеей, опускавшейся до середины лба, такою прозрачною, что можно было сквозь нее различить красивую прическу, состоявшую из множества тонко и тщательно заплетенных косичек, сложенных кругообразно или узорами, подобными то листьям винограда, то листьям папоротника. Бледное и кроткое лицо Джиневры было похоже на лицо той Мадонны, написанной Филиппо Липпи для флорентийской Бадии[2] Непорочной Девы, которая является в пустыне св. Бернарду и нежными, бледными, как воск церковных свечей, длинными пальцами перевертывает листы его книги. В детских губах, в спокойном печальном взоре, в высоко поднятых, едва очерченных бровях Джиневры было выражение той же непроницаемой для зла, бесконечной невинности. И хотя от нее веяло утренним холодом и свежестью монастырской лилии, вся она казалась непорочною, недолговечною, слишком тонкою и хрупкою, как бы не созданной для жизни. Когда по улицам Флоренции дочь мясника Альмьери шла в церковь, скромная, тихая, с опущенными глазами, с молитвенником в руках, – веселые юноши, спешившие на пир или охоту, останавливали коней, лица делались важными, шутки и смех умолкали, и почтительными взорами долго провожали они прекрасную Джиневру.
Дядя Маттео, слыша похвалы добродетелям племянницы, вознамерился выдать ее замуж за человека не первой молодости, но всеми уважаемого, имевшего связи с тогдашними правителями города Альбиццы, одного из секретарей Флорентийской Республики, мессера Франческо дельи Аголанти. Это был великий знаток латинского языка, излагавший канцелярские донесения и бумаги торжественным слогом Тита Ливия и Саллюстия[3] нрава несколько сурового и нелюдимого, но зато безукоризненно честного, напоминавший древнего римлянина; у него и лицо было похоже на лицо сенатора времен республики и одеваться он умел в длинное, со многими складками, платье флорентийских чиновников из темно-красного сукна, как в настоящую римскую тогу. Он так страстно любил древнюю письменность, что когда в Тоскане распространилась мода на греческий язык и в studio – тогдашнем университете – стал объяснять грамматику приезжий из Константинополя ученый византиец Эммануил Хризолорас, то мессер Аголанти не постыдился, несмотря на свой почтенный возраст, уже будучи секретарем Флорентийской Республики, сесть рядом с мальчиками на школьную скамью и начать с азбуки изучение греческого языка, в котором достиг немалых знаний, так что читал в подлиннике и «Органон» Аристотеля, и диалоги Платона. Словом, лучшей и более выгодной родни не мог себе представить хитрый шерстобой с честолюбивыми замыслами. Маттео обещал дать за своей племянницей хорошее приданое под условием, чтобы мессер Аголанти соединил свое имя и герб с именем и гербом Альмьери.
Наперекор, однако, всем этим многочисленным и явным достоинствам жениха своего, Джиневра долго противилась намерениям дяди, и свадьбу откладывали с года на год. Когда же Маттео потребовал скорого и решительного ответа, она объявила, что есть у нее другой жених, более любезный сердцу, и, к немалому изумлению, даже испугу благочестивой моны Урсулы, назвала ей имя мессера Антонио де Рондинелли. Это был молодой и довольно бедный ваятель, державший «боттегу» свою, или мастерскую, с немногими учениками в одном из тесных переулков, недалеко от Ponte Vecchio.[4] Антонио познакомился с Джиневрой в доме ее собственной матери: несколько месяцев назад попросил он позволения вылепить из воска голову молодой девушки, желая воспользоваться красотою Джиневры, знаменитою среди флорентинских ваятелей и художников, для резной иконы св. великомученицы Варвары, которая была ему заказана богатым монастырем в окрестностях города. Мона Урсула не могла отказать ваятелю в столь благочестивом деле, и во время работы художник полюбил свой прекрасный образец, как некогда Пигмалион Галатею.[5] Затем встречались они на городских праздниках и зимних посиделках, куда хозяева всегда были рады пригласить Джиневру, ибо она могла служить украшением всякого праздника.
Когда мона Урсула, робко и вежливо извинившись, попробовала сообщить дяде Маттео, что у Джиневры есть другой жених, любезный ее сердцу, и назвала мессера Антонио де Рондинелли, шерстобой, хотя втайне сильно разгневался, принял смиренный и ласковый вид и, обращаясь к моне Урсуле, так повел свою речь тихим голосом:
– Мадонна, если бы собственными ушами не слышал я того, что вы мне только что изволили сказать, никогда не поверил бы я, чтобы такая добродетельная и благоразумная женщина обратила какое-либо внимание на легкомысленную прихоть неопытного ребенка. Не знаю, как теперь, но в мое время молодые девушки и заикнуться не смели о выборе жениха, покорствуя во всем воле отца или попечителя. Подумайте, в самом деле, кто такой этот мессер Антонио, которого племянница моя почтила своим выбором? Неужели вам неизвестно, что скульпторами, живописцами, поэтами, актерами и уличными певцами делаются люди, которым ничего лучшего не остается, и которые не умеют заняться никаким более почетным и выгодным промыслом? Это народ самый легкомысленный и ненадежный, какой только можно встретить на белом свете: пьяницы, распутники, лентяи, безбожники, сквернословы, расточители своего собственного и чужого имущества. Что же касается мессера Антонио, конечно, вы должны были слышать о нем то, что все во Флоренции говорят, и что мне известно не менее, чем кому-либо другому, а потому только напомню вам об одном обычае этого юноши – о круглой корзине, которая висит у него в мастерской на шнурке, перекинутом через блок, так что один конец веревки привязан к корзине, другой к железному гвоздю, вбитому в стену. В эту корзину Антонио бросает, не считая, все деньги, какие заработает. И каждый, кто пожелает, будь то ученик, или знакомый, может прийти, опустить корзину на блоке, не спрашивая хозяина, взять столько, сколько нужно – медных, серебряных или золотых монет. Не думаете ли вы, мадонна, что я доверю мои деньги, приданое, обещанное вашей дочери, такому безумцу? Но это еще не все: известно ли вам, что мессер Антонио питает в мыслях своих гнусное, посеянное дьяволом безбожие эпикурейской философии, не ходит в церковь, смеется над святыми таинствами и не верит в Бога? Добрые люди рассказывают, что он более поклоняется мраморным обломкам мерзостных языческих идолов, соблазнительных богов и богинь, которых нынче стали откапывать из-под земли, нежели благородным мощам и чудотворным иконам святых Божьих угодников. Также слышал я от других людей, достойных не меньшего доверия, что в своей боттеге по ночам вместе с учениками рассекает он человеческие трупы, купленные за немалую цену у больничных сторожей, для того чтобы, как он говорит, изучать анатомию, строение человеческого тела, нервы и мускулы, и таким образом усовершенствоваться в своем искусстве, а на самом деле для того, полагаю, чтобы угодить помощнику и советнику своему, исконному врагу нашего спасения, дьяволу, который наставляет его в искусстве черной магии. Ибо, уж конечно, не какими-либо иными средствами, а только чарами, колдовством и бесовским наваждением овладел этот еретик сердцем вашей невинной дочери.
Такими и подобными речами дядя Маттео устрашил мону Урсулу и убедил ее во всем, в чем ему было угодно. Когда мать объявила Джиневре, что дядя, в случае решительного отказа ее выйти замуж за мессера Франческо дельи Аголанти, отнимет у них ежемесячное содержание, и таким образом, ей, моне Урсуле, на старости лет грозит нищета, молодая девушка, полная несказанного горя, покорилась своей участи и выразила согласие исполнить волю дяди.
В этот год Флоренцию постигло великое бедствие, предсказанное многими астрологами на том основании, что в небесном знаке Скорпиона Сатурн чрезмерно приблизился к Марсу. Некоторые купцы, приехавшие с Востока, в больших тюках драгоценных индийских ковров привезли чумную заразу. Устроено было торжественное церковное шествие по улицам с пением жалобных miserere,[6] с чудотворным образом Богоматери Импрунеты,[7] предносимой клиром архиепископу. Стали издавать законы, воспрещающие свалку нечистот в городской черте, заражение вод Арно разлагающимися отбросами кожевенных заводов и скотобоен, принимать меры для отделения больных от здоровых. Под страхом денежной пени, тюремного заключения, в некоторых случаях и смертной казни, запрещено было оставлять в домах умерших в течение дня – до заката, в течение ночи – до восхода солнечного, хотя бы родственники утверждали, что смерть произошла не от чумы, а от какой-либо другой болезни. Город обходили дозором особые надсмотрщики, имевшие право во всякое время дня и ночи стучаться в двери, спрашивать, нет ли больных или мертвых, производить обыски. Всюду появлялись просмоленные страшные дроги, в дыму факелов, в сопровождении молчаливых людей в масках и черных одеждах, пропитанных дегтем, с длинными крюками, которыми они издалека, чтобы не заразиться, хватали чумные трупы, подымали и сваливали на дроги. Ходили слухи, что эти люди, которых народ называл «черными дьяволами», забирали не только мертвых, но и умирающих, для того, чтобы лишний раз не возвращаться на то же место. Зараза, начавшаяся в конце лета, продолжалась до поздней осени, и зимние холода, наступившие в тот год очень рано, не прекратили ее. Вот почему те из достаточных людей, которые не связаны были важными делами, спешили покинуть Флоренцию, удаляясь в загородные виллы, где воздух был чище и здоровее.
Дядя Маттео, боясь всевозможных случайностей и не рассчитывая на долгую покорность племянницы, торопил свадьбу под тем предлогом, что моне Урсуле с дочерью следует поскорее уехать из города, а мессер Франческо дельи Аголанти предлагает увезти Джиневру вместе с ее матерью, взяв отпуск тотчас же после свадьбы, в свою прелестную загородную виллу на склонах Монте Альбано.
Так желал мессер Маттео, так и было решено. Свадьбу назначили через несколько дней и скромно, без всякой пышности, как прилично было в столь печальные дни, совершили обряд. Под венцом Джиневра стояла бледная, как полотно, и лицо ее выражало страшное спокойствие. Но дядя надеялся, что эти девичьи прихоти как рукой снимет после свадьбы, и что мессер Франческо сумеет заслужить любовь молодой жены. Надеждам его не суждено было оправдаться: когда новобрачная, выйдя из церкви, вступила в дом своего мужа, с нею сделалось дурно, и она упала замертво. Сначала думали, что Джиневра в глубоком обмороке, стали приводить ее в чувство, но глаза не открывались, дыхание ослабевало, кожа на лице и на всем теле покрылась смертельною бледностью, члены похолодели, и когда, несколько часов спустя, позвали докторов (в то время их звали неохотно, опасаясь, чтобы не распространился слух, что в доме зараза), они приложили зеркало к бездыханным губам Джиневры и на нем не могли заметить влажного следа от дыхания, то все, пораженные невыразимою скорбью и состраданием, убедились в том, что это – не мнимая, а настоящая смерть. Соседи говорили, что Бог наказывает Альмьери за то, что они сыграли свадьбу в такое непозволительное время, и что молодая жена мессера Франческо, только что вернувшись из церкви после венчания, заболела чумою и умерла. Слухи эти могли распространяться тем легче, что родственники девушки, опасаясь посещения «черных дьяволов», до последней минуты скрывали от всех обморок и смерть Джиневры. Но к вечеру пришли надсмотрщики, которым соседи не преминули донести обо всем, что происходило в доме Альмьери, и стали требовать, чтобы родственники выдали тело Джиневры или немедленно его похоронили: когда же, после долгих переговоров, им дали хорошую взятку, они согласились, чтобы тело усопшей оставалось в доме мессера Франческо никак не долее, чем до вечера следующего дня.
Впрочем, в смерти Джиневры никто из родных уже не сомневался, кроме ее старой няни, на которую не обращали внимания, полагая, что она выжила из ума и заговаривается. Старуха с жалобными причитаниями молила не хоронить умершей, уверяя, что доктора ошибаются, что Джиневра не умерла, а спит, и утверждала, что, прикладывая руку к сердцу своей голубки, она «чует, как оно бьется слабо-слабо, – слабее, чем крыло ночной бабочки».
Прошел день, и так как молодая девушка не подавала признаков жизни, ее одели в саван, положили в гроб и отнесли в соборную церковь Санта-Рипарата. Склеп, сухой и просторный, выложенный гладкими тосканскими кирпичами, находился в углублении между двумя дверями церкви, на одном из так называемых кладбищенских двориков (avello), под тенью высоких кипарисов, среди усыпальниц благородных семейств Флоренции. За эту могилу, по мнению некоторых, слишком роскошную для дочери мясника, Маттео Альмьери заплатил большие деньги, взятые, впрочем, из приданого самой Джиневры. Отпевание совершили торжественно. Восковых свечей не жалели, и нищим роздано было на поминовение души усопшей по мере ячменной крупы и масла оливкового каждому на полсольди. Несмотря на холод и страх чумы, много народу собралось на похороны; некоторые, даже незнакомые, слыша горестный рассказ о смерти новобрачной, не могли удержаться от слез и повторяли нежный стих Петрарки:
Morte bella pareva nel suo bel viso.[8]Мессер Франческо произнес над гробом речь, с цитатами не только латинскими, но и греческими из Платона и Гомера, что было тогда новостью, и многим слушателям, даже не понимавшим по-гречески, нравилось.
Смятение произошло только в конце похорон, когда гроб вынесли из собора и поставили в склеп для последнего целования. Бледный человек в траурном шелковом плаще подошел к покойнице и, откинув кисейную дымку с лица ее, стал глядеть на него пристальным взором. Его попросили отойти, заметив, что ему, «как чужому», непристойно подходить к усопшей ранее, чем с нею простятся родные. Когда бледный человек услышал, что его называют «чужим», а дядю Маттео и мессера Франческо «родными», он горько усмехнулся, поцеловал мертвую в уста, опустил дымку на лицо ее и отошел, не сказав ни слова. В толпе стали перешептываться, указывать на него, называя мессера Антонио де Рондинелли, возлюбленного Джиневры, из-за которого она умерла.
Наступили сумерки, и так как обряд похорон был кончен, толпа разошлась. Мона Урсула желала провести ночь у гроба, но этому воспротивился дядя Маттео, ибо она была так истощена горем, что опасались за ее жизнь.
В склепе остался только фра[9] Марьяно, доминиканец, который должен был читать молитвы над покойницей.
Прошло несколько часов; в тишине ночи раздавался мерный голос монаха и порою медленный, медный бой часов на колокольне, «кампанилле», Джотто. После полуночи фра Марьяно почувствовал жажду, вынул из кармана флягу треббианского и, закинув голову, отхлебнул несколько глотков с наслаждением, как вдруг почудился ему тихий вздох. Он внимательно прислушался; вздох повторился, и на этот раз ему показалось, что легкая кисея на лице покойной шевельнулась. Холод ужаса пробежал по спине его, но так как он был не новичок в этом деле и хорошо знал, что даже привычным людям ночью, наедине с мертвым телом, всякое мерещится, решил ни на что не обращать внимания, перекрестился и зычным голосом продолжал читать молитвы. Прошло еще несколько времени. Вдруг голос монаха оборвался, лицо вытянулось – он окаменел, вперив открытые глаза в лицо покойницы: теперь уже не вздох, а слабый стон вылетел из уст ее; фра Марьяно в этом более не сомневался, ибо видел, как медленно подымалась и опускалась грудь усопшей, колебля кисейный покров – она дышала. Крестясь, дрожа всеми членами, бросился он к двери и выскочил из склепа. Опомнившись на свежем воздухе и подумав опять, что ему померещилось, он прошептал несколько раз Ave Maria, вернулся к двери и заглянул в склеп; в то же мгновение крик ужаса вырвался из груди: мертвая сидела в гробу с открытыми глазами. Фра Марьяно пустился бежать без оглядки через кладбище, через площадь Баптистерия Сан-Джованни, по улице Рикасоли – только деревянные сандалии, «цокколи» монаха стучали, отбивая дробь по обледенелой кирпичной мостовой.
Джиневра Альмьери, проснувшись от сна или обморока, подобного смерти, с недоумением оглядывала могилу. При мысли, что ее заживо похоронили, ужас овладел ею, она сделала отчаянное усилие, вылезла из гроба и, кутаясь в саван, вышла в дверь, отворенную монахом, на кладбище, потом на площадь перед собором. Сквозь быстрые, разорванные ветром облака падал свет луны, и в нем белела мраморная колокольня Джотто. Мысли Джиневры путались, голова кружилась: ей казалось, что колокольня вместе с нею уносится в лунные облака, и она не могла понять, живая она или мертвая, во сне ли все это происходит или наяву.
Не сознавая, куда идет, прошла она несколько пустынных улиц, увидела знакомый дом, остановилась, подошла к двери и постучала. Это был дом дяди Маттео.
Шерстобой, несмотря на поздний час, не ложился, ожидая нарочного с известием о двух торговых кораблях, возвращавшихся из Константинополя. Ходили слухи, что буря недалеко от Ливорнского побережья разбила множество фелук и больших флорентинских галер, так что дядя Маттео опасался, чтобы среди них не потерпели крушение и его корабли. За ночь успел он проголодаться и заказал своей служанке Ненче, рыжей красивой девушке с веснушками и зубами белыми, как молоко, жаренного на вертеле каплуна. Дядя Маттео жил старым холостяком, но всегда имел в доме молодых служанок. В эту ночь сидел он в кухне, у очага, так как в остальных комнатах было холодно Ненча, зарумянившись, засучив рукава, вращала над ярким огнем вертел, и веселое пламя отражалось в блестящей глине чисто вымытых горшков и блюд, расставленных на полках.
– Ненча, слышишь? – произнес дядя, насторожившись.
– Ветер. Не пойду. Вы меня и так уж три раза гоняли.
– Какой там ветер? Стучат. Это нарочный. Ступай, отопри скорее.
Толстая Ненча стала лениво спускаться по крутой деревянной лестнице, а дядя Маттео сверху, подняв над головою фонарь, освещал ей путь.
– Кто там? – спросила служанка.
– Это я… я… Джиневра Альмьери, – ответил слабый голос из-за двери.
– Gesù! Gesù![10] С нами крестная сила! – пролепетала Ненча; ноги у нее подкосились, и, чтобы не упасть, она должна была схватиться за лестничные перила. Мессер Маттео побледнел и чуть не выронил фонарь из рук.
– Ненча, Ненча, отопри скорее! – умоляла Джиневра. – Пусти погреться, мне холодно… Скажи дяде, что это я…
Служанка, несмотря на тучное телосложение, так взлетела по лестнице, что ступеньки затрещали под ее ногами.
– Вот вам и нарочный! Дождались – нечего сказать. Говорила я вам, мессер Маттео, ложитесь да спите, как все добрые христиане… Ай, ай, ай! Опять стучит, слышите – стонет бедная душенька, да как жалобно. Господи, спаси и помилуй нас грешных! Святой Лаврентий, моли Бога за нас!
– Послушай, Ненча, – произнес дядя нерешительно, – пойду-ка я, посмотрю что там такое. Как знать, может быть…
– Этого еще недоставало, – крикнула Ненча, всплеснув руками, – скажите, какой храбрец отыскался! Так я вас и пустила. Сами на тот свет захотели, что ли? Нечего шляться, сидите, пока с нами чего похуже не приключилось.
Достав с полки склянку святой воды, Ненча окропила ею наружную дверь дома, лестницу, кухню и самого мессера Маттео. Он уже более не спорил и покорился умной служанке, полагая, что она лучше знает, как должно обращаться с привидениями. И Ненча громким голосом произнесла заклинание:
– «Благословенная душа, ступай с Богом – мертвая к мертвым. Господь тебя да успокоит в селении праведных».
Джиневра, услышав, как ее назвали мертвою, поняла, что ей больше нечего ждать, встала с порога, на который опустилась в изнеможении, и поплелась далее искать себе приюта.
Едва двигая замерзшими ногами, дошла она до соседнего переулка, где находился дом ее мужа, мессера Франческо дельи Аголанти.
Секретарь флорентинской Синьории писал в это время длинное философическое послание на латинском языке своему другу в Милане, Муцио дельи Уберти, такому же, как он, поклоннику древних муз. Это был целый богословский трактат под заглавием «Рассуждение о бессмертии души по поводу смерти возлюбленной супруги моей Джиневры Альмьери». Мессер Франческо сравнивал учение Аристотеля с учением Платона, опровергая мнение Фомы Аквината,[11] утверждавшего, что философию Стагирита[12] можно согласовать с догмами католической церкви о рае, аде и чистилище; тогда как мессер Франческо доказывал многими ясными и остроумными силлогизмами, что отнюдь не учение Аристотеля, который был тайным скептиком и атеем. а учение великого почитателя богов – Платона, согласуется с христианскою верою.
Ровным пламенем горела медная лампада, привешенная над гладкою наклонною доскою уютного письменного поставца из точеного дерева, со многими выдвижными ящиками и отделениями для бумаги, чернил, перьев. Форма лампады изображала тритона, обнявшегося с океанидой, ибо во всех мелочах будничной жизни мессер Аголанти любил подражание изящным древним образцам. На драгоценном пергаменте старинного Тимея, нежном, как шелк, твердом, как слоновая кость, светилось золото заставок, изображавших пляску голых амуров или ангелов, с гирляндами райских цветов.
Мессер Франческо только что начал разбирать с богословской точки зрения учение о метампсихозе, или переселении душ, причем остроумно пошутил над пифагорейцами, которые, как известно, не едят бобов, утверждая, что в них заключены души предков, – когда послышался слабый стук в дверь. Он нахмурил брови, ибо не выносил шума во время работы и выбирал для занятий самые тихие ночные часы, чтобы ему никто не мешал.
Тем не менее, он подошел к слуховому окну, открыл его, выглянул на улицу и в бледном лунном сумраке увидел мертвую Джиневру, окутанную саваном.
В то же мгновение, забыв Платона и Аристотеля, мессер Франческо захлопнул окно так поспешно, что Джиневра не успела молвить слова, стал шептать Ave Maria и креститься в суеверном ужасе, как Ненча.
Впрочем, скоро пришел он в себя, устыдился собственного малодушия и вспомнил то, что говорят александрийские неоплатоники Прокл и Порфирий о явлениях мертвецов, а именно, что демоны, существа породы средней и двойственной, живущие между землей и небом, иногда с целью доброю, чтобы пророчествовать, иногда злою, чтобы устрашать людей, облекаются в прозрачные тела, имеющие сходство с кем-либо из умерших и образованные, по мнению одних, из влажной стихии воздуха, сгущенного холодом, по мнению других, из той огненной, бесцветной и прозрачной материи, из которой состоят и низшие растительные души, как разумных, так и неразумных тварей, живущих на земле. Вспомнив все это и объяснив себе то, чего сперва так испугался, логическими и естественными доводами, мессер Франческо окончательно успокоился, снова открыл окно и произнес твердым голосом:
– Кто бы ты ни был, дух земной или небесный, – скройся, удались туда, откуда пришел, ибо напрасно ты хочешь устрашить того, чей разум просвещен светом высшей философии. Ты можешь обмануть телесные, но не духовные очи мои. Отойди же с миром под своды Аида – мертвая к мертвым.
И он закрыл окно на этот раз с тем, чтобы более не отворять его, хотя бы стучались целые легионы жалобных призраков.
А Джиневра пошла далее и, так как была недалеко от Старого Рынка, скоро увидела дом своей матери.
Мона Урсула стояла на коленях перед распятием, и рядом с ней был суровый монах фра Джакомо с бледным лицом, изможденным постами. Она подняла к нему взоры, полные ужаса.
– Что мне делать, отец мой? Помогите. Нет в моей душе покорности, нет молитвы. Мне кажется, что Бог отступился от меня, и душа моя обречена на погибель…
– Покорись, покорись Богу во всем, до конца, – убеждал ее монах, – не ропщи, смири голос буйной плоти, ибо чрезмерная любовь твоя к дочери – от плоти, а не от духа. Скорби не о том, что она умерла телесною смертью, а лишь о том, что предстала на суд Всевышнего, без покаяния, великою грешницей.
В это время постучали в дверь.
– Мама, мама, это – я… пусти меня скорее!
– Джиневра!.. – воскликнула мона Урсула и хотела броситься к дочери, но монах остановил ее.
– Куда ты? Безумная! Дочь твоя лежит в гробу, мертвая, и не встанет до страшного Судного дня. Это злой дух искушает тебя голосом дочери, голосом плоти и крови твоей. Покайся же, молись, молись, пока еще не поздно, за себя и за грешную душу Джиневры, чтобы вам обеим не погибнуть.
– Мама, или ты не слышишь, не узнаешь моего голоса? Это я – живая, а не мертвая…
– Пустите, отец мой, пустите меня…
Тогда фра Джакомо поднял руку и прошептал:
– Ступай и помни, – ныне обрекаешь ты на погибель не только себя, но и душу Джиневры. Бог проклянет тебя и в сем веке и в будущем!
Лицо монаха полно было такою ненавистью, глаза его горели таким огнем, что мона Урсула остановилась, объятая ужасом, сложила руки с мольбой и в изнеможении упала к ногам его.
Фра Джакомо обернулся к двери, осенил ее знаменем креста и молвил:
– Во имя Отца и Сына, и Духа Святого! Заклинаю тебя кровью Распятого на кресте – сгинь, сгинь, пропади, окаянный. Место наше свято. Господи, не введи во искушение, но избави нас от лукавого.
– Мама, мама, сжалься надо мною, – я умираю!..
Мать еще раз встрепенулась, простерла руки к дочери, но их разделял монах, неумолимый, как смерть.
Тогда Джиневра упала на землю и, чувствуя, что замерзает, поджала колени, обняла их руками, склонила голову и решила более не вставать, не двигаться, пока не умрет. «Мертвые не должны возвращаться к живым», – подумала она, и в то же мгновение вспомнила Антонио: «Неужели и он прогнал бы меня?» Она и раньше думала о нем, но ее удерживал стыд, ибо она не хотела идти к нему ночью одна, будучи женою другого. Теперь, когда для живых она была мертвая, – не все ли равно?
Луна закатилась; горы, покрытые снегом, бледнели на утреннем небе. Джиневра встала с порога своей матери. Не найдя приюта у родных, пошла она к чужому.
Мессер Антонио в мастерской недалеко от Понте Веккио работал всю ночь при свете огня над восковым изваянием Джиневры. Он не замечал, как пролетали часы, как в круглых стеклянных гранях окон выступил холодный свет грубого зимнего утра. Художнику помогал его любимый ученик Бартолино, семнадцатилетний отрок, белокурый и красивый, как девушка.
Лицо Антонио выражало спокойствие. Ему казалось, что он воскрешает мертвую и дает ей новую бессмертную жизнь: опущенные веки готовы были вздрогнуть и подняться, грудь дышала и в тонких жилах на висках билась теплая кровь.
Он кончил работу и старался придать губам Джиневры невинную улыбку, когда в дверь раздался тихий стук.
– Бартолино, – молвил Антонио, не отрываясь от работы, – отопри.
Ученик подошел к двери и спросил:
– Кто там?
– Я – Джиневра Альмьери, – отвечал чуть слышный голос, подобно шелесту ночного ветра.
Бартолино отскочил в дальний угол комнаты, бледный и дрожащий.
– Мертвая!.. – шептал он, крестясь.
Но Антонио узнал голос своей возлюбленной, вскочил, бросился к Бартолино и вырвал у него ключ из рук.
– Мессер Антонио, опомнитесь, что вы делаете? – лепетал ученик, стуча зубами от ужаса. Антонио подбежал к двери, отпер ее и увидел Джиневру, упавшую на пороге, почти бездыханную: в сиянии утра белел могильный саван, и на распущенных кудрях был иней.
Но он не ужасался, ибо сердце его исполнилось великою жалостью.
Он наклонился со словами любви, поднял ее и понес на руках в свой дом.
Уложил на подушки, покрыл их лучшим ковром, какой у него был, послал Бартолино за хозяйкою, старою женщиною, у которой нанимал мастерскую, развел огонь в очаге, согрел вина и напоил Джиневру из своих рук. Она вздохнула легче и, хотя еще не могла говорить, открыла глаза. Тогда сердце Антонио наполнилось радостью.
– Сейчас, сейчас, – повторял он, суетясь и бегая по комнате, – вот придет хозяйка, все устроим… Только не взыщите, мадонна Джиневра, у меня такой беспорядок…
Смущаясь и краснея за свое хозяйство, опустил он с потолка корзину на блоке, который скрипел и визжал к еще большему стыду мессера Антонио, вынул денег, отдал Бартолино, велел ему бежать на рынок за мясом, хлебом, овощами для завтрака, и когда пришла хозяйка, важно и заботливо, как будто дело шло о спасении его собственной жизни, заказал горячего супа с курицей.
Ученик бросился со всех ног за покупками, старуха пошла резать курицу. Антонио остался наедине с Джиневрой.
Она подозвала его и, когда он опустился рядом с нею на колени, рассказала ему все, что случилось.
– О, милый мой, – молвила Джиневра, кончив рассказ, – ты один не ужаснулся, когда я пришла к тебе мертвая, ты один меня любишь.
– Хочешь, я позову твоих родных – дядю, мать или мужа? – спросил Антонио.
– Нет у меня родных – ни мужа, ни дяди, ни матери. Все чужие, кроме тебя, ибо я для них – мертвая, для тебя я – живая, и тебе одному принадлежу по праву.
Первые лучи солнца затеплились в окнах. Джиневра улыбнулась ему, и по мере того, как солнце становилось все ярче, румянец жизни приливал к ее щекам, в тонких жилах на висках билась теплая кровь. Когда Антонио наклонился, обнял и поцеловал ее в губы, ей казалось, что солнце воскрешает ее, дает ей новую бессмертную жизнь.
– Антонио, – молвила Джиневра, – благословенна да будет смерть, которая научила нас любить, благословенна да будет любовь, которая сильнее смерти!
Примечания
1
монашеский орден
(обратно)2
Аббатство (итал. – badia)
(обратно)3
Тит Ливий (59 г. до н. э. – 17 г. н. э.) и Саллюстий (86 г. до н. э. – ок. 35 г. до н. э.) – римские историки
(обратно)4
Старый мост (итал.)
(обратно)5
Пигмалион – скульптор, царь Крита, полюбивший созданную им статую Галатеи. Афродита оживила статую, и Галатея стала женой Пигмалиона (греч. миф.)
(обратно)6
Господи, помилуй (лат.)
(обратно)7
в терниях
(обратно)8
Смерть казалась прекрасной на ее прекрасном лице.
(обратно)9
брат, монах (итал. fra, frate)
(обратно)10
Иисусе! Иисусе! (итал.)
(обратно)11
Фома Аквинат (1225 или 1226–1274) – выдающийся философ и теолог
(обратно)12
Аристотель, уроженец города Стагира
(обратно)

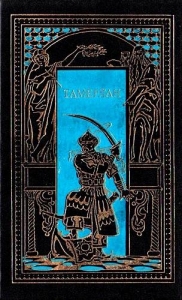
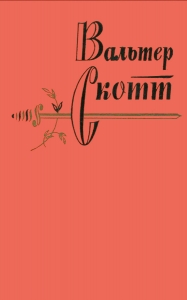


Комментарии к книге «Любовь сильнее смерти», Дмитрий Сергеевич Мережковский
Всего 0 комментариев