Георгий Дмитриевич Гулиа Человек из Афин
Валентине Гулиа, моей жене
Предисловие к трилогии
К каждой части этой трилогии предпосланы вступительные слова автора. Они кое-что объясняют и не требуют комментариев. Наверное, без них трудно было обойтись, когда части издавались отдельными книгами. А сейчас я не вижу смысла в том, чтобы здесь объединять эти слова. Но мне хотелось бы повторить одну мысль, заключенную в предисловии к «Сулле», а именно: части трилогии связаны между собою хотя бы тем, что главные герои их жили и боролись на великих изломах истории. В их сердцах бушевали великие страсти. Правда, страсти эти не однородны по своему значению для мировой истории. Но от этого герои не становятся менее знаменитыми.
Можно задать вопрос: а насколько верны важнейшие исторические факты этой трилогии? Вопрос, на мой взгляд, не липший, когда речь идет об исторических произведениях.
Пишущий эти строки изучал многочисленные материалы и памятники тех отдаленных эпох более тридцати лет. Но, разумеется, и за этот срок невозможно объять всё, досконально изложить в художественной интерпретации все факты. Иногда даже встает и такой вопрос: а нужна ли в художественной литературе подобная дотошность? Лично я склоняюсь к тому, что важнейшие, достоверно известные события должны быть переданы, я бы сказал, с достаточной глубиной и точностью. Во всяком случае, с той мерой достоверности, которая доступна исторической науке нашего времени. В этом отношении меня успокаивают напутствия трилогии таких известных наших ученых, как египтолог профессор, доктор Михаил Коростовцев и знаток античности, особенно Древнего Рима, профессор, доктор Сергей Утченко. Но поскольку трилогия не учебник истории, автор ее кое-что домысливает, и это уже на его совести.
Г. Г.
К читателю
Вначале был Гомер.
Мы с братом читали великого слепца в переводе Василия Жуковского. А отец знакомил нас– как он говорил – с музыкой оригинала, декламируя наизусть стихи из «Илиады» и «Одиссеи».
Потом мы учили греческий алфавит: «Альфа… бета… гамма… дельта…» А еще горевали над судьбою Прометея, прикованного к скале где-то близко от нас, в горах Кавказа.
В греческих поэтах и философах больше всего нравились нам бороды– в таких завитушках – не очень большие и не очень маленькие.
Особенно запомнился один. Но он не был ни философом, ни поэтом. Под тяжелым шлемом– лицо доброго и очень серьезного мужчины. И у него тоже борода в правильных завитушках. (Недавно я встретил его в Ватиканском музее и чуть было не поздоровался с ним, как со старым знакомым.)
Этого звали Перикл.
Вокруг нас жили греческие дети. Были среди них и голопузые Гомеры, и Одиссеи, и Ахиллесы. Мы с ними даже кое-как болтали по-гречески. Этот греческий сильно отличался от языка Гомера.
А еще позже я увидел выжженную солнцем землю Трои и скалистое лукоморье. И голые острова Лесбос и Лемнос. И суровые берега Пелопоннеса. И тихий закат над древней Аттикой. И зеленую Керкиру– нынешний остров Корфу.
Я плыл по следам Одиссея и Менелая, Фемистокла и Перикла. Геллеспонт, в свое время наказанный Ксерксом за горячий норов, показался мне очень приветливым.
В детстве мы искали следы Диоскурии, которая стояла где-то близ абхазской столицы Аквы. Имена Геродота и Страбона, Софокла и Гесиода, Пифагора и Архимеда подолгу не сходили с языка. Колхида и Эллада причудливо соединились в нашем воображении…
И все это началось с Гомера…
В моей повести об отце есть такие строки:
«Незадолго до смерти Гулиа попросил меня достать с полки книгу Плутарха и показал мне место, где сказано о Перикле следующее: “…славнейшей заслугой своей он считал то, что, занимая такой высокий пост, он, никогда не давал воли ни зависти, ни гневу и не смотрел ни на кого как на непримиримого врага…”
– Напиши рассказ о Перикле,– сказал мне отец».
Когда несколько лет тому назад в Абхазии, в местечке Скурча (сравните: Скурча, Скурия, Диоскурия), молодым археологом Заканбеем Гунба были обнаружены полуистлевшие обрывки папирусов и когда я узнал, что они в чем-то дополняют или расширяют сведения Плутарха и Фукидида о Перикле,– во мне снова ожил образ человека в железном шлеме.
Покойный археолог Михаил Трапш из абхазского института имени Дмитрия Гулиа познакомил меня с Заканбеем Гунба. Гунба и я подолгу просиживали над скурчинскими папирусами.
И с новой силой захватил меня Перикл, который не был ни гениальным политиком, ни гениальным полководцем и адмиралом. Зато его по праву можно назвать Великим Человеком и Великим Гражданином.
Материалы, почерпнутые из находок Заканбея Гунба, как и некоторые другие, особо выделены. Я их отредактировал на свой вкус и очистил от сугубых архаизмов. Также выделены и другие эпизоды, относящиеся к прошлому моего героя.
Г. Г.
Книга первая
Чрезмерная сырость, косые дожди, удивительные порывы ветра…
Арктур показался недавно. Нынче – всего лишь середина месяца боэдромиона. Верно, пора стоит осенняя, но никак не назовешь ее глубокой осенью…
Чрезмерная сырость в воздухе. Дожди хлещут наискосок. Ветер рвет плащи, словно паруса на кораблях.
Евангел сообщил своему хозяину все, что говорят по этому поводу на агоре́.
– Старик, умудренный жизнью, сказывал еще…
– Что же он сказывал?
– Он бывал в Мемфисе. Он знает Ливию и весь Кипр, как самого себя…
– А себя-то он хорошо знает?
На этот вопрос не так-то просто ответить. Кто может постичь самого себя? И не есть ли это высшее в мире искусство? Евангел немало наслышан об этом. Здесь, в комнате господина, многое говорилось прежде. Это сейчас она пустует. А то, бывало, голосов в ней, что пчелиного жужжания в улье. Это только сейчас тишина. Слышно даже биение собственного сердца. Только сейчас! Всего несколько месяцев…
– Я же сказал, – продолжает Евангел, – что он хорошо знаком с Ливией и Кипром…
– Положим…
– Он умудрен жизнью…
– Положим.
– Даже он не помнит такой осени! Старик сказал: несчастье не за горами!
– Оно уже у порога, Евангел.
– Старик сказал, что чума эта – надолго.
– Она все усиливается, Евангел.
– На агоре́ большое беспокойство…
– Оно почему-то опоздало туда. Оно успело уже обойти все уголки Аттики. Все уголки, где сохранили разум.
Евангел чувствует себя виноватым перед хозяином. Выходит – ничего не узнал на агоре́. Ничего нового! А казалось, что пазуха полна новостей. Что не донесет их до дому… Так казалось там, на агоре́.
– Не огорчайся, Евангел. Мир существует с незапамятных времен. И в каждом новом году случается что-нибудь необычное: или жаркое лето, или суровая зима, или град и снег, или же ливни. Человеческая память пытается сохранить эти различные явления и толковать их сообразно своим представлениям. В этом и заключается величайшая ошибка и человека и человечества.
Евангел недоумевает: ошибка? В чем же она?
– Видишь ли, Евангел: мир подобен агоре́. В чем же разница? Только в пространстве! Только в объеме! Только в количестве людей! В мире царит тот же хаос, что и на агоре́. Разница только в масштабах.
У раба Евангела округлое лицо, крепкая шея. У Евангела грудь воловья и мускулистые ноги. В свои пятьдесят лет он выглядит значительно моложе: на тридцать пять, на сорок. У него короткая бородка и черные глазищи фракийца. Он почесывает подбородок и мысленно сравнивает вселенную с агоро́й.
А господин его прислушивается к шуму ветра и глубоким всхлипам дождевых струй. Его мысли об агоре́ и вселенной. Аттике и ее врагах. И о несчастье, которое на пороге.
– Евангел.
– Слушаю тебя, господин.
– О чем еще толкуют на рынке?
– Где?!
– На агоре́.
Евангел понимает, что господину нужна вся правда, а не кусочек ее. Пусть горькая правда, но вся! И какой смысл обманывать того, который видит за тысячу стадиев? Все видит, но не всегда дает волю своим чувствам, а тем более – языку.
– На агоре́ только и слышишь: Перикл, Перикл, Перикл.
– Ругают меня, что ли?
– Очень.
– Клянут, что ли?
– Иные и проклинают.
– За что же?
– За войну. За чуму. За голод.
– А еще?
– Это, говорят люди, все из-за нее. – Раб кивнул куда-то влево. Там была женская половина – гинекей. «Из-за нее» – значит из-за госпожи, из-за Аспазии. Господин прекрасно понял своего раба.
– Ее тоже клянут, Евангел?
– Тоже. Но тебя больше.
Господин словно бы ведет речь о ком-то другом. Взгляд его не стал суровее. Губы его не сжались в две твердые пластинки из терракоты. Лоб его – невысокий и ровный – оставался по-прежнему гладким. Ну словно бы шла беседа о далеких звездах, о совсем чужих делах…
– Клянут люди молодые или старые?
«Какое это имеет значение? – думал раб. – Проклятие есть проклятие, от кого бы оно ни исходило. Оно страшно! Только боги хладнокровно внимают людской злобе, недосягаемые на высотах Олимпа».
Евангел подумал еще немного и ответил своему господину так:
– Самое главное я отмечу – это были люди!
– Что? – удивился хозяин.
– Люди, говорю, клянут.
– Я не о том, Евангел. Разумеется, люди. Но почему ты решил подчеркнуть это самое обстоятельство, которое понятно даже слепому котенку?
– Не знаю, – чистосердечно ответил раб.
– Нет, я хвалю тебя за твои слова. Мне только хочется знать: почему ты решил поправить меня?
– Я думаю так, – сказал раб, – человек есть человек. Какое имеет значение его возраст?
– Большое, – сказал Перикл.
– Это не очень ясно.
– Я постараюсь объяснить, Евангел. – Хозяин переменил позу, опершись правой рукой о колено и слегка привстав на ложе, на котором возлежал. – Человек словно дерево: он вначале гибок, строен, но слабоват. Потом он мужает. Крона его ширится – она становится точно шатер. Словом, делается могучим. Зрелый человек видит больше и дальше. Однако у него все, или почти все, позади, в то время как человека молодого ждет впереди большая, бурная жизнь. И я бы сказал так: будущее принадлежит только молодым, сколько бы мы, старики, ни гнали от себя подобную мысль. Поэтому согласись, Евангел, что мне не безразлично, кто как смотрит на меня и кто как меня проклинает. Старость, Евангел, эгоистична. И это в порядке вещей. Человек, отдавший жизнь семье и обществу, верно послуживший Афинам, неизбежно ждет подобающих почестей, ему необходима оценка его деятельности. И знаки этой оценки. Без них ничего не стоят слова. Говорю ли я понятно, Евангел?
– Да, господин, – ответил раб.
– Есть ли что-либо странное в моих суждениях?
– Я этого не сказал бы.
Перикл говорил очень серьезно. Взвешивая слова. Точно выступал в народном собрании, где голос его раздавался в течение сорока лет. Да, он имел право на любое собственное суждение. Он мог говорить и от своего имени и от имени народа, который недавно отвергнул его. Через сорок лет, сорок лет слушая его и слушаясь его! Перикл говорил со своим рабом так, будто пытался в чем-то оправдаться перед ним. Он ничего не уступит в споре, даже с Евангелом. А если и уступил бы сознательно, из-за низкого происхождения своего оппонента, – значит, проявил бы презрение к человеку. А это равносильно самооскорблению. И это совершенно исключено для Перикла.
Евангел понимал его. Он знал его характер. Поэтому и сам ни в чем не желал уступать в споре. И никогда не покривил бы душой из-за того, что говорит со своим господином. Уж так был воспитан в этом доме!
Евангел присел на корточки перед ложем.
– Смотри, – сказал он господину, – их было восемь… Нет, пожалуй, девять. Это будет точнее. – Раб загнул один палец. – Итак, их было ровно девять. Я – десятый. Трое или четверо – люди молодые. Остальные – в моем возрасте. Все они держались одного мнения. Я не могу сказать: одни – ругали, а другие – возражали им, не соглашались с ними. Они не ведали, кто я. Я был для них вроде рыночного торговца. Им было все равно, что я думаю.
– Кто же все-таки более всех старался? Молодые?
– Я бы этого не сказал.
– Пожилые?
– Скорее всего да.
– И они разговаривали громко?
– Я не сказал бы, что те, которых мне довелось слушать на агоре́, отличались особенным воспитанием. Я подумал, что это беотийцы. Просто дурни из Беотии! Только там и родятся такие. Говоря откровенно, я высказал вслух свои подозрения относительно их воспитания.
– Что же они?
– Оказалось, что это моряки из Пирея. И громко говорят, и словно гуси гогочут. На всю агору́!
– Да, таких, пожалуй, аристократами не назовешь.
– Просто прощелыги портовые! Я с ними чуть не подрался.
– Кулаками ничего не докажешь, Евангел.
– На сердце станет легче. Пара тумаков – глядишь, и повеселел.
– Слово сильнее тумаков, Евангел.
Перикл вздохнул, улегся лицом кверху. Его большая голова казалась еще больше оттого, что была непокрыта. Невысокий лоб, правильной формы нос и четко очерченные пухлые губы не очень-то вязались с продолговатой, служившей мишенью для комических актеров, головой. Борода и усы темно-каштанового цвета, которые он тщательно всегда расчесывал, еще больше удлиняли голову. Будь Евангел на его месте – непременно бы надевал шлем, даже в постели. Шлем очень шел Периклу.
Дождевые капли мягко падали на черепичную кровлю. Ветер посвистывал где-то наверху, точно пастух на склонах Гиметта. А то вдруг начинал буйно шуметь в кривых и узких улочках. И тогда на крышу лилась вода, как из огромного пифоса…
Раб уселся на низенькую скамью, достал из плетеной корзины дощечку с записями.
– Вот, – сказал он, – расходы. Правда, не все. На агоре́ я истратил сто десять драхм на покупку вяленой рыбы и финикийских сладостей. Погасил долг купцу – это за свиток свежего папируса. Зопиру передал сто драхм по твоему приказанию. Я выверил вместе с ним все остатки масла и соленых олив…
Хозяин, казалось, равнодушно слушал этот малопримечательный доклад своего управителя. Он смотрел на потолок, отделанный полированным кипарисом, И только ради формы – чтобы не обидеть Евангела – задал вопрос:
– А что, оливы не слишком пересолены?
Раб объяснил, почему пришлось класть соли больше, чем обычно. Это зависит от урожая, который в свою очередь находится в полной зависимости от погоды. Ибо, как известно, год на год не приходится…
Говоря откровенно, господину в эти минуты было совершенно безразлично, от чего зависит количество соли в маслинах. Он слушал голос ветра и голос дождя. А это не так уж мало для ума, который много передумал, и для слуха, который наслышан всякой всячины.
День понемногу кончался. Странные тени проникали в комнату через небольшое окно, до которого рукой не достать. Стены быстро серели. Они делались все темнее, словно по велению невидимой клепсидры, отсчитывающей минуты и часы. Он хотел было приказать управителю, чтобы зажигали светильники. Но его охватило столь блаженное чувство под влиянием странных теней и шумного ветра и дождя, что тут же отказался от этой мысли. Свет – это нечто новое. Вместе с ним придут новые мысли и новые ощущения внешней среды. Он не знал в точности, каковы будут нынче эти ощущения и заменят ли они то, что доставляет сейчас большое наслаждение. Покой – вот что дороже всего в эту минуту. Пусть эта грань между днем и между ночью продлится как можно дольше! Как можно дольше!
Поддается ли точному анализу самоощущение? Глаза видят и не видят. Уши слышат и не слышат. Сердце бьется и не бьется. Грудь дышит и не дышит. Не о том ли состоянии мечтают мудрецы Колхиды? Он хорошо запомнил слова одного старика в городе Диоскурия. Старик сказал: «Человек живет – он действует. Человек умирает – он покоится. Однако есть состояние блаженства. Его испытывают лишь избранные. Оно наступает в то мгновение, когда человек живет и не живет. Сильная натура сама приводит себя в такое состояние. Страсти мира сего обходят его в эти мгновения. Горе сглаживает свои шипы. Радость умеряет свои восторги. И тело твое делается вдвое легче. Душа твоя парит в иных сферах. Это и есть состояние идеальное, когда противоборство духа и материи обретает полную гармонию. Если бы можно было, если бы кто-либо был в состоянии достичь этой гармонии навечно – он и жил бы вечно». Так говорил седобородый диоскуриец. И Перикл ответил ему: «Эта мечта неосуществима, ибо нет человека идеального, как и нет идеальной гармонии материи и духа. Противоборство и развитие их столь скачкообразны порою и вызывают такое перенапряжение идеи и материи, что не выдерживает его ни одно живое существо». Так сказал Перикл. На что старик седобородый ответил: «Ты молод, поживи с мое – и скажешь иное. Ты скажешь себе: «Да, прав был Каных!» А Каных – это я». Вот прошло много лет с тех пор. Вот льет дождь и дует ветер – близкий родственник Борея. И вот – то самое состояние, о котором говорил Каных-диоскуриец…
Управитель тем временем продолжал свой доклад, заглядывая в свои восковые письмена и не упуская ни малейшей хозяйственной подробности. Он говорил о количестве олив, яблок, груш, айвы, граната, лавра, о запасах муки, которой все меньше в Афинах, и прочих важных вещах.
Он кончил.
Евангел сложил дощечки с записями.
Ждал приказаний.
А господин его смотрел наверх, и взгляд его был светел и чист. Только образы богов могли породить этот блеск младенческий и чистоту младенческую. Немигающие глаза смотрели вверх, и немые губы шептали немые слова, которые могли расслышать только они, восседающие на Олимпе. И никто иной!
Евангел ждал. Он привык ждать. Как все рабы.
В шестьдесят пять лет господин его выглядел как в шестьдесят пять. Ни единый год не проходил бесследно: он оседал заботами и хлопотами на лбу, на плечах, на душе и сердце. Ни один год, даже самый счастливейший, не сделал его моложе. Ни один день не принес ему лишнего румянца или молодого огня глазам его. Все шло так, как должно идти в природе, которой нет ни конца, ни начала. В круговороте ее день сменяет ночь, молодость – старость, смерть следует за жизнью. Перикл, как и все смертные, подчиняется – притом очень строго – именно этому закону…
Евангел ждет. Ему надо сказать еще кое-что.
А тени в комнате все гуще. А дождь льет по-прежнему. И ветер то поет, то глухо завывает. На свой особенный манер…
…И сказал Перикл Мирониду:
– Тридцать восемь лет прожил я на свете. Я видел битвы. Смерть и слезы. Свой меч, и щит свой, и силу свою, если надо – и жизнь, я отдам ради нашей победы. Толмид упрекнул меня в чрезмерном раздумье. Я знаю: он хотел сказать – трусости. Пусть будет это на его совести. Муж он, несомненно, храбрый, он рвется в бой, и он выкажет много отваги. Я же говорю то, что говорил: все ли подготовлено для победы над врагом? Если не все, то не подождать ли нам?
Так говорил Перикл. А уж над Танагрой занималась заря и поднимался над Беотией день, который должен был решить эту битву афинян против лакедемонян. Афинским добровольцам, изъявившим желание идти в поход, помогала фессалийская конница. И эта конница внушала стратегу Мирониду большие надежды.
Миронид ответствовал Периклу в том духе, что, мол, поскольку затеяно дело, негоже возвращаться назад, не сразившись. Это походило бы на бегство перед лицом врага. Проучить лакедемонян и их союзников здесь, под Танагрой, было бы весьма кстати и надолго поубавило бы спеси у противников Афин. Сейчас не место, мол, спорам. Но перед сражением нужна молитва и нужна жертва богам. Пусть боги даруют победу афинянам! И да сбудется предсказание, данное оракулом!
Перикл сказал:
– Я умолкаю. Меч мой наготове. Я занимаю место, отведенное мне в бою. И вы увидите меня на поле брани вместе с моими воинами.
Миронид, принеся жертву богам, распорядился о начале военных действий. Согласно плану его, Толмид, сын Толмея, занимает место за холмом, по правую от Миронида руку, а Перикл отправляется на запад, с тем чтобы перейти речку и, выждав удобный час, ударить в правый фланг противника. Фессалийская же конница была отведена в овраг, поросший кустарником. Противник не мог ее видеть. А в самый яростный час боя, когда колеблются чаши весов, конница бросается в самую гущу врага и завоевывает победу.
(Это был план, вполне соответствовавший тому положению вещей, которое действительно сложилось на поле боя под городом Танагрой в Беотии.)
В это раннее утро туман еще скрывал противников друг от друга. Фессалийская конница укрылась в отведенном для нее месте. Перикл со своим войском двинулся через речку, под тень зеленого леска. Выставив вперед тяжеловооруженных, Перикл приказал построиться им в две шеренги – по сто девятнадцать человек. За ними он поставил легковооруженных, но так, чтобы большая часть их оказалась на правом крыле. Сам он тоже стал на правом крыле. На высоком месте выставил он пращников, придав им двадцать каменоносцев. Этим пращникам Перикл приказал действовать, как только начнется сближение с противником, и прекратить метание в то самое мгновение, когда воины сшибутся щитами, дабы не поразить своих.
Как бы по велению свыше, туман рассеялся, показалось солнце, и впереди простерлось залитое солнцем поле, которому было суждено обагриться кровью.
Оно представляло собою не вполне ровное место, а скорее волнообразное. Лощинки сменялись небольшими холмами, наподобие скифских могильных курганов, но только с еще более пологими скатами.
Первым начал движение Миронид. Его железные ряды внушали большое к себе уважение. Воины запели пеан. Одновременно с ним двинулись вперед своим правым крылом его противники. Такой маневр показался Периклу подозрительным, нарочито неправильным действием врага. Только тот, кто вовсе не опасался за свой фланг, мог так безрассудно ринуться вперед.
Вскоре Периклу сообщили, что позади движущегося правого фланга противника находятся войска, ожидающие приказа для вступления в бой. «Ошибка» лакедемонян стала понятной.
Перикл распорядился подвинуться влево на пятьдесят шагов, не нарушая боевого порядка – так, как если бы всех невидимая сила разом подняла вверх и перенесла влево. Это было исполнено в точности. Сей маневр дал возможность еще надежнее укрыться Периклову войску и занять место для удара более выгодное, чем прежнее. Речка в этом месте была неглубокою и текла довольно быстро. Местность отсюда проглядывалась лучше, и миг для атаки мог быть выбран более удачно.
Перикл сказал своему помощнику Аристоклу, сыну Евмея:
– Аристокл, прошу – будь подле меня. Я обещал отцу твоему, что окажу тебе помощь в самую трудную минуту. Бой – это только трудные минуты. Бой состоит только из испытания. Духа и тела. Стой подле меня и обороняй меня, если это будет необходимо.
Так сказал Перикл, потому что не хотел оскорбить самолюбие молодого Аристокла. Он якобы просил у Аристокла помощи, чтобы не выставлять себя открыто в роли защитника в бою. Было Аристоклу двадцать лет от роду, и был он красив душой и телом. Аристокл очень рвался в бой. В гимназии он слыл отличным борцом. Мало кто из его сверстников выстаивал в единоборстве с ним. Единственный сын своих родителей, молодой человек жаждал деятельности и славы. Меч для него сковал некий фракиец, прибывший в Афины год тому назад. И щит ему – легкий и прочный – смастерили по заказу его отца. И шлем и нагрудник железные были под стать его мечу и его щиту.
Аристокл обещал держаться рядом с Периклом. Он сказал не без бахвальства, что покажет врагам, что значит меч, выкованный мастером-фракийцем, за который было заплачено чуть ли не пятьдесят золотых дариков.
Перикл поднял правую руку вверх, требуя внимания от своих соратников. И все войско замерло, подобно многоликому зверю, готовому к прыжку. Перикл все время наблюдал за правым крылом противника, опасаясь – и вполне обоснованно – захода его в тыл. В конце концов он принял такое решение: основную массу легковооруженных перебросить на свой левый фланг, с тем чтобы противопоставить их в случае необходимости натиску врага.
Перикл в точности придерживался приказа Миронида: ждать первой сшибки противников и с учетом обстановки на поле боя принять участие наиболее действенным образом.
По-видимому, противник заметил войско Перикла и начал движение в обход его правым своим крылом. Намерение было вполне ясным: обхватить Периклово войско полукольцом с запада.
Лакедемоняне и их союзники врезались клином в шеренгу Миронидова войска. Заскрежетало железо. Мечи высекли первые искры. И уже пролились первые струйки крови. Это случилось в мгновение ока.
Миронидово войско попятилось. Медленно, отбиваясь от атаки, оно попятилось. Не надолго. Вскоре оно решительно двинулось вперед, рубя нещадно врага и по телам врага безудержно наступая.
Начало для афинян было ободряющим.
Перикл не торопился вступать в бой: он выжидал, неусыпно наблюдая за движением врага. Он приказал растянуть шеренгу, дабы иметь полную возможность в надлежащее время помочь Мирониду, угрожая в то же время правому флангу противника. Пращники делали свое дело, переместились на крайний левый фланг и осыпали камнями двигавшегося противника, который запел пеан и быстро пошел в наступление.
Спустя некоторое время бой развернулся в полной мере и во всей своей обширности. К этому времени Миронид, теснимый лакедемонянами, отступал к оврагу. Потери, судя но всему, с обеих сторон были очень большими.
Войско Перикла вошло в соприкосновение с противником своим правым крылом и левым. А сам он находился там, где нависала наибольшая опасность. Он действовал мечом так, словно его правая рука и меч составляли единое целое.
Аристокл – надо отдать ему справедливость – показал себя настоящим воином. Его бесстрашие, его желание победить возникшего перед ним противника воистину было удивительным. Перикл, подбадривая его, одновременно старался отвести от молодого человека явную угрозу.
Бесстрастный наблюдатель, следя за ходом битвы, сказал бы, что чаша весов не склонилась еще ни в ту, ни в другую сторону. Подобно гибкой ветви, линия боя то продвигалась в сторону Танагры, то отступала назад.
Периклу удалось сдержать напор противника. Он оказывал весьма значительную помощь Мирониду. Но каким-то особым чувством он предвидел беду. Хотя и гнал от себя мрачные мысли. Но не мог он не думать, ибо, работая мечом, одновременно командовал подчиненными. И он обязан был думать. А когда думаешь – разное приходит в голову…
Настала пора вступить в битву фессалийской коннице. Ее появление на поле – одно лишь появление! – создало бы перевес на стороне афинян. Однако конница почему-то медлила. Напрасно посылал своих помощников с приказами и мольбами Миронид: гиппарх – предводитель конницы – оставался глух. Вполне вероятно, что обстановка определенным образом повлияла на решение гшшарха повременить со вступлением в бой. Но именно эта медлительность и привела к большим осложнениям для афинян. Посланный Миронидом сказал гиппарху по имени Амфимнаст следующее: «Вот настал час, когда вы должны показать себя. Любое промедление грозит гибелью всем нам. Миронид ждет не слов, не ответа твоего, но действий соответственно твоему обещанию». На это фессалиец ответствовал так: «Кони очень устали. Их надо накормить и напоить. Ты видишь, как они жуют эту сухую траву? Откуда им взять силу?» Посланец торопил его: «Амфимнаст, страшная угроза нависла над нашим войском. Выгляни из своего укрытия, и ты увидишь нечто: земля окрашена кровью афинян. Твое появление вселит уверенность, и враг будет побежден без особого урона для твоей конницы». Так говорил он, убеждая фессалийцев поскорее садиться на коней и вступить в бой. Но – увы! – фессалийцы прикидывались то усталыми, то несмышленышами, то просто глухими. Это походило на издевательство. А когда им надоела болтовня, сели на коней и ускакали на восток. Измена была явной!
Лакедемоняне, видя, что конница выходит из дела, вовсе не побывав в нем, удвоили свой натиск. Особенно страдало войско Толмида. Отступление его вскоре превратилось в повальное бегство. Противник наступал ему на пятки. Не было никакой возможности устоять, ибо лакедемоняне ввели на своем левом крыле свежее войско…
Миронид выслал Толмиду подкрепление. Полсотни гоплитов дали возможность Толмиду собрать людей и снова встретить противника лицом к лицу. Сеча была упорной и жестокой. Только слепой мог не заметить, что победа любой стороне достанется великой ценою.
Перикл все это предвидел. Скоропалительность военного похода, плохая подготовка войска и просчет в оценке вражеской силы не могли принести добра. Да и самый оракул, который был дан перед походом, невозможно рассматривать как вполне определенный. Скорее наоборот: двусмысленность ответа не вызывала сомнений. Только горячие головы, вроде Миронида и Толмида, могли принять данный им оракул как благоприятный. К голосу Перикла не прислушались…
В войске Миронида находились сто тяжеловооруженных сторонников Кимона. Самого Кимона, преданного остракизму, афиняне не допустили к битве. Тогда Кимон обратился к своим единомышленникам с таким посланием: «Я, к великому своему огорчению, не смогу принять участия в битве и пролить свою кровь за счастье дорогих моему сердцу Афин. Молю вас: отведите от себя всякое подозрение, выкажите доблесть, которая присуща нам, афинянам. Пусть боги пошлют вам неслыханную и невиданную доблесть, на удивление согражданам и на страх врагам. Что бы ни случилось – даже самое худшее! – я уверен, что трусость не совьет гнезда в ваших сердцах. Вот случай, который посылают нам боги для того, чтобы афиняне могли убедиться в том, что вы есть сыны их доподлинные и родные! Знайте же: я с вами душою, я рядом с вами!»
Если только человек, имеющий сердце и печень, способен стоять непоколебимо, эти сто оказались неприступной стеною! Средь бушующей, подобно урагану, битвы они держались одиноким островом, о который разбиваются валы. Это видели все, и это было достойно оценено. Перикл сказал в разгар боя, имея в виду сторонников Кимона: «Вот пример, достойный подражания! Вот истинная доблесть, способная удивить все живое!»
Перикл и его войско, контратакуя, продвигались вперед, пытаясь перехватить наступающих врагов и, насколько это возможно, ослабить натиск.
Молодой Аристокл выказывал истинный пример доблести. Он бросался вперед и в неистовом рывке сбивал с ног противника. Меч его работал без устали, и его уже приметили враги, а приметив, оценили силу его. Именно этого и опасался Перикл, не спускавший глаз со своего подопечного. Молодость порою слепа, особенно в бою. Все это учитывал Перикл, руководя боем. Он приказал Аристоклу держаться по левую руку, не далее двух шагов. Каждый раз, когда Перикл бросал взгляд на Аристокла, он видел не Аристокла: перед ним как живые стояли родители Аристокла с мольбою в глазах…
Лакедемоняне шаг за шагом теснили афинян. Трава из желтой стала красной. Люди стонали на земле предсмертным стоном. А мертвые молчали, чтобы никогда – больше никогда! – не браться за мечи. Но и этот страшный пример не мог образумить воюющих, ибо так сильно было ожесточение одних против других. И так сильно оказалось желание победить во что бы то ни стало. Но кто победит? Это было не вполне ясно, хотя афинян изрядно теснили, а правое крыло их было разбито.
Периклову войску удалось расстроить ряды противника, и здесь уже бились один на один или один против двух или трех. Ежеминутно менялось положение: там, где бились двое, – уже лежали двое, там, где сражались трое, – оставался всего лишь один. В эти мгновения фессалийская конница без особого напряжения могла бы изменить ход сражения. Но – увы! – она уходила все дальше и дальше.
Лакедемоняне, проявив жестокое упорство, сломили гоплитов Кимона и прошлись по их телам. Это было тяжелым ударом для войска Миронида. Непоправимым ударом, ибо некому было оказать ему помощь: Толмид терпел урон, он отступал, а Перикл едва успевал отбиваться от превосходящих сил противника. О победе афинян теперь уже не могло быть и речи! Но пока человек жив, он надеется и верит…
Афиняне все еще жили. Сражались. И верили…
– Он снова появился у нашего дома, – сказал Евангел.
Хозяин, казалось, не расслышал этих слов: он слушал голоса ветра и дождя, голос тишины этой комнаты и голос сердца, которое уносило его в далекое прошлое…
Евангел повторил:
– Он снова появился у нашего дома.
– Кто?
– Этот молодой человек с горящими глазами. Я говорил с ним.
Перикл привстал:
– Что же он?
– Ничего… Стоит напротив и смотрит на наши ворота.
– Ты приказал ему удалиться?
– Да.
– Что же он?
– Все то же.
– Что же он, спрашиваю?!
Перикл задумался: что надо этому молодому человеку? Кто он? И откуда такое упорство?
– Я сказал ему: «Ступай займись делом». Он ответил, что нет дела более достойного, чем то, о котором желает поговорить с тобой. Я сказал ему: «Мой господин, как известно, не у дел. Он никого не желает видеть». – «А у меня, говорит, нет к нему просьбы, не надо мне от него ни одного обола, и я прекрасно знаю, что он не у дел, что никому больше не нужен».
– Так и сказал?
– В точности.
– Чей он сын?
– Не говорит.
– Откуда он?
– Не говорит. Но по всему видно – житель равнины, житель морского побережья.
– Я, кажется, припоминаю его. Он такой кудрявый?
– Да.
– Невысокий?
– Да. Худощавый.
– Глаза чуть навыкате?
– Глаза?.. Именно навыкате! С сумасшедшинкой.
– В прошлом году на агоре́ я часто ловил странный взгляд. Молодого человека. Лет двадцати.
– Да, ему около двадцати.
– Что было в этом взгляде? – Перикл потер лоб. – Что было в этом взгляде?.. Зависть? Нет. Злоба? Пожалуй. Негодование? Пожалуй. Ненависть? Пожалуй. Как ты сказал, Евангел, с сумасшедшинкой?
– А как же назвать это самое?.. Такое сияние?.. Такой блеск, исходящий откуда-то из глубины?
– Ты определил очень точно, Евангел.
Перикл свесил ноги. Скрестил руки на груди. Что же все-таки надо этому молодому человеку?
– Он стоит под дождем, Евангел?
– Не совсем. Но довольно мокрый.
– Что-нибудь важное у него? Как ты думаешь?
– Как видно, да.
– Что же это может быть?
– Не знаю. Он не говорит.
– И такая настойчивость…
– Куда уж больше!
– Он вооружен, Евангел?
– Под плащом одни книги.
– Почему же он не уходит домой?
– Желает поговорить с тобой.
Перикл прошелся по комнате. Медленно, степенно, той самой походкой., которая вот уж сорок лет так хорошо знакома афинянам. Походка мужа. Шаг волка. Осанка мудреца. Немного горделивая. Чуточку важная… Такая знакомая походка. Вовсе не торопливая. Всегда размеренная. Если даже случится затмение солнца или незнаемая сила тряханет землю. Походка, приводившая в восхищение одних. Походка, возмущавшая других. Походка человека, на первый взгляд пренебрегающего всеми прочими. Знающего цену только себе. Презирающего всех себе подобных. Возвышающегося над всеми.
Перикл сказал:
– А если упросить его, Евангел?
Он посмотрел на раба. Внешне будто спокойно. Но только внешне. Евангел все понимает, все видит, словно сквозь слюду или финикийское стекло. Нет тайны для Евангела, когда дело касается его хозяина. Евангел читает, как по открытой книге: достаточно, хотя бы на миг, увидеть лицо Перикла, непроницаемое для других. Будто всегда ровное, будто бесстрастное лицо этого прирожденного вождя афинских демократов.
– А если упросить его, Евангел?
– Я пытался.
– Если очень-очень?
– Умолять его? Этого сосунка?
Евангел никак не может позволить себе этого! Унижаться перед каким-то чудаком или сумасшедшим? Или попросту дураком?! Во имя чего? Проще отколотить его. Если Перикл не против, Евангел прикажет другим рабам, помогающим по хозяйству, – и этот сосунок костей своих не соберет! Да этого молокососа…
– Не раздражайся, Евангел, – остановил Перикл раба. – Ты же сам сказал, что не знаешь молодого человека. Ты сам сказал, что не знаешь толком, что ему надо. Ты же сам… Нет, так невозможно, Евангел! Любой гражданин имеет право обратиться к любому… – Перикл осекся.
– Правителю, – подсказал раб.
– Даже бывшему, – поправил его Перикл и улыбнулся. – Ведь мы ничего не знаем о нем.
Евангел двинулся было к двери.
– Не надо, – остановил его Перикл. – Я еще не сказал, что желаю его видеть.
– Он порядком досаждает нам…
– Да, – признался хозяин. И зашагал по комнате.
– Ты боишься его?
– Я?
– Да, господин мой.
– Я?
– В тебе все переворачивается, когда говорю о нем. Тебе очень неприятно, что этот молодой человек сторожит твои ворота. Что жаждет видеть тебя. Что желает говорить с тобой…
– Говори, говори, Евангел.
– Ты думаешь, я не вижу? Ты меняешься в лице. Другие не заметят этого, а я – замечаю. Самая худая весть для тебя – это весть о том, что молодой человек снова торчит у ворот. Или я говорю неправду, господин?
– Говори, говори…
– Это было летом. Я сказал тебе: он ждет. Тебе это очень не понравилось.
– Мне все были тогда противны.
– Ты сказал: «Прогони его!»
– Да, это верно.
– Он не подчинился. И с тех пор ты боишься его.
– Что бы ты сделал на моем месте, Евангел?
– Приказал бы проучить сосунка.
– При помощи кулаков?
– И ног в придачу.
– Ты жесток, Евангел.
– Как сама жизнь. И не больше других… А почему я должен быть добр, дорогой хозяин? Откуда взяться доброте? Или я впитал ее с молоком матери, которую не помню? Или мне внушил что-либо подобное отец, которого тоже отняли у меня? Откуда же, хозяин, браться доброте? Она же не витает в воздухе сама по себе! Ее не внушают боги. Человек передает добро человеку. Доброта растет как на дрожжах там, где все люди добры. Где меж ними не злоба и сплошная корысть. Я спрашиваю тебя: откуда же браться доброте?
Перикл укоризненно покачал головой:
– Евангел, ты гораздо добрее, чем представляешься в эту минуту. Разве человек не есть кладезь добра?
– И зла, – сказал раб жестко.
– В первую очередь добра.
– Они вполне совместимы?
– Увы, да!
– Слыхал. Это та самая диалектика, о которой толковали мудрецы в этой комнате?
– Да, Евангел, та самая. И между ними идет постоянное противоборство.
– Между добром и злом?
– Совершенно верно!
– Я скажу: зло побеждает всегда! Так где же здесь диалектика?
– Она в том, – ответил Перикл, – что ты ошибаешься.
– Как?! – вскричал раб.
– А очень просто. Мы порою видим то, что видим. Но этого мало. Этого бесконечно мало, если мы стремимся стать настоящими людьми и хотим жить среди людей. Диалектика в том, что добро все-таки побеждает. Оно берет перевес. Оно делается все больше, оно заполняет все атомы вселенной. Оно плывет, подобно волшебному кораблю. Это – добро мирозданья!
Возможно, это и так. Раб согласен: добро должно торжествовать. Но весь вопрос в том: когда? Жизнь человеческая коротка. Мотылек тоже живет. Оба они живут целую жизнь. Значит, так: добро торжествует! Позволительно спросить: в течение жизни мотылька или жизни человека? Или – после? После смерти. И тогда человек узнает о торжестве добра в могиле, а мотылек – под каким-либо листочком придорожным. Так когда же все-таки торжествует добро?
На этот счет у хозяина особое мнение. Евангел, говорит он, упрощает дело. В философском понимании жизнь есть бесконечная цепь. Имеется в виду жизнь человеческого общества. Непрерывная цепь. Смерть, поскольку речь идет о живой материи, явление столь же необходимое, как и жизнь. Это две стороны одной медали.
– Не самая лучшая медаль, – ворчит Евангел.
– Это дело вкуса, Евангел. Высший разум, господствующий в мире, так именно и сотворил. И нас в том числе. Мы можем сетовать, можем проклинать кого угодно, но изменить что-либо не в состоянии… Однако вернемся к добру, которое рано или поздно восторжествует. Хорошо, если в течение жизни, но неплохо и потом. Это необходимо для живых.
Раб не согласился с ним. Это придумано софистами ради удобства – собственного удобства. Если спросят Евангела, он за то, чтобы торжество добра наступало еще при жизни человека. Как можно скорее. Он эту мысль развивал очень длинно. Ему, казалось, недоставало слов.
Перикл слушал внимательно. Он слушал так, как умел слушать во всей Аттике один лишь Перикл. Слушая, он пытался получше понять своего собеседника. Понять его, проникнуться его мыслями, его заботами. Точка зрения собеседника важна для него так же, как своя собственная. Потому что общество человеческое нераздельно. Даже господин и раб нераздельны, ибо так создан этот мир. Нет жизни без господина. Нет жизни и без раба. Это тоже две стороны одной медали. Один прилеплен к другому очень и очень прочно. Почти неразрывно. Это только кажется, что нет столь прочных уз, которые бы удержали одного человека возле другого. На самом деле узы эти есть, хотя и невидимы, и они столь прочны, что не поддаются никакому изменению по чьей бы то ни было воле. Даже самой высокой. Такова общество. Такова судьба граждан в этом обществе или государстве. Но это не есть судьба моллюсков, не менее прочно сцементированных друг с другом. Человек – существо мыслящее, и в этом его счастье, в этом и его беда. Если он хочет быть счастливым, он должен до конца понять свою неразрывность и зависимость от другого, ему подобного, и довольствоваться тем, что посылает ему судьба…
– Вот тут я опять не согласен! – вскричал раб. – Разве судьба нечто постоянное? Разве она не поддается метаморфозе, в конечном счете сугубо меняющей ее природу? Только тот, кто смирился с властью грозной судьбы, кто почувствовал, что больше ни на что не способен, склонит голову и скажет: «Я всецело во власти судьбы, какая бы она ни была». И это будет худо! Разве не говорят иные из твоих друзей: «Человек, который думает о свободе своей, тот хозяин своей судьбы»? Разве это не так?
Перикл не был бы самим собой, если бы отказался от анализа рассуждений своего домоправителя…
Разумеется, раб недоволен своей судьбой. Не надо быть вовсе великим, чтобы прийти к этому выводу. Все дело в том, что за этим воспоследует: примирение с жизнью или единоборство с судьбой, которая почему-то кого-то не устраивает? Однако любое нарушение государственной гармонии, там, где общество разделено от века, есть покушение на самую вселенную, устроенную высшим разумом в неприкосновенной первозданности. Можно что-то в нем менять, можно вводить форос или отменять его, можно объявлять войну или заключать мир, можно, в конце концов, признавать власть Ареопага такою, какая она есть, или вовсе ее отменять. Это дело политического такта и способностей. Но нельзя делать одного: менять стержень, основу основ. Да это и бесполезно. Это все равно что биться головой о скалу или пытаться переместить Акрополь поближе к Пирею. Есть определенная данность, которая свыше, и с этим надо мириться. В этом и заключено великое искусство бытия. Невозможно мешать, подобно зернам гороха, господина с метеком, метека с рабом. Гармония есть гармония!
Упрямый раб тоже кое-чему научился у господина, которого любил глубоко и искренне, которому служил безупречно. Евангел не согласен в целом с логикой господина своего. Изъян в его мышлении для него очевиден. Евангел понимал это в глубине души. Но как победить Перикла в споре? Ведь это почти невозможно…
Евангела так и подмывало сказать Периклу несколько малоприятных слов по поведу торжества добра. Скажем, так: скоро ли восторжествует добро по отношению к самому Периклу? Служить целых сорок лет верой и правдой Афинам и вдруг получить сокрушительный удар и очутиться в этих четырех стенах – разве это справедливо? Спрашивается: когда же восторжествует добро? После? И это «после» устраивает Перикла? Действительно устраивает, хотя бы с философской точки зрения? А?
Однако раб удержался. Можно обойтись и без этой колкости, когда человек повержен. Да еще как повержен! Всемогущий властитель едва избежал позорного суда и позорного наказания! Нет, не следует его добивать… Впрочем, сам Перикл едва ли одобрил бы такой образ действий своего Евангела, своего преданного домоправителя и раба… Господин беспощаден в споре. Он доводит спор до конца, с кем бы ни вел его. Такое у него правило. Таков закон, которого он придерживался всю жизнь. Почему? Да очень просто: а как же иначе выяснить истину? Как же иначе управлять таким могущественным государством, как Афины с его двумястами городами-союзниками?
Продолжительное молчание раба Перикл понял по-своему: Евангел исчерпал все доводы в пользу своего тезиса. Рабу больше сказать нечего. Хотя Евангел не из тех, которые сдаются запросто из уважения к годам или опыту собеседника… Пора все-таки вернуться к этому самому молодому человеку, из-за которого, собственно, и начался спор. Что с ним делать?
Евангел на этот счет по-прежнему был весьма определенного мнения: стоит ли тратить силы на беседу с этим сумасшедшим? Евангел убежден, что это сумасшедший. Кто же решится простоять весь день вот этак, под дождем?
Перикл сказал:
– Евангел, поди и выведай, чего он все-таки хочет. И нельзя ли отсрочить разговор, если нельзя его избежать вовсе?
Раб прислушался. Дождь унялся. Да и ветер тоже…
– Аристокл! Аристокл!
Но напрасно зовет Перикл. На его щит обрушиваются удар за ударом. Трое против одного!
Где же Аристокл?
Стоит обернуться, как тотчас же лишишься головы… Где же Аристокл?
Лакедемоняне сумели расстроить шеренги Миронида. Там идет бой за каждый локоть земли. Противник платит дорогой ценой. Афиняне умирают, унося с собою души врагов своих.
А Периклу некогда. Ему и передохнуть некогда, ибо его обступают со всех сторон. Мечи сверкают грозно, точно молнии перед глазами. Он уже не командует своим войском, ибо приходится оборонять самого себя. Благо, великое благо, если избежит он плена и сохранит себе жизнь!
Но нейдет у него из головы это имя: «Аристокл». Впереди, за небольшими кустами, разгорается сильнейшая битва, точно бьется там десяток Гераклов. Не там ли Аристокл, среди этих богатырей?
Правое крыло, где предводительствовал Толмид, окончательно смято. Бой там окончен. Те, которые упали, – больше не встанут. Остаток своего войска Толмид переместил к середине, к Мирониду. Но и здесь неудача преследует его: лакедемоняне напирают с удвоенной силой, храбро бьются против храбрых афинян.
Войско Перикла отошло к самому берегу реки. Люди уже валятся прямо в воду. И тонут в мелководье. Тонут, как спеленатые дети, не в силах шевельнуть руками… Аристокл тоже у самого берега. Шаг – и ноги окажутся по щиколотку в воде. Он уже не видел одним глазом. У него не действовала одна рука. Та, которая главная, – правая. И Аристокл приспособил свой щит к правой руке, а меч взял в левую. И стал поджидать врагов. Так он оказался в одиночестве на берегу речки.
Тогда лакедемоняне-пращники, отделившись от своих, стали забрасывать Аристокла камнями. Напрасно вызывал их на бой – меч с мечом! Свистящий камень угодил ему в висок, и Аристокл рухнул. Запрокинул голову, и вода залила ему горло, и вода сперла ему дыхание. Перехватила словно бы веревкой.
И случилось такое: в это самое мгновение подбежал к нему Перикл. Присел и обхватил ему голову руками. И прижал к себе, зовя его по имени. Однако пентеликонский мрамор бывает летом теплей, чем лоб этого молодого человека, походившего на бога с Олимпа.
Перикл поднял на руки бездыханное тело и перенес через речку. За речкой собирались те, кто избежал смерти, кто безупречно сражался и снова поджидал противника.
Обе стороны понесли невосполнимые потери. Афиняне помышляли только о том, чтобы побольше нанести урона противнику. Лакедемоняне понимали, что их самих осталось слишком мало, чтобы продолжать наступление. И, словно бы по уговору, обе стороны отошли друг от друга на почтительное расстояние. У лакедемонян недостало силы, чтобы водрузить трофей. Да о каком трофее могла идти речь? Дышать – еще не значит быть победителем!
Обе стороны выслали глашатаев, для того чтобы договориться об обмене убитыми. Пленных не было ни с той, ни с другой стороны…
Миронид подошел к Периклу, тело которого было поражено в нескольких местах. И кровь все еще не унималась. Миронид сказал:
– Перикл, ты явил сегодня и храбрость соответственно твоей мудрости. Извини, что не послушались тебя.
Перикл же ответил:
– Не я, а вот он и его сверстники достойны благодарности. Ибо отдали все, что имели. А имели они в свои двадцать лет только одну жизнь.
Так сказал Перикл.
Завершилась битва под Танагрой. Конец ее оказался таким, каким и предвидел его Перикл. И, как всегда, думал Перикл не о том, что случилось, но что скажет теперь народу, чем объяснит случившееся, что скажет тем, которые ждут молодого Аристокла…
Верно, афиняне, как и следовало ожидать, проиграли эту битву, но ни одному здравомыслящему не пришла в голову мысль о том, что битву выиграли лакедемоняне…
– Вот его доподлинные слова: «Я лучше упаду на этом самом месте от изнурения, нежели сойду с него».
Перикл заметил:
– Как видно, очень упрям. По крайней мере, узнал ли ты его имя?
– Да. Это Агенор, сын Олия.
– Сын Олия?
– Так он сказал. Могу теперь засвидетельствовать, что это воспитанный и умный молодой человек.
– Из чего ты это заключил?
Евангел сослался на свое впечатление. Первое оказалось неверным. Он переменил свое мнение и «сумасшедшинки» не обнаружил в глазах молодого человека. Агенор, несомненно, умен, воспитан, почтителен со старшими.
– Мне трудно судить о его почтительности, – сказал Перикл, – но что касается ума его и воспитанности – в этом можно усомниться. Подумай сам, Евангел: молодой человек торчит на улице, никем не прошен и никем не зван. Это – воспитанность? С ним не желают разговаривать, а он домогается встречи. Это – ум? Или признак чрезмерного ума?
– И все-таки на этот раз он мне показался умным. По крайней мере, смышленым.
Перикл попросил вина, разбавленного водою.
– У меня такое ощущение, – сказал он, – что внутри, вот тут, чуть пониже груди, кто-то разжег огонь. Пламя подходит к самому горлу. Как ты думаешь, Евангел, отчего это?
– Не знаю. Но это, наверное, поможет, – сказал раб, подавая фиал с вином.
Холод полезен всегда, когда неспокойно сердце, когда оно то трепыхается, словно курица на земле, то готово взлететь, подобно орлу. Перикл улегся и снова уставился взглядом в потолок. Вот который уж месяц глядит он на потолок и вопрошает сам себя: почему же так обидели его? За что такое наказание? Плохо или мало служил он афинскому народу?
– Дождь перестал, – проговорил Евангел.
– Да, должно быть так.
– Ему легче будет стоять.
– Кому? Агенору?
– Да.
Перикл скосил глаза:
– Ты хочешь, чтобы я поговорил с ним?
– Раньше не хотел, а теперь, пожалуй, попрошу за него.
– Странная в тебе перемена!
– Он не кажется мне теперь сумасшедшим.
– Оригинальные, умные люди всегда немного ненормальные. То есть, Евангел, я хочу сказать, что то, что кажется нам ненормальностью, – на самом деле вполне нормальное, но не доступное нашему пониманию. Мы всегда подозрительны к тому, что необычно, что отличается от привычного. Ты меня огорчил своим сообщением: я предпочитаю сумасшедших – так называемых сумасшедших – тусклым и безличным нормальным.
Раб, казалось, обиделся:
– Разве не проще было бы поговорить с ним? Все бы тотчас выяснилось. Сколько он еще простоит?
– А это мы увидим…
– Может, и в самом деле вышвырнуть его?
– Но ведь улица не наша! Можем ли мы распоряжаться так, как в своем собственном доме? На этот счет имеется определенный закон. И никто не вправе запрещать другому стоять там, где ему вздумается. Ведь он же не ломится к нам?
– Не ломится, – согласился раб.
– Вот видишь?!
– Я попрошу его прийти завтра.
– Завтра? – Перикл посмотрел на раба широко раскрытыми глазами.
– Почему бы и нет?
– Это, по-твоему, лучше?
– Чем скорее это кончится, тем лучше.
– Ты полагаешь, что меня очень беспокоит этот молодой человек?
– Думаю. Уверен.
Лицо Перикла сделалось совсем спокойным, почти бесстрастным. Вот таким выглядел он, когда выступал в Народном собрании в самые тревожные времена. Чем больше тревоги в воздухе – тем хладнокровнее Перикл. Не в этом ли качество народного вождя? Евангел любил своего хозяина. Перикл значил для него больше, чем господин. Чем дважды и трижды господин! Ведь это же был сам Перикл!
Раб сделал несколько шагов в сторону двери, но раздумал и воротился назад. Налил снова вина и подал фиал своему хозяину. Тот беспрекословно принял сосудик. Этот Евангел тоже значил нечто больше, чем просто слуга и раб.
– Кислит, – сказал Перикл, выпив вино.
– Такова природа вина.
– Я же сказал не в упрек, Евангел.
Перикл вспомнил, что хотел отдать кое-какие распоряжения по хозяйству. Он приказал рабу взять дощечку и стиль. Это его желание было исполнено тотчас же. Весьма проворно.
Перикл поднял вверх указательный палец:
– Первое…
Но больше ему не удалось произнести ни слова по поводу хозяйственных дел, потому что вошел Ксантипп. Его старший сын.
Ксантипп сутуловат. Ростом – так себе… Нельзя сказать, что высок, но и коротышом не назовешь. Волосы взъерошены, борода жидковата и, кажется, давно не чесана. Глаза – отцовы. Но нету в них ни мыслей отцовских, ни доброты, ни сочувствия к окружающим. Такой бегающий, немного хищный взгляд. Гиматий не первой свежести. Неопределенного цвета. Вроде бы линялый. Некогда, видимо, пурпурный. «Но на ногах Ксантипп держится. Самостоятельно. Может быть, недопил. А может, со вчерашнего. Кто его поймет!»
Входит Ксантипп бочком. Косится на Евангела. Словно намеревается обойти его со спины. В драку, что ли, полезет? Двигается бочком, смешно раскорячив ноги. И ни слова. Ни «здравствуйте», ни «добрый вечер». Собственно говоря, вполне привычное. И не стыдно ему? Ведь носит он имя деда! И чей сын? Самого Перикла!
Перикл отослал раба, сказав, что позовет в нужное время и чтобы распоряжался хозяйством по своему разумению, которого в избытке у опытного домоправителя. Евангел даже не взглянул на Ксантиппа. То есть поступил так, как того достоин этот несчастный пьянчужка, только позорящий отца, только пятнающий род свой.
Ксантипп в свою очередь тоже не удостоил раба своим вниманием: смотрел себе под ноги, на грязные башмаки.
– Ну? – спросил отец, дождавшись, пока удалится раб.
– Смеются надо мною, да и только, – проговорил глухим голосом Ксантипп.
– Кто и над чем смеется?
Сын промолчал. Поискал скамью и грузно уселся на нее. Выставил напоказ ноги, а заодно и дырявые башмаки, из которых торчали пальцы.
Отец лежал ровно, спокойно, ничем не выказывая своих чувств. Тем более гнева.
– Ты меня слышишь? – спросил он.
– Да, – ответил сын.
– Что же ты скажешь?
– А что мне говорить? Об этом все говорят. Вся улица. Весь город.
Сиплый голос свидетельствовал о бурно проведенной ночи. Хорошо, если обошлось дело без пьяной драки… С каждым словом Ксантипп все больше раздражался. Хотя отец не подавал к тому ни малейшего повода. Перикл был холоден, как элевсинский камень.
– О чем же говорят в городе? – спросил Перикл, не поворачивая головы и продолжая глядеть на потолок.
– Обо мне, разумеется.
– Что же говорят о тебе?
– Об этом тоже… – Ксантипп задрал ноги чуть ли не повыше головы.
– О рваных башмаках?
– Нет! – вскричал Ксантипп. – О моем скаредном отце говорят! О скупости твоей! Вот о чем! О скопидомстве!
– По-видимому, дела у афинян идут прекрасно.
Ксантипп не понял иронического замечания отца.
– Я говорю, – сказал Перикл, – дела у них великолепны.
– Это почему же?
– Очень просто: поскольку главная тема – твои башмаки.
– Ах, вот оно что! – Ксантипп заскрежетал зубами и схватился за голову.
«Сейчас самое время плакать, – подумал отец. – Поплачет, а потом начнет буйствовать».
Но до этого не дошло. Ксантипп негромко рыдал, произнося какие-то непонятные слова. Ничего нельзя разобрать. Да отец и не пытался делать это – все равно бесполезно. Послали же боги вот этакое наказание! И за что, спрашивается?!
Посмотрим, что будет дальше?..
Что нынче выкинет Ксантипп?..
Ведь все это боги посылают, – значит, надо терпеть… Только терпеть! Ведь сын это. Сын! Не вырвешь его из сердца.
…Аспазия, дочь Аксиоха из Милета, блистала красотой двадцатипятилетней красавицы, когда впервые увидел ее Перикл. Это было у нее дома. Недалеко от афинской агоры́, где Аспазия снимала небольшой дом. Анаксагор, речистый и умный муж из Клазомен, словно бы за руку ввел к ней Перикла.
– Вот она самая, – сказал он громко, указывая на хозяйку, поднявшуюся навстречу гостям.
Перикл был наслышан о ней. О красоте ее. И уме. То, что молодая женщина слывет красавицей, – в этом нет ничего удивительного. Это даже в порядке вещей. Поразительно другое: откуда выдающийся ум ее, откуда богатые знания?
Анаксагор, который был на пять лет старше своего друга Перикла, считал своим долгом свести их. Весь город твердил это имя – Аспазия! Как же Периклу быть в стороне?
В просторной комнате, кроме Аспазии, находился тучный Лампон. Этот прорицатель поспевал везде. Его могучие ступни, так не идущие к его маленькой и полной фигуре, всюду поспевали. Разве удивительно, что одним из первых в Афинах приметил Аспазию именно он?
Заморская красавица улыбалась без жеманства, произнося слова, приличествующие гостеприимной хозяйке. Весь облик ее, вполне соответствовавший славе Аспазии, свидетельствовал о здоровье, о счастье, которым переполнено это заморское создание. Зачем появилась она в Афинах? На это нетрудно ответить. Да и сама не скрывала этого: Афины – город великий. Афины – средоточие эллинской мысли и искусства. Афины – душа Эллады. Даже наилучший остров Ионии не сравнится с самым заброшенным уголком Аттики, не говоря уже об Афинах. Даже само название города предопределяет красоту и величие его. Разве не вправе стремиться сюда всякий, кто понимает цену оригинальной и высокой мысли, кто хотел бы чуть-чуть услышать риторов и философов Афин, и музыкантов, и поэтов Афин, увидеть творения афинских скульпторов.
Так объясняла свое прибытие в этот город очаровательная Аспазия. И, видимо, это была сущая правда.
Каково было первое побуждение Перикла, завлеченного сюда его другом? Усомниться во всем, что говорили ему об Аспазии: в ее красоте, в ее воспитанности и, наконец, в ее уме. Оболочка поддается немедленному и прямому исследованию. Этот вопрос решается почти мгновенно. «Почти», но не всегда. Иногда это самое «почти» может растянуться на недели и месяцы. Ибо красота женщины, как верно толкуют о том знатоки, не является чем-то постоянным, то есть окаменевшим. Она меняется, подобно небу, когда оно в облаках.
В различные часы небо бывает разным. И воспринимается по-разному. То же самое следует сказать о женщине. Разве она одинаково прекрасна в вечерние часы, утомленная за прялкой, и на ложе любви, где она – подобна волшебной трепещущей птице, готовой взлететь?
Посмотрите на женщину, когда она раздумывает наедине с собою. Или печалится одна. И сравните ее, когда в обществе мужчин рассказывает она что-нибудь веселое. Особенно если в этом обществе находится некто, кто дорог ее сердцу. Ну, что вы скажете о ней? Разве это одна и та же женщина?
Перикл заметил про себя, что она моложе его чуть ли не на восемнадцать лет. Молодая гетера, несомненно, поражала красотою лица, стройностью фигуры, которую облегало легкое платье. Волосы ее очень шли ей, ее глазам, ее шее – белой и высокой, ее ногам беломраморным. Одним словом, это была единая, ничем не нарушаемая гармония. Казалось, даже любой палец был в совершенном соответствии всему ее облику. Это великое счастье для той, которая принадлежит к красивейшей половине человечества.
Анаксагор – такой живой и подвижной – ждал, что скажет Перикл. Перикл слегка опустил голову и проговорил:
– О Аспазия! Я наслышан – много наслышан – о тебе. Могу сказать чистосердечно, что самые лестные отзывы, казавшиеся мне чрезмерными, соответствуют тому, что видят мои глаза.
Это было сказано просто, без особой жестикуляции. Даже слишком сдержанно, если говорить о внешней стороне. Однако, по существу, слова эти достаточно ярко и несомненно точно отражали то впечатление, которое вынес Перикл в первые же минуты знакомства с Аспазией.
Анаксагор был очень собою доволен: вкус его оценен и его другом. Он уселся на скамью в качестве давнишнего друга этого дома. Лампон же молча отхлебывал вино и чему-то улыбался.
– Что же до меня, – ответствовала Аспазия, приглашая гостей посидеть, где кому удобнее, – я очень и очень ряда, что наконец вижу того, о ком слава идет воистину громкая. Слава, какую только может пожелать себе самый достойный муж.
– Это слишком, – сказал Перикл и улыбнулся.
– Нет! – воскликнул Анаксагор, обращаясь попеременно ко всем присутствующим. – Нет, говорю я! Ибо слава редко соответствует деяниям человека. Я это утверждаю, ибо опытен в этого рода делах… Но что скажет Лампон?
Тот посмотрел из-под густых бровей, точно из-за кустов, и сказал:
– Лампон говорит только чистую правду, а для этого ему следует поразмышлять.
– А это справедливо, – сказал Перикл. – Какая цена прорицателю, если он выбалтывает все свои мысли в мгновение ока?
Анаксагор был настроен на шутливый лад.
– Как? – сказал он. – Неужели надо думать целую вечность, чтобы высказать всем известную истину?
Прорицатель чуть не соскочил со своей скамьи на пол. В эту минуту он напоминал потревоженного сатира, как изображают его на красно-черных вазах. Он не на шутку обиделся. Изрекать общеизвестные истины не его занятие. Такого рода прорицатели пачками шляются на рыночных площадях. Это просто вымогатели, рядящиеся в личину прорицателей. Настоящий, истинный прорицатель доступен не более, чем оракул в Дельфах.
– И это очень плохо, – бросил Анаксагор.
– Что – плохо? – спросил Лампон.
– А то, что вы, истинные прорицатели, недоступны.
– Почему же это плохо?
– А потому, что все хотят знать, что сбудется завтра, послезавтра, неделю, год спустя.
Лампон махнул рукой:
– Эти представления о прорицателях так же устарели, как знания о природе времен Гомера. Более того – даже со времен Гесиода! Друзья мои, время летит на крыльях, оно летит очень быстро. Меняются люди, меняются и понятия. В наше время задача прорицателя не столько в том, чтобы заглянуть в будущее, сколько в том, чтобы правильно истолковать это будущее.
Анаксагор прищелкнул языком:
– Очень хотелось бы увидеть такого прорицателя. Именно такого!
Лампон огрызнулся:
– И – что же тогда?
– Я был бы очень доволен. Почти счастлив.
– В таком случае, – сказал прорицатель, – можешь считать себя таковым: я перед тобою!
Анаксагор уставился на Лампона, тараща глаза.
В разговор вмешалась Аспазия:
– Мне кажется, дорогой Анаксагор, что в словах Лампона заключено нечто большее, чем это может показаться на первый взгляд… Да, да, не удивляйся. Я попытаюсь изъясниться более понятно. Так, чтобы легче было мне самой… Прошу садиться! Располагайтесь поудобнее. Особенно я прошу об этом моего нового гостя. – Она мягко обратилась к Периклу: – Вон та скамья, изготовленная некиим персом, мне кажется, была бы весьма удобной. Прошу тебя! – А потом Аспазия уселась сама и продолжала: – Сдается мне, что истинный прорицатель прежде всего хороший знаток прошлого. Может быть, я выразилась не совсем точно: прекрасный знаток прошлого! Умеющий заглядывать в прошлое и угадывать путь, пройденный человеком, схватывать извивы пути – и мысленно продолжать этот путь с учетом всяческих неожиданностей, случающихся в жизни. Таким образом, прорицание скорее работа ума, притом огромная, нежели мгновенное видение, нечто молниеносное, осеняющее прорицателя. Но… – Аспазия обвела всех своей милой улыбкой и заключила: – Но, возможно, я и ошибаюсь.
Перикл слушал ее, не глядя на нее. Этак немножко с опаской, как слушают речистую хозяйку, когда та перебирает свои девичьи годы или касается рыночных цен. Но с каждым ее словом он более внимательно вслушивался в ее слова. Воистину эта женщина поразила его, если только Перикла можно еще поразить! И тем не менее он не спешил еще с выводами о ее уме.
Аспазия продолжала:
– Я знала одного стоика, который долгое время жил на Крите, а затем в Ливии. А умирать приехал в Афины. Он говорил так: «Прорицатель – тот же человек, но только есть у него одно качество, что отличает его от всех: он не глупее других и обладает еще и способностью рассматривать события со всех сторон. Он делает правильные выводы и учится смотреть в будущее».
Лампон чуть не раскрыл рот от крайнего удивления. Он не ожидал такой защиты с этой стороны, убедительной и даже больше того – сочувственной по отношению к нему.
Анаксагор выразил сомнение в том, что человек способен проникать в будущее:
– Можно и должно кое-что предвидеть, но как далеко заходит эта способность, которую можно именовать проникающей? Возьмем звезды, которые на небе. Есть люди, утверждающие, что души умерших обитают не в подземном царстве, но живут на звездах. Позволительно спросить: кто и как способен жить на раскаленных камнях, какими являются звезды? Это противно всякой логике! Или вот другой пример. Как известно, мир состоит из бесконечного множества элементов, мельчайших частиц материи. Иными словами, подобно монолиту, состоящему из песчинок, мир являет собою гармоничное единство материи. Спрашивается: может ли человеческая мысль проникнуть в эту материю, в толщу ее, подобно тому как нож уходит в толщу хлеба под рукою хлебодара? Поэтому, когда говорят, что такой-то прорицатель предсказал то-то и то-то, я говорю в ответ: вранье!
– Как?! – удивился Лампон.
– Вранье, – преспокойно ответствовал Анаксагор.
Прорицатель надулся, покраснел, как перец. Он готовился к спору, точно лев к прыжку. Периклу показалось, что прыжок этот будет неприемлем во всех отношениях. Не лучше ли остудить страсти?
– Тут мы выслушали два противоположных мнения насчет хресмологов, прорицателей, – сказал Перикл, обращаясь к Лампону. – Уважаемая Аспазия говорила так, что придраться к ней трудно. Но ведь и Анаксагор произносил слова не впустую. С кем согласиться? Кто прав? Ты? Она? Он?
Перикл умолк. Он часто прибегал к паузе, чтобы слова его вернее достигали слуха и сердца слушателей. Многолетний опыт говорил о пользе пауз.
– Права только природа, только естество, – сказал Анаксагор.
– Это аксиома, – согласилась Аспазия. – Но сейчас не тот случай, когда надо прибегать к столь категоричному методу спора. Не лучше ли выводить истину, доискиваться по крайней мере истины, нежели лишать участников спора этой борьбы посредством неизменной аксиомы? Разве ни у кого не закрадывалось подозрение в том, что некоторые аксиомы со временем тоже будут нуждаться в основательных доказательствах? Иными словами, я хочу сказать, что истины сегодняшние могут и должны подвергаться сомнениям или пересмотрам.
– Этак мы зайдем очень далеко, – сказал Анаксагор.
– Ну и что же? – Аспазия гордо вскинула голову.
– Женщины всегда храбрее мужчин, – изрек философ, наклонив голову в сторону Лампона.
Перикл поправил его:
– Если вокруг одни трусливые мужчины…
Лампон молчал, не спуская глаз с Анаксагора. Даже не отвечал на его колкости. Философа поведение прорицателя начинало раздражать. Он делал вид, что не обращает внимания на Лампона, что спорит с Аспазией, только с нею. Однако каждое его слово было обращено к прорицателю. Его свирепый взгляд как бы застыл, застекленел, потеряв живость и обретя неприсущую тяжеловесность. Философ горячо обосновывал свое отрицательное отношение к хресмологии вообще, как началу антиматериальному. Только материя способна проникать в материю и производить перемены в мире. Самый грубый пример: нож в хлебе, камень в воде. И так далее. Сам по себе воздух тоже материален. В этом просто убедиться: стоит только дунуть на ладонь. Что касается нематериального, скажем, духа, то его попросту не существует и является он плодом домысла. Примеры на этот счет тоже имеются. Вот один из них: поместим одного человека на Акрополе, а другого на вершине Ликабета. Если один из них разложит костер, то это непременно будет замечено другим. Ибо огонь есть вещество материальное. Пусть один из них громко крикнет. Если бы не дальность расстояния, другой бы непременно услышал этот крик. Отсюда следует, что свет меньше боится расстояния, нежели звук, хотя природа их материальна. Если бы загремел гром на солнце, мы бы его не услышали. Потому что свет не страшится, как было сказано, расстояния… А теперь предложим все тем же двум людям на Акрополе и Ликабете помолчать, не разжигать костра. Сможет ли дух переместиться от одного к другому и сработать, подобно свету или звуку? Нет, не сможет. Ибо нематериальное – это тоже было сказано – не в состоянии проникнуть в материальное.
Анаксагор говорил убедительно, с присущей ему страстностью и глубокими познаниями. Таков был смысл его речи, которая значительно превосходила по своей протяженности вышеизложенное.
Аспазия обратилась к Периклу с вопросом: как он относится к сказанному Анаксагором, поскольку это касается столь тонкого толкования материального и антиматериального? Ведь это, в сущности, полное отрицание всего нематериального. Между тем известно, что мать часто узнает о болезни своего ребенка, если даже они разлучены и находятся далеко друг от друга. Ввиду явного несоответствия нематериального явления с материальным миропониманием Анаксагора – нет ли здесь какого-либо третьего пути для философии?
– Нет! – воскликнул философ.
Перикл улыбнулся. Не торопился с высказыванием. Это у него тоже вошло в привычку. Одни считали это очень хорошим качеством, а другие приписывали его замедленному мышлению.
Основательно продумав свой ответ, точно его слушали стратеги в стратегионе, он сказал так:
– Я бы никогда никому не советовал отказываться от поисков третьего, четвертого или даже пятого пути. Искание есть смысл нашей жизни. И я бы не решился односложно отвечать на твой вопрос, о Аспазия. Следовательно, мой первый тезис будет таков: надо искать ответа на все, на любые вопросы. Путей много, и среди них следует находить самый верный. Что касается материального или нематериального, то и здесь меня очень мало привлекают крайние точки зрения. Как известно, я никогда не был сторонником крайних действий. Это не значит, что между двумя противоположными мнениями я выбирал нечто среднее. Нет ничего легче этого: здесь достаточна тренировка, подобно борьбе в гимназиях. Средний путь, наиболее верный путь, всегда подсказывается жизнью, а не двумя спорщиками, которые от тебя стоят по правую и левую руку. В данном случае мне хотелось бы поискать некий способ для примирения материального и нематериального, найти место под солнцем и для того и для другого.
Лампой, казалось, пропускал мимо ушей все это. Он впился взглядом в Анаксагора.
– Ты не узнаешь меня, Лампон? – спросил, смеясь, Анаксагор.
Лампон молчал.
– Нет, он не узнаёт меня!
Прорицатель то ли оглох, то ли не желал отвечать философу. Хозяйка дома опасалась неожиданного взрыва и – не приведите боги! – большого скандала, потому что Лампон уже начинал, что называется, терять свое лицо, то есть обычное выражение лица.
– Лампон, – сказала Аспазия с присущей ей мягкостью, – ты что-то хочешь сообщить нам?
– Да, – глухо ответил прорицатель.
– Что же?
И, читая неведомые письмена, которые словно выведены в воздухе, прорицатель проговорил:
– Свидетельствую именем богов, восседающих на Олимпе: этот муж будет изгнан остракизмом, и это будет лучшей его участью, ибо смерть ходит рядом с ним. Скоро, скоро!
И прорицатель впал в обычное состояние, которое граничит между сном и явью. И Аспазия, уже наученная опытом, поднесла ему фиал неразбавленного вина.
– Ничего, – сказала она, – это пройдет.
Философ был очень смущен. Перикл пытался успокоить его, говоря:
– Счастье прорицателей в том, что не всякий доживает до того дня, когда сбываются предсказания. Поэтому трудно проверить, в чем истинная правда.
Но и Перикл тоже немножко смущен, ибо Анаксагор, которого касалось прорицание, был его лучшим другом и наставником в философии и других науках, особенно естественных.
Анаксагор сказал, обращаясь к Лампону:
– Друг мой, твое пророчество непременно сбудется, если власть в Афинах когда-либо перейдет к скототорговцам или мясникам. Они меня с удовольствием освежуют, а не то что предадут остракизму. Изгнание я почту за наилучший, за счастливейший исход.
Аспазия велела рабыне поднести гостям кипрских сладостей и плодов сикомора из Египта. И сотовый мед из Колхиды тоже был подан вместе с холодной водою и вином…
Ксантипп вытер лицо полою плаща.
– И все это потому, – неясно выговорил он, – что нас ненавидит мачеха.
– Кого это нас?
– Меня и мою жену. Вот маленький Перикл, вот Парал – дело другое. Им все можно! Женятся они – и все будет по-иному! И деньги у них водились бы. Не в пример мне!
– Деньги учитываются строжайшим образом, Ксантипп. Деньги не морской песок. Я не позволяю себе излишней роскоши. Я не могу разрешить этого и кому-либо из своих близких.
– Потому что ты скуп! – проскрежетал сын.
Отец, казалось, вовсе не обиделся. Он терпеливо продолжал свои объяснения:
– Нет, скупость здесь ни при чем. Начнем с того, что я не очень богат. Я не могу идти ни в какое сравнение, скажем, с Кимоном. У него – серебро и золото. С тобой я могу поделиться опытом. Могу присоветовать кое-что полезное. Впрочем, как и Паралу, который сейчас болеет. Но никому не могу обещать золота. Ни серебра. Ни одного обола сверх того, что выдается тебе и другим домашним. На этот счет Евангел имеет точные указания.
– Нет хуже раба, который получил чуточку власти! – зло воскликнул сын.
– Не говори так, это несправедливо. Евангел в точности следует моим указаниям. А мне нельзя иначе. Потому что каждый должен распоряжаться тем, что заработал сам, своими руками, своим горбом.
Ксантипп мотнул головой, словно упрямая лошадь:
– Проклятая жизнь! Я не могу разрешить себе лишнего глотка…
– Я бы этого не сказал.
– Это только благодаря щедрости моих друзей. Это они жалеют меня…
– Проклятая жалость!
– Без них я бы вовсе пропал. Кругом болтают, что мачеха нас окончательно раздавила. Я и моя жена влачим жалкое существование. И пальцем на нас каждый указывает: дескать, вот они, близкие родственники великого Перикла! Вот они, которые живут под одной крышей с великим Периклом!
– Теперь я не велик. Я теперь никому не нужен, и власть моя – в прошлом.
– И все-таки народ болтает так, как передаю. Мне трудно спокойно пройтись по агоре́. Меня донимают расспросами: «Почему бос?», «Почему гол?», «Почему без обола за душой?»
– Не слушай их.
– Это мне твердят на каждом шагу!
– Перемени свою дорогу.
– Мне уж некуда ходить. Я живу в Афинах. А ты хотел бы, чтобы я уехал в Колхиду или на Сицилию? Хотел бы?
И отец ответил не колеблясь:
– Да.
Сын не поверил своим ушам.
– Чтобы сгинул навеки?
– Да.
– Чтобы погиб в пути?
– Нет. Зачем же. Плавают же люди. И не только в Колхиду или Сицилию. А значительно дальше. До Геркулесовых столбов.
Сын криво усмехнулся:
– А не проще выдать мне денег на новые башмаки?
– Нет, не проще…
– И немного денег на вино?
– Нет, не проще.
– Отец, а ты проклятий не боишься?
– Нет.
– Ничьих?
– Нет, ничьих.
– Это почему же? Разве ты такой уж сильный? Скажи мне, почему не боишься проклятий? Каждый боится! Потому что каждый думает об Аиде, где бродят мертвые тени. Надо же заработать себе спокойствие на вечность… Надо же…
– Я отвечу, если дашь возможность ответить.
Ксантипп махнул рукой:
– Пожалуйста, говори. Я слушаю.
– Так вот что: я не боюсь проклятий.
– Почему?
– Потому что проклят.
Ксантипп не понял отца:
– То есть как это проклят? Кем?
Отец приподнялся. Губы у него стали тонкими, и они едва заметно дрожали. Он протянул правую руку вперед. Пальцы тоже дрожали. Левую руку приложил к сердцу, которое учащенно билось.
– Я проклят тобой, – сказал отец тихо, но внятно, – я проклят ими, – он показывал пальцем прямо перед собой, мимо Ксантиппа. – И теми, которые далеко отсюда… Ты понял меня?
Пьянице сделалось плохо. Ему вдруг стало страшно. Он попятился назад и сказал:
– Да, понял.
Хотя ничего не понял. Да и не мог понять.
Книга вторая
Она вошла и стала за его спиной. Он не видел ее, но узнал: это она, только она! За девятнадцать лет он так привык к ней, к ее шагам, к шуршанью ее платья и к ее ароматическим маслам!
Едва входила в дом, он уже знал – это она! По скрипу ворот догадывался. По тем совершенно таинственным флюидам, которые излучало ее сердце, ее тело, – такое же молодое для него, как и девятнадцать лет назад, – догадывался! На что только не способна любовь! Разгадать извивы ее невозможно. Проще отыскать секрет мироздания.
Склонился над чистой книгой из кожи и неторопливо водил заостренным тростником, кончик которого в черной краске. С ним это случалось редко – только перед выступлением в Народном собрании. Писание книг он считал уделом людей тщеславных, заботящихся больше о своей посмертной славе, нежели о каждодневном радении о благе народном. Неужели Перикл, вопреки своему твердому убеждению, начал писать книгу о себе, заботясь о посмертной славе?
Он повернулся к ней. Улыбнулся. И сказал:
– Ты удивлена? Ты думаешь: «Вот и его посетило тщеславие». Скажи мне: не так ли?
– Да, – призналась она.
– Вот видишь, Аспазия, как легко и просто прилетают ко мне твои мысли.
Она была словно богиня – нежная и милостивая. Она положила руку ему на голову, едва касаясь волос, в меру жестких, в меру податливых.
– Они всегда летят к тебе, – проговорила она. – Мои мысли всегда о тебе. Поэтому ты легко обо всем догадываешься. Мое желание таково: быть всегда для тебя открытой.
Он отблагодарил ее улыбкой – немного грустной, немного светлой. В нем было много детского. И она порою чувствовала себя матерью его. Он во всем доверял ей. По-сыновнему. Что еще больше обостряло это ее ощущение.
Аспазия села напротив него.
Перикл сказал:
– Я провожу небольшое испытание. Один старец попросил меня испробовать нечто, что превосходит по своим качествам египетский папирус. Стиль для него уже непригоден. Приходится оттачивать тонкий болотный камыш и макать в чернила. Удобство перед дощечками очевидное, но этот запах…
Перикл протянул жене гибкий лист, цветом напоминающий желтоватую деревянную дощечку. На нем ясно обозначались письмена. Но этот запах…
– Что это? – сказала Аспазия, отстраняя от себя неприятный лист.
– Кожа, – ответил Перикл. – Обыкновенная телячья кожа. Она обработана особым способом и высушена. Но не очень хорошо отбелена. Ее удобно сшивать в книгу, и она, несомненно, долго сохраняется. Раньше у меня не было времени, чтобы проверить изобретение старца. Но теперь я могу себе позволить такую роскошь.
– Этот вонючий кусок кожи меня не вдохновляет, – сказала Аспазия.
– И меня тоже. А посему отвечу старцу так: восковая дощечка меня устраивает больше.
Аспазия сказала:
– Едва ли удовлетворит старика такой ответ. Изобретатели – ужасны, их упорство прошибает стены. Он не оставит тебя в покое.
– Не думаю. Кто я теперь для него? От моего решения ничего не зависит.
– Ты увидишь: он не отстанет!
– Тем лучше. – Он снова обратил внимание на кожу. – Какой ужасный запах! Я не хотел бы иметь библиотеку из таких книг. Но этот старец возразил мне. «Тебе, говорит, придется согласиться со мной в тот прекрасный день, когда своенравный египетский правитель лишит нас папируса». Спрашиваю: «А почему лишать нас папируса? С таким же успехом мы можем лишиться и египетского хлеба». – «И лишитесь!» – не без удовольствия воскликнул старик.
Аспазия сидела вполоборота к мужу. Свет на нее падал справа и сверху. Это тот дивный свет, который придавал ее чертам неувядающую красоту, оттеняя то, что особенно привлекает в женщине: гладкость кожи, мягкость линий и легкую поволоку в глазах. В сорок пять лет Аспазия оставалась Аспазией – красивой и нежной, умной и желанной…
– Когда приходил этот старик?
– Может быть, год назад, – ответил Перикл.
– И ты вспомнил о нем только сейчас?
– Увы!
– Где он? В Афинах?
– Может быть, умер.
– Дай мне эту кожу.
Аспазия взяла ее в руки, определила на глаз тонину, испытала гибкость ее.
– К этому запаху легко привыкнуть, – сказала она.
– Ты так полагаешь, Аспазия?
– Не сомневаюсь так же, как и в том, что старик дальновиден.
– Ты тоже полагаешь, что мы можем лишиться египетского хлеба?
– В один прекрасный день это случится.
– И папируса?
– Почему бы и нет? Поэтому я уделила бы больше внимания этой коже, чем ты. Для великого государства, каким являются Афины, папирус не менее важен, чем хлеб. Ты согласен?
– Отчасти. Ибо папирус можно заменить. Дощечками мы обходились и обойдемся в случае нужды.
Аспазия подняла руку:
– Под словом «папирус» я разумею письмо вообще…
Он смотрел как зачарованный на ее руку.
– Афины потому и стали Афинами, что мысль преобладала над грубою силой. Несчастье Спарты в том, что у нее все наоборот.
Перикл усмехнулся:
– Ты говоришь о той самой Спарте, которая бьет нас на поле битвы?
– Именно о ней!
«Какая рука! – думал Перикл. – Недаром Кресилай восхищался ею и специально высек из мрамора ее руку. Но где больше чар: в глазах ее, руках или губах? Вот сидит сорокапятилетняя, и ничуть не проиграет она рядом с двадцатилетней девушкой. Откуда эта женская сила? Кто одарил ее так щедро?! Слава богам, которые породили ее и указали ей путь в Афины! Слава бедному Анаксагору, который показал мне ее!»
– Участь Спарты предрешена, – сказала Аспазия с особенной, мало присущей ей твердостью. – Невозможно удержаться на одной только голой силе, на скрытности и военных успехах. Сила ломит силу, Перикл! По-моему, это твои слова.
– Возможно, – проговорил он, глядя на ее шею.
– А что может победить мысль – высокопарящую и верную?
– Что? – спросил Перикл, любуясь ее локонами.
– Нет такого богатыря! Гераклы в наше время не рождаются. Прометеи тоже.
– Что же из этого следует, Аспазия? – Он бросает короткий взгляд на ее ноги, оголенные до колен. На ее ногти, покрашенные пурпурной финикийской краской.
В ее глазах сверкнула добрая молния. Такая лучезарная, легкая, легкая.
– Это значит, что мысль, прекрасная в своем выражении и обрамлении, поразит человеческий разум больше, чем любая сила. Это значит, что душа – такая тонкая, хрупкая и невидимая – одолеет силу гоплита, сокрушит его щит и испепелит меч. Проследи, Перикл, как время шло от Гомера до наших дней. Илион в наши дни берут не воины, метающие град камней, но поэты и ученые, разящие врага мыслью, повергающие мыслью во прах.
Она говорила тихо, но твердо, смело устремивши взор вперед, точно Фидиева Афина, неукротимая в своей вере и по-женски непреклонная. Она смотрела поверх его головы. Не говорила, а словно бы пела гимн человеческой мысли.
Перикл откровенно залюбовался ею. Формами ее. Той самой стороной женской грани, имя которой Красота. И по мере того, как говорила Аспазия, все больше воодушевляясь, он тем больше восхищался ею, тем больше ощущал наплыв душевной силы, веру в которую с годами начинал терять.
…Оракул был дан весьма ободряющий. И тем не менее Перикл принял все меры предосторожности. Ему шел сорок первый год. Он был в расцвете сил. В стратегионе, на агоре́, Перикл изложил свой план. Получив полное одобрение, он выехал в Мегарскую область, где в гавани Пэги его поджидало войско и корабли.
Перикл тщательно проверил вооружение каждого воина, отсеял больных, взял вместо них добровольцев. Каждого, кто мало-мальски сомневался в своих возможностях, он отстранял, говоря: «Мне нужно войско сплоченное, которому нипочем трудности морского плавания и боя». Так говорил Перикл.
Затем осмотрел корабли. Весьма придирчиво, требуя не только полной готовности к бою, но и отменной чистоты. Он садился у весел, чтобы удостовериться в прочности ремней и удобны ли подушки, на которых сидят гребцы. То, что не нравилось ему, тут же приказывал переделывать.
Потом беседовал он с опытнейшими мегарцами, знающими повадки моря в Коринфском заливе. Все его выводы и замечания тщательно заносились в книги его помощниками.
Через десять дней все было готово к походу. Взяв на борт более тысячи гоплитов, размещенных на тридцати двух триерах, Перикл на рассвете отплыл из Пэги.
Стратег находился на семнадцатой от начала триере. Он выбрал корабль, идущий посредине всего строя, для удобства командования. Его приказы почти одновременно достигали как головы эскадры, так и хвоста ее. Не все начальники кораблей одобрили этот выбор Перикла. Но дальнейшее с очевидностью показало, насколько он был прав.
Вдали от берега было объявлено, что корабли под начальством Перикла движутся к Сикиону, который-де надо проучить за многие дерзости и слепое подчинение Спарте.
На корабле, который Перикл окрестил «Гераклом», стратег выбрал себе место укромное. Он не желал особенно выделяться среди войска и моряков.
Командовал «Гераклом» молодой пирейский моряк по имени Еврисак, сын Брасида. Это был человек храбрый, но малоопытный в боях. Его умение управлять кораблем стояло выше всяких похвал. Оставалось только выяснить, каково будет оно, это умение, в бою, где нет единого писаного закона. Где многое зависит от остроты зрения и ума, от быстрого и решительного принятия мер, открывающих путь к победе.
Этот корабль и начальник его привлекли внимание Перикла неспроста, и он выбрал именно «Геракла», дабы помочь в нужную минуту Еврисаку личным присутствием на борту. Разумеется, он не говорил об этом никому, дабы не уязвить самолюбия молодого моряка из Пирея.
В открытом море Перикл провел маневры. Он убедился в том, как быстро передаются приказы его по кораблям и как скоро могут быть они выполнены. Выучка и решимость должны быть безупречными.
Перикл, стоя на носу «Геракла», наблюдал за тем, как перестраивается эскадра на ходу. Особенно важным считал одновременный поворот всех кораблей в левую или правую сторону, перемещения судов от строя «цепочка», как он называл, к строю «шеренга». Особенное мастерство требовалось здесь от идущих в хвосте кораблей. Ибо именно они обязаны при этом развивать максимальную скорость, в то время как передние снижали ход почти до полной остановки. И все это для того, чтобы дать возможность всем триерам занять свои места в корабельном строю.
Надо сказать, что маневры были изнурительными. Не очень-то приятно перестраиваться десять раз на дню или изображать морской бой, идя против своих же, зная, что это просто игра.
Перикл требовал точного выполнения своих приказов. Взятие «вражеских» кораблей на буксир и абордаж он заставлял повторить не единожды.
Так он готовил свою эскадру еще одну неделю в открытом море. Наконец дал отдых всем в течение суток и поплыл дальше, беря курс на Сикион.
Как известно, город этот в Ахайе изрядно укреплен. Стены его недавно обновлены, рвы заново отделаны. Защитники Сикиона славились своей доблестью.
Перикл пустил слух еще там, в Пэги, что направляется в поход вокруг Пелопоннеса. Может быть, хитрость эта удалась, а может, сами обстоятельства сложились так, что сикионцы заметили корабли Перикла лишь на рассвете пасмурного дня.
Перикл приказал развернуть все паруса и удвоить рвение гребцов. Корабли шли «шеренгой», почти одновременно пристав к берегу.
Сикионцы, спохватившись, удалились под защиту городских стен. Они успели послать гонца к спартанцам с просьбой о присылке подкрепления.
Высадка афинских гоплитов прошла удачно и довольно быстро. К полудню бой разгорелся вовсю.
Еще там, на кораблях, Перикл приказал сколотить из бревен несколько помостов, весьма похожих на плоты, которыми пользуются жители горных краев, сплавляющие лес (например, в Колхиде). Назначение их полностью выявилось у стен Сикиона. Бревенчатые помосты были переброшены через рвы и сослужили пехотинцам отличную службу. Заранее запасся Перикл и стенобитными машинами, которые вовремя доставило ластовое судно, шедшее к Сикиону по приказу военачальника.
Перикл разбил свой лагерь на виду города, разделил войско надвое. Одна половина вела боевые действия против Сикиона, а другая тем временем отдыхала. К концу дня войска менялись своими местами. Стенобитные машины, таким образом, действовали и днем и ночью. Это было необходимо для того, чтобы захватить город до прибытия спартанского подкрепления.
Сикионцы, надо отдать им должное, сражались храбро. Их часовые на стенах вовремя предупреждали об опасности. И воины устремлялись туда, где грозила беда. Однако было заметно, что в обороне немало упущений. Главное – слишком поздно оповестили население о появлении Перикловой эскадры! Внезапность нападения противника со стороны моря оказалась неучтенной. Сикионцы не ждали.
Первая брешь была пробита в стене с западной стороны. Подкоп устроили афиняне столь искусно, что стена обвалилась мгновенно, открывая свободный доступ к городу. Сикионцы пустили в ход камни и кипящую смолу. Они метали дротики и некоторое время сдерживали натиск врагов. Перикл приказал ни днем, ни ночью не давать покоя защитникам пролома. А тем временем готовился новый подкоп под прикрытием настила из бревен.
Сикионцы с надеждой и нетерпением поглядывали на юг, откуда должна была поступить помощь. Но – увы! – она запаздывала. Афиняне же все усиливали свой натиск.
Через десять дней рухнула стена в другом месте – в противоположном первому пролому направлении. Силы обороняющихся были поделены надвое. Перикл направил свой главный удар по первому пролому и овладел частью города.
А помощь Сикиону все не приходила.
Перикл приказал разрушить стены, сровнять их с землею. Это уже не представляло особых трудностей. Легковооруженные уничтожали посевы, сады, строения, находившиеся вне городских стен.
Потребовалось еще несколько дней для того, чтобы победа была полной. Тот, кто присутствовал при этом, говорил: «Вот город, который не скоро подымется, ибо он сровнен с землею». И это было воистину так!
Водрузив трофей на берегу моря, Перикл посадил войска на корабли и отчалил подальше от берега. Ластовому судну приказал следовать на запад, сам же взял курс на север.
А наутро отдал новый приказ: поворачивать на запад, кораблям построиться в боевой порядок. Это было сделано для того, чтобы достойно встретить враждебную керкирскую флотилию, весть о движении которой дошла до Перикла. Но позже выяснилось, что весть эта была ложной.
– Не нравится мне Парал, – сказала Аспазия.
– Что с ним?
– Глаза не нравятся. Они тусклые. Пьет все время воду. Требует похолоднее. Жалуется на боль в голове.
– Наверное, боролся в гимназии дольше обычного, – предположил Перикл. – В двадцать лет это бывает.
– А глаза?
– Переутомился. Сердце тоже устает. И это тотчас же отражается в глазах.
– А боль в голове?
– Наверное, солнце припекло.
– Парал говорит, что ломит ноги.
– Наверное, ловко подставили ему ногу. От подножки это случается. Я сам испытывал это. И не раз.
– О боги! – проговорила Аспазия, молитвенно сложив руки и склонив голову в знак полной покорности их воле. – Отвратите страшную болезнь от Парала!
Перикл вздрогнул. Неужели в довершение ко всему его дом посетит эта ужасная чума?! Нет, это было бы слишком. Разве мало жертв? Умерла сестра.. Умерли близкие и дальние родственники. Что еще надо судьбе?
Он сказал:
– Хорошо, что наш маленький Перикл в горах. Там воздух значительно чище.
– А Парал не послушался, – проговорила она.
– Он уже взрослый. У него свои мысли и свои дела, – заметил отец.
– Люди говорят: «Вот она отправила в горы своего сына, а пасынка оставила в душном городе».
– Мало ли что болтают, – сказал он.
Аспазия вздохнула глубоко-глубоко. Он подумал, что ей недостает воздуха.
– Смерть косит людей, – сказала она.
Да, он знает это. Жестокие набеги лакедемонян загнали жителей Аттики в Афины. Город набит до отказа. Оттого-то и чума. Больные горят словно в огне. Они тянутся к колодцам. Жажда, неутолимая жажда одолевает их. Внутренний жар все время гонит их к прохладе. В конце концов внутренний жар лишает их разума. Обезумевшие люди бросаются с крыш и разбиваются насмерть. Чума никого не щадит! Она – порождение войны со Спартой. Однако надо вытерпеть, выстоять, не поддаваться женскому плачу. Иначе – конец Афинам! Иначе – конец Аттике и ее могуществу! Чума есть следствие войны со Спартой…
– Вы, политики, – сказала Аспазия, – все хорошо объясняете. Умом это можно понять. Но что ты скажешь матери или овдовевшей жене, у которой на руках пятеро ртов? Удовлетворит ли ее твое объяснение?
Перикл, осунувшийся за последние месяцы, полностью сохранил то спокойствие, которое часто выводило из себя его врагов. Они кляли его, а он спокойно их выслушивал. Они поливали его грязью, а он слушал, слушал их внимательно. Они грозились ему, а он терпеливо выяснял все их претензии. О Перикл, до какого же предела простирается твое долготерпение?!
Он опустил голову на свои сильные руки. Большую голову на большие руки. Перикл сказал жене:
– Матерям объяснить все это невозможно. Вдову утешить трудно. Сердце не поймет и не примет всего этого. Однако человек – существо мыслящее. Там, где слабо сердце, должен прийти на помощь разум. Вот единственный путь для спасения Аттики. Другого нет и быть не может!
Аспазия нетерпеливо подняла руку. Это была и та и не та Аспазия. Та была одинокой гетерой. А эта – хозяйка дома, да еще какого! А эта – мать и жена.
– Не кажется ли тебе, что эллины заняты, может быть, очень важным, но весьма неблагодарным делом?
– Каким именно? – спросил Перикл, не подымая головы.
– Это дело – бесценный кладезь для добывания доблести и славы. Это дело – великий клад для историков вроде Геродота и Фукидида. Это дело – путь к славе и бессмертию. А я говорю: нет дела более неблагодарного и ужасного по самой сути своей, чем то, которым по горло сыты эллины.
Перикл медленно выпрямился, скрестил на груди руки и попытался угадать: какое же это такое необыкновенное дело? А потом – немного погодя – спросил:
– О каком деле говоришь, Аспазия?
– Прости меня, но мне казалось, что слова будут излишними. Разве изъясняюсь непонятно? Разве язык мой недостаточно ясен? Я говорю о великом, славном, прекрасном, но безумном предприятии.
– Смысл твоих слов будто понятен. Я только не знаю, к чему они прилагаются?
Аспазия вытянула руку, указывая перстом прямо на Перикла. На глаза его. На самые зрачки!
– Ты, великий Перикл, не можешь понять меня?
– Вот в эту минуту – нет.
– В таком случае мне придется продолжать свою речь.
Перикл кивнул: дескать, придется.
И Аспазия сказала:
– Неужели это не приходило в голову даже тебе? – Она подбоченилась, как истая милетянка. – Неужели? Вот континент, на котором живут люди, говорящие на одном языке и происходящие от одного корня-матери. Это – эллины. Вот острова, разбросанные по трем морям. И на них тоже живут люди одного корня и одного языка с нами. Что же происходит? Что я наблюдаю вот уже с тех самых пор, как я начала кое-как понимать этот свет? А происходит самое непонятное и ужасное: эллины заняты – притом основательно – уничтожением друг друга… Нет и не было в прошлом людей, более искусных в самоуничтожении. Если бы я имела к тому способности, то написала бы об этом целую книгу. Представь себе: искусство самоуничтожения! Как это тебе нравится?
– Я скажу… – начал было Перикл.
– Нет, я еще не окончила свою мысль, – сказала Аспазия. – На берегах Понта, на обширных пространствах Средиземноморского побережья живут и развиваются клерухии. Мы и их втянули в братоубийственную войну. Вдали от метрополии они не чувствуют себя в достаточной мере избавленными от военных невзгод. И если посмотреть с высот Олимпа, где боги держат свой мудрый совет, – нельзя не прийти к печальному выводу: эллины ведут себя столь неразумно и глупо, что даже невозможно рассказать…
– Ты кончила? – спросил Перикл.
– Нет. Хочу высказать еще одну мысль. Я думала над этим по меньшей мере двадцать лет… Когда на нас шли персы, когда эта азиатская туча, способная заслонить солнце, натолкнулась на доблесть эллинов, можно было сказать безошибочно: эллины воюют – они выживут. И недаром воспел эту войну Софокл. Недаром посвятил ей свою жизнь наш друг Геродот. Поэты еще долго-долго будут воспевать это время – время доблести эллинского духа. Но теперь, когда началась эта ужасная война со Спартой, я говорю: победителей здесь не будет!
– Это неверно…
– А я утверждаю: не будет! И откуда им взяться? Тот, кто уйдет целым и невредимым с поля боя, – найдет себе конец дома, на своем пороге: его скосит чума. Кто выживет после ужасной чумы – того подомнут враги. Они появятся, эти враги, они придут непременно с севера, с запада, из-за моря. Непременно придут! Подобно амазонкам. Но тогда уже не будет Тесея! И вечное рабство или полное уничтожение ждет каждого эллина. Вот что я хотела сказать.
Аспазия была взволнована. Цвет лица ее приблизился к цвету папируса. Губы ее позеленели. Глаза горели лихорадочным жаром. Перикл позвал рабыню Евриклею. И сказал ей:
– Холодной воды.
Аспазия приняла киаф с водою, но даже не пригубила.
– Вода – лекарство слабое, – сказала Аспазия. – Когда душа опалена огнем, вода не поможет. Я чувствую себя неплохо. Лучше, чем эллины. – И она улыбнулась. Через силу.
Евриклея – девушка плутоватая, но умная и красивая собою – подождала немного и вышла. Для нее не были новостью горячие беседы между ее господами. И ей не раз приходилось бегать за холодной водой. Но каждый раз она убеждалась в том, что к воде не притрагивались…
– Аспазия, – голос Перикла звучал глухо, словно говорил он из глубины огромной амфоры, – то, что высказала ты, необходимо продумать. В твоих словах заключен большой смысл. Отделаться кратким ответом невозможно. Я обещаю тебе подыскать соответствующие слова с подходящим к данному случаю смыслом и высказать свое мнение… Но трудно, очень трудно промолчать. И не ответить тебе. Хотя бы вкратце. В самом общем виде.
Аспазия готова выслушать его. Но из головы нейдут маленький Перикл, который в горах, и, несомненно, больной Парал. Парал дорог, как родной, он ведь вырос на ее руках. То ли это лихорадка одолела Парала, то ли – упаси Афина! – та самая чума, которая гуляет по Аттике запросто, подобно насморку. Педиаки – жители равнин – страдают от нее больше, чем диакрийцы – жители гор. Это, очевидно, следует объяснить меньшей скученностью и более чистым горным воздухом и чистотой родников. Молодой, но не по летам опытный и внимательный врач по имени Гиппократ с острова Кос полагает, что причина чумы – только скученность, вызванная войной, и в связи с этим загрязненность колодцев. Водопровод Афин – замечательное сооружение Писистрата – тоже немало содействует распространению чумы. Аспазия не очень поверила ему, Гиппократу, хотя в остальном, что не касается чумы, врач, по-видимому, прав. Во всяком случае, соотношение слизи и желтой и черной желчи в человеке имеет первостепенное значение для здоровья. Нарушение гармонии слизи и желчи, равно и воды, приводит ко всякого рода болезням. Этот неутомимый молодой врач – ему не более тридцати – уже снискал себе признание народа, особенно своею добротой и щедростью. Врач не жалеет собственных денег для помощи бедным. Он не берет с них платы, например, сам дает им лекарство. Где он сейчас? Говорят, в Афинах. Аспазия давно не видела его… Где он, в самом деле?..
Перикл встал, прошелся по комнате, заложив руки за спину. Голова его чуть наклонилась вперед. Было такое впечатление, что он пытается удержать ее на тонкой шее. И это удается ему с трудом.
Он сделал замечание, сказав, что Аспазия говорила здраво и во многом справедливо, имея в виду ее личные ощущения, ее личный взгляд на положение вещей. Но кроме такого взгляда существует еще и другой, так сказать, государственный. Он отражает существо дел в государстве и характер судьбы самого государства как такового. То есть это такой взгляд, такое мнение, которое учитывает совокупность судеб гражданина и государства в их гармонии и дисгармонии. Именно подобную точку зрения Перикл попытается высказать в двух словах.
– Разумеется, – продолжал он, – война между эллинскими государствами является трагедией. Если ты помнишь, мы однажды уже беседовали с Софоклом по этому поводу. Я тогда согласился с ним, а он со мною в том, что противоестественна вражда между греками. Я внес предложение в Народное собрание, а Народное собрание одобрило обращение ко всем эллинским государствам о заключении мира и договора о дружбе. Хочу напомнить, как встретили это мое предложение: Спарта объявила, что Перикл, дескать, желает мирным путем, не прилагая никаких усилии, ничем не рискуя, достичь гегемонии Афин во всей Элладе. Я услышал брань вместо трезвого и доброжелательного обсуждения моего предложения. Это надо иметь в виду каждому, кто соприкоснется с нынешними военными делами… А теперь насчет войны. Она сожрет Грецию и каждого эллина в отдельности. Есть ли в этом преувеличение? Нет, это соответствует истине… Я говорил в свое время в Народном собрании, что война несется с Пелопоннеса. И я оказался прав. Она пронеслась, подобно черной птице, со всеми бедствиями. Это – мельница, способная перемолоть в тонкий песок всю Грецию. Война со Спартой в полном разгаре. Но можно ли было предотвратить войну? Да, при одном условии: Афины сложили бы оружие и безоговорочно подчинились Спарте! А что значит «подчиниться Спарте»?
Перикл остановился перед Аспазией и, указывая рукою куда-то далеко отсюда, так ответил на свой вопрос:
– Что есть Спарта? Скрытное в своих помыслах, жестокое по своей сущности и опасное для всего мира государство, где власть принадлежит избранной кучке олигархов во главе с царем. Это государство сильное? – спросишь ты. И я отвечу: не знаю, но оно очень опасное. Государство жестокое к своим согражданам, беспощадное к соседям не может быть воистину сильным. Есть разница между определением сильный и жестокий, опасный. Как определить силу льва? Это зверь опасный? Несомненно. Жестокий? Несомненно. Но вся сила этого зверя направлена к тому, чтобы терзать более слабых. Именно такою представляется мне и Спарта… А теперь я задам такой вопрос: можно ли подчиниться такому государству, как Спарта? Да, если нет другого исхода. Да, если силы у тебя иссякли, если трусость обуяла тебя и твоих друзей, если унизительное рабство предпочтительней почетной смерти на поле боя. Будучи стратегом, избранным народом, будучи облечен властью, данной мне народом, я не мог советовать преклонить колени перед Спартой. Я должен был дать один единственно правильный совет, и я это сделал: сопротивляться Спарте до конца! Может, я ошибся?
– Нет, ты был прав, – подтвердила Аспазия.
– Спасибо! – воскликнул Перикл. – Пусть просмотрят архивы на агоре́ и пусть бросят мне любое обвинение, если был я неправ. Я знаю: враги мои пытаются изобразить дело таким образом, что будто бы я привел Аттику к войне. Неправда! Война пришла бы и без меня! Я просто оттягивал ее всеми средствами. Могу сказать доверительно: мне приходилось тратить ежегодно немалое число золотых талантов на известные цели. Какие были эти цели? Я подкупал государственных мужей Спарты, чтобы оттянуть военное наступление на Афины. И я использовал время на строительство боевых кораблей, на оснащение войск новым и тяжелым вооружением. Вот каковы были мои действия! Что же следует из этого? Что я торопил войну? Что я вызвал ее? Что я виновник в случившемся? Но ведь это противно истине! Любой, кто бы захотел проверить сказанное мною, может сделать это очень просто. На агоре́ сохранились все документы. Мне стало известно, что некий молодой и богатый историк и поэт Фукидид, сын Олора, собирает сведения о войне со Спартой. Если он проявит необходимое внимание ко всем достоверным документам и фактам, то узнает много любопытного. И обязательно придет к такому выводу: в войне повинна Спарта! Только Спарта, которой претит один вид процветающих и демократических Афин.
…Эскадра вышла в море, оставив на берегу до основания разрушенный и разграбленный Сикион. Перикл в качестве стратега поблагодарил всех воинов за верную службу, отметив действия моряков, также принявших участие в осаде Сикиона.
Повернув на запад, корабли пошли следом за ластовым судном, которое избрало путь посредине между двумя берегами Коринфского залива, вдали от любопытных взоров… Перикл тем самым пытался создать впечатление у соглядатаев, что он будто бы довольствуется разрушением и ограблением Сикиона.
Здесь уместно напомнить, что помощь со стороны Спарты Сикиону действительно воспоследовала. Однако она запоздала. И те, кто остался в живых среди городских развалин, горько сетовали на это. Но человеческая натура быстро приспосабливается даже к самым тяжелым поражениям. Пока человек жив, он старается не только выжить, но и, возместив потери, двигаться дальше. Так было и здесь: сикионцы начали вновь приводить в порядок свои жилища и вновь (в который уже раз!) возводить стены. Причем народ дал клятву отстроить все заново и в лучшем виде.
А Перикл во главе кораблей плыл на запад, все на запад… Ночной порою, – пройдя залив в самой узкой его части, там, где чуть не сходятся земли Локриды и Ахайи, – стратег приказал всем начальникам кораблей собраться на «Геракле». И обратился к ним с такой речью:
– Всякая победа имеет две стороны. Так же, как любая монета – серебряная или золотая. Одна сторона едва ли требует каких-либо пояснений. Заключается она в том, что противник побежден, а победители, водрузив трофей, празднуют победу. Одним словом, цель в войне достигнута, и можно диктовать побежденному условия. И тут среди возгласов ликования, в то время как герои увенчаны венками, а павшие торжественно погребены, встает неизбежный вопрос: а какой ценою досталась победа? Нельзя ли было при достижении той же цели понести меньше потерь? Вот как может быть и должен быть поставлен вопрос. Это и есть вторая сторона. Припоминаю битву под Танагрой, где я имел возможность сражаться рядом с моими товарищами. Иной скажет: битву выиграли лакедемоняне. Но какой ценою? Они не смогли поставить нам ни одного условия, ибо сами едва держались на ногах. Вот как обстояло дело!.. К чему я все это веду? Мы победили. Сикион повержен. А я всё эти дни думал: мы потеряли сто двадцать человек. А можно было бы меньше? Да, несомненно. Принимая на себя всю вину, должен отметить, что экипажи иных кораблей действовали нерасторопно. Высадка воинов производилась медленно. Одни уже бились под стенами Сикиона, а другие только-только сходили на берег. Разве это допустимо? Я назначаю маневры по высадке войска на пустынном берегу Этолии – это место хорошо мне знакомо. И только после этого поплывем дальше.
Затем Перикл объявил о новом порядке следования судов. Наилучшим образом проявивших себя он поставил в голове и хвосте эскадры. А тех, которых почитал менее надежными в бою, приблизил к своему «Гераклу», чтобы неусыпно надзирать за ними.
При закате солнца были проведены маневры. Они были повторены на рассвете, после чего эскадра последовала дальше. Результатами Перикл остался доволен. Курс он взял на северную область Акарнании. Конечной же целью в этом походе был город Эниады, в той же Акарнании, у устья реки Ахелой.
– Парал, что болит у тебя?
Юноша безмолвно указывает на голову: она у него трещит. Аспазия заботливо подает воду. Евриклея добыла чудодейственное зелье, но Парал отказывается от него: оно слишком горькое, противное такое.
На кого походит Парал? Что-то от отца, кое-что от матери. Грузная голова, красивый нос с едва заметной горбинкой, глаза, похожие на две маслины, – в них такой ярко-черный огонек. Глаза – это уж от матери. Характером он в отца. Воспитанный сызмалу Аспазией, он относится к ней как к родной… В кого же Ксантипп? Только не в отца! Наверное, со стороны родной матери кто-то был буяном и пьяницей. Но кто? Впрочем, говорят, что и на здоровом масличном дереве попадаются порченые листья. Дем Холарга, из которого происходит Перикл, не был запятнан безобразным поступком кого-либо из его членов. Никогда! Стало быть, пришла пора появиться тому, кто не преминет наложить это самое пятно на семью. Вот и народился Ксантипп.
Аспазия прижала к себе Парала, и тот покорно к ней прильнул. Значит, нездоров. Только больной юноша может так откровенно пожелать ласки. Но кто все-таки истинная мать: та, которая родила, или воспитала с пеленок? Аспазия не рожала Парала, но – видят боги! – она любит Парала не меньше, чем своего мальчика.
Перикл приложил ладонь тыльной стороной ко лбу Парала.
– Тебя знобит? – спросил он.
– Немного.
– Чувствуешь жажду?
– Как будто бы нет…
– Все еще болит голова?
– Да.
– И еще что-нибудь?
Парал указал на ноги.
– А живот?
– Живот? – Парал подумал. – Живот не болит.
– Тебе надо лежать, – сказала Аспазия.
– Что ты думаешь? – спросил Перикл, когда они вышли из комнаты Парала. – Что с ним?
– Не знаю. Но сердце щемит так, что и сказать невозможно. Он всегда казался мне хрупким. Созданием слишком нежным для этой жизни.
Перикл хотел было рассказать о том, как умирают взрослые дети там, на полях битв. Лишенные последних родительских утешений, многие из них умирают молча, туго сжав зубы. Без стенаний и слез. Он рассказал бы обо всем этом, заодно пожаловавшись на то, что даже при его былой власти он, Перикл, был совершенно бессилен предотвратить эти несчастья. Бедствия войны – словно землетрясение, словно гроза в горах: всем страшно, но никто не может остановить их…
Он только сказал:
– Все это – война.
А она:
– И все это – люди.
Перикл взял ее за руку, погладил гладкую кожу, которой почти не коснулось время. И прикрыл веки. Всего на одно мгновение…
…Он сказал ей:
– Аспазия, вот твой дом и вот твое ложе.
Она осмотрела комнату с любопытством, но без страха. А ложе было покрыто пурпурными вавилонскими тканями, под которыми – тонкое льняное египетское полотно. Это полотно – точно шелк. И фракийские шелка обильно свешивались на пол. И тяжелая сицилийская ткань. И тонкорунные шкуры из Колхиды на блестящем полу и – на случай прохлады – рядом с ложем, на скамье.
– Как в старинной сказке, – проговорила она восхищенно.
– Извини, что просто, – сказал он не без мужского кокетства.
– Сколько же ты потратил денег на все это?
– Не много, потому что не столь уж богат, как это кажется моим врагам. Но все это – от души и ради любви к тебе.
Отшумел брачный пир.
Аспазия распрощалась с одиночеством. В двадцать семь лет.
Она казалась легкой, как туман, который скользит ранним утром по пентеликонским склонам: такое сказочное существо.
Она была слишком умна, чтобы полюбить кого-нибудь из многочисленных молодых поклонников женской красоты, но была слишком женщиной, чтобы устоять перед умом Перикла. И вот она у него, в его доме. И брачное ложе – перед ним.
Он сбросил с себя одежду. Погасил светильники, кроме одного, который в углу. В который налито чистое оливковое масло. И она увидела его таким, каков он есть, каким надлежит быть мужчине, который сын своего пола, плоть от плоти его.
Аспазия удивленно разглядывала его – всего, от лба до лодыжек. Она провела пальцем по груди его, где справа алел свежий шрам. Она провела рукою по бедру его, где грубый рубец, прикрыла другой рукой глаза его, а сама внимательно, изучающе рассматривала его, так, как это делают многие, любуясь работами Фидия или Кресилая. Ей это было любопытно. Бесконечно любопытно.
Он стоял, терпеливо снося этот странный осмотр, чувствуя, что мелкая дрожь начинает одолевать его – противная дрожь, как на осенней сырости где-нибудь на севере.
Она обхватила его шею, прильнула к его уху и прошептала:
– Мне не по себе…
– Бедняжка, – проговорил он и поцеловал ее в губы долгим-долгим поцелуем. Была в этом поцелуе и нежность, и грубость солдата, и неистовство моряка, и страстное желание невольного анахорета, измученного сладкими видениями. Ей показалось, что сейчас начнут пытать ее – жестоко и неумолимо. На одно мгновение – всего лишь на одно! – Аспазия испугалась. Она понимала все, но никогда не видела и не ощущала вот так близко льва, алчущею плоти, живой женской плоти.
И когда она обхватила руками его шею, крепкую, словно колонна, и когда он поднял ее и понес к ложу, Аспазии вдруг показалось, что в объятиях бога олимпийского она уносится в небесные сферы, где хорошо и приятно, первозданно, чисто и незапятнанно…
А потом – совсем после – она спросила тихо-тихо:
– Это потому, что любишь?
Он был нем, как рыба: только шевелил губами. Но она догадалась: он произнес «да».
Аепазия прижалась к нему всем телом, крепким и здоровым.
Она спросила:
– И это всегда будет так?
Он смог улыбнуться, ибо уже чуть отдышался:
– Нет. Будет еще лучше.
– Правда?
– Да.
– Разве лучше бывает?
– Увидишь сама.
И Перикл поднес ей вина. Она отпила глоток. Еще один. И еще.
– Хочу вина, – взмолилась Аспазия.
– Разве я скуп?
И он налил снова. И, пока она пила, сказал:
– Я никогда не думал… Я просто не ожидал. Так же, как тогда, когда явился к тебе впервые и увидел не только красавицу, но и умную женщину. Нет, полную ума и знаний!
– Это плохо?
– Нет, совсем не плохо.
– Женский ум?
– Почему бы и нет!
– А говорят, что любят только глупых.
Он прижал ее к себе, и у нее хрустнули косточки:
– Это только болтают.
Она попросила вина. Отпила и дала выпить и ему. Он, кажется, был пьян и без нектара. Перикл все еще пребывал в состоянии малообъяснимом, потому что любовь всегда трудно поддается объяснению, как и хорошая пастушья песня в горах.
Где-то там, на рассвете, когда ночь отняла почти все силы, она спросила его:
– А как те, другие?
– Кто, Аспазия?
– Я же говорю: другие.
Он оперся на локоть: или они сговариваются, или же у всех на уме одно и то же? Перикл не удержался. Захохотал.
Она чуть не обиделась:
– Чему ты смеешься?
– Просто так, – сказал он, дотрагиваясь до нее горячими, как уголья, пальцами. – Все вы спрашиваете об одном и том же.
– Это вполне естественно, милый. Ты бывал в различных государствах. Где девушки прекрасней всего?
– Девушки… Девушки…
– Не прикидывайся скромником, – сказала она. – Они красивы на Кипре?
– Не знаю, – признался он. – А впрочем, говорят, что да. Но колхидянки лучше.
– Я не пущу тебя в Колхиду.
– А если потребуют обстоятельства?
– Тогда дело другое.
– И ревновать не будешь?
– Нет.
Он еще раз переспросил ее я снова услышал:
– Нет.
Долго не спускал с нее глаз Перикл, и она застеснялась, укрылась одеялом. А он спрашивал себя: «Неужели надо прожить сорок шесть лет, чтобы почувствовать себя вполне счастливым с женщиной?»
Он зашептал слова любви. Сначала про себя, а потом и для нее. А точнее – тоже для себя, но вслух.
Прислушавшись к ним, точно со стороны к чужим словам, Перикл вдруг ощутил огромное стеснение: он говорил почти то же, что пишут графоманы в своих книгах. В обычных книгах, которые продают книготорговцы на афинской агоре́. Даже и слова те же. Слова, которые всегда вызывали у него гримасу раздражения.
– Аспазия, – вдруг обратился он к ней, прерывая самого себя на середине фразы, – почему ты не остановишь меня?
– Разве это требуется?
– Да.
– Объясни мне – почему?
Он развел руками:
– Я же терзаю твой слух ничем не примечательными словами и выражениями. Я б на твоем месте…
– Милый, – сказала она, подвигаясь к нему в порыве неизбывной ласки, – ты говоришь так просто, так хорошо…
…Вошел Евангел. Вид у него расстроенный. Видно, что-то худое. И в самом деле – весть его неприятна, особенно для господина.
– Ксантипп дерется, – коротко сообщил раб.
– С кем? – спросила госпожа.
– Началось с того, что Ксантипп выпил. Точнее, он добавил к тому, что принял ранее. Лампидо упрекнула его. Сказала, что не может более терпеть животное, к тому же пьяное.
– И что же Ксантипп?
– Ясно – дал ей такого тумака, что она покатилась за порог. Но ведь и Лампидо не промах. Она, тоже подвыпившая, вылила на него таз грязной воды. И тут началось! Он ее чуть не убил! Мы подоспели вовремя. Вырвали ее из пьяных рук. Досталось всем нам. – И Евангел стер ладонью кровь с разбитого носа.
– Где же он теперь?
– У себя. Мы его связали.
– Хорошо сделали, – сказал Перикл, молча слушавший эту оскорбительную для него историю.
– Может, развязать его? – спросил Евангел ради приличия.
– Ни в коем случае!
Только повернулся Евангел к двери, как дорогу ему преградил Ксантипп. Он сейчас походил на некую обезьяну, которая, говорят, водится в дремучих лесах Ливии – где-то в полуденных краях. Глаза красные, сверкают, как у бешеного. Из ушей и изо рта – бурая кровь. Волосы слиплись в грязный ком. Уста изрыгали нечленораздельные звуки. Это скорее рычанье зверя. На руках и ногах – обрывки веревок.
Перикл прошелся взглядом по сыну, смерил его с головы до ног. На лице – обычное выражение спокойствия и сосредоточенности. Ни слова сыну.
Аспазия не выказывала никаких чувств, чтобы не навлечь на себя гнев этого пьянчужки. Во всяком случае, она никогда не вмешивалась в ссоры Ксантиппа и его жены Лампидо. Впрочем, и это не спасало ее от язвительных насмешек и пьяных гримас буйных супругов.
– Счастливые люди! – прохрипел Ксантипп. – Наслаждаетесь? А мы, значит, в грязи? И голодные, как собаки? Это называется справедливость в прекрасном и счастливом городе Афинах? Так, что ли?
Ответом было полное молчание.
– Языки проглотили? – продолжал пьяница. – А ты, красавица, занявшая место моей бедной матери? Опустила глаза? Молчишь? Не от стыда ли?..
Евангел двинулся было к нему, чтобы постараться немного урезонить.
– Прочь! – заорал Ксантипп. – Я никого же боюсь! Я готов ко всему! – Он скорчил страшную рожу, вроде бы улыбнулся. – А может быть, апокериксис? Лишение наследства, да? Что ж, я давно к тому готов. Я ничего не боюсь! Слышишь? Можешь лишать меня состояния!
Перикл сидел и выслушивал все это. Стыд, унижение, горе – чего только он не испытывал… Боги за что-то гневались на него – это было ясно даже слепцу. Но за что? Разве мало делал он добра людям? Разве не служил Афинам всю жизнь верой и правдой? Ни на одну драхму не увеличил он своего состояния! А ведь мог, вполне мог, подобно другим! За что же все-таки разгневались на него боги?..
Он сказал наконец сыну довольно спокойно (и откуда только бралось у него столько спокойствия?!):
– Апокериксис? Видишь ли, если я сочту нужным, то непременно прибегну к нему.
Нет, он не умел лгать. Не умел изворачиваться. Он говорил то, что думал. Правда, не всегда это шло ему на пользу. Не всегда! Но таков закон его жизни, и изменять ему он не мог.
– Это забавно! – вскричал пьяница. – Значит, ты не решил еще? А чего ждешь?.. Впрочем, может быть, это и верно с твоей стороны – увеличить счет моим грехам: тогда тебе будет легче перед собственной совестью. Ведь так? Не правда ли?
– Да, правда.
– Я так и предполагал. – Ксантипп оглянулся, ища глазами домоправителя. – Ты дашь мне вина, Евангел?
– Нет.
– Почему же?
– Ты уже выпил. Зачем еще?
– Чтобы скорее умереть. Как ты этого не понимаешь? Неужели вам все объяснять?
– Не надо… – Перикл не выдержал, встал и обнял сына. И тот заплакал у него на груди. – Я хочу, чтобы ты жил. Слышишь, Ксантипп?! Хочешь, я пошлю тебя в горы, чтобы залечил ты душевные раны? Вместе с твоей Лампидо, – хочешь? Я дам тебе денег. Воздух вершин освежит тебя. Более того – сделает бодрым. Ты помолодеешь на десять лет. Послушайся меня, Ксантипп.
Сын рыдал, прислонясь к отцу, положив ему голову на грудь.
«И за что же все это, о боги?!»
Так думал Перикл, обнимая несчастного. А сам себе казался еще более несчастным, чем сын…
…Опустошив прибрежную Акарнанию, Перикл со своим флотом приблизился к Эниадам, расположенным в восьмидесяти семи стадиях от берега. Река Ахелой в этом месте довольно широка. Она омывает с востока и юга городские укрепления. В этом – большое преимущество для обороняющихся, ибо они могут бросить все свое войско на защиту западной и северной стороны, почти не обращая внимания на речную сторону, где вполне достаточно иметь небольшие сторожевые дозоры. Периклу не терпелось взять Эниады. Это было бы триумфом и достойным увенчанием всего похода. Но, отдавая себе отчет в предстоящих трудностях и ничуть не преуменьшая их, он собрал совет – всех начальников кораблей и всех начальников гоплитов.
На совете он встретил поддержку своим планам. Удача, сопутствовавшая походу до сего дня, безупречное водительство Перикла вдохновляли. У тех, кто остался в живых, все еще почесывались руки. Надо сказать ради справедливости, что потери убитыми и ранеными были весьма и весьма умеренными.
После совета Перикл уединился с Артемоном, сведущим в различного рода стенобитных машинах.
Стоит сказать два слова об этом ученом.
Это было в Афинах года два назад. Изобретатель по имени Артемон явился к Периклу с предложениями о том, как при помощи машин ускорить падение осажденных крепостей. Периклу понравился этот малый, и с тех пор он не выпускал его из своего поля зрения.
Время от времени Артемон навещал Перикла, показывая ему замысловатые чертежи на папирусе. Чертежей, как правило, оказывалось недостаточно: требовались деньги. Перикл давал их из особых фондов. На эти деньги Артемон строил образцы машин и приводил их в действие.
Изобретения, которые представил Артемон, Перикл приказал спрятать от посторонних глаз и положил ему пятьдесят драхм ежемесячно жалованья.
Задумывая поход в Акарнанию, Перикл взял с собою и Артемона. Он запретил молодому ученому участвовать в бою с мечом в руке. Ему в обязанность вменялось изучение способов для разрушения крепостных стен.
В этом походе Артемону исполнилось двадцать три года. Это был довольно хилый, невзрачного вида молодой человек. И если что и было в нем необычайного, то только глаза: они сверкали даже во мраке – светло-голубые белки и ярко-зеленые зрачки. Весь рыжий и вечно плохо умытый – таков был этот Артемон, которого приметил Перикл и сделал своим советником в изобретательских делах…
Они долго сидели в уединении. Артемон показывал некие письмена и чертежи на папирусе. И так они беседовали вдали от взоров и ушей посторонних.
Сам Артемон впоследствии вспоминал об этом в таких выражениях:
«Перикл спросил меня, есть ли что-либо такое доселе неизвестное людям, что могло бы без особого труда разрушить стены. Сила человеческих рук, говорил Перикл, не очень велика, хотя она и творит чудеса. Война тем и примечательна, между прочим, что не терпит особых проволочек. Самой лучшей войной была бы битва, которая длится всего один час. За этот час должен быть полностью разбит враг и полностью разрушен город. Это кажется сказкой. И это на самом деле сказка. Но это можно представить себе при некотором напряжении ума.
На что я ответил, что стенобитные и иные машины, будучи построенными при некоторой ловкости и изощренности ума, значительно уплотнят время для достижения победы. Для этого следует собрать побольше ученых и дать им в руки побольше денег и рабочих. Тогда все пойдет на лад.
– И мы будем запросто брать города? – спросил Перикл.
– В некотором роде – да, – ответил я.
– Мы этим займемся по возвращении в Афины, – сказал Перикл. – А теперь подумаем: что же испытать здесь, в Эниадах? Какое оружие?
И он начертил на папирусе план города с указанием наиболее уязвимых мест.
– Это сообщили мои соглядатаи, – сказал Перикл. – Но я им верю не во всем. Учти это.
По здравом размышлении я предложил бить стены не там, где это могут предположить эниадцы, а там, где вовсе не подозревают они.
– Это хорошо, – одобрил Перикл, не сводя глаз с рисунков на папирусе. – Какие же места ты предлагаешь?
Я продолжал:
– Вот здесь, на берегу реки. А лучше всего там, где она, изгибаясь, тянется к северу. Стало быть, в юго-восточной части города… Я предлагаю ночной порою собрать здесь плот и рано утром двинуться через реку…
– Один плот? – спросил меня Перикл.
– Нет, не один. Лучше три или четыре. Машины, которые с нами и не были еще в употреблении, должны быть быстро введены в действие. Кроме того, из-за реки должен быть нанесен удар по городу с помощью глиняных снарядов, начиненных серою. Если юго-восточная часть города будет окутана едким дымом – а это совершенно необходимо! – то оборона стен в этом месте сильно ослабнет. А тем временем орудия подкопа и стенобитные машины сделают свое дело. Таков мой замысел».
…На пятнадцатый день битвы за Эниады были брошены в дело все наличные силы афинян. К тем семистам пятидесяти гоплитам, которые могли сражаться, была добавлена часть экипажа кораблей. Но именно только часть: Перикл считал, что флот в каждую минуту должен быть готов к походу.
Эниадцы сражались столь яростно и с таким умением, что афиняне пришли в удивление. Машины, подготовленные Артемоном весьма скрытно, действительно сокрушили в нескольких местах городские укрепления. Однако защитники города живо перебросили сюда достаточное количество воинов, и прорыв не состоялся.
Глашатаи, посланные к городским стенам с предложением сдаться Периклу, дабы не проливать понапрасну кровь, вернулись возмущенными. Им было сказано, что единственное предложение, которое принимают эниадцы, – это следующее: афиняне должны убраться восвояси, пока у них ребра целы. Ответ был не столько ругательский, сколько насмешливый и оттого, по мнению афинян, еще более обидный.
Все последующие дни предпринимались отчаянные усилия, чтобы сокрушить стены. Это отчасти удавалось. Но воины оказывались бессильными действовать в проломах.
Между тем все время приходилось опасаться действий керкирского флота. Он мог показаться в любой час. Встреча с ним не сулила особенных надежд, учитывая боевые действия против Эниады. Получилось так: сражайся все время с оглядкой на море. Плохо обеспеченный тыл – всегдашняя забота наступающего. А здесь, под Эниадами, эта забота была особенной.
Глиняные снаряды, заброшенные в город, причинили противнику немало ущерба. Иначе быть и не могло. И тем не менее спустя три недели Перикл понял, что дальнейшая осада не сулит добра афинянам. Иначе и не могло быть, если неоткуда ждать подкреплений, а имеющимися силами эниадцев не сломить.
В этих условиях Перикл принял единственно правильное решение: он отбыл отсюда столь же внезапно, как и прибыл.
Так закончилась эта битва под Эниадами. Проиграл ли ее Перикл? Пожалуй, нет. Но и не выиграл. Когда в Афинах стали обсуждать этот морской поход – Периклу воздали должное. Но нельзя сказать, что гений Перикла достиг на берегах Акарнании или Ахайи своей вершины…
Было уже совсем темно. Дождь прошел. Но звезд не видно. Значит, тучи, значит, дождь снова может пойти. Прохладно. Ветер поутих. По-прежнему дует порывами. Выбежит на улицу и снова спрячется где-то за углом. Потом снова покажется.
Внутренний двор чист, хорошо ухожен – ни соринки, ни грязи. Небо над ним – почти квадратное. Вода журчит в фонтане. И падает брызгами на мрамор.
Голубой мрамор. Голубые брызги…
Аспазия ушла на женскую половину – гинекей. У Ксантиппа, в дальнем углу двора, совсем тихо: все имеет свой конец, даже буйство, А Парал? Бедный мальчик! Он спит тяжелым сном – весь в поту, с холодной испариной на лбу. Спит и Аттика. И сон ее можно уподобить сну Парала: тоже сон больного!
Перикл запрокидывает голову. Он вдыхает холодный воздух. От него легче, но тяжесть на сердце и в голове остается. Она там прочно свила гнездо. Чем же теперь ее вышибить оттуда?
Перикл поймал себя на том, что разговаривает с самим собою. Правда, он читал вслух Гомера и небольшой монолог из «Персов» Эсхила. Это даже становится смешно: Перикл разговаривает с самим собою, слушает самого себя! Совсем еще недавно его голос раздавался в больших залах. А теперь он имеет полную возможность выступать для самого себя. И то – в ночные часы. Разве это не смешно? Вот бы подслушал комик Гермипп – опозорил бы на весь свет!..
«Так-то, дорогой друг, – обращается к самому себе Перикл. – Ведь ты же сам твердил без конца, что воля народа сопоставима только с волею богов. Не кто иной, как ты сам, вот этими устами, оповещал мир о том, что демократия в Афинах есть высшее выражение и высшее достижение человеческой мысли в области политики и общественного устройства, основанного на справедливости и полном и свободном волеизъявлении народа. Теперь ты сам и на своей шкуре ощущаешь ее силу: ибо ты устранен, ибо ты фактически предан остракизму – пусть почетному, но именно остракизму! Если угодно, можешь утешиться тем, что имя твое не было написано на черепках. Но знай: это утешение слабое! Ты сам во многом выковал то самое оружие, которое сразило тебя и обрекло на прозябание между четырех стен».
Было очень горько от сознания одиночества. Но что поделаешь: такова воля богов!
…Три дня пролежал Еврисак на жестком корабельном ложе. Рана, полученная им во время битвы при Эниадах, оказалась смертельной. Этот камень прилетел из-за стены и попал чуть повыше левого уха. Поначалу казалось, что молодой моряк справится: он пришел в себя и попросил пить, на радость своим соратникам. Но вскоре снова впал в глубокое забытье.
Его перенесли на корабль «Геракл» и уложили. Была пущена кровь. Знатоки утверждали, что все обойдется: Еврисак молод. Однако боги решили совсем иначе. Как было сказано, пролежал Еврисак три дня. Было очень обидно видеть, как этот молодой и красивый лев умирает от крохотной раны.
И он скончался при наступлении четвертого дня. Его друзья задумали было похоронить его по обычаю мореплавателей, но Перикл воспрепятствовал этому. Он приказал изготовить гроб из кипарисового дерева, положить в него труп и залить гроб до самых краев расплавленным воском, дабы предотвратить порчу трупа. В. таком виде несчастный Еврисак был доставлен на родину и предан земле недалеко от афинской агоры́. Между прочим выступил на похоронах и Перикл, хотя это не были похороны государственные. Речь его была краткой, неофициальной и заключала в себе следующее:
«Сегодня, в эту самую минуту, мы прощаемся с Еврисаком, нашим боевым сотоварищем по походу в Акарнанию и другие земли. Я знал его столько, сколько нужно знать воину, сражающемуся бок о бок со своими друзьями. Боги дали ему все – силу, ум, красоту мужскую, а опыт он добывал потом, горбом в трудном походе. Даже если бы он и не командовал «Гераклом», даже если бы он и не был в числе тех, кто ответственно вел соратников против врагов, а только бы делал свое дело в качестве рядового гребца, то и тогда бы он заслужил славу доблестного героя, ибо отдал жизнь за свое государство. То есть он совершил поступок, выше которого нет ни другой доблести, ни другого геройства. И я, так недолго, но так хорошо знавший его, говорю ему свое: «Прощай».
Так сказал Перикл перед разверстой могилой. Говорил он негромко, но очень проникновенно и речь его, записанная тут же, наутро уже ходила по рукам…
В то время как он разглядывал небо, но думал о земле, возле него вдруг появилась Аспазия, почти нагая, в какой-то коротенькой и прозрачной накидке.
– Мне плохо без тебя, – сказала она.
– Я не слышал твоих шагов…
Она была совсем босая.
– Ты простудишься.
– А мне жарко.
– Аспазия, побереги себя.
– Я ждала тебя и не дождалась.
Перикл показал на свою грудь и сказал:
– Вот тут что-то неладно. Наверное, стар уже.
– Дыши глубже, и станет легче.
Он усмехнулся:
– Чтобы стало легче, надо, чтобы легко дышалось всей Аттике.
– Мне трудно думать обо всех. Я просидела час у постели Парада.
Он коснулся пылающими пальцами ее щеки. Ему хотелось успокоить ее:
– Парал поправится. Завтра же пройдет эта лихорадка.
– А я почему-то думаю о чуме, которая гуляет по Афинам. Я приказала Евангелу разыскать врача Гиппократа. Я ему очень верю. Но Евангел не застал его дома.
Перикл обнял ее и увел во внутренние покои. Уложил ее и сам улегся рядом. Он был возле нее и очень далеко от нее.
– Что будет с Паралом? – проговорила Аспазия.
– Он скоро встанет.
– А если нет?
Она вскочила. Глаза у нее были полны слез:
– А если нет?
Он не допускал этого! Как же можно так? Нет, нет, нет!
– А если?..
Она была непреклонна, после всех его утешений повторяла свое: «А если?» В самом деле: а если?.. Перикл почему-то верил в свою добрую судьбу. Он всегда верил. И не мог не верить даже в эти дни, когда, казалось, на него обрушились все беды мира. Все беды!
– Все? – спросила Аспазия. – Неужели все беды?
– Все.
– Нет, – сказала она, – не говори так. И не сетуй на судьбу, умоляю тебя! Ибо есть беда большая, чем просто беда. И еще есть беда значительно большая, чем самая большая беда. Нет, не говори так! Ты не должен жаловаться! Никто не давал тебе обязательства в том, что ты всю жизнь будешь полновластным властителем Афин. Ты должен примириться ради нас, твоих близких. Нет сейчас у нас большего горя, чем болезнь Парала…
– А я почему-то верю… – проговорил он. Но не сказал: во что же верит, давно ли верит и что дала ему эта вера?
Она бросилась на постель, зарылась лицом в подушку. Она, мудрейшая Аспазия, явно теряла самообладание! Было над чем призадуматься!
– Он болен, – повторяла она. – А Перикл далеко от меня. Это моя Аттика! Это мой мир! Слышишь?
Да, это он слышал. И даже очень хорошо. Перикл понимал, что вкладывала она в свои слова нечто большее, чем горе. Она упрекала его. Почему? Потому что это именно он затеял войну с Пелопоннесом. Разве это так? Ведь сама война принеслась в Аттику! Перикла можно укорять, но не больше, чем Зевса: так было угодно судьбе!
Однако она знать ничего не хочет. В Элладе – война. В Афинах – чума. Умирают дети. Гибнут женщины. Война затеяна не кем-нибудь, а правителями… И она говорит в отчаянии:
– Парал все время бредит. Что делать? Жар слишком силен.
Он спрашивает:
– Кто возле него?
– Евангел. Натирает его уксусом.
– Скорей бы рассвело, – говорит Перикл.
– Да, и я жду рассвета. Скорей бы! Я сама побегу в город. Где-нибудь да найду врача!
Перикл встает:
– Я пойду к нему.
Постучали в дверь.
– Это я, – послышался голос Евангела.
Перикл вышел к нему.
– Ему немножко лучше, – сообщил раб. – Уксус понизил жар. Он уже пьет воду. А потом спокойно уснул. Я прислушался к дыханию: тихо спит. Как здоровый. Клянусь богами!
Перикл вздохнул:
– Спасибо, Евангел.
– Спите. И я пойду спать. Улягусь возле него.
– Ты слышала? – сказал жене Перикл, когда закрылась дверь и раб удалился. – Ему уже лучше. Я же говорил, что это лихорадка, что все пройдет.
Она сказала:
– Я все равно пойду к нему. Все ноет вот здесь, – она указала на левую грудь. – Здесь всегда болит перед бедой.
Вдруг снова постучали в дверь.
– Это опять я.
Раб сообщил хозяину, что он все еще дожидается. На прежнем месте.
– Как?! – удивился Перикл. – Он здесь среди ночи?
– Да.
– Разве ты не сказал ему, что поговорю с ним?
– Сказал.
– И что же он?
– Говорит: «Подожду».
– Может быть, он желает услышать это обещание лично от меня?
– Может быть.
– Зови его сюда!
– Как? Прямо сюда?
– Нет, в ту комнату. Где работаю.
Вскоре показался Евангел в сопровождении молодого человека. Такого невзрачного на вид. Худощавого. Немного прыщавого. Но было в его осанке и в выражении глаз нечто такое, что невольно обращало на себя внимание.
– Это ты Агенор, сын Олия? – спросил Перикл.
– Да, я.
Они стояли друг против друга.
– Ты хотел меня видеть?
– Не только, – сказал Агенор очень приятным, таким мягким голосом. – Мне надо поговорить с тобой. Но для этого необходимо время. Но я готов хоть сейчас. Как будет тебе угодно.
– Нет, – сказал Перикл. – Я очень устал, наверное, так же, как и ты. Нам обоим нужен отдых. Может быть, завтра?
– Можно и завтра.
Перикл осторожно спросил:
– У нас будет длинный разговор?
– Не столько длинный, сколько очень важный для меня.
– Тебе говорили, что я очень занят?
– Чем?
Вопрос, признаться, более чем дерзкий. Евангел чуть было не вышвырнул этого мальчишку на улицу. Перикл спокойно отвечал:
– Я пишу.
Это была ложь.
– Тогда другое дело, – сказал Агенор. – Я могу подождать.
Молодой человек был столь решителен и столь упрям в достижении своей цели, что Перикл не решился откладывать встречу на долгий срок.
– Я надеюсь, беседа будет обоюдоприятной?
– Нет, – отрезал Агенор. – Для тебя она будет неприятной.
Перикл подивился этой прямоте.
– Почему же? – спросил он, улыбаясь.
– Так! Это будет разговор о тебе и о демократии.
Перикл продолжал улыбаться:
– Ну что же, в таком случае мы поговорим. Давай условимся: завтра, когда наступят сумерки.
Молодой человек поклонился.
– Я буду точен, – предупредил он и тут же скрылся за порогом.
Перикл и Евангел недоуменно глядели друг на друга. Раб пожал плечами и пошел спать.
Книга третья
Да, это был он – Гиппократ. Перикл уже видел его однажды и даже беседовал с ним (правда, на ходу). Невысокий, склонный к полноте человек лет тридцати с небольшим. Как и положено настоящему врачу, Гиппократ, по-видимому, сам перенес какую-то болезнь: на губах его еще не зажили прыщи.
Впечатление от больного далеко не лучшее. Верно, жар поутих, что свидетельствует о преобладании в крови желтой желчи над чёрной. И это хорошо. Однако непрерывная ноющая боль в костях, особенно в коленных суставах, – признак плохой. Плохой в том смысле, что наводит на сомнение: а нет ли здесь начала этой самой чумы, которая становится в Афинах повальной?
– Допустим, есть, – мрачно предположил Перикл.
– В таком случае придется лечить соответственно, – сказал Гиппократ. – Главное, что придется сделать, и я уже распорядился об этом, – прочистить желудок. В этом отношении я очень доверяю египетским врачевателям и жрецам. Они требуют трехдневного обязательного очищения желудка для всех. Раз в году. Я бы эту меру применял чаще, скажем, раз в месяц. – Врач возвратился к разговору о Парале: – Итак, мы считаем, точнее – предполагаем как наихудшее, – что это чума. Лечение и молодость больного, мне кажется, сделают свое дело. И я рассчитываю на покой и благоденствие в этом всеми уважаемом доме.
Перикл обратил внимание на глаза Гиппократа: голубоватые, в обрамлении очень черных – иссиня-черных – ресниц. Откуда такие глаза на острове Кос? А впрочем, все давно смешалось и невероятно перемешалось в этом мире. Ничему не следует удивляться…
Врач настоятельно советовал принять меры предосторожности, ибо черная желчь имеет обыкновение испаряться из крови и она носится в воздухе, попадая через ноздри в кровь здорового человека. Чеснок и лук, потребляемые обильно с пищей и без нее, как бы отпугивают пары желчи и создают, таким образом, некую защитную сферу.
– Хорошо, – сказал Перикл, – отныне чеснок и лук будут желанными в нашем доме, хотя терпеть их не могу.
– Это ради здоровья, – улыбнулся Гиппократ.
– Для них, – проговорил Перикл, указывая рукою на дверь. – А мое здоровье – кому оно нужно?
Гиппократ поднял руку:
– Как это так? Я бы никому не поверил, что слова эти произнесены великим Периклом, если бы не слышал их сам.
Гиппократ говорил звучно, четко произнося всю фразу, точно опасался, что не всё расслышат, точно пытался преодолеть некую глухую пелену, которая между ним и слушающим. Этот молодой врач уже снискал известность не только в Аттике. О нем уже слышали и в других государствах. Популярности его содействовали не только глубокие – не по летам глубокие! – познания во врачебном искусстве, но и бескорыстие его и сердечность его, когда дело, например, касалось бедных людей. Говорили так: если нет у тебя денег, но есть болезнь – обратись к Гиппократу; если тебя другие врачи приговорили к смерти – найди Гиппократа, он тебя вылечит; если тяжело у тебя на душе – Гиппократ найдет для тебя слова утешения, ибо слово тоже лечит…
– Твоя жизнь нужна народу, – сказал Гиппократ, сопровождая слова красноречивым жестом, как бы подкреплявшим эту мысль.
– Какому народу? – Перикл говорил серьезно, без тени иронии.
– Афинскому.
Перикл махнул рукой.
– И не только афинскому!
– Кому же еще?
– Всей Элладе!
Перикл имел на этот счет вполне определенное, твердое мнение.
– Нельзя, – сказал он, – говорить от имени всех. Если взять одного человека, то и тот на дню по нескольку раз может переменить свое отношение к тому или другому предмету. Что же говорить о целом народе или народах, населяющих сопредельные государства или более дальние? Я бы никогда не советовал выступать от имени всех, пока не опросил всех. Всю жизнь это было моим правилом, которому следовал неукоснительно.
– Пожалуй, это так, – согласился врач, – однако я знаю мнение своих пациентов.
– Что же они думают?
– Ждут, – сказал Гиппократ.
– Кого?
– Тебя!
– Разве они не знают решения афинского народа?
– Знают.
– Что же им еще надо?
– Тебя! Тебя недостает в Народном собрании. Я так думаю. И пациенты мои так думают.
Эта твердая убежденность Гиппократа, наверное, не возмущала Перикла. Напротив, в глубине души он был очень доволен. Ибо и он был человеком. И все-таки та сторона человеческой натуры, которая анализирует в первую очередь собственные недостатки, преобладала в нем. Самодовольство отсутствовало почти полностью. Это счастливое обстоятельство – а иначе его никак не назовешь – благополучно проводило его между Сциллой и Харибдой. А сколько Сцилл и сколько Харибд расставляет судьба на нашем пути?!
– Не стану тебя переубеждать, – проговорил примирительно Перикл. – Допустим, что это так. Но ведь на деле все обстоит иначе, поскольку мы с тобою беседуем здесь, в этом доме, где хозяин его отторгнут от общества самим обществом.
– Это вовсе не так! – возразил врач.
– То, что это мой дом?
– Нет.
– Что я отторгнут?
– Да.
– О боги! – Перикл воздел к небу обе руки и запрокинул голову. – Разве этот разговор происходит не в Перикловом доме? Разве эти стены не стали для меня позлащенной тюрьмой?
Врач не сдавался. Он вел себя как тот борец, который давно положен на обе лопатки и тем не менее не сдается.
– Настанет день… – начал Гиппократ.
– Ответствуй мне, Гиппократ: может, я и в самом деле все еще стратег, но я об этом не ведаю сам, ибо вот тут у меня… – и Перикл, приставив к виску пальцы, прищелкнул ими, как это делают вавилонские купцы, когда хотят показать, что под черепной коробкой не все в порядке.
– Нет, – сказал врач, смеясь, – там все в должном порядке. А иначе бы я молчал. Непорядок там, на агоре́, в Народном собрании! Но в тот день, когда они придут в себя и поймут свою ошибку, – будет поздно. Вот чего я опасаюсь!
– Не будем препираться относительно того, что слишком явно, – сказал Перикл. – Меня интересует другое: что творит эта проклятая чума? Какие на этот счет сведения?
Гиппократ развел руками. И это не понравилось Периклу, ибо жест врача не оставлял места для утешения. Что можно сказать, если народ Аттики – почти весь – согнан войною в Афины? Скученность невообразимая! Люди живут меж Длинных Стен так, словно бы это хоромы какие-нибудь. Скученность всегда содействует разлитию в крови черной желчи. Отсюда – все беды! Добавим еще и голод. Добавим душевные невзгоды, неуверенность в завтрашнем дне. Что еще надо? Разве мало всего этого для того, чтобы люди валились от тяжкого недуга, а сам недуг превращался в эпидемию, то есть в повальное заболевание? Ждать какого-либо чуда не приходится. Человеку нужен простор, а его нету!
– О просторе говорить не приходится, – сказал Перикл. – Битва разгорелась не на жизнь, а на смерть. Спарта признает один мир: если мы станем на колени. Но возможно ли это?
– Никогда! – громко произнес Гиппократ. – По моим наблюдениям, афинский народ готов пройти через любые лишения, лишь бы отстоять свое дело.
– Это так, – подтвердил Перикл. И, подумав немного, взвесив различные доводы, снова повторил: – Это так.
Тени прошлого проходили перед его глазами. Будущее рисовалось в его воображении. Сопоставляя их, он приходил к утешительным для себя выводам. Ибо верил и в разум и в силу Афин. Отчасти и то и другое было его детищем. Но только отчасти. Разве способен один человек изменить природу государства, все его содержание, весь характер его народа в течение жизни одного поколения? Очевидно, нет. Следовательно, нельзя приписать какой-либо одной личности все благие дела Афин и его народа. Века ковали волю и разум Афин. Только поэтому стало возможным блистательное существование этого великого государства. И народ, единый в пониманий своей цели, – есть основа основ этого государства, будущее которого обеспечено его демократией, его строем, противоположным спартанскому. Но надо сказать откровенно: управление Афинами требует долготерпения и силы, особой терпимости к другим. В Спарте все совершается как будто бы по мановению руки: дисциплинированный народ, безропотное подчинение царю, отсутствие дискуссий!.. Афины уже доказали свое превосходство: это было в Мидийскую войну. Персидская туча шла на Элладу. Казалось, достаточно рявкнуть грому из этой тучи, как эллины падут ниц и запросят пощады. В это страшное время кто взял на себя главенство в войне, кто принял на себя удары? Афины. Вот именно тогда, в ту пору, доказали они свое превосходство в эллинском мире! Тщетно теперь возвращаться к спору, кто выше – Спарта или Афины. Это решено историей. Это уже известно всему миру. Не споры нужны эллинам, но мир и руководство, исходящее от Афин…
Поделившись этими мыслями с врачом, Перикл спросил, что думает он по этому поводу.
Гиппократ держался того мнения, что в словах Перикла много справедливого. Но есть один пункт, который вызывает не то чтобы сомнение, не то чтобы… Одним словом, имеется спорный пункт.
– Какой? – вопросил Перикл.
– Относительно гегемона среди эллинских государств.
– Этого добивается Спарта.
– Насколько я уразумел – и Афины…
– Да, это так, – без обиняков отвечал Перикл. – В то время как у Афин для этого имеется воистину неоспоримое право и основание, таким правом и основанием не обладает Спарта.
– Это с нашей точки зрения.
– Если угодно, с общей, философской, – сказал Перикл. – Пусть философия, как высшее выражение человеческого духа и его мощи, скажет свое слово по этому поводу. Впрочем, она уже сказала.
– В пользу Афин?
Перикл утвердительно кивнул.
…Десять наиболее быстроходных кораблей оставили синопскую гавань, направляясь в Колхиду, точнее, в столицу Северной Колхиды – Диоскурию[1]. Соблюдая всегдашнюю осторожность, Перикл плыл на шестом от головы корабле. Еще в Пирее он окрестил это новое судно «Аполлоном», ибо оно как бы олицетворяло красоту человеческой мысли, создавшей его. Неутомимый Артемон посоветовал изменить контур поперечного сечения судна и самый киль его несколько утолстил в средней и кормовой части. От этого получился некоторый подъем против кормы, нос как бы слегка задрался. И мачты он несколько утяжелил в самом основании их, влив расплавленный свинец в особую пазуху, которую устроил там, где киль сопрягается с мачтами. С одной стороны, казалось, что судно глубже осело в воду и оно потеряет скорость. С другой же, ввиду уменьшения поверхности трения о воду из-за незначительного погружения носовой части, скорость увеличилась: ход стал живее сравнительно с другими судами, и улучшилась маневренность. Число рядов весел оставалось без изменения, хотя первоначально предполагалось довести их до пяти: вместо триеры – пентера! В конце концов Артемон решил выбрать триеру, ввиду ее некоторых уже проверенных мореходных качеств. Таким образом, название «Аполлон» вполне подошло этому красивому детищу Артемона-изобретателя…
Погода на Понте соответствовала приподнятому настроению Перикла. Ему очень понравился Синоп. Здесь он увидел собственными глазами благоденствие этого заморского владения Афин, где проживало немало клерухов, являвших истинную афинскую доблесть и воспитанность.
Верный своей натуре, Перикл в течение всего Понтийского похода время от времени проводил маневры. Если корабли находились в открытом море, он имитировал морской бой, деля число кораблей на равные или неравные части. Если эскадра плыла мимо пустынных берегов, то устраивались учения по высадке сухопутных войск. Перикл, надо отдать справедливость, выискивал любую возможность, чтобы проверить способность своих морских сил к битве. Хотя Афины и показали всему миру, что могут плавать где угодно и когда угодно, не опасаясь никого, тем не менее приходилось постоянно быть начеку. Не от этого ли – от постоянного бдения – проистекало морское могущество Афин?
Когда показались снеговые вершины Кавказа, Перикл спросил ученого историка и ритора, который сопровождал его в качестве помощника по части описания похода:
– Не там ли прикован Прометей?
На что получил ответ:
– Да, в этих самых горах.
Поскольку достоверно известно, что орел клюет печень несчастного мученика и по сей день, Перикл заинтересовался способом передвижения для того, чтобы достичь той самой скалы, где прикован Прометей: нет ли к тому месту удобных речных путей и сколько дней пути? И так далее…
Молодой историк по имени Сокл не знал этого, но высказал предположение, что поскольку с тех пор, когда был схвачен богами Прометей, нет достоверных известий о том, кто и когда видел героя собственными глазами, – едва ли укажут путь к скале даже аборигены этой страны. Сокл сказал, что в Диоскурии живет некий знаток старины, колхидец по имени Семе́л, и что этот знаток мог бы показать дорогу, если таковая существует.
Перикл, по словам его сподвижников в Понтийском походе, интересовался и другими рассказами, рожденными в незапамятной древности. Плавание Язона на «Арго» и стычка его с царем Колхиды из-за «золотого руна» занимали Перикла почти все плавание. Он неоднократно возвращался к этому рассказу, выясняя все новые подробности Язонова плавания.
Перикл сказал Соклу:
– Об этих странах, которые в горах Кавказских, много любопытного рассказывал мне Геродот.
– О, это великий муж! – воскликнул Сокл. – Я мечтаю увидеть его и поговорить с ним.
– Геродот – прежде всего прекрасный писатель. Он мне показывал некоторые, еще не обнародованные, свои книги. Поэзия его примечательна тем, что возбуждает мысль, будоражит воображение.
Сокл высказал суждение, что немножко странно читать сейчас «Историю», которая ближе к чистой поэзии и искусству, нежели к науке. Дескать, в наше время бо́льшую цену имеет не то, ка́к написано, а что́ написано.
– Разве прекрасная форма, выражающаяся в блестящем лексиконе и очаровательной строфике, утеряла свое значение?
Сокл говорил о своем собственном мнении, ни у кого его не заимствуя. Поэтому мог объясняться свободно, не боясь исказить чужую мысль. Он сказал:
– Любое сочинение есть слагаемое двух принципов.
Перикл кивнул.
– Принципа соблюдения правдивости в рассказе и принципа окрыления или окрыленности этой правды.
– Как ты сказал? – спросил Перикл.
– Принципа окрыленности. Так принято сейчас называть форму. Если бы у птицы существовали одни крылья – она никому не была бы нужна, поскольку нет самой птицы. Поэтому справедливо считать птицу правдою повествования, а крылья ее – формой повествования. Крылья несут птицу. Но если нет птицы – нет правды, – нечего и нести. Тогда нет работы для крыльев.
Перикл подивился рассуждению Сокла. Признаться, он не ожидал, что на его корабле плывет ученый, тонко разбирающийся в поэзии, которую сам он почитал труднейшим делом.
Возвращаясь к разговору о Геродоте, Сокл заметил, что, несмотря на странную для нашего времени форму, когда автор как бы нарочито одевает правду в сказочные одеяния…
Но тут его перебил Перикл:
– Я не согласен с тобой, Сокл. Если бы ты знал поближе самого Геродота, который мне близкий друг, то не стал бы осуждать его книги. Верно, в душе он поэт. И его желание, чтобы книги, писанные им, читались легко и увлекательно, вполне понятно. Разве мало книг, которых не прожуешь?
– Верно, не мало!
– Сейчас все грамотны, – продолжал Перикл. – Кому не лень, берет в руки стиль и пишет все, что лезет из головы. А лезет многое. Часто – несусветное. Графоманы – на каждом шагу. В свое время я учредил должность чиновника по делам поэзии. Через год он сошел с ума, ибо приходилось читать такое, от чего нельзя было не сойти с ума исправному чиновнику.
Молодой человек оставался при своем мнении. Он высказался в том смысле, что поэзию пытаются совать во все места, подобно радушной хозяйке, подающей гостям кипрские сладости. При такой кажущейся щедрости правда оттесняется в угол, а на первое место выступает разнаряженная, словно девицы на панафинейских торжествах, кокетливая форма.
Перикл спросил:
– А твои сверстники тоже так думают?
Сокл ответил:
– Одни согласны со мною. Но иные идут еще дальше.
– Как это понимать – еще дальше?
– Они полагают, что можно писать – и даже нужно, – не обращая внимания на форму, правда должна быть совершенно неприглядною…
– Так и говорят – неприглядною?
– Да, так. То есть они хотят оказать, что только голая, только ничем не прикрытая правда должна явиться достоянием читателя любой книги. В противном случае книга ничего не стоит и объявляется лживой.
– Вот оно как?! – удивился Перикл.
В этой беседе проявилось еще одно качество Перикла: в разговоре с собеседником живо интересоваться тем, чем интересуется сам собеседник. (Многие биографы отмечали это его качество. Современники Перикла не упускали случая, чтобы подчеркнуть эту черту. Мы в данном случае следуем той же дорогой…)
– Я, – говорил Сокл, – не соглашаюсь с такой крайней степенью определения ценности книги. У меня своя середина, хотя и подвергаюсь именно за это осмеянию. – И он пояснил: – Осмеянию со стороны этих самых крайних.
Перикл спросил его, как он смотрит на сочинения египетских писателей, имея в виду, что и те часто смешивали прекрасный вымысел с прекрасной правдой.
– А разве бывает прекрасная правда? – едко спросил Сокл.
– Говорят, что да, бывает.
– Нет, – отрезал Сокл, – нельзя делить правду. Правда одна: неприкрашенная. Горька она или сладка, приятна или неприятна, прекрасна или уродлива в каких-то своих частях, – она прежде всего едина.
Перикл слушал очень внимательно, пытаясь понять ход рассуждений молодого ученого. И не столько ход, – сколько – через них – самого Сокла.
– Да, – убежденно говорил Сокл. – Посуди сам: прекрасная правда! Значит, есть еще и обыкновенная? Но этого нельзя допускать, чтобы не лишить смысла это прекрасное слово. Правда есть правда! Неделимая. Она прекрасна уже тем, что является правдой, прекрасна своей истинностью.
– Вот как далеко мы зашли, – заметил, смеясь, Перикл, – а ведь, казалось, начинали совсем с простого.
Он попросил Сокла свести его с Семе́лом, который в Диоскурии…
– Сегодня хорошая погода, – сказал Гиппократ. – Я хочу сказать – обычная. То есть жаркая. Это плохо для болящего.
– Наверное, – согласился Перикл.
Он приказал Зопиру разыскать Евангела, чтобы тот торопился сюда, но управитель медлил. А почему – неизвестно.
– Нам надо дождаться его, – сказал Перикл врачу.
– Почему? Дорогу найду я сам.
– Я бы хотел выдать тебе соответственное вознаграждение, – объяснил Перикл.
– Я еще буду у тебя, – сказал Гиппократ. – Не могу оставить больного без глаза на долгое время. Как тебе, наверное, известно, я не беру с бедных. Но ты, к счастью, не принадлежишь к их числу. У тебя я возьму – для того, чтобы иметь возможность помочь неимущим.
Перикл проводил врача до порога и распрощался с ним.
После этого он пересек внутренний двор и прошел к больному сыну.
У постели Парала сидела Аспазия. Она о чем-то тихо шепталась с юношей.
– Отец, – позвал больной, – входи же смелее, мне уже лучше.
Перикл подошел к сыну легким, пружинящим шагом. Заглянул в глаза. Пощупал лоб, мокрый от холодной испарины. Посмотрел на жену, на глаза ее, серые от усталости и забот. Присел на краешек постели.
– Как понравился врач? – спросил он сына.
– Молодой, но очень строгий.
Голос у Парала хрипловат. За два дня у него отросла борода. И лицо побледнело сверх меры.
– Нет, он не слишком строг. Я с ним долго разговаривал. – Перикл обратился к Аспазии: – Мы поговорили даже о политике. Любопытно, что все считают себя прирожденными политиками. Подобно тому как все воображают себя знатоками поэзии.
– В этом нет ничего удивительного, – сказала Аспазия, – политика, так же как поэзия, касается всех.
Перикл выбросил руки вперед, точно от чего-то оборонялся.
– Разумеется, разумеется, – сказал он, – касается всех! Было бы обидно, если б это было не так. Меня только смущает почти полная неосведомленность в самом существенном. И при всем этом – рассуждения, полные амбиций.
Парал дотронулся до руки отца:
– Разве и врач плохо осведомлен?
– В чем? В политике?
– Да.
Перикл помедлил с ответом. А потом, немного спустя, сказал:
– Нет, к нему это не относится. Но полагаю, что медицина ему ближе.
– Вы в чем-то не поладили?
– Отнюдь! Многие его рассуждения мне по сердцу. – И опять к жене: – Мы, наверное, утомляем Парала своими разговорами?
– Боюсь, что да.
Перикл умолк, еще раз прикоснулся ладонью ко лбу Парала и удалился.
…Корабли Перикла приближались к великой Диоскурии. Город вставал в утреннем тумане по правому борту. Отсюда, с корабельного носа, он казался огромным. То есть таким, каким и был на самом деле.
Перед входом в гавань – в открытом море – его встречал главный начальник флотилии Гудас, сын Гудаса. Его легкий корабль – опрятный, недавно выкрашенный – специально предназначался для торжеств. Он был вроде афинского судна «Саламиния».
Гудас развернул свой корабль и пошел параллельным курсом. Он приветствовал Перикла, в то время как Перикл отвечал на это приветствие подобающим образом.
У входа в гавань Перикл приказал своим кораблям перестроиться. И вошел в гавань первым, подняв приветственные вымпела. Гудас плыл немного впереди, как бы указывая безопасный путь к незнакомому причалу.
Перикл обратил внимание на прекрасной работы каменный маяк, возвышавшийся над массивным молом. Бухта, будучи естественным убежищем для кораблей, едва ли требовала дополнительной защиты от непогоды. И тем не менее мыс на севере и мыс на юге города были удлинены посредством молов, насыпанных с большим искусством.
Едва «Аполлон» коснулся черным, просмоленным бортом каменного причала, как Гудас поднялся на корабль и приветствовал высокого заморского гостя следующими словами:
«Великий господин! Страна наша знает твое имя, а его величество царь наш Караса Второй наслышан о твоих подвигах и твоем мудром правлении. Если учесть, что узы, соединяющие наши страны, окрепли еще в незапамятные времена, то вполне понятна наша радость видеть тебя гостем. Как известно, великий господин, под защитою стен нашего города проживает немало греков и других народов, союзных с Афинами. Сюда вместе со мною прибыли предводители греческого населения, которые будут приветствовать тебя. Его величество просил передать тебе при этой встрече: «Добро пожаловать в нашу страну в качестве гостя! Мы много наслышаны о величии Афин и во многом хотели бы подражать этому великому городу». В этих словах заложена главная суть нашего гостеприимства и нашего сердечного чувства. Я рад сообщить тебе, великий господин, что мы встречаем друзей с большим радушием и весьма жестоки по отношению к врагам, кои таят злые замыслы против нас и нашего государства. Мне доставляет удовольствие напомнить, что в нашем народе, в памяти его, живы рассказы древних о том, как знакомились и как вместе созидали жизнь наши народы в самых разнообразных случаях. Должен заверить тебя, великий господин, что мы в меру своих сил защищаем жизнь и имущество подданных царя и наших гостей, нашедших у нас временное или постоянное обиталище, хотя и не помышляем о том, чтобы сравнивать себя в богатстве или могуществе с твоим государством.
Великий господин! Твое посещение Диоскурии, которая есть столица нашего достославного государства, будет иметь особое значение, простирающееся далеко за пределы Понта. Наши с вами друзья узнают о тесном и живом союзе, а враги подивятся крепости наших уз и сделают для себя необходимые заключения. Больше всего мы ценим мир. Он дает нам возможность свободно заниматься любым достойным промыслом в горах и на море, жить в соответствии с нашими представлениями о благе и счастье.
Я еще раз хочу повторить слова его величества: «Добро пожаловать в нашу страну», которые на нашем языке – языке апсилов – звучат так: «Бса́ла сабе́й а́пса а́дга!..»[2]
Так говорил номарх Гудас, сын Гудаса, приближенный царя Карасы Второго. И в знак особенно доброго расположения к Периклу и другим греческим мореходам преподнес амфору отменного вина и сосуд с местным медом, весьма ценимым всеми иноземцами. Это были знаки доброй воли. Перикл же в свою очередь, памятуя об обычаях этой страны, подарил Гудасу прекрасные афинские сосуды из обожженной глины, раскрашенные черным лаком.
По всем признакам начало было ободряющим. Сойдя на берег, Перикл увидел целую толпу греческих поселенцев. Это были, главным образом, ремесленники и купцы, торговавшие с колхами и другими племенами Колхиды.
Перикла приветствовал некий Эвдемон. Он назвал свое имя, филу и дем, откуда происходит. Вот его слова доподлинно:
«Мне выпала большая честь приветствовать тебя на этой земле, где многие эллины нашли приют и благое к себе расположение жителей Северной Колхиды. Не будет преувеличением, если скажу, что никогда еще не было так приятно видеть посланцев нашей матери-родины. Это сегодняшнее чувство, которое особенно волнует нас и делает особо торжественным этот час, проистекает еще оттого, что нашу родину и ее мощь представляет не кто иной, как сам Перикл, прозванный Олимпийцем. Насколько проста твоя натура, настолько же высок твой авторитет и обширна слава твоя во всем Понте, не говоря уже о прочем мире. Я хочу заверить тебя, что мы, живущие здесь, вдали от матери-родины, отчасти и по твоему совету, каждодневно и ежечасно помним о величии Афин и стараемся в меру своих способностей содействовать укреплению их величия».
Так говорил Эвдемон. И в знак почтения к Периклу преподнес золотой меч, выкованный колхидскими мастерами. Это был воистину прекрасный подарок, долженствовавший напоминать Периклу об эллинах, которые в Диоскурии. Они играли немалую роль в торговле с Колхидой. В этом смысле они представляли интересы Афин, как некогда представляли Милет. Но те времена давно отошли в вечность. Сам Милет сделался всего-навсего провинцией Афин, только по названию союзником.
Перикл поблагодарил Эвдемона и его друзей. Он им сказал немало приятных слов, вселяя в них бодрость и веру в силу и благородство Афин.
Наилучшим способом общения с аборигенами – своего рода искусством – следует считать тот, который был принят греческими поселенцами в Диоскурии. Не столько сила, сколько умелая торговля и добросердечие, проявленное здесь греками, создали им условия для обеспеченной и нормальной жизни. Все это было, видимо, усвоено еще милетянами. Враждебность пришельцев не могла бы здесь породить ничего, кроме враждебности, а это в свою очередь привело бы к крушению планов афинян. В Колхиде требовался ум – торговый и политичный, с помощью которого возможно было бы расширение торговли. Афины нуждались в здешнем хлебе, шерсти, лесе, меде. В горах Колхиды никакая пришлая сила неспособна к победе. Только мирные намерения и мирное общение приводили к успеху, что и было учтено еще первыми поселенцами. И с тех пор это стало традицией.
Перикл приказал собрать необходимые сведения о великом городе Диоскурии, о Северной Колхиде и ее царе. Он обратил внимание своих помощников на поведение поселенцев, нашедших единый язык сердца с аборигенами. А еще приказал он ознакомиться с мореходными приемами различных колхских племен и попытаться выяснить, в чем именно состоит их ловкость и сила в морских делах…
Евангел сообщает о своих беседах на агоре́: кого́ видел, что́ говорят, что́ думают о войне со Спартой. Раб озабочен. Рабу невесело. Плохо складываются дела. Хуже некуда!
– Вторжение лакедемонян в Аттику – это начало нашего конца. Так сказал некий философ. Один мой знакомый шепнул мне, что этот философ с острова Саламина. Уж очень растрепанный мужчина и, сказать по правде, не очень чистоплотный. «Я, говорит, непрестанно в пути – много дней и ночей». А откуда и куда бежит – не сказывал.
– А он в своем ли уме?
– Возможно, что рехнулся. Что такое война? Одни умирают, другие сходят с ума, а третьи – наживаются, богатеют без меры. Это и есть война.
– И это тоже говорит тот растрепанный философ?
– Нет, это мои слова. А разве не так?
– Я слушаю тебя, Евангел, слушаю!
– Философу возражали. Следующим образом: можно ли говорить о победе ночи над днем, то есть над светом солнца? Нет, нельзя! Стало быть, нельзя одолеть Афины, потому что Афины – луч света.
– В каком смысле, Евангел?
– Слушай дальше… А почему – луч света? Посмотрим, где свобода? Где свобода мысли и духа, разума и поэзии? Разумеется, в Афинах. Значит, Афины непобедимы. Значит, участь войны решена. Она окончится за пределами Аттики. Так возражали философу.
– Что же он?
– Философ был упрям. Он свои доводы подкреплял примерами.
– Убедительными?
– А это суди сам. Вот первый пример: где обходятся безо всякой пощады с теми, кто не согласен с царем? В Спарте! Где ведут нескончаемые споры по поводу того, что кажется несправедливым? В Афинах! Стало быть, кому удобнее воевать? Спарте. Ей же будет обеспечена и победа. Потому что войну выигрывает не болтун, но тот, кто молча, скрытно, без огласки, вершит свое дело. Философа поддержал какой-то моряк.
– И что же? С ним согласились?
– К счастью, нет.
– Почему же к счастью?
– А иначе не останется места для веры в богов, – сказал раб. – В их могущество. В их мудрость. Тогда не будет и счастья. А что человек без счастья? Вещь, не больше!
– Так решили спорщики на агоре́?
– Да… Философ продолжал стращать.
– Чем же?
– Он говорил: вот погибает Аттика. Та самая, которая бесстрашно поднялась в рост на пути персов.
– Почему же Аттика погибает?
– Так говорил он.
– Но – почему? Почему? Чем подтверждал он свой домысел?
– А разве это не так? Посмотри, что делается в городе: он понемногу пустеет. Негде хоронить мертвых. А скоро будет и некому. Процессии похоронные и плач! Плач над городом! Это самая страшная война, когда ты со щитом идешь против чумы, против голода, против холода. Страшная потому, что щит не помощник. И меч тоже. Разве это не так?
– Ты спрашиваешь меня? А там, на агоре́, не дали тебе ответа на этот вопрос?
– Нет, почему же! Они отвечали, как могли. Часто невпопад. Там, где нужен рассудок, чувство – плохой помощник. Я видел проявление чувств, но что-то плохо обстояло дело с рассудительностью …
– Это никуда не годится, Евангел.
– И я так думаю.
– Значит, кое-кто считает эту войну проигранной?
– Да
– Аспазия, в Афинах полагают, что война проиграна.
– Кто полагает?
– Некий философ и некий моряк.
– Это еще не Афины! Разве ты не знаешь, что Афины славятся обилием болтунов?
– Да, это верно.
– Афинянина хлебом не корми, только дай посудачить.
– Есть такое, Аспазия. Я сам не раз страдал от болтовни афинян.
– Нельзя сказать, что болтают поголовно все. Но многие подвержены этой болезни.
– Некогда эту болезнь называли еще демократией, Аспазия. Разве ее уже хоронят в Афинах?
– Разве болтовня и демократия одно и то же? Но извини меня, у меня голова идет кругом. Я ни о чем не могу думать; перед моими глазами – только Парал.
– Не надо думать об этом. О самом худшем. Боги все рассчитали. Мы в их власти. Не надо плакать, Аспазия.
– Разве я плачу?
– Извини меня, Аспазия, мне показалось.
– Но я близка к этому. Вот здесь, на сердце, – точно камень. Мне трудно дышать – ком в горле. Есть ли на свете предчувствие?
– Наверное, есть.
– Значит, жди беду. Паралу плохо. Ему очень плохо…
– Врач, кажется…
– Это верно. Гиппократ доволен, а я – нет. Я слышу чей-то незнакомый голос. Я не понимаю слов, которые он нашептывает. Но я боюсь его. Словно бы понимаю его. Оттого мне и страшно. И оттого хочется плакать.
– Аспазия, я не узнаю тебя! Кто всегда поддерживал меня? Ты! Кто подавал мне верную руку в минуту опасности? Ты!.. Аспазия, ты ли это? И все это тогда, когда вся семья нуждается в твоей помощи! И ничьей больше! Аспазия, ты молчишь? Аспазия, скажи хотя бы слово…
– Зопир, ты поступил нерадиво.
– Эти овощи сгнили. Их надо выбросить, господин.
– А почему сгнили?
– Не успели употребить их в пищу.
– А почему?
– Мы мало едим, господин.
– Стало быть, меньше покупать надо.
– Это листья, господин. Их даже никто не считает.
– Неправда, Зопир. Мы должны считать все. Каждую маслину, каждый листик салата, луковицу каждую. Расточительство, Зопир, никогда не было достоинством человека.
– Может, сохраним их?
– Эту гниль?
– Да, гниль.
– Придется швырнуть на помойку, Зопир.
– И я так думаю.
– Сколько оболов мы заплатили за них?
– Маслины – собственные, господин. Ничего не платили. А капуста стоила десять оболов. Эти груши – тридцать два обола. Вот и все, господин.
– Нет, Зопир, не все. Маслины тоже стоят денег. Это мой труд, твой труд, труд моих предков. Это – плоды земли. Земля денег стоит!
– Наверное, так, господин.
– Можешь поверить, это так, а не иначе. А теперь рассуди, Зопир: я расточителен, мой сосед расточителен, сосед соседа тоже. Что же получится в итоге?
– Не знаю, господин.
– Разорится государство.
– От одного кочана капусты?
– Если угодно, от одного. Наперед я приказываю строжайше соблюдать…
– Я буду скупее скупого.
– Может быть, и так, Зопир. В Афинах многие недоедают. Голод стучится у наших ворот, а ты изволишь шутить.
– Нет, я говорю серьезно.
– В таком случае будь скуп. Будь скареден. Пусть смеются над тобою. Считай каждый обол в моем доме. Учи этому и других…
– Что же все-таки делать с этой гнилью?
– Поступай как знаешь, Зопир. И скажи Евангелу, чтобы подсчитал убыток и записал в свою книгу… Зопир, достаточно ли ясно я выражаюсь?
– Да, господин.
– В таком случае прощай.
…И царь сказал Периклу:
– Вот столица моя и земля государства моего встречают тебя с подобающими почестями, ибо ты глава великого и дружественного нам государства, ибо слава о доблести твоей шагнула сюда, на берега Понта. Я повелел показать тебе Стену, которая в нашей стране. Ее строили двести лет.
И Перикл в сопровождении почетного эскорта отборной колхидской конницы выехал из города, переправившись через бурную реку, именуемую Ко́ракс. На левом берегу этой реки и расположена Диоскурия с гаванью и крепостью. Переправа через реку легкая, ибо здесь наведен мост наподобие того, каким пользовался Ксеркс на Геллеспонте при вторжении в Элладу: на ряд лодок, скрепленных между собой канатами, положен настил. Такого рода переправа весьма шаткая, она требует сноровки, особенно от всадников. Однако дешевизна ее и быстрота наводки делают ее достаточно удобной. В дни паводков мост без труда удлиняется при помощи лодок, которые всегда наготове под навесами на берегу.
Перикл хвалил этот мост, а Гудас, сын Гудаса, передал царю слова заморского гостя. И колхи весьма были польщены похвалой.
В двухстах стадиях от Коракса начинается эта самая Стена, которая в тридцать с лишним раз протяженнее афинских Длинных Стен. На левом берегу реки, именуемой Клишура, поставлена крепость, отменная и толщиною стен и расположением своим. Эта крепость как бы дает начало Стене, восходящей в гору, а затем окаймляющей город огромным полукругом, в середине которого и есть Диоскурия со множеством поселений и деревень, пашен и лесов. А также и болот, изнуряюще действующих на человека в летнее время.
Перикл поднялся на многоэтажную крепость, в основание которой бьют волны. Отсюда открывается вид на море и ближайшие леса и горы. Между Периклом и Гудасом произошел доподлинно следующий разговор.
Перикл спросил:
– Эта Стена обращена против кого?
Гудас сказал:
– Из-за гор приходят к нам некие варварские племена, разоряющие города наши и деревни. Еще в древности было решено преградить путь набегам с помощью этой Стены, название которой «Великая». И она в самом деле Великая.
Перикл сказал:
– Да, я вижу, что она великая, раз она тянется на многие сотни стадиев…
Тут его прервал Гудас:
– Почти две тысячи стадиев в этой стене, многократно усиленной башнями и крепостями. Есть крепости на этом протяжении, кои обеспечены и водой, и зерном, и всем необходимым скотом для мяса на многие месяцы вынужденной осады.
Перикл сказал:
– Вижу воочию, сколь неимоверен был труд того, кто клал эти камни. И не просто клал, но поднимал их на эти кручи вместе с песком и известью.
Гудас сказал:
– Вот на этой стене, которая есть фасад этой башни, укреплена надпись, высеченная на камне нашими древними письменами.
Перикл спросил:
– Что гласит эта надпись?
Гудас сказал, словно бы читая подпись:
– «Эту крепость заложил Ээт, сын Амара, в месяц сева на десятом году своего царствования». И есть еще приписка: «Отсюда пойдет начало стене, долженствующей стать Великой, ибо такова воля его величества царя Ээта, сына Амара».
Перикл спрашивал о тех варварских племенах, что живут за стенами и на севере, за горами. Он сказал также, что собирается плыть в Пантикапей, что в проливе Киммерийском. И что не поплыть туда он не вправе, поскольку тамошние клерухи, тревожимые варварами, весьма об этом просят. Гудас сказал, что в этом случае – будут приданы Периклу колхидские суда в необходимом количестве для пущей безопасности флота. Перикл поблагодарил и просил передать благодарность его величеству.
Перикл попросил Гудаса указать пустынный берег, где бы можно было провести маневры по высадке пехотинцев. А если будут приданы греческой эскадре колхские корабли, то нельзя ли провести совместные морские маневры? Потому что войска – будь то пехотинцы, всадники или моряки – превращаются в слабое сообщество людей, если постоянно не поддерживается их боевая выучка посредством регулярно проводимых маневров.
Вечером того же дня его величество приказал сопровождать Перикла в Пантикапей номарху флота принцу Гуаде. Этот номарх считался – и по праву! – наиболее опытным в мореходном деле. Что касается морских сражений, он их провел не менее десяти – и всегда с неизменным успехом…
Маневры кораблей состоялись недалеко от гавани, к югу от Диоскурии. Высадка небольшого числа гоплитов прошла удачно. Перикл был доволен. А на следующий день был разыгран морской бой. Десять кораблей колхидцев двинулись против афинян. Перикл задумал охватить широкой дугой «вражеские» корабли. На что Гуада ответил маневром, именуемым «двойным заходом»: одни корабли проводят короткий обхват противника, в то время как другие более широкой цепью окружают сражающихся, не давая противнику уйти от полного истребления.
Два афинских корабля были взяты на абордаж. Третий взят на буксир, и его колхидцы пытались вовсе вывести из сражения.
Видя все это, Перикл приказал развернуться носами и…
Снова полил дождь. Снова подул ветер. И на сердце стало тоскливее, холоднее, неуютнее. Евангел сообщил, что в Пирее пошел град. С куриное яйцо. Это совсем-совсем плохой знак.
– Люди сведущие говорят, что град, да такой крупный, – это к большому несчастью.
– Как? – удивился Перикл. – Разве бывает несчастье больше того, которое постигло Афины?
– Да, – сказал раб уверенно, – бывает.
– Я что-то не припомню…
– Оно еще впереди. – И Евангел сделал долгую паузу, наподобие трагического актера в пьесах Эсхила. – Самое большое несчастье то, которое впереди. Это же давно известно.
– А ты, пожалуй, прав, – сказал Перикл рабу.
К обеду явились Геродот и Зенон. Первый был моложе второго лет на пятнадцать. Однако философ выглядел почти одних лет с историком. Если и старше, то года на два или три.
– Благодарю богов, – воскликнул Перикл, – что послал ко мне именно вас, именно в эту минуту – не раньше и не позже! Вот пора, когда человек пьет цикуту от тоски и сознания своего ничтожества.
Геродот казался веселым. Необычайно веселым. И он признался, что немножко выпил. Более обычного.
– Это почему же?
– Все потому же, – и Геродот указал на высокое окно под потолком, через которое виднелось серое небо, все в серых барашках.
Перикл приказал подать обед. И побольше вина. Ведь если не пить сегодня, когда явились два лучших друга, то когда еще пить?
– Сказано прекрасно, – поддержал Перикла Зенон. – Когда же еще пить? Именно сегодня! В эту погоду! Я имею в виду погоду политическую и погоду… вот эту самую… погодную погоду. Очень скверную.
– Я политикой больше не занимаюсь, – предупредил Перикл.
– А чем же?
– Жизнью. Живу – и все!
– Не верю! – Зенон весело подмигнул Геродоту.
– А я верю, – отозвался Геродот. – Что дала ему политика? Заточение меж четырех стен после многолетнего и честного служения Афинам? Нет, я не согласен быть политиком. Я рад, что гляжу в прошлое, а не в будущее. И вовсе не интересуюсь сегодняшним днем!
– Рассказывай! – пробурчал Зенон. – Вы, историки, первые политики. Только умело прячете свое лицо. А по мне – это есть первое преступление. Почти кража. И даже хуже!
Геродот не проявил особого желания поспорить всерьез. И он высказался в том духе, что, мол, общество ныне до того неустойчиво, а мнения меняются столь быстро, что нет никакого смысла ни щеголять своей прозорливостью, ни защищать себя, ни тем более свою профессию. Надо в этом отношении брать пример с кошки…
– С кого? С кого?! – спросил, чуть не крича, Зенон.
– С кошки… Да, да, с той самой, которая «мяу-мяу»! Как поступает кошка, когда ее осуждают все и нещадно ругают? Знаете, как?
– Нет, – сказал Зенон.
– Она тем временем молча уплетает за обе щеки. Совсем молча.
Зенон поморщился. Он заметил, что только историки способны так нескладно шутить. Но если им очень хочется походить на кошку – пожалуйста! Эта роль все-таки лучше, чем роль мыши, которую ест кошка.
С приходом друзей Перикл оживился. Перестал думать о погоде и цикуте. Он вмешался в спор, чем подлил масла в огонь. Перикл не стал на чью-нибудь сторону. Напротив, даже не высказал открыто своего мнения. Двусмысленность его слов и подогрела ученых. Он сказал так:
– Не знаю, кто прав из вас. Может быть, Зенон. Но, может, и Геродот. Зенон ограничивается насмешками над историками, не приводя никаких доказательств. А Геродот, если и прав, все же неспособен загнать своего противника в угол.
Историк сказал:
– Я могу загнать Зенона в самый угол, словно мышь. Но это труд напрасный: он начнет доказывать, что вовсе не приперт, но пребывает в углу в самом блаженнейшем состоянии. Его диалектика нам хорошо знакома!
– Вранье! – возразил Зенон. – Все это вранье!
– Насчет угла, что ли?
– И насчет угла, и насчет мыши, и насчет блаженства. Все вранье!
– Ты хочешь сказать, Зенон, что трудно угадать наперед твои доказательства?
Философ покачал головою и сказал со сдержанной злобой:
– Не только угадать трудно, но едва ли ты поймешь их.
– Почему же я не пойму?
Зенон ответил очень просто:
– Во-первых, потому, что тебе будет лень угадывать. Во-вторых, потому, что вы, историки, едва ли способны на шутки, у вас не развито чувство смешного. И, в-третьих, наверняка ничего не смыслите во времени, в которое живете. Оно для вас застыло где-то лет сорок тому назад.
Он сказал, что приведет всего-навсего одно доказательство, чтобы убедить в этом историка. Зенон продолжал:
– Вот сидит человек. Он думает. И под влиянием размышлений волнуется. Поделим время на секунды и на десятые доли секунды. Проанализируем настроение думающего в каждое мгновение, и мы увидим, что человек не волнуется, настроение его не меняется, расположение духа его вполне нормальное. Подобно этому историк, нанизывающий событие на событие, но не улавливающий…
– Я не понял, – признался Перикл.
– А я понял, – сказал Геродот. – Понял хорошо: Зенон привык дурачить своих слушателей на агоре́ и спутал нас с ними. С зеваками.
– Нет, не спутал! – проворчал Зенон. – Тебя-то не спутал!
– Что ты сказал?
– Я говорю, не спутал. Это же невозможно! Потому что ты и есть зевака с агоры.
– Я? – Геродот сбросил с себя гиматий. – Я готов подтвердить в единоборстве свою правоту: зевака – тот, кто ляжет на обе лопатки. И этим будешь ты и никто иной!
Зенон обратился к Периклу:
– О великий Перикл! Что вижу в твоем доме? Полунагой историк пытается доказать свою правоту, словно юнец в гимназии, тем же способом. Других у него нет!
Геродот требовал единоборства, но в это время подоспел Евангел с рабынями: они принесли обед. Историк, забыв про единоборство, вырвал у одной из рабынь кувшин с вином.
– Слава вам, боги! – Зенон воздел обе руки. – Наконец-то вы пристроили к месту своего любимца!
Но Геродот не обращал на это внимания: вино было слишком вкусным…
…Корабль понесся вперед, подгоняемый ветром, который неистово дул в искусно поставленные паруса, а полсотни гребцов убыстряли движение корабля. Перикл стоял на «Аполлоне» и видел этот неистовый бег; таран казался неизбежным. А Гуада командовал на корме «Диоскурии». Он требовал быстроты и еще раз быстроты!
Перикл разворачивал корабль, пытаясь уклониться от гибельного столкновения. Положение создалось почти натуральное, как в настоящем сражении. Это очень нравилось афинянину: весь смысл маневров, по его мнению, и заключается в предельном приближении к условиям битвы.
Гребцы по левому борту усиленно выгребали, в то время как с правого два верхних ряда сушили весла, а в нижнем ряду создавали дополнительное сопротивление, гребя против движения, чтобы корабль живее поворачивало вправо. От этого поворота – от четкости и быстроты – зависело все: либо произойдет таран, либо корабли разминутся, едва коснувшись друг друга бортами.
Периклу нравились действия Гуады: смелые, рискованные, – словом, как в бою…
Афиняне приналегли на весла, и «Аполлон», круто повернув, двинулся вправо. Расстояние между кораблями сократилось почти до стадия, но теперь видно было, что тарана удалось избежать.
Прошло несколько мгновений, и кормчий доложил Периклу, что «противник» пройдет по левому борту на расстоянии весла. Так оно и случилось: корабли, чуть не задев друг друга, уже уходили в противоположных направлениях.
Перикл приказал прокричать Гуаде:
– Поздравляю!
На что получил ответ:
– Поздравляю и тебя!
В общем, это была победа обоих кораблей.
На правом крыле афинян разыгрался бой между тяжеловооруженными и колхидской пехотой, посаженной на корабли.
Колхи орудовали легкими мечами и щитами – тоже легкими (деревянная рама, обтянутая буйволовой кожей). Такое вооружение делает воинов чрезвычайно подвижными по сравнению с гоплитами. Но последние, став друг к другу спинами, организовали неприступную оборону.
Перикл и Гуада направились именно на это место, чтобы увидеть действия своих воинов.
Все у колхидцев шло хорошо, пока греки оборонялись, окружив мачту. Но вот круг их начал расширяться. И колхидцам пришлось отступать. Подбадривая друг друга криками, они пытались ворваться в эллинский круг, воистину железный. Но это не удавалось. До поры до времени.
Наконец один из шустрых колхидцев в удивительном прыжке очутился в середине греков, за их спинами. И отвлек на себя внимание близстоящих гоплитов. В самый яростный момент бой был прекращен. Перикл сказал, что колхи действовали решительно и смело. С его стороны это было великодушно…
Достойно быть отмеченным путешествие Перикла и его соратников в глубь Северной Колхиды, в городок, именуемый Дсеге́рда[3], который в горах, на расстоянии трехсот стадиев от Диоскурии. В этом месте здешний колхидский царь владел дворцом, куда переезжала летом его семья – от мала до велика. Здесь климат отличается сухостью вследствие того, что болота отдалены, а горы – рядом.
Лихорадка, которая поражает людей, живущих на заболоченных равнинах, тут мало кому знакома. Летний зной в Дсегерде скрадывается прохладным, а подчас и холодным ветром, который дует со скалистых, покрытых снегами гор. И родники в горах отличные: начало свое они берут у ледниковых кромок. Оттого-то они и целебны для человека.
Царь Караса радушно принял Перикла и показал ему крепости в горах, воистину недосягаемые для противника. На вопрос, когда были сооружены эти столь мощные стены, царь ответствовал, что, наверное, их заложил царь Ээт. Надо сказать, что этот царь для колхов все равно что Тесей для афинян. Жил он давно, а народная молва о нем столь ярка, что Ээт кажется полубогом. Впрочем, так же, как и Тесей. Однако подвиги сего царя не запечатлены столь точно, как подвиги Тесеевы. Возможно, что седая древность многое сокрыла от нынешних поколений. На просьбу Перикла показать книги, описывающие доблести царя Ээта, колхидцы пояснили, что в те времена не было папирусов, как в Египте и Греции, но что писали тогда на неких черепках. Эти черепки с течением времени обращались в камни для возведения стен. Далее колхи сказывали, что на многих крепостных стенах сделаны надписи, из коих можно узнать, когда и как правили цари. Одну такую надпись, учиненную на кирпиче, показали Периклу. Они не походили на греческие, или египетские, или вавилонские. Вот что прочли апсилы на своем языке, а потом перевели на греческий: «Эту крепость заложил Дуамей, потомок царя Ээта, во славу свою и войска в месяц уборки хлебов на третьем году своего царствования».
Папирус в этой стране стоит очень дорого по той причине, что доставляется из Египта через Грецию. Греческие купцы сильно завышают цену, ибо египтяне не всегда с охотой продают папирус, который в настоящее время у них самих в большой цене, так что один и тот же лист используется по нескольку раз для различных текстов. Навощенные же дощечки, привозимые из Греции в обмен на лес и мед, тоже в порядочной цене. В туземных школах дети пишут на камне или обожженной глиняной пластинке каким-либо мягким камнем, чаще всего мелом.
…Потом был задан пир.
В отличие от афинян, здесь трапезничают сидя. Лежать или полулежать совершенно невозможно, не только за неимением специально для этого предназначенных лож, но и по причине обычая: здесь все должны сидеть ровно за низенькими столиками. Перикл спрашивал своих: отмечен ли этот обычай у Геродота? На что последовал такой ответ: Геродота занимало то, что сходно у колхов с египетской жизнью. Геродот, к примеру, отметил склонность колхов обильно приперчивать блюда, как это делают египтяне.
Говоря про перец, царь Караса съел целых два стручка и вовсе не покривился и не выказал какого-либо неудовольствия. А, напротив, очень хвалил перец за его обжигающую способность.
Перикл поставил возле себя колхидский пифос и пил из него родниковую воду, говоря, что во рту у него огонь. И что огонь этот, дескать, требуется погасить.
На это царь возразил:
– Если все мы примемся тушить подобные пожары, у нас недостанет воды.
– Неужели, – спрашивал Перикл, смеясь, – вода дороже гостя, который буквально горит от вашего гостеприимства?
– Нет, мы просто ни во что не ставим воду, и мы опасаемся обиды со стороны гостя, который может заподозрить нас в скаредности. Для тушения перца у нас есть вино.
Перикл пошутил в том смысле, что, дескать, предпочел бы в настоящую минуту общаться с хозяевами, которых можно было бы уличить в скупости.
Беседуя таким образом, оба человека – и хозяин и гость – выказывали друг другу истинное и искреннее уважение.
…По части поведения греков, проживающих в Диоскурии, Перикл наставлял их так:
– Какова главная цель поселений афинян? Торговля. Ибо без нее Аттика задохнется, как если бы человека на целый день или на неделю заперли в герметический ящик – подобие гроба. Верно, Аттика опирается на свою силу. Но не только. А сила знаний? А сила искусства? А сила философии и прочих других наук? Разве это не главная сила, способная подчас перешибить силу мускульную, силу меча? Поэтому необходимо рассуждать мудро и мудро строить свои отношения с аборигенами… Бывают случаи, когда приходится применять и силу. Случалось это в Синопе, во Фракийском Херсонесе, в Сицилии. Так, вероятно, будет еще не однажды и в разных местах. Но здесь, в Диоскурии, как вести себя? Если прибегать к силе, то едва ли Можно победить народ, построивший стену длиною в три тысячи стадиев и крепости, подобные тем, которые я видел. Поэтому дружба и доброе согласие между греками и колхидцами должны стать основой афинской политики на Понте. Невозможно прибегать к оружию каждый раз, как только появляется недовольство в среде купцов. Разум должен торжествовать во всех случаях, когда речь идет о взаимоотношениях с другими народами. Что это значит? Это значит, что афинское проникновение на берега Средиземного моря, на Понте и в других краях должно проводиться настойчиво, но без особых военных осложнений. Мы не боимся их, но пойдем на них лишь в случае крайней необходимости. Это касается в первую очередь варваров, в отношениях с которыми без применения в надлежащих случаях силы, видимо, не обойтись. Я заверяю вас торжественно, что Афины во всех случаях сумеют сдержать свое слово. И пусть колхи знают, что Афины верны слову своему, будь то слово воина, слово купца или слово друга.
Так говорил Перикл грекам в Диоскурии…
Когда вошел Алкивиад, обед, как выражаются ливийские варвары, был в полном разгаре. Геродот и Зенон уговорили Перикла дать себе немного воли, то есть выпить вина.
– Это вино, – сказал Геродот, – не раз спасало меня от хандры на морях и в пустынях. Пей и ты!
Зенон поддержал его. Человек, который выпил, – совершил благое дело: успокоил себя – раз, подал пример другим – два и поубавил запасы зелья – три! Чего еще надо?! Хорошее настроение – дело государственное. Будь на то воля Зенона – он бы учредил особые награды пьянчужкам, а после их смерти организовал бы для них государственные похороны.
В этом вопросе окончательно сошлись во взглядах Геродот и Зенон. Они обнялись в знак согласия. Вот в это самое время и появился Алкивиад. Молодой, двадцатидвухлетний красавец, пышущий здоровьем, неунывающий и не чурающийся ни вина, ни женщин.
Он сказал:
– Что я вижу? Два немолодых мужа обнимаются столь нежно, что это наводит меня на некоторые веселые мысли. Между тем на улице я встретил прелестное создание богов. Оно шло в противоположную мне сторону, и я не мог познакомиться поближе.
Перикл погрозил ему пальцем:
– Ты знаешь, Алкивиад, что я не терплю разврата.
Зенон тут же восстал:
– Что я слышу? В нашем демократическом государстве зажимают рты? Запрещают испытывать чувства?.. Я протестую!
Перикл улыбнулся в усы, жестом пригласил к столу Алкивиада. Он сказал:
– Зенон, разве в Афинах все допустимо?
– А почему бы и нет?!
– Что скажет Геродот по этому поводу?
Историк доел маслину, запил вином:
– Что скажу? Ничего не скажу!
– А вы знаете, – вспомнил Зенон, – что человек – в общем-то существо молчаливое?
– В каком смысле? – спросил Алкивиад, не очень-то благоволивший к остроумию этого философа, которого считал, как говорится, доморощенным. Невелика заслуга болтать там про всякие черепахи и зерна, про Ахиллеса и про стрелу, которая будто бы повисает неподвижно в воздухе. Доказательства Зенона хороши только за столом, где много яств и напитков.
– В каком смысле? – Зенон уставился на молодого человека широко раскрытыми глазами. – Я говорю: человек – существо молчаливое.
– Бессловесное, что ли?
– Вроде.
Перикл сказал тихо:
– Докажи.
Зенон того и дожидался:
– Слушайте же: что такое голос? – Он указал на свою глотку. – Голос, спрашиваю, что это такое?
Все молчали.
– Голос рождается вот здесь, под кадыком. Воздух, прорываясь из легких наружу, издает звук, подобно тому как это мы наблюдаем в авлосе. Каждому мгновенью соответствует свой звук, который вообще ничего не выражает. Из мгновений состоит минута, из минут складывается час. Что же выходит?
Зенон потянулся к вареному мясу.
– Чепуха выходит! – сказал Алкивиад.
Философ покосился на молодого богача:
– Ты так полагаешь?
– Не только я. Так думают все. Весь мир.
– Во-первых, никто тебя не просит отвечать за всех, тем более – за весь мир. Во-вторых, ты, насколько понимаю, человек, а не ягненок. То есть ты должен уметь мыслить абстрактно, отвлеченно.
– Допустим.
– Тогда ты должен допустить и это! – Философ поднял кверху указательный палец.
– Что именно?
Зенон заговорил спокойно, размеренно, по-своему убедительно, во всяком случае, с большим желанием убедить:
– Что человек – существо молчаливое. К этому надо прийти с помощью рассуждений, логического обдумывания, с помощью диалектики. Если ты согласен в том, что ни одно мгновение ничего собою не выражает, – то есть если говорящий или поющий ничего не выражает в любом отдельно взятом мгновении, – то сумма таких мгновений тоже ничего не выражает. Человек или бессмысленно мычит, или вообще ничего не говорит.
Алкивиад задумался на короткое время, уронив на грудь красивую голову с черными прядями волос.
– Сдавайся, – посоветовал ему Перикл.
– Во имя чего?
– Логики!
– Вопреки здравому смыслу?
Философ запротестовал:
– При чем здесь здравый смысл! Я же доказал свою мысль при помощи абстракции и логики.
Алкивиад прибегнул к последнему, самому убедительному аргументу. Он поднял высоко фиал и сказал:
– Если послушать тебя, Зенон, если согласиться с тобой, то ведь и смертей не бывает на войне. Ведь, по-твоему, и стрела не летит, а всего-навсего остается в покое в каждое отдельно взятое мгновение. Тогда я спрашиваю: кого поражает стрела?
– Она поражает тех, кто лишен возможности мыслить.
Геродот захлопал в ладоши:
– Хорошо сказал!
Алкивиад махнул рукой и опрокинул фиал не как воспитанный афинский гражданин, а как варвар. Он обратился к Периклу:
– Послушай, о Перикл, – а палец он нацелил на Зенона, – пока в Афинах не переведутся подобные болтуны – мы будем проигрывать битвы спартанцам. Я давно об этом думаю и пришел к твердому убеждению. Невозможно слушать рассуждения, которые идут вразрез с рассудком, с обычным здравым смыслом!
Перикл взял сторону философа. Он высказался в том смысле, что современное государство, – а не государство времен Троянской войны, – живет и благоденствует только благодаря мыслительным способностям его граждан. Философия есть высшее украшение человеческого разума. Она дает силу, способную вести государство не только вперед, но и наиболее верным путем. И чем больше философии, чем она разнообразнее, чем больше задает работы уму – тем лучше. Пусть, говорил Перикл, никто не заблуждается относительно силы лакедемонян. Сила есть фактор меняющийся, зависимый от различных причин. Главный же фактор – мысль. Если оскудевает она – урон государству! Если окаменевает она – урон государству. Только мысль, бурлящая, подобно потоку, только чистая мысль, подобная слезе, поможет в самую тяжелую годину. И пусть никто на этот счет не заблуждается…
Алкивиада разве убедишь? Ухмыляется себе улыбкой сатира. Уперся глазами в стол и похрустывает челюстями. Алкивиад тот самый человек, который, как говорят в Мидии, еще не вырос, но уж голос свой подает, как большой, как взрослый. А впрочем, повзрослеет ли когда-либо Алкивиад? Сомнительно. Но почему же Перикл души в нем не чает? Чем полюбился ему этот богатый молодой человек, кумир девушек, герой панафинейских празднеств и прочих увеселений? Вряд ли кто-нибудь с достоверностью ответит на эти вопросы, потому что Перикл – тоже человек, у него тоже свои слабости…
– Нет, нет, – твердит упрямо Алкивиад, – болтовня до добра не доводит! Почему все болтуны мира должны сходиться именно в Афинах? Почему, спрашиваю?
– Как? – Перикл предельно суховат. Сдержан, но суховат. – Как? Разве это не есть доказательство нашего свободомыслия, демократии, подлинного народовластия? Ты ведь готов обозвать болтуном всякого, кто мыслит и испытывает потребность поделиться своими мыслями с другими. Хорошо, что Афины притягивают таких людей.
Алкивиад прибегает к крайнему средству в споре, сказать по правде, недозволенному. Он говорит:
– Если признать афинское государство безупречным, а болтунов единственными представителями этой безупречности, значит, справедливо, Перикл, что ты сидишь среди этих стен, а не выступаешь в Народном собрании.
Как ни был хладнокровен Перикл, как ни старался он сдержаться, но на сей раз он посерел. Прямо на глазах. В одно мгновенье!
Алкивиад, наверное, понял (но слишком поздно), какую нанес рану своему наставнику. Но делать нечего: слово выпущено, и оно летит, подобно стреле, но не той, о которой говорит Зенон, а настоящей – поющей в полете свою смертельную песню.
Перикл пытливо оглядел своих собеседников, словно желая удостовериться, о чем их мысли. Алкивиад очень часто высказывается скоропалительно. Многие считают его чрезвычайно легкомысленным. Верно, годы его такие, что к тяжелым раздумьям не располагают. Напротив, это годы легкомыслия, ибо двадцать два года – не сорок лет! И тем не менее… Одни полагали, что Алкивиад непременно вырастет в авантюриста, что верить его обещаниям нельзя. Но друзья видели в нем человека незаурядного, не по летам развитого, умеющего быстро все схватывать. Не последнюю роль в упрочении этого мнения играло его происхождение (если говорить по-старому) – весьма уважаемая фила и уважаемый дем. Перикл принадлежал к тем, кто видел в нем человека больших политических способностей, могущего принести несомненную пользу отечеству, если только верно наставить его. (Будущее показало, сколь прискорбно ошибался в этом случае Перикл.)
– Что же ты предлагаешь? – спросил Перикл Алкивиада. – Упразднить демократию, установить тиранию, передать власть олигархам или возвести кого-либо на царский трон, наподобие Спарты? Потому что есть два пути: демократия и тирания. Третий мне незнаком.
Алкивиад молчал. Но недолго.
– Если, – сказал он, – ненавистная нам Спарта возьмет верх в этой ужасной войне, стало быть, строй лакедемонян более живуч. Мне кажется, это ясней ясного.
– Ошибка! – воскликнул Перикл. – Заблуждение! Жизнь на земле – не сплошная война. Любая война когда-нибудь да кончается, и тогда встает вопрос: что же дальше? Вот я и спрашиваю: что могут противопоставить в мирное время нам лакедемоняне?
– Ничего, – бросил Геродот.
– Им нечего будет сказать, – поддержал Зенон.
Алкивиад не согласился. Он сказал так:
– Пока установится мир на земле – нас не будет. Нас сметут с лица земли.
– Кто сметет?
– Спартанцы. Или кто-нибудь другой. Тоже мало склонный к болтовне.
– Это невозможно, – проговорил удрученный Перикл. Его очень огорчило, что любимец высказывает нехорошие идеи. Говорилось ли это все по недомыслию или из злого упрямства?
– Мне неясно одно, – сказал Геродот, – относятся ли слова Алкивиада к чистому прорицанию или это его убежденность? То есть убежденность в том, что тирания лучше демократии?
Это пахло обвинением. Политическим. Алкивиад, не будь дурак, сразу смекнул. И попытался извернуться:
– Я говорю, что так будет. Я говорю: спартанцы извлекут выгоды из своего строя. Но это вовсе не значит, что я отдаю предпочтение одному или другому строю.
Но тут вцепился Зенон:
– Позволь, как это понимать: не отдаю предпочтения «одному или другому строю»?
Перикл дал возможность выговориться гостям.
Зенон доказывал, что Алкивиад, – возможно, по своей молодости и неопытности, – является настоящим представителем той малочисленной группы афинян, для которых все равно, что творится в мире, лишь бы жилось им привольно. Они даже готовы идти под власть Спарты. Они пойдут в услужение даже к варварам – только бы попользоваться благами этой жизни. Нечего сказать, прекрасное желание! Но ведь и те коровы, которые пасутся на горных склонах или на равнинах, тоже ищут сочной травы, тоже стремятся к чистым родникам. Спрашивается: в чем же состоит отличие этих любителей хорошо пожить в человечьем обличье от тех, кто мычит на поле?
Геродот согласно кивал головой, прихлебывал вино и закусывал хлебом, смоченным в вине (самый верный способ напиться). Алкивиад, слушая Зенона, вначале потихоньку посмеивался. Но, выслушав его до конца, помрачнел. Словно побитый школьник, сидел он, пытаясь угадать, на чьей стороне Перикл. А потом бросил короткую фразу:
– Что же дальше?
– Ты хочешь – дальше? – вскричал Зенон. – Ты хочешь – дальше? А то, что выслушал, – мало этого? Ну что ж, я готов «дальше»: ненавижу выскочек!
– Кто же выскочка? – спросил Алкивиад, и дыхание сперло в зобу.
– Ты!
– Почему?
– Ясно как на ладони.
Алкивиад все больше менялся в лице. Его красивые черты стали резче, заострились, глаза налились кровью, как у драчливого быка.
– Ясно? – произнес он не своим голосом. – Это может быть ясно там, в твоей вонючей Италии.
– Элея вовсе не вонючая, – сказал Зенон с чувством превосходства. – Элея – настоящий город, и там живут люди, которые поумнее некоторых моих афинских знакомых.
Дело зашло слишком далеко. Спор потерял не только форму, которая всегда должна быть изящной, но даже остроту, поскольку оскорбления никогда не бывают действительно острыми. И вот тут вмешался Перикл.
– Как хозяин этого дома, – сказал он, – который равно для всех друзей гостеприимен, прошу тебя, Зенон, и тебя, Алкивиад, прекратить препирательства, ибо ничего путного они не дают ни уму, ни сердцу. Я думаю, что и с этой и с той стороны сказано немало оскорбительных слов…
– Я ничего такого не говорил, – огрызнулся молодой человек.
– Тем хуже, если ты даже не замечал своих слов, – продолжал Перикл. – В споре мы не всегда владеем собой. Он имеет свои законы, и они властно действуют, они толкают нас в свое русло, подобно бурной речке, бьющей челн то в бок, то в корму…
Алкивиад сказал:
– Все знают, что учитель Зенона Парменид – заядлый поборник аристократов. Я поражаюсь тому, как ученик подстраивается под демократичного афинянина. Это мне кажется невероятным и противоестественным.
– У Парменида был свой взгляд..,
– А у тебя? – Алкивиад приник губами к вину.
– У меня – свой.
– В чем же в таком случае заслуга учителя?
– В том, что он был учителем: он учил мыслить самостоятельно, а не повторять его собственные мысли.
– Я не удивлюсь, – зло продолжал Алкивиад, – если Зенон докажет, что учителя вовсе и не существовало. Для этого у него наверняка масса доказательств.
– Нет, делать это я не собираюсь…
– Слава богам!
И тут воцарилась тишина. Тишина после горячих разговоров. Такая всегда кажется необычной.
…Ради Перикла были устроены маневры колхидской конницы и пехоты. Место выбрали в горах, где скалы, глубокие лощины и тесные долины рек.
Царь и его гость взобрались на высокий утес, весьма удобный для наблюдений. Он возвышался над местностью, и было хорошо видно, что делается далеко вокруг, на склонах гор, что в ущелье – на дне его – и что на гребнях.
Отрядами командовали колхи Екупа и Ласаца, а конницами – Камсас и Гача. Два войска по три тысячи человек были накануне отведены друг от друга на расстояние дневного перехода. И с каждым войском – своя конница. Как только рассвело и утренний туман поднялся выше соседних гор, Перикл занял почетный наблюдательный пост. Он следил за всеми передвижениями войск. Это ему всегда доставляло большое удовольствие. В этих играх он чувствовал себя как в родной стихии.
Войско Екупы и Камсаса вошло в узкое ущелье. Оно продвигалось довольно быстро, выставив вперед пятерых вооруженных всадников с пехотинцами. По сравнению с афинским строем колхи шли свободнее, не придерживаясь сточного шага и не выравнивая шеренги. Царь это объяснял следующим образом:
– Наша страна – горная. Одна гора громоздится на другую, один хребет – на другой. Трудно держать строй шеренги, в которой двести или триста вооруженных воинов. В этом случае нас легко бы одолел противник, распыляющий свое войско на мелкие части. Мы стараемся давать бой среди гор, добиваемся перевеса, а там – и победы.
Между тем показалось войско Ласацы и Гачи. Оно пыталось взобраться повыше, на гору, чтобы действовать оттуда, поскольку «верхнее положение» войска в горах предпочтительнее. Словно угадывая этот замысел, Екупа с войском тоже начал взбираться наверх. Достойно было удивления то, как шустро поднимались кони. Небольшой рост, приземистость и выносливость отличали их от лошадей, взращенных равнинами. И в этом смысле колхи всегда имели преимущество над пришлым противником.
Как видно, Екупу заметили в войске Ласацы. Это можно было заключить из того, что Ласаца отрядил человек пятьдесят и скрытно выслал их во фланг Екупе. В свою очередь Екупа тоже приметил движение противника и распорядился быстрее взбираться на вершину горы, покрытую лесом.
Противники выслеживали друг друга, прячась, как лесной зверь.
Перикл наблюдал с величайшим вниманием и любопытством. Он никогда не упускал случая поучиться чему-нибудь, добыть нечто новое для себя, а добыв, применить его ко благу Аттики…
– Я пришел, чтобы проститься, – сказал Дамонид. Он произнес эти слова прямо на пороге, не успев еще перешагнуть его.
Он почему-то казался веселым. Его заостренный нос, плохо расчесанная борода и спутанные волосы придавали его хорошему настроению еще больше натуральности.
– Хорошие вести? – спросил Зенон, оглядывая веселого Дамонида.
– Куда уж лучше!
– В таком случае займи место за нашим столом. Рассказывай. Нам очень нужны хорошие новости.
Дамонид признался:
– Я очень голоден. Маслины, хлеб и вино – что может быть лучше?
– Ягненок лучше! – сказал Алкивиад.
– Пожалуй.
Дамонид подсел к пирующим, поднял фиал. Обвел всех чрезмерно возбужденным, но веселым взглядом:
– Вы очень невнимательны.
– Это не так.
Все обратились к Периклу. И он снова повторил:
– Это не так.
Дамонид пожал плечами:
– Не понимаю, откуда у тебя такая уверенность? Мы с тобою почти одних лет, а чувствую себя робким, нерешительным.
– А это не так, – снова повторил Перикл.
– Ты хочешь сказать, что ты внимателен?
– Да.
– В таком случае – говори.
– У тебя неприятности. Притом большие.
Дамонид искал на тарелке маслину посочнее. Он словно не слышал Перикла. И продолжал улыбаться.
– Притом большие.
Дамонид блаженно отхлебнул вина.
– Я похож на убиенного? – спросил он. – Разве я не веселый?
– Нет, веселый, – сказал Алкивиад, присматриваясь к Дамониду. – Похоже, что ты получил в наследство серебряные рудники.
Геродот не согласился с Алкивиадом:
– Не серебряные, а золотые!
– И я так думаю.
Это было сказано Зеноном.
Перикл покачал головой. Та грусть, которая тяжелым грузом лежала на душе, проявилась вдруг совершенно явственно на лице его, особенно в глазах:
– Рассказывай, Дамонид, как они выместили на тебе злобу к Периклу.
– Какую злобу?
– Не скрывай ничего…
– А мне и скрывать нечего. Все хорошо: завтра на рассвете я покидаю Афины.
Сказав это, Дамонид припал к фиалу, точно никогда и не пивал вина. Потом попросил воды и напился так, как пьют только в детстве: со вкусом, с придыханием, как вол.
Более всех, как ни странно, огорчился Алкивиад. Он не верил ушам своим. Как? Дамонид, этот замечательный патриот Афин, предан остракизму? За что?
Геродот и Зенон молчали, словно громом пораженные. Хмель как рукою сняло. А к Периклу неожиданно вернулось его обычное спокойствие. Теперь улыбался он. О чем-то соображал.
– Мне жаль тебя, Дамонид, – проговорил Перикл. – Они хотели бы выгнать меня, но выместили злобу на тебе. Это не тебя предали остракизму. Меня изгнали… Если моего советника лишают города, который многим ему обязан, – значит, не в советнике дело…
– А в ком же?
– Во мне. Я же сказал: во мне! Мои недруги мстят мне. Однако не понимаю, почему они вымещают злобу именно на моих друзьях. Ведь я же не умер! Я жив еще и могу держать ответ…
Он схватился за голову, точно она разламывалась на части:
– Почему они не судят меня?
– Уже судили, – сказал Дамонид. – А вторично за одно и то же не судят в этом великом и справедливом городе. Ты, по моему разумению, получил сполна и больше всех. Эвоэ! Я пью за тебя, великий Перикл. Эвоэ!
– И мы тоже! – крикнул Алкивиад.
В комнате было достаточно света и без светильников. Но они горели, потому что Перикл не терпел тоскливых сумерек, сумерек без игривых языков пламени! Свет! – что может быть лучше света? Пятеро мужчин обедали неторопливо, устав от разговоров и споров. Но Перикл не выдержал:
– Кто же все-таки больше прочих хулил нас?
– Кто? – Дамонид припомнил: – Лакедемоний… Иппоник… Пириламп… И другие богачи и скототорговцы…
– Кто поднимал голос за тебя?
– За меня?.. Клеонт, сын Фания.
– Молодец!
– Архонт Сокл… Алкмеон… Протид…
– Молодцы!
Дамонид поднялся с места и торжественно провозгласил:
– Слушайте меня, о мужи афинские! – И продолжал менее торжественно, но с полной верою в свои слова: – Скоро я буду далеко от вас. Но вы еще помянете меня и вот по какому поводу… Они, – Дамонид указал на дверь, – придут сюда, к нему, – он снова указал на Перикла, – и станут просить прощения. Они, – снова указал рукою на дверь, – будут целовать ему ноги, упрашивая занять прежний высокий пост, которого они лишили его так необдуманно. Считайте, что дан оракул.
Он выпил фиал и, не говоря более ни слова, направился к выходу.
Книга четвертая
Металл сверкнул в воздухе. Точно молния. И смиренно лег на столик.
– Что это? – спросил Перикл.
– Кинжал. Мидийский кинжал. Он пронзает насквозь.
– Так это ты и есть Агенор?
– Да. Сын Олия.
– Из какой филы?
– Я педиак, житель равнины.
– А фила какая? Я спрашиваю о филе.
– Пандионида. Из рода Эвмолпидов.
– Твой отец жив?
– Да. Он гиеромнемон. Но уже слеп.
– И мать жива?
– Она присматривает за отцом.
– Ничего не скажешь: род у тебя знатный.
– Кроме имени, ничего и не осталось.
– Это почему же?
– Так угодно было богам.
Перикл отнесся к ответам молодого человека не очень-то доверчиво. Отец – слепой гиеромнемон, род знатный, но бедность явная – она в каждой складке плаща… Не очень твердо выговаривает наименование своей филы… Не врет ли? Что-то не вяжутся концы с концами… Но допустим, он говорит правду. Или предположим, что бедный метек выдает себя за знатного родом. Может быть, он прибыл из Милета или Родоса в поисках счастья? Кто его знает?
Агенор словно догадался об этих сомнениях Перикла. Он сказал:
– Впрочем, можешь думать что угодно. Может быть, я неверно указал филу. И род мой вовсе не достославный. Возможно, что и происхожу от одного из тех индийских воинов, что заявились к нам вместе с Ксерксом. Какая важность в том, кто я?
Молодой человек возбужден. Глаза у него словно звезды в ночном небе. Дышит не очень-то свободно, – видно, волнуется. Положив кинжал на столик, не знает, куда девать руки – жилистые, загорелые руки.
– Ты упрямо и долго домогался этой встречи. В чем причина, Агенор?
– Мне до смерти надо было повидаться с тобой. Нельзя было не повидаться! Вот бывает же так: чтобы жить дальше – человеку требуется уяснить кое-что. А без этого нельзя ему существовать. Без этого жизнь его превращается в муку, в боль нестерпимую. Не знаю, случалось ли такое с тобой! Я сказал себе так: или я поговорю с ним, или убью и его и себя. Я уже давно не расстаюсь с кинжалом.
Перикл улыбнулся:
– Ну, зачем же так? Разве убийство – особенно подлое – приносит кому-нибудь пользу? Тем более в политике. Я полагаю, что ты политик. Верно это?
Агенор не отвечал.
– Политик?
– Мне хочется быть политиком, – с трудом выдавил из себя все еще бледный от волнения Агенор.
– Вот и хорошо! В таком случае послушай. Эфиальта ты не мог знать лично, но слышать, наверное, слышал о нем?
Агенор кивнул.
– Это был великий человек. Он не думал о себе. Или о своей семье. Он думал о народе. Он заботился об Афинах. О могуществе их и справедливости их во всех делах. Это был демократ по рождению и призванию своему. И, как демократ, ненавидел олигархов и прочих тиранов. Как демократ, он любил свое отечество, видя в нем олицетворение демократии и справедливости. Любя, он делал все для того, чтобы торжествовала справедливость… Слушай меня дальше и слушай внимательно.
Перикл говорил негромко, со свойственной ему плавностью и точностью в выражениях, не повторяясь, не запинаясь, словно читал по писаному. Казалось, что легко ему говорить. Казалось, что он всего-навсего повторяет уже сказанное им и усвоенное твердо. А почему? Потому что говорил он только то, что думал, что было на сердце, что сложилось с годами в его большой голове. Он никогда не ходил вкривь и вкось. Всегда видел перед собой свою дорогу, она всегда была для него ясна, и потому выражал свои мысли так легко и точно. Человек всегда говорит легко, если излагает свои собственные мысли. Но достаточно ему покривить душою, достаточно сказать не свое, не прочувствованное им – как тут же начинается то самое косноязычие, которое часто принимаем за неумелость, а на самом деле это явление закономерное, связанное в конечном итоге с неправдой, с вихлянием, поисками путей неправедных.
– Так вот, Эфиальт великий был человек не только складом ума своего, не только в достижении поставленной цели, но и добротой своей. Учти, – добротой! И при этом ненавидел он мошенников, мелких и крупных негодяев, всю эту нечисть, позорящую род человеческий. Ты бы только знал, ты бы только видел, как он громил этих негодяев, как преследовал любого, кто не мог отчитаться в каждом истраченном казенном статере! Нет и не могло быть у него жалости к подобным людям. А еще учти: Эфиальт был неподкупен. Как Зевс. Как боги, самые большие и справедливые в своих делах. Для него не существовало друга, отца или матери, жены или сестры, сына или дочери, если замечал за ними малейшие признаки нечестности. Особенно не терпел он этого в делах государственных. Здесь каждый обол берег он точно зеницу ока. Ты мог нанести ему любое личное оскорбление – он стерпел бы его, как терпел не раз. Но не приведите боги истратить обол без особого основания, и трижды не приведите боги – на свои личные нужды. То есть – урывая от государства. То есть – урывая от общего. То есть – поступая будто собака, тайком уносящая кость. Вот тут Эфиальт действительно преображался. Исчезала в глазах и в осанке его любая черточка доброты. Он делался зверем кровожадным, потому что не терпел всяческую подлость, всяческое воровство – мелкое или большое. И он преследовал негодяя всей полнотой своей власти, всем оказанным ему доверием афинского народа,
– Да, многие говорят об этом, – сказал Агенор. – Все говорят.
– Нет, не все! – Перикл по привычке поднял правую руку. – Враги демократии, враги Эфиальта, не могут простить ему этого неистовства и доброты. Они порочили его, порочат и по сей день. А почему? Да потому, что кого-то не устраивает присутствие честных людей в Афинах. Кое-кому хотелось бы мошенничать вволю, без страха перед справедливостью. Эфиальт настигал каждого вора, точно молния небесная. И разил их. Одни боги знают, сколько испытал он мук и трудов, добиваясь справедливости во всех делах.
– И он добился ее? – Агенор сидел ровный, поуспокоившийся. Только звезды по-прежнему горели в его глазах.
– Нет, не добился, – жестко выговорил Перикл. – Ни одному человеку на протяжении отпущенной ему жизни не дано искоренить все зло на земле. Кто думает так, причем думает искренне, тот нагромоздит еще больше зла, тот увеличит насилие, вместо того, чтобы ниспровергнуть несправедливость. Эфиальт делал все, что в силах одного человека. И за это ему слава! Враги не могли простить ему добрых дел на благо Афин. Ты, наверное, знаешь, что подлый наемный убийца по имени Аристодик убил его. Убил из-за угла. Но что от этого выиграли олигархи? Разве сумели они убить демократию в Афинах? Разве наша партия демократов не нашла в себе силы, чтобы идти по пути Эфиальта? Разве ворам разрешено беспрепятственно воровать? Разве воры и мошенники чувствуют себя в Афинах вольготно? Разве нет за ними неусыпной слежки, подобно тому как боги с Олимпа следят за нами денно и нощно?.. Нет, Агенор, ничего не выиграли враги от этого подлого убийства! Я это свидетельствую здесь, на этом месте, и буду свидетельствовать где угодно… Значит, Агенор, этот твой кинжальчик не столь опасен для Афин, как тебе это кажется.
– Может быть, – сказал Агенор. – Я ненавижу тиранов. Я решил посвятить свою жизнь борьбе против них.
– Благородно, это очень благородно! И чем больше молодых людей пойдут в этом направлении – тем лучше.
Агенор облизал языком совсем сухие губы. Его взгляд на мгновение остановился на кинжале, и кинжал этот показался в эту минуту малюсеньким детским кинжальчиком, жалким оружием, пригодным только для потрошения кур…
– Чтобы идти вперед, – сказал Агенор, – надо кое-что уяснить…
– Верно.
– Надо познать то, что видишь.
– Верно.
– И того, кого видишь.
– Тоже верно.
– И понимать все…
– Так, так.
Перикл согласно кивает головой. Он, кажется, ужо видит насквозь этого молодого человека. Словно перед ним египетское стекло, вышедшее из-под рук отличного мастера.
– Я и пришел к тебе, чтобы кое-что уяснить.
– Постараюсь помочь.
– Я не один, – зловеще проговорил Агенор. – Нас много, и все молоды.
– Рад этому.
– Но ты не знаешь, что я скажу.
Перикл скрестил руки на груди;
– Ты уверен?
– Да.
Зопир внес сосуды с вином и водою. Поставил их на стол, покосился на кинжал и вышел.
Перикл сказал:
– Я говорю «да», но это вовсе не означает, что я знаю досконально и знаю все. Если бы это было так – людям не стоило бы встречаться и беседовать. Каждый, сидя у своего очага, понимал бы другого. Все бы знал наперед. И тогда, может быть, не стоило бы вовсе жить.
– Это хорошо, – сказал Агенор. – Я не терплю всезнаек хресмологов.
– Я тоже.
– Есть один философ… Его зовут Сократ. Я часто слушаю его на агоре́. Ты знаешь его?
– Сократа? Он – мой друг.
Агенор помрачнел:
– Сколько же у тебя друзей?
– Много.
– А врагов?
– Соответственно.
– Много, что ли?
– Разумеется.
– И тебе, наверно, трудно?
– Ничуть! Я знаю, чего хочу. Знаю, чего хотят мои друзья. Знаю, чего требуют от меня мои враги. Поэтому мне легко.
Агенор покачал головою:
– А я не верю.
– Мне? Моим словам?
– Да. Тебе, несомненно, трудно, и ты просто притворяешься. Извини за резкость, но это так. Я пришел к тебе объясниться начистоту. От этого зависит моя жизнь. Я не мог попасть к тебе т о г д а, но я попал к тебе – хотя и с трудом – с е й ч а с. Твой раб всячески меня отговаривал от свидания, но я не поддался.
– И хорошо сделал.
– Я призвал на помощь все свое упорство.
– В данном случае это неплохое упорство.
– Как знать! Может быть, ты и возненавидишь меня. И в один прекрасный день, снова получив власть, начнешь преследовать меня. Но предупреждаю: я никого не боюсь!
Молодой человек сжал кулаки и нахмурил брови. А Перикл засмеялся. Ему стало смешно. Этот Агенор был забавен в своем не совсем понятном гневе. Нет, в самом деле, что надо этому молодому человеку от старого, уже вышедшего в отставку – не по своей воле – государственного мужа? Зачем обращается Агенор к тому, кто уже не властен за порогом своего дома?
– Я никого не боюсь, – повторил Агенор. – А смех твой удивляет меня.
– Я объясню. – Перикл налил воды гостю и себе, долил вином. Он сказал: – Пей…
– Не боюсь даже смерти, – добавил Агенор.
– Почему?
– Готов ко всему. Поэтому и не боюсь!
– Смерти следует опасаться в твои годы. Надо сначала попытаться прожить жизнь, а потом уж лишать себя страха перед смертью. Это я могу не страшиться. Я могу позволить себе роскошь кончить жизнь самоубийством. Или совершить какое-нибудь безрассудство, ведущеt к смерти. А молодому человеку все это не подобает. Сохранить себе жизнь, чтобы жить, чтобы расти на пользу Афин, чтобы приносить благо людям, – вот высшее призвание для молодых.
Агенор не со всем согласен. У Агенора на этот счет свое мнение. И он его выскажет.
– А еще, – говорит Перикл, – меня рассмешило твое предположение о том, что я снова могу прийти к власти…
– А почему бы и нет?
Перикл усмехнулся:
– Я? К власти? Я – едва избегнувший смерти от народного суда? Откуда у тебя такие мысли?
Агенор указал на свою макушку:
– Оттуда.
– Нет, – отрезал Перикл. – Этому не бывать! И тебе опасаться нечего, если даже я и приду снова к власти. Я не мщу никому. И не мстил. Это худшее, что может позволить себе человек, облеченный мало-мальской властью.
– Это так, – согласился Агенор. – Но неизвестно, как поведет себя человек, которого вторично призвали к власти.
– Мне это не грозит.
– А я полагаю так: зарекаться не надо.
Молодой человек сердито поднял фиал, как бы нехотя отхлебнул вина и так же сердито, точнее – обиженно, поставил на место. И уперся взглядом в столик.
– Если говорить серьезно, – продолжал Перикл, – и отрешиться немного от собственных предубеждений, вероятность твоего предположения столь же ничтожна, сколь невозможно воскрешение мертвого. Надо немного знать афинский народ и немного понимать меня. Дело сделано, и нет к нему возврата. Вот мое мнение.
Молодой человек оказался более упрямым, чем это предполагали Перикл и Евангел. Это был даже не мул и не осел, а какое-то особенное существо, вдвое превосходящее своим упрямством и того и другого.
– Я повторяю: зарекаться не надо. – Агенор снова набросился на фиал.
Перикл подумал, что молодой человек съест этот глиняный сосудик, проглотит целиком, не разжевывая. Было что-то странное в повадках Агенора. И где он такой уродился?..
– Агенор, давай оставим в стороне беспредметный спор – позовут меня или не позовут… Я еще раз хочу вернуться к Эфиальту, чтобы завершить мою мысль. Одним словом, так: убийства не давали и никогда не дадут полезных всходов…
– Как?! – вскричал Агенор и в одно мгновение вскочил, как говорят персы, словно напоролся на острый шип. – Как?! А что ты скажешь о тираноубийцах Гармодии и Аристогитоне? Может быть, напрасно подняли они руку на ненавистного Гиппарха?
Агенор снова схватил фиал: ему недоставало воздуха, его жег некий внутренний огонь, и как можно скорее хотелось залить его вином или водою.
Перикл не торопился с ответом. Прежде чем отвечать, надо, чтобы приготовились слушать тебя. Слово должно западать в душу. А душа не должна быть закрыта для слова. Только в этом случае есть смысл говорить, только при этом следует раскрыть рот, чтобы произнести слово. Поэтому он и выжидал. И не ронял ни слова. С любопытством разглядывал Агенора и спрашивал себя: достаточно познакомился с ним? Ведь этот молодой человек вступит в пору своего расцвета тогда, когда уже Перикла и его друзей вовсе не будет на свете. Значит, этому Агенору, по существу, и принадлежит будущее. С будущим, которое скрыто для всех, шутки всегда плохи. Поэтому надо постараться, чтобы Агенор понял Перикла, чтобы и Перикл в свою очередь понял его.
Молодой человек уселся на место, отдышался и сказал:
– Я слушаю.
Перикл начал так:
– Кем были Гиппий и Гиппарх? Тиранами, как и отец их Писистрат. Тираны, получившие власть по наследству. Они не обращались к народу с просьбой разрешить верховодить. Они сами взяли власть. Но этот грех не самый большой. Есть грех и пострашнее. Он совершается тем, кто, имея власть, употребляет ее во зло. Это вдвойне, втройне хуже, чем взять власть. Поверь мне. И если Писистрат провел великолепный водопровод в Афины, которым пользуемся до сих пор, – это не снимает с него ни малейшей ответственности за все злодеяния. А уж о Гиппии и Гиппархе нечего и говорить! Упоение властью и беззаконием дошло у них до того, что Гиппарх, решив, что ему все дозволено, воспылал страстью к Гармодию… Но я полагаю, что причина к тираноубийству была не только эта. И вовсе она не главная. Что бы ни писали об этом историки! Если мужчина желает мужчину или женщину – это еще не причина для государственных переворотов. Тиран, совершая одно беззаконие за другим, понемножку ощущает свою безнаказанность. Он говорит: «Я все могу». И это оказывается так. Потом он говорит: «Мне все дозволено». И это оказывается тоже так. Он говорит: «Я выше всех, со мною наравне только боги!» И он приносит жертву богам, имея в виду себя. Он становится царем египетским. Становится царем ассирийским. Делается богом! И это так: потому что никто не смеет сказать ему, что это не так. Перечить не смеют! И тут начинается тирания. Тирану уже мало женщины. Он зарится на мужчину. Гармодий, – если это было так, как говорят историки, – поступил верно в одном отношении: смыл с себя позор. Но с точки зрения государственной чего он добился?
– Осуждения тирании!
– Нет, Агенор, он всего-навсего принес себя в жертву.
– Прекрасная жертва! – Агенор вскинул руки кверху. Лицо у него сияло. Сам он радовался, очень был доволен тем, как много-много лет тому назад великие Аристогитон и Гармодий показали тиранам, каков их конец на земле…
…Вот единственное морское сражение, которое пришлось выдержать Периклу в Понте.
Оставив прекрасную гавань в Гагаре, Перикл направил свою эскадру к Тапасе[4]. Здесь он подошел к берегу. Корабли пышно убраны вымпелами и зелеными гирляндами, которые были преподнесены ему в Гагаре. Начальник Тапасы, глава некоего колхского племени баса, весьма благосклонно встретил эскадру. Он уже знал, сколь большое гостеприимство было оказано афинянам в Диоскурии.
Перикл отрядил пять кораблей, с тем чтобы они торопились в Пантикапей, а сам остался с пятью судами для пополнения провиантского запаса и воды.
Выйдя из гавани на четвертый день, он плыл сначала на запад, а потом, в открытом море, повернул на север. Погода здесь благоприятствовала плаванию, где, как говорили люди сведущие, часто дул очень неприятный северо-восточный ветер, в своем неистовстве не уступающий Борею.
На рассвете следующего дня моряк, дежуривший на носу судна, сообщил, что в тумане видны очертания кораблей. Перикл с первого взгляда принял их за свои, которые ушли вперед. И подивился было их задержке в пути. Вскоре ему сообщили, что кораблей насчитывается около семи-восьми. Рассеявшийся туман и хорошая видимость подтвердили этот счет: ровно восемь! Но это не были колхские. Встречные корабли выстроились в боевой порядок, выказывая намерение атаковать.
Перикл приказал снарядить шлюпку и выслать к передовому кораблю глашатая, дабы уладить дело миром. Шлюпка, привязанная к корме, была подтянута. В нее усадили двух гребцов и глашатая, после чего были отданы концы. Между тем эскадра афинян снизила ход почти до полной остановки. На всякий случай Перикл разработал план действий: в случае сражения все корабли афинян нападают на два головных корабля противника, быстро с ними разделываются и приступают к единоборству с следующими двумя. Он считал, что не следует растягивать строй кораблей перед лицом превосходящего противника. Но, быстро выведя из сражения два или три неприятельских судна и уравняв таким образом количественно силы, можно будет в дальнейшем ходе сражения пересмотреть план действий.
Глашатай, подойдя к головному кораблю на расстояние слышимости, спросил по-гречески, кто плывет и что надо плывущим от афинян. На это последовал такой ответ:
– Мы плывем туда, куда заблагорассудится. А вам приказываем повернуть обратно.
– Мы афиняне, – продолжал глашатай, – и у нас нет дурных намерений против вас.
Тогда варвары, – а корабли были варварскими, – грубо бранясь, снова предложили убираться восвояси, если дорога афинянам жизнь.
Глашатай сказал:
– Это ваше последнее слово?
– Да, – ответили с корабля.
Тогда шлюпку быстро развернули, и глашатай поторопился назад, к Периклу…
Боевая тревога тотчас была передана на все корабли. И афиняне, построив свои суда в форме тарана, повели их на головной корабль варваров.
Моряки работали изо всех сил. Начальники над гребцами по мере сближения с противником отбивали такт все чаще и чаще.
Растянувшаяся эскадра противника с самого начала выказала свою неповоротливость: суда были грузные, тяжелые, два ряда гребцов не могли придать кораблям нужного для быстрого маневрирования хода. Этим-то и воспользовались афиняне.
Как было сказано, Перикл всей силой своей эскадры ударил по первому кораблю. В то время как один афинянин шел прямо на него, как бы намереваясь столкнуться нос с носом, два остальных, следовавших за ним, напустились на противника с правого и левого борта. Этот своеобразный обхват лишал варварский корабль всякой возможности вывернуться, уйти вправо или влево. А еще два афинских судна, идя более плавной и широкой дугой, устремились к следующему кораблю варваров…
Агенор сказал:
– Я намеревался убить тебя на последних панафинеях.
– Ты? – это признание удивило Перикла.
– Я и мои друзья!
– Словно Гиппарха? На панафинеях?
Агенор кивнул.
Перикл подумал-подумал: поступили в то время или нет предупреждения на этот счет? Припоминается такой случай: однажды явился к нему тексиарх по имени Гагнон с неприятным извещением; это было поздней ночью. «Тебя решили убить завтра на Акрополе», – сказал тексиарх. «Кто?» – «Некие молодые заговорщики». Перикл не поверил тогда; убить его? За что? И кто на это осмелится? Но на всякий случай была усилена личная охрана. Праздник прошел без происшествий. Перикл и до сей поры жив-невредим.
– Что же помешало убить меня?
Молодой заговорщик откровенно признался:
– Я отменил покушение. В последнее мгновение.
– А стража тебе не помешала?
– Нет. Я стоял возле тебя. И этот кинжал был со мною. Стража, вероятно, высматривала в толпе какого-нибудь здоровяка.
– Почему же ты отменил?
– Я решил сначала поговорить с тобой. И за это меня упрекали мои друзья.
– Чего же они хотели?
– Быстрой развязки.
– Со мною?
– Да, с тобою. Они настаивали: «Вот истинный тиран. Писистрат и Гиппарх – в одном лице!»
– А я подумал, что ты струсил.
– Нет, я не трус.
– Значит, ты отговорил своих друзей?
– Почти.
– И они не смогли переубедить тебя?
– Как видишь. Я им сказал; «Сначала я должен поговорить».
Перикл попытался заглянуть в его глаза: звезды погасли, какая-то грустинка маячила в них. Их взгляды уперлись друг в друга, не сдавался ни один, ни другой. Так смотрят только честные люди.
– Это хорошо… – глухо проговорил Перикл.
– Что хорошо?
– Что не напал на меня. Под плащом я носил доспехи, и меня охраняли самые шустрые воины. Им был дан приказ: уложить на месте любого, кто придвинется ко мне ближе чем на три шага. Могло бы случиться и так, что мы с тобой сегодня не беседовали и ты бродил бы в подземном царстве.
Молодому человеку не верилось…
– Я был очень близко, – сказал он смущенно.
– А ты вспомни получше.
Агенор подумал-подумал. И сказал:
– Ты прав. Между нами пролегали три шага.
Перикл усмехнулся; так-то, мол, не очень-то доверяй своим неокрепшим силам.
И Агенор спросил:
– А нас слышат сейчас твои соглядатаи? Они за нами следят?
Перикл отрицательно покачал головой:
– Зачем? Кто я? Сейчас меня можно убить запросто.
И он протянул Агенору кинжальчик. Но тот спрятал руки за спиною.
– Бери, Агенор.
– Нет, он мне не нужен. Я его принес тебе. И я рассказал тебе все. Мне только надо поговорить с тобою.
– Я слушаю тебя внимательно.
Перикл прилег на ложе. И взял в руки фиал, поднес к губам. Но не пил. А просто держал возле губ.
Агенор начал так:
– Вот уже сорок лет или почти сорок лет в Афинах только и слышно: «Перикл, Перикл, Перикл…» Куда бы ты ни пошел и что бы ты ни сделал, в конечном счете оказался бы перед Периклом. Мне кажется, что попади человек в критский лабиринт – очутился бы в конечном счете перед Периклом. Мне говорил один философ: «И в подземном царстве – главное лицо Перикл». Если раньше люди произносили рядом с Периклом еще два-три имени, то вот уже пятнадцать лет, как ты являешься бессменным стратегом, а все остальные стратеги – тени твои бессловесные. За полтора десятка лет родятся новые люди – целое поколение! В пятнадцать лет – человек чуть ли не воин, и тень твоя – над ним. Все пятнадцать лет! Я спрашиваю тебя: разве это не тень тирана?
Агенор уставился на Перикла долгим, колючим взглядом.
– Я слушаю, слушаю, – сказал Перикл.
– Мы говорим на каждом углу: вот Афины – страна демократии истинной. Мы говорим всем и каждому: молитесь за Афины – государство демократическое, проклинайте Спарту – государство олигархическое, военное. Полные патриотизма, мы рассказываем о том, как была спасена Греция благодаря мужеству и мудрости Афин, вставших на пути персов. А откуда мужество и мудрость Афин? – спрашивали мы. И сами же отвечали: они проистекают от великой демократии Афин! Я не хочу сказать, что в этих словах совсем нет правды. Напротив, она есть. Но спрашивается: почему же эта демократия породила тирана? Почему же один человек должен восседать на агоре́, словно на троне?.. Мы высмеивали трон Артаксеркса, мы ругаем Спарту. А сами что? Разве Перикл не есть олицетворение истинной тирании, прикрытой разговорами об афинской истинной демократии? Разве может позволить народ, именующий свое государство демократическим, ставить во главе его тирана? Кто руководит армией и флотом? Перикл! Кто ведает делами внешними? Перикл! Кто субсидирует тайные расходы? Перикл! Кто ведет строительство Длинных Стен? Перикл! Кто возводит Парфенон? Перикл. А Пропилеи? Перикл! За кем последнее слово в решении важных дел? За Периклом! Кто вводит благородный теорикон? Перикл! Кто дружит с философами? Перикл! А с риторами? Перикл! Кто ведет морские бои? Перикл! Кто осаждает чужие города? Перикл!.. Ты слышишь меня? Повсюду только и слышно: Перикл, Перикл, Перикл!..
…Афиняне точно и быстро исполняли все приказания начальника, чего нельзя сказать о варварах. Их громоздкие суда с трудом слушались руля, а весла, расположенные в два ряда, не в состоянии были передвигать эти махины с необходимой скоростью.
Периклова выучка давала знать себя в каждом маневре афинян. Враги его утверждали, что стратег только по должности стратег, но что в военном деле у него большие пробелы. Дескать, поэтому он и не идет ни в какое сравнение, скажем, с Фемистоклом или Кимоном. Но ни для кого не было тайной и то, сколько трофеев водрузил Перикл, всем известны его сухопутные и морские победы. Разве победа не есть победа и не есть признак воинской доблести и воинского умения? Так говорили друзья Перикла.
На это враги его отвечали так: «Да, верно, за Периклом числятся выигранные сражения. Но нет в них того военного блеска, который присущ делам других, воистину крупных стратегов».
Так говорили враги Перикла, но словам этим не стоит придавать слишком большого значения, ибо продиктованы они были, главным образом, неприязнью к стратегу и, отчасти, завистью…
Морской бой, начатый с варварами не по вине Перикла, явился еще одним подтверждением несомненного и яркого военного дарования его.
Направив свой главный удар по первому, ведущему кораблю, Перикл рассчитывал не столько на то, чтобы вывести из боя судно, сколько с самого же начала расстроить планы неприятеля, что имеет большое значение для успешного продолжения боя. К тому же он полагал, что именно на этом, головном, корабле находится наварх. Стало быть, удар по судну – это прежде всего удар по командованию вражеской эскадры.
Сближение проходило на большой скорости. Афинские гребцы выбивались из сил, подушки под ними вскоре пропитались по́том. Начальники гребцов ударами в барабаны убыстряли ритм. И, глядя на афинян, можно было смело сказать: вот корабли, летящие словно птицы.
Доподлинно не известно, что подумали варвары при виде этой воистину крылатой эскадры. Первое, что требовалось их головному кораблю, – это уберечь свои бока от таранящих ударов. Но это уже было свыше всяких человеческих сил, ибо два корабля – слева и справа – грозили смертельным натиском. Можно было попытаться встретить носом одно из этих судов. Но и такой маневр исключался, поскольку полным ходом наваливалось прямо на нос еще одно афинское судно. Таким образом, варварский корабль оказался под тройным ударом, последствия которого можно было предвидеть со всей очевидностью.
Вскоре головной корабль, загнанный меж двух афинян, оказался вышибленным из строя. Носы афинских судов основательно врезались в тело варвара. Воздух огласился криками людей и треском толщенной обшивки. Атакуемый корабль дал течь. И начал медленно крениться.
Перикл приказал не брать судно на абордаж, но, выгребая назад, освободиться для борьбы с остальными вражескими кораблями.
Почти в той же последовательности была произведена атака на второе судно, которое упорно шло вперед, как бы пытаясь помочь тонущему. Но, как известно, помощь в морской битве необходимо оказывать с учетом намерений врага, всячески отвращая от себя опасность. Ибо в битве первостепенной целью является не сама помощь раненым, но достижение победы. Если последнее поставлено под вопрос, всякое необдуманное действие есть помеха в бою и верный путь к собственному поражению.
Солнце поднялось из-за гор Кавказа и погнало туман с поверхности моря в более высокие сферы. Греки, чуть ли не ломая свои весла о воду, стремились все вперед и вперед. Их натиск был столь неотразим, что участь и второго корабля решилась очень скоро. Правда, перед тем как пойти на дно, он столкнулся нос к носу с афинянином. , Один из кораблей Перикла получил серьезное повреждение и был вынужден отстать от других, дабы наспех залатать пробоину, при помощи грубой ткани, канатов и имевшихся в запасе досок.
…Перикл немедленно приказал изменить действия. По его плану корабли развернулись в полукруг и начали сближение уже с дальними кораблями противника. Перикл как бы отрезал им путь для отступления. Столь быстрая перемена в тактике была в самом характере Перикла, в самой крови его…
– Я слушаю, слушаю тебя, – сказал Перикл.
Агенор приложил ладонь ко лбу, словно пытался охладить его. Ему было очень нелегко. Ему было очень трудно. Не так-то просто беседовать с Периклом и настаивать на своем. Но правда, которую хотел уяснить себе молодой человек, толкала его вперед, не давала ему покоя.
Периклу тоже хотелось понять – чего же, собственно, хочет этот молодой гражданин, почему он мечется и какую пользу желает извлечь из спора с ним? Поначалу Перикла раздражала эта напористость и не очень скромное поведение; не Агенору – при его возрасте и положении – требовать отчета у Перикла! А ведь иначе как отчетом не назовешь этот разговор… Порою Агенор напоминает настырного чиновника на агоре́, выведывающего у зеленщика число заработанных за день оболов. Вдруг захотелось прекратить весь этот разговор и выставить вон Агенора. Однако Перикл в делах никогда не доверялся первому чувству. Это тоже было у него в крови. Может быть, потому, что он был рожден для государственных дел. Однажды почувствовав свое призвание, он сумел выработать в себе такие качества, которые более всего соответствовали его намерениям и положению в государстве. Гений в искусстве часто действует по наитию. А государственный муж не имеет на это права, будь он даже семи пядей во лбу. Если правило это угадано особым нюхом и принято, как говорят персы, на вооружение, подобно мечу, щиту или доспехам, – значит, можно и нужно воспитывать и развивать в себе характер государственного мужа. Счастье Перикла в том, что, обладая замечательным политическим нюхом, он полностью не доверялся ему. Но искал новых путей для определения истины и уяснения истины…
Становилось душно. Можно было бы перейти в сад, если бы посетитель был обычный. Этому Агенору, кажется, все равно – душно здесь или свежо. Не это его интересует, и не ради того, чтобы прохлаждаться в покоях свергнутого народом стратега, явился он сюда. Агенор досидит! Агенор и не почувствует духоты! Ибо бо́льшая духота царит в его сердце, чем та, которая в этой комнате. Ничего, можно и потерпеть!..
Собственно говоря, и Перикла не очень-то донимает духота. Когда человек занят делом, когда его волнует нечто большее, чем капли пота на лбу, – он как бы обо всем забывает.
Эта беседа казалась очень важной для обоих: Агенору надо было двигаться вперед и для этого иметь открытые глаза, а Периклу – озираться вокруг, оглядываться, размышлять и делать заключения и для себя и для других; для одного – чтобы смотреть в будущее, а для другого – чтобы подытожить пройденное. И то и другое – очень важно для граждан государства, которое претендует на ведущее положение в эллинском мире…
Поэтому понятны и глубокая сосредоточенность на лице Перикла и острое волнение в глазах Агенора.
Молодой человек сказал:
– На Олимпе, как известно, восседают боги. И жизнь их – целая вечность. Неодолимая, неизмеримая, не делящаяся на атомы вечность. Для простого смертного, живущего в Пеларгике или пригороде Афин, ведущего свои дела на агоре́ или пасущего стада свои на склонах Гиметта, вечность – это жизнь, жизнь одного человека, одного поколения. Один день – тоже вечность. Пятьдесят лет – тоже вечность. Ибо после этого наступает то самое царство теней, которое одни признают, а другие отвергают как несуществующее.
– Кто отвергает? – холодно спросил Перикл.
– Люди.
– Какие люди?
– Обыкновенные. Как мы с тобою.
– Ты знаком с ними?
– Точно так же, как и ты.
Перикл возразил:
– Я богохульников не знаю и не желаю знать! Подземная жизнь теней есть нечто единое в сочетании с властью божеств. Без единства этого нет и не может быть порядочного гражданина, который есть основа нравственного и физического существования всего общества.
Агенор сказал:
– Мне точно известно, что есть люди, отвергающие как существование царства теней, так и жизнь самих богов на Олимпе или на высоких небесных сферах.
– К сожалению, есть! – вздохнул Перикл.
Агенор не обратил на это внимания. Он продолжал:
– Хочу вернуться к мысли о вечности. Я сказал, что и один день – вечность. Для кого? – спросишь ты. Я отвечу: для мотылька хотя бы. Который живет день. Который летает с утра до вечера, чтобы исчезнуть навсегда. Для этого мотылька неважно, будет ли на Олимпе вечность или власть божеств ограничится всего-навсего одним-единственным днем. Стало быть, для мотылька один день – целая вечность.
Здесь Перикл перебил собеседника.
– Нет, – сказал он, – я не согласен. Можно ли утверждать, что мир погибнет через день, поскольку погибает сам мотылек?
Молодой человек призадумался.
– Судя по твоим словам, Агенор, один-единственный день власти богов – есть вечность для мотылька. Стало быть, можно заключить, что после мотылька погибнет и мир.
– Почему же? – нетвердо сказал Агенор.
– Это же следует из твоих слов. Подумай-ка.
– Я подумал.
– И что же?
– Мне кажется, что ты просто хочешь подловить меня на слове.
– Коли так – подумай еще раз.
– Я подумал еще раз.
– Не упрямься, Агенор. Твоя мысль ясна: если мотылек живет день, то этот день и есть вечность. По разумению мотылька. Спрашивается: что же следует после одного д н я в е ч н о с т и? Я последние слова произношу с особенным смыслом, Агенор. Отвечу за тебя: после этого дня нет мира, нет солнца, нет земли, нет звезд. Нет и нас с тобой…
– Это почему же? – Молодой человек замотал головой.
– Как почему? Все следует из твоих же слов.
– Нет, не следует!
– В споре не надо упрямиться. Оттого, что ты скажешь дважды «нет», неправда сама собой не превратится в истину.
– Какая же неправда? О чем ты говоришь?
– Насчет вечности.
– Чего же ты допытываешься?
– Агенор, мне в рассуждениях нужна точность. Я не могу слушать только слова, слова, слова, лишенные смысла.
– А Зенона, говорят, ты слушаешь внимательно…
– Откуда тебе это известно?
– Все говорят.
– Зенон забавен. Зенон остроумен в своих доказательствах. Возьми его знаменитую черепаху и Ахиллеса. Я его трижды просил повторить. Согласись: доказательство его остроумно.
– В чем остроумие? Доказывать несуществующее?
– Может быть.
– Зенон глумится над слушателями, которых в душе презирает.
– Не сказал бы.
– Значит, и вправду считаешь, что Ахиллес не догонит черепаху?
– Здесь важнее само рассуждение. И мысль о бесконечно малых величинах, бесконечно делящихся числах.
– А по мне – всё это увертки и ухищрения, долженствующие доказать присутствие мысли там, где ее вовсе нет.
– Да, может быть и такое мнение.
– Оно единственно верное!
– Допустим, Агенор, допустим.
– Я не нуждаюсь в снисходительном тоне! Со мною надо спорить как с равным.
– Что я и делаю. – Перикл вытер пот со лба ярким, по виду вавилонским платком, таким широким и легким.
Этот молодой человек, несомненно, самолюбив и горяч, что, естественно, следует объяснить его молодостью. Но все это для Перикла не имеет решающего значения. Главное – суть разговора, принципы рассуждений, умозаключений. И, разумеется, зрелость мышления, без чего – нельзя ни шагу ступить…
Агенор сказал, правда, запальчиво:
– Ты спрашиваешь, к чему речь о вечности? Я полагал, что это ясно даже слепому.
– А может быть, я и есть слепой, – сказал Перикл, и легкая усмешка чуть оживила его усталое лицо.
– Ты не слепой! Со слепым я вряд ли решился бы разговаривать. Ты слишком умен, и с тобой нельзя юлить. Поэтому я надеюсь, что ты извинишь меня за слишком заносчивые порою слова.
– Вполне извиняю, – сказал Перикл. – В споре бывает всякое… В данном случае, Агенор, тебе остается признать несостоятельным тезис о вечности в применении к мотыльку.
– Никогда! – воскликнул Агенор, и он поднял вверх сжатые кулаки. – Никогда!
…Солнце стояло в зените, когда морской бой завершился полным разгромом варварской эскадры. Три корабля потоплено, один взят на буксир, остальные спаслись бегством в открытое море. Перикл не пожелал преследовать их, дабы не уклоняться от своего направления в Пантикапей.
Свидетелем этой блистательной битвы был и некий колх по имени Сат, прикомандированный к эскадре царем Колхиды в качестве лоцмана. Сат подивился быстроте и точности исполнения всех приказов наварха. Он сказал так:
– Воистину поражает это мастерство. Наблюдая за сражением, я все время говорил про себя: «Вот-вот случится непредвиденное и хитроумный замысел афинян провалится». Однако сноровка моряков, их великое военное умение потрясли меня. И я сказал себе: «Вот истинные, прирожденные моряки». И это сказал я, родившийся на самом берегу и сызмальства не выходивший из челна.
Это была великая похвала, ибо племя лоцмана Сата почиталось племенем бесстрашных и опытных мореходов.
Море за все время сражения ни разу не шелохнулось. Оно бесстрастно наблюдало, как люди уничтожали плоды своих трудов и истребляли себе подобных.
После битвы Перикл принес жертву Посейдону и продолжал плавание.
Недалеко от города, именуемого Нап, навстречу афинянам вышли корабли колхов, ярко убранные праздничными флагами и зелеными гирляндами.
Перикл сказал Сату, что у греков есть бог Пан. Это бог в козлином обличье, уединяющийся в лесах и наводящий ужас на людей. Он вспомнил об этом боге потому, что если прочесть его имя с конца, то получится Нап.
Сат ответил, что нап по-колхски означает – рука. Это имя можно истолковать в том смысле, что рука царя, рука царства простирается до этих пределов. Что же до бога лесов, то колхи тоже веруют в него и называют Аваа́пша. По злобе своей он не уступает Пану и тоже наводит ужас на людей. В Колхиде множество лесов, и очень многие живут в лесах. Таким образом, этот бог весьма почитаем. Так же, как бог кузни.
– Гефест? – спросил Перикл.
– По-вашему Гефест.
– И он тоже выковал женщину?
Колха развеселил этот вопрос.
– Нет, – сказал он, смеясь, – столь тонкое дело мы не можем доверить кузнецу.
Перикл сказал:
– А наш Гефест сотворил нечто, во что Афина вдохнула душу. Так появилась первая женщина. Звали ее Пандора.
Так разговаривал Перикл с колхом Сатом. Из этого можно заключить, в сколь благодушном расположении пребывал стратег после успешной битвы…
– Я ненавижу всякую тиранию, – сказал Агенор, и глаза его заблестели пуще прежнего.
– Я – тоже.
– Меня трясет при одном упоминании тиранов.
– А ты встречался с ними? Где они, эти тираны?
– Я их вижу каждодневно! Это люди, готовые стать тиранами в любое время. Они только ждут своего часа!
– Ты так думаешь?
– Я убежден в этом.
Перикл сказал:
– Если это так, то очень все это плохо.
– Про то же и говорю, – сказал Агенор, беря со стола маслины, только что принесенные Зопиром. – Я вижу их на агоре́, на Акрополе, вижу в Пеларгике и Ареопаге. И даже в Керамике.
– Как? – подивился Перикл. – Даже на кладбище?
– Да, на кладбище. Но они умерли, не успев сделаться тиранами. И теперь лежат совсем безопасные.
Перикл расхохотался. Против своей воли. Нет, этот Агенор человек любопытный. Очень своеобразный… Значит, тираны есть и на кладбище?
– Только они хорошие, – добавил Агенор.
– Хорошие тираны на кладбище?
– Да! Да!
– Очень хорошие?
– Самые лучшие! Как говорят финикияне, первый сорт!
Перикл смеялся от души. Давно так не смеялся.
– С одной стороны, это смешно, – сказал Агенор, – а с другой – очень и очень грустно. Я спрашиваю: почему люди жаждут власти над себе подобными?
– Так их сотворила природа.
– А может быть, боги?
Перикл не отрицал этого: вполне возможно, что и боги, хотя в этом есть явная несправедливость, а боги, как известно, всегда справедливы в делах. В этом их божественность, в этом их величие. Что такое бог? Это феномен, не только многоопытный, и всезнающий, и всевидящий, но и справедливейший. Вследствие того, что в мире, во всей вселенной, властвуют боги, – царит гармония первоздания. И эта красота заката, и блистательность зари, и тишина ночи, украшенной звездами, – все, все, все есть равновесие в атомах и гигантах, управляемое богами. Поэтому не очень-то убедительно приписывать человеческие недостатки изъяну божественной силы, как это делают некоторые философы. Даже Фидий в своих наипрекраснейших творениях даст порою маху в мелочи, скажем, в какой-нибудь складке одежды. Но это только по недосмотру… То же самое можно сказать и о прекрасной работе богов: огрехи бывают и здесь, но опять же – только по недосмотру…
– Как бы то ни было, – сказал Агенор, – кто бы ни создавал тиранов – я ненавижу их всею душой. Тиран, который объявляет себя тираном и плюет на всех, – это одно дело. Гораздо сложнее, когда на словах человек выдает себя за демократа, а на деле оборачивается тираном. Да еще каким!
Перикл побарабанил пальцами по столику и сказал:
– Ты имеешь в виду меня?
Молодой приверженец демократии ничуть не смутился. Он заявил твердо и решительно:
– Да!
Перикл попросил обосновать это тяжкое обвинение со всей убедительностью. Он сказал:
– Можно человека обозвать тираном. Иному это даже доставит удовольствие. Но знай, Агенор, я всю свою жизнь служил демосу, и главной целью моей была демократия… Ты как понимаешь это слово?
– А разве его можно толковать двояко?
– Увы, да!
– Демократия – это власть народа.
– Верно.
– Полная!
– Верно!
– Ничем не ограниченная.
– Верно.
– И никак не оговоренная.
– Верно.
– Значит, я понимаю демократию правильно?
– Да.
– Может, в чем-нибудь ошибаюсь?
– Нет.
Перикл сказал, что к словам Агенора ничего не прибавишь. Что определение демократии – полное. Исчерпывающее. Молодой человек был польщен. Он считал, что спор уже выигран им. Остается только одно: установить, насколько подходит к этому определению сам Перикл. Вернее, подходил. Теперь это уже история, но тем не менее очень важная история. Она пригодится для будущего.
Молодой человек спросил:
– В чем главное отличие тирана от демократа?
– Я попрошу ответить тебя самого. Ты, я вижу, очень сведущ, и знания твои немалые.
Агенор принял и эту снисходительную похвалу как должное.
– Тиран захватывает власть…
– Верно.
– Силой или хитростью…
– Верно.
– Он правит, никого не спрашивая.
– Допустим.
– Не советуясь с народом.
– Верно.
– Вопреки воле народа.
– Да.
– Долго-долго правит.
– Да, бывает и так.
– Тиран правит очень долго, – подчеркнул Агенор.
Он сжал кулаки, поставил их на колени и снова произнес, чеканя слова:
– Он правит долго-долго…
Перикл понял, куда клонит этот молодой и горячий демократ.
– Долго правит, говоришь?
– Да, очень.
– Ну что ж, ты, кажется, вплотную подошел ко мне.
– Да, – ответил самоуверенный Агенор.
…Укрепления на Самосе оказались весьма прочными[5]. Главный город того же названия находится недалеко от берега моря, против оконечности мыса Микале. По поводу этого мыса Перикл сказал изобретателю Артемону:
– Я был совсем еще юношей, когда я вместе с отцом прибыл к этому мысу. Моя мать сказала отцу: «Не отпущу с тобой Перикла. Персы зарубят его своими кривыми и широкими саблями». – «Нет, – возразил отец, – мой сын должен увидеть собственными глазами позор персов. Микале будет их конец». Моя мать сказала, и я это помню очень хорошо: «Никогда не будет конца войнам. Мой Перикл еще наглядится». Агариста, моя мать, плакала. Она причитала: «Не отпущу!» Тогда отец сказал ей: «Вот персы напали на нас. Пошли на нас тучей. Мы говорим: «Не щадите живота своего». И много погибло прекрасных юношей. А мой сын должен сидеть у материнского подола?» Я сказал: «Хочу с отцом!» Я говорил это, плача и прощаясь с матерью…
Перикл показывал рукою, куда, в каком направлении, двигался объединенный спартано-афинский флот, на каком корабле находился спартанский царь Леотихид, где скрытно поджидал врагов перс Мардоний, наместник Ксеркса. Ксантипп, отец Перикла, возглавлял афинских моряков.
Стоя на берегу моря, на виду укреплений Самоса, Перикл вспоминал прошедшее. «Мне пошел пятьдесят третий, – говорил Перикл, – и седина в висках. А тогда я был юношей и мне казалось, что я – бессмертен, как боги. Вовсе не думалось о смерти». Перед глазами его маячила слава в образе крылатой Афины, и трофеи снились во сне. Так было в то время, когда объединенный греческий флот наносил удары ежечасно, ежемгновенно, и мыс Микале стал местом греческой славы и концом могущества Персии на Эгейском море и в Греции. А почему это произошло? Потому, что греки соединили свои руки и стали бок о бок.
– Я был на самом носу, – вспоминал Перикл, – чтобы видеть воочию то, что происходит. Я сжимал в руках копье, и на мне были доспехи, как у тяжеловооруженного. Отец сказал мне: «Вот оружие твое. Пользуйся им разумно, не рискуй головой ради удальства. Береги себя, но так, чтобы не показаться трусом, ибо трусость есть чувство звериное. Зверь трусит потому, что ничего не смыслит в жизни, ни цели не знает своей, ни любви к отечеству и бранной славе. Поэтому и трусит зверь. Но человек не должен бояться смерти, если он разумен и в состоянии соразмерять свои силы, чтобы не погибнуть даром. Чтобы люди не могли сказать: «Вот погиб он, ибо не мог ни предвидеть худшего, ни добиться преимущества в битве». Так говорил мне мой отец Ксантипп, будучи навархом в сражении у мыса Микале. Я помню эти слова, – заключил Перикл, – и они звучат в моих ушах и сейчас.
…Обследовав укрепления Самоса, вечером стратег собрал совет.
Яркая луна сияла в небе, и золотой путь от нее вел к мысу Микале. Прорицатель Лампон предсказал удачу в этом самосском походе. И оракул был дан вдохновляющий. И золотой дуть к Микале вселял уверенность. Начальники кораблей, собравшиеся на совет, тоже обратили внимание на этот путь. Они сказали: «Не напоминает ли этот водяной путь о победе над персами? И не есть ли это доброе предзнаменование?»
Перикл отдавал должное всем знакам, предсказывавшим удачу. Он принес обильную жертву Афине и Посейдону. Но этого для него было мало. Он полагал, что должная выучка воинов принесет не меньше пользы, чем жертвы и усердные молитвы, что, только сочетая молитвы с маневрами, можно облегчить себе путь к победе.
Собирая совет, Перикл рассчитывал предпринять нечто, что долженствовало значительно уменьшить человеческие жертвы. Он справедливо полагал, что путь к победе» усеянный трупами собственных воинов, не есть истинная победа. Высокие стены, хитроумные оборонительные приспособления самосцев не обещали быстрой и легкой удачи. Поэтому Перикл приказал войску расположиться удобным лагерем, рассчитанным на долговременную осаду Самоса. Ему нужна была только победа. Все разговоры, которые предваряли этот поход в Афинах, служили предостережением. Враги Перикла усиленно распускали слух о том, что война с цветущим Самосом нужна только Аспазии. Что Аспазия решила отомстить самосцам, ведшим войну против Милета – родины Аспазии. На самом ли деле Перикл угождал Аспазии? На этот вопрос можно ответить верно только в том случае, если знаешь мнение Перикла. А он сказал так:
– Разве может одна женщина, будь она и божественной красоты и мудрости, или один мужчина, будь он и семи пядей во лбу, повести на битву целое государство только ради своей прихоти? Человек, который в своем уме, решается на войну только по зрелом размышлении, становясь выше прихотей и своеволия. И только в этом случае он может добиться победы.
Из этих терпеливых слов можно заключить, что Перикл никогда бы не поставил под угрозу жизнь своего войска только ради того, что этого желает Аспазия. Но враги его твердили свое, и им нельзя было заткнуть рот. Особенно комическим актерам. Эти давали полную волю своей фантазии и своему злословию…
Речь Перикла, обращенная к совету на Самосе, была краткой и ясной. Стратег спрашивал: какие необходимо предпринять меры, чтобы сокрушить Самос, понеся наименьшее количество жертв? Это первое. И второе: как добиться победы, с тем чтобы сократить осаду до возможных пределов?
Задав вопросы, Перикл просил не отвечать на них нынче вечером, но, обдумав все, явиться через два дня на совет.
На том и было решено.
Расходясь, начальники слышали, как звенят колокольчиками стражи на самосских стенах, давая знать о себе, о бдении непрерывном или о передаче дежурства другому воину. И ночной порою, при свете луны, стены Самоса казались еще более внушительными, чем днем.
…Перикл сказал Артемону:
– Ты видишь эти стены?
– Я осмотрел их внимательно.
– А я измерил на глаз: пятьдесят локтей в высоту.
– Да, – согласился Артемон, – а местами, пожалуй, выше.
– Они сложены из камня, речного и морского.
– Это стены самые прочные, которые приходилось мне видеть.
Перикл, подумав, подтвердил это. И добавил:
– Я хочу знать, Артемон, все твои новейшие хитроумные машины, которые везем с собой. К чему каждая из них приспособлена? Какого рода наступления нам держаться?
Артемон сказал:
– Изволь.
И приказал своим помощникам принести в палатку некие папирусы с чертежами. И они были принесены с величайшими предосторожностями, ибо составляли важнейшую государственную тайну.
С большим терпением и вниманием рассматривал Перикл Артемоновы чертежи.
Молчал.
Думал.
Что-то прикидывал в уме.
И убежденность его росла с каждым часом: необходимы особые машины, дабы сократить человеческие жертвы и выиграть осаду. Перед глазами его вставали во всю исполинскую высоту самосские стены – такие гладкие и такие толщенные. Кто возьмет их приступом? Только троянский конь мог бы пособить в этом случае. Однако после Гомера кто поверит в него? А если не конь, то машины, только машины, родившиеся в голове Артемона…
– Вот эта машина, – Артемон развернул папирус. – Ее назначение состоит в том, чтобы поднимать на большую высоту воинов – сразу пятерых, а то и более. Имеется некая поверхность из грубых досок, на которой стоят воины, и поверхность эта – вроде пола – поднимается на уровень стен, а то и выше. Защищенные толстыми бревнами, воины могут действовать из-за укрытия. Им будет сподручно осыпать осажденных серными снарядами. Для снарядов придумано особое направляющее устройство. Это крепчайший кипарисовый ствол, выдолбленный наподобие гончарной трубы. С одной стороны деревянного ствола прикреплен огромный лук. Его тетива из бычьих кож. Она выталкивает горящий снаряд, и снаряд, направляемый деревянной трубою, летит на голову противника почти на стадий. При некоторой сноровке это расстояние может быть увеличено до полутора стадиев.
– Была ли произведена проверка? – поинтересовался Перикл.
– Да, была.
– Когда?
– Этой весною. Близ Пирея. За Мунихией.
– Была ли соблюдена необходимая предосторожность, дабы уберечь тайну от соглядатаев?
– Да, была.
Перикл заметил, что для такого большого города, как Самос, едва ли достаточно будет одной машины.
– У меня их три, – порадовал стратега Артемон.
– Молодец!
– К тому же мы заготовили серы на двести снарядов.
– Мало.
– Добудем еще.
– Где?
– Я послал человека в Милет.
– Проще – в Афины. Хотя и дальше.
Артемон сказал:
– Я увеличу количество снарядов до пятисот.
– Это хорошо. Осада будет долгой, Артемон. Что еще припасено, кроме этой прекрасной машины?
Артемон показал второй папирус. На нем были изображены таинственные знаки, понятные одному Артемону.
– Вот, – сказал ученый, – тайный чертеж, на котором все не так, как следует быть. И он доступен только мне одному.
– Прекрасно это, прекрасно, – похвалил Перикл, склонный к скрытности, когда речь идет о новых военных машинах.
– На вид – простая стенобитная машина, – объяснял Артемон. – Однако действует она на двух или трех уровнях. Самый важный – третий. В то время как на высоте двух этажей, защищенных козырьками из бревен, тараны долбят стену, на самом дальнем, третьем уровне воины совершают подкоп – невидимые и надежно защищенные.
– Подкоп? – спросил Перикл, не спуская глаз с того самого места, на которое указывал палец Артемона.
– Да, подкоп.
– Это трудно и долго…
– Я облегчил и ускорил его.
– Каким образом?
Артемон переместил свой палец вправо, где была начертана некая фигура с лопастями, напоминающая странное колесо.
– Это ворот. Горизонтальный ворот.
– Его вращают?
– Да. Десять человек, находящихся в стороне. Позади машины. В безопасности.
– Каким же образом?
– При помощи скифского каната. Очень прочного и толстого. Колесо, вращаясь посредством каната, выбирает землю этими лопастями. – Они были обведены черной краской. – Эта машина может за день или за ночь прокопать несколько шагов крепкой земли. Крепкой, словно камень.
– А скрежет? – спросил Перикл.
– Какой скрежет?
– Шум от вращения и от копки… Разве не услышат его осажденные?
Ученый ответил не сразу:
– Придется отвлекать внимание. Для этой надобности и устроены два верхних этажа с таранами. Они создадут страшный шум. Но и этого мало. Придется вести отвлекающий штурм стены. Когда же враг заметит подкоп – будет поздно.
Перикл не мог решить со всей определенностью: хороша ли эта машина или можно обойтись и без нее? Он сказал:
– Покажи другие, а к этой мы еще вернемся.
Артемон же считал, что эта машина – наилучшая. И не преминул сказать об этом, всячески ее расхваливая.
– Мы еще вернемся к ней, – повторил стратег.
Знакомство с чертежами продолжалось до полуночи.
Артемон устал, в то время как Перикл, казалось, только что умылся холодной водою – так свежо он выглядел. Между прочим, многие из тех, кто близко знал этого великого политика, всегда поражались его трудолюбию и умению обсуждать дела в течение многих часов без особого видимого утомления…
– Это все хорошо, – сказал наконец Перикл, давая понять, что знакомство с чертежами закончено, – но какие из этих машин готовы вполне и испытаны?
– Половина, – сказал Артемон.
– Этого мало. Почему же не испытаны остальные?
– За неимением денег.
Перикл с укоризной взглянул на ученого:
– А зачем же существую я?
– Беспокоить тебя по любому поводу?
– Разумеется. Но это вовсе не любой повод. – Перикл взял чертежи в руки. – Разве это любой повод?
– Кроме тебя имеются еще девять стратегов. Они сказали: не надо.
– Так и сказали?
– Да.
– О Артемон, Артемон! – воскликнул Перикл. – Можно подумать, что мы знаем друг друга всего один год… Но делать нечего. Приказываю: завтра же с утра приступить к сооружению всех машин…
Артемон кивнул.
– …и в первую очередь той самой, с лопастями. Которая для подкопов.
Изобретатель был очень доволен. Несмотря на усталость, просиял:
– Я очень рад! Я очень рад!
Перикл вызвал своего тексиарха и приказал ему обеспечить Артемона всем необходимым для строительства машин, включая рабочие руки. С самого раннего утра.
Когда они вышли из палатки, была глубокая ночь. Было очень тихо. Луна шагала по золотому мосту к мысу Микале. На самосских стенах звенели колокольчики – недреманное око осажденных как бы вглядывалось в тревожную темень.
Перикл указал рукою на «золотую лунную дорогу» и сказал:
– О Артемон: это воистину дорога победы! Добрый знак, если ты исполнишь все свои замыслы. Твоим машинам я верю больше, чем оракулу.
Так говорил Перикл на острове Самосе.
– Я чувствую, что утомил тебя своими разговорами…
Агенор сделал паузу. Очень коротенькую. Но и ее было вполне достаточно, чтобы ощутить, как бьется собственное сердце, как тихо вокруг. Пауза только кажется паузой – из клепсидры не успели вытечь несколько капель воды. Кажется, что часы спрессовались в минуты, а минуты – в секунды. Мгновение стало короче в тысячу крат.
И в это же самое время, когда Агенор сделал паузу, он спросил себя: «Убеждаю ли в чем-либо Перикла? Убеждаюсь ли в чем-либо сам?» Ему казались собственные слова ясными и понятными. Ему казалось, что собеседнику не остается ничего, как только согласиться с ним…
Агенор скосил глаза на окно и убедился, что день идет к концу. Даже, может быть, он и подошел к концу. Наверное, сумерки уже начались. Вползают в окно, словно змея. Этакий безобидный уж. С сумерками приходит успокоение. Кровь пытается ослабить свой бег по жилам. Это в свою очередь приводит к общему успокоению и общему умиротворению обеих желчей – черной и желтой. Падают силы, смиряются мысли, богиня сна легонько касается вежд, утяжеляя их, готовя их ко сну…
Обо всем этом передумал Агенор в ту маленькую паузу, которая была необходима ему, чтобы решить, продолжать ли разговор и дальше или же попросить еще одного свидания.
Перикл тряхнул головой, помассировал занывшую шею и – как уже бывало – ответил на еще не высказанный вопрос:
– Я полагаю, что необходимо довести наш разговор до конца. Я должен остаться с теми мыслями, с которыми пожелаю остаться, а ты – со своими.
– Прекрасно! – Агенор потер руки, выпил вина. – Я люблю доводить до конца все начатое. Не откладывая на завтра то, что можно не откладывать.
Перикл кивнул.
– Я хочу, – сказал Агенор, – еще раз напомнить цель моего прихода и нашего длинного разговора. Мне надо решить для себя: тиран ты или не тиран?
Перикл снова кивнул, поощряя молодого человека к дальнейшей беседе.
– Вот мой ответ на этот вопрос: тиран!
И молодой человек, слегка откинувшись назад, выбросил вперед указательный палец:
– Тиран!
Перикл, что называется, и бровью не повел. Он давно ждал этого приговора со стороны Агенора. Собственно говоря, это не было внове: враги честили его «тираном» и прежде. Уже давным-давно.
И все-таки он сказал:
– Почему? Я требую доказательства. Разве не народ выбирал меня? Разве брал я должность свою хитростью, подлостью или силой? Чему был обязан своей властью – должности стратега, одного из десяти стратегов? Разве напрашивался? Льстил народу, чтобы быть избранным? Угрожал кому-нибудь? – Перикл чуть-чуть повысил голос, но не настолько, чтобы выйти за строгие рамки вежливости. – Я спрашиваю тебя, о Агенор: чем же я тиран? Какими делами или помыслами? Только честным выбором я обязан был своей властью. Только афинскому народу обязан! И больше никому! Разве это не демократия? Разве мог я воспрепятствовать суду, учиненному надо мною? Не мог – именно потому, что был демократом! Будь я тираном, будь в Афинах тирания, – кто бы посмел подняться на меня, или возвысить голос, или потребовать объяснения? Нет, Агенор, ты что-то путаешь! Я не тот тиран. Тиран, возможно еще придет. Возможно, еще при жизни твоего поколения. И тогда вспомнишь про меня. Но уже будет поздно! Ты понял меня?
Однако Агенор был не из тех, которые так просто соглашаются. Он не затем явился, чтобы уйти с верою в непогрешимость Перикла. Этого ему не надо! Ради этого не стоило тревожиться и вести длинный-предлинный разговор с Периклом. Мысль Агенора проста и ясна: как может демократ править народом столько лет непрерывно? Разве это демократия?
И Агенор выкладывает свое сомнение в резкой и непримиримой форме:
– Ты правишь государством сорок лет. Из них пятнадцать – безраздельно. Да, да, безраздельно. Любой тиран позавидует тебе!.. Разве это не худший вид тирании? И в то же время очень удобный для тебя, то есть для демократичного тирана… Я хочу сообщить тебе от имени своих друзей; мы не можем принять такую демократию и такого демократа, как ты!
Перикл, казалось, выслушал самую наиприятнейшую весть, какую давно не приходилось слышать. Легкая улыбка озаряла его лицо, глаза были лучисты – в них не видно ни зла, ни обиды. И незачем ему сердиться на этого молодого человека. Периклу не раз приходилось выстаивать под градом и более сердитых обвинений.
– Очень это странно. – сказал он тихо, продолжая снисходительно улыбаться. – Странно, странно, странно. – он приложил ладони к вискам и сжал голову, будто она раскалывалась. – Это очень странно.
– Нет! – Агенор ощетинился, как загнанный в угол зверь. – Нет! – Агенор поднял вверх кулаки. – Нет! – Он ударил себя рукою в грудь со всей силой. – Нет! – Агенор вскочил со своего места, запрыгал, точно сатир на лесной полянке. – Нет! Нет! Нет!
Перикл удивился. Привстал. Подумал: не сошел ли с ума этот молодой собеседник? Вот этот Агенор, нахохлившийся, точно воробей. Вот этот Агенор – самонадеянный неоперившийся птенец… А впрочем, разве виноват он в этом? Его даже-жалко… И даже очень…
Агенор же ничего знать не желает:
– Я говорю – нет! Теперь уже не проведут нас тираны! Я думал, что ты на досуге одумался, понял кое-что, раскаялся кое в чем. А что же я вижу? Скучающего без дела самовлюбленного вельможу!.. А ты о подлинной свободе думал? О свободе для всех без исключения думал? О рабах думал? О метеках думал? О равенстве всех разумных существ ты думал?
Агенор подошел вплотную к неподвижному Периклу и прошептал, тяжело дыша ему в лицо:
– Я ненавижу тебя! Ненавижу тиранов! Тебя еще позовут, и ты будешь тиран тираном! Прощай! Я ненавижу тебя!
Агенор выбежал. Не оглядываясь…
Сумерки быстро заполнили комнату. Тихо лилась вода из клепсидры.
Перикл молчал. Глядя на пустую стену, которая стояла в четырех шагах от него.
Сумерки… Зеленые сумерки…
Он распластался, словно убитый. Бледное чело. Невидящие глаза, обращенные к потолку. И губы полураскрытые. О боги! Неужели это он, Перикл?
Аспазия бросилась к нему. Припала к его груди…
– Что с тобой?
Аспазия прижала его руку к губам…
– Что с тобой?
Аспазия поцеловала его в лоб…
– Что с тобой?
Аспазия легким платком вытерла холодный пот на его лбу…
– Что с тобой?
Он улыбнулся. Через силу. Так улыбаются раненые, чтобы не подать виду, что ранены. Так улыбается пронзенный в грудь, чтобы выглядеть героем перед любимой…
Он привстал. Обнял ее. Снова улыбнулся.
– Я вел тяжелую беседу, – проговорил он. – Не припомню более тяжелой за всю свою жизнь.
– Зачем? Зачем это тебе?
– Она была важна для него, – сказал он.
– Кто он?
– Молодой человек.
– Знатного рода?
– Не знаю. Это и неважно. Главное – он человек молодой.
– Разве мало молодых? Разве с каждым из них ты должен беседовать?
– С каждым, наверное, нет. Хотя это было бы очень полезно для государства. Но с этим не мог не поговорить.
– Он огорчил тебя? – Аспазия обняла его за плечи.
– Очень.
– Проще было прогнать.
– Прогнать? – Он с грустью взглянул на нее и покачал головой. – И ты это можешь советовать, Аспазия?
– Ради твоего спокойствия.
– Нет, – продолжал Перикл, – я не мог его прогнать, я не мог не беседовать, я не мог не выслушать… Он уверен, что я тиран. В том он убежден. И эта его убежденность и сразила меня. У меня до сих пор ноет под левым соском.
Аспазия предположила, что молодого человека подослали враги. Это же ясно! Только враги обзывают Перикла тираном. Стоит ли тратить слова для бесед с откровенными врагами?
– Стоит, – сказал он твердо.
– Во имя чего?
– Во имя выяснения, во имя определения истины. Разве этого мало?
– Я уверена, что он подослан врагами. Возможно, что это обыкновенный сикофант.
Перикл отверг это предположение.
– Я знаю сикофантов, – сказал он, – на своем веку много их перевидал. Разве у них горят глаза? Разве они волнуются? Разве они страдают?
– Они большие притворы. Они способны на все.
– Нет, нет! Лучший актер не может сыграть свою роль так, чтобы не выдать себя хотя бы чем-нибудь. А этот мой собеседник очень плохой актер. Это убежденный в своей правоте человек.
– Я хотел бы, чтобы ты отдыхал душой и телом. Неужели человек не вправе отдыхать? Ты всего себя отдал Афинам. Принес в жертву себя без остатка! Что еще надо?
Аспазия сердилась. Ее красивое лицо было зеркалом, в котором отражались только чувства прекрасные и высокие. Поэтому негодование ее проявлялось только в голосе, начинавшем вибрировать слегка приглушенно.
Она встала и прошлась по комнате. Волнение ее тоже было прекрасно. И Перикл залюбовался ею. И это было утешением для него. Великим отдохновением. И он всегда благодарил богов за то, что послали это редкостное творение земли – чудеснейшее из чудеснейших.
Она ступала легко, непринужденно. В сорок пять лет сохранив девическую осанку, и живот, и грудь девическую. И бедра тоже девические – в меру полные, в меру тугие. Сквозь ее тончайшее платье проглядывало белое тело – яркое, как только что выделанный папирус. Он смотрел на нее и благодарил богов…
Ее руки – длинные, белые, с тонкими пальцами, как у египетской арфистки, – были дивными принадлежностями дивного тела. Точно плети – гибкие, волшебные… Эти животворящие, эти возрождающие силу руки!..
Он смотрел на нее и думал о любви. Хорошо, что Аспазия живет на свете. Хорошо, что она приплыла сюда из-за моря, из Милета. Счастье, что родил ее Аксиох, что встретил ее Перикл в Афинах, что подарила ему свою любовь, что дала вкусить от блаженства, кладезем которого являлась…
Она прохаживалась взад и вперед. Она говорила ему справедливые слова. Он слушал ее и не слушал: уж слишком зовущей была эта женщина! Все внимание поглощалось ее видом, ее статью, ее ногами, ее грудью, ее шеей, ее головою…
Аспазия обращалась к его разуму.
– Кто ты? – спрашивала она. – Разве не приходит тебе мысль о том, что ты есть душа и совесть Афин? Разве ты не знаешь себе цену?.. Оборотись на себя, о Перикл! Боги дали тебе все, что полагалось бы десятерым! Светлый ум и острые глаза. Ты обладаешь душою воистину высокой, чуждой мелочам, исполненной любовью к людям. Ты горд, ты стоишь выше мелких обид. На тебя показывают пальцем, когда ты шагаешь на агору́, или на Акрополь, или в Ареопаг, и говорят детям: «Вот он, идущий олимпиец, достойный восседать рядом с богами, достойный великого города правитель, достойный сын породивших его родителей». Вот что говорят о тебе! А ты теряешь время на выслушивание нелепых обвинений. Ты портишь себе настроение и сокращаешь себе жизнь… Нет, Перикл, это занятие недостойно тебя, ибо оно унижает не только и не столько тебя, сколько дело твое!
Так говорила Аспазия. Ей было жаль этого великого человека, которого она знала лучше, чем кто-либо. Она как бы видела его со всех сторон и, видя, ценила по-настоящему. Ценила так, как могла оценить сама Аспазия, чьи слова доходили до царского трона мидян.
Перикл сказал:
– О Аспазия, гляжу на тебя и радуюсь. Радуюсь, и не верится: ты ли это? Твоя ли речь доносится до меня? И когда я отвечаю: да, это она, это ее речь, – становится радостно! О Аспазия, мидяне говорят о любимой так: ты – солнце моей души. Ливийцы говорят о любимой: ты – свет моих глаз. А я говорю, о Аспазия: ты и солнце и свет моих глаз. Солнце – это начало всего живого. А глаза, видящие это начало, есть ключи к познанию красоты. Ты знаешь, Аспазия, как презираю я жалких графоманов, докучающих друзьям своей писаниной. Я не раз слышал от них эти выражения мидян и ливийцев. Но не могу не повторить их, ибо они верны, эти выражения.
Женщина подошла к нему неотразимо женской походкой и положила ему руки на голову, словно готовилась благословить его. Он обнял ее стан, чуть приподнял ее за талию, и тяжесть ее была ему в радость. Несмотря на годы его!
– Много в тебе силы, – сказала Аспазия.
– Нет, – сказал он.
– А я говорю – да.
– Аспазия, я старею.
Она обвила его шею руками, заглянула в глаза его и сказала:
– С годами ты становишься настоящим мужчиной.
Он удивленно уставился на нее.
Ночь наступила неожиданно: словно прикрыла тяжелыми ставнями небесное окно. Зодиак обозначился во всей своей недоступной красе. Знаки его как бы выставили себя напоказ звездочетам. Наступила горячая, напоенная ароматами садов афинская ночь. На Акрополе горело золотое копье Афины, соперничая с ночными светилами: на нем застыли лучи холодной луны, источающей яркий свет. Парфенон сиял в лучах – голубой, в голубом сиянии.
Они сидели в саду. Любовались небесами. Наслаждались земным зрелищем. Он молча указал на Парфенон. Она поняла его: да, этот будет стоять, как скала…
– Где бы он ни скитался, – сказал он.
Это о Фидии.
– Да, – подтвердила она.
– Что бы с ним ни случилось.
– Да.
– Даже если умрет на чужбине.
– Да, – еще и еще раз подтвердила она.
Он должен был говорить о Фидии. Думать о нем. Это была потребность. Почти постоянная.
– Если виновен Фидий – виновен и я. Если он присвоил себе кусок золота – присвоил и я. Если он украл хотя бы малую толику слоновой кости – украл и я. Если он вор – вор и я…
Она слушала его, положив голову на плечо – сильное, почти каменной твердости, настоящее мужское плечо, пахнущее мужским запахом.
– Они не посмели тогда нанести удар по мне. Но они изгнали Фидия. Если афиняне пойдут и дальше по этому пути – у нас не останется ни одного способного человека. Я говорю: Фидий – гений. И не потому, что он друг мой. Не потому, что был верным помощником во всех делах строительства. Человек, создавший из камня, золота и слоновой кости вот ее, – Перикл посмотрел на Акрополь, на копье, сияющее в руках Афины, – эту бесподобную богиню создавший, – несомненно гений…
Она согласилась с ним.
Он продолжал:
– Где же мера человеческой благодарности? Не в том ли, что за добро платят черной неблагодарностью? Фидий похитил золото! Сколько золота? Полталанта? Больше? Но зачем ему красть золото, если я выдавал ему из казны? Фидий присвоил кость? Зачем? Я давал ему кость для работы. Безотказно. И все-таки суд признал его виновным. Обладая в то время огромной властью, я ничем не помог ему. Может быть, в этом и есть теневая сторона демократии? Когда все решают всё.
Она резко отстранилась от него.
– Как? – сказала она. – Ты сомневаешься в том, что насаждал еще совсем недавно? Неужели ты хотел бы, чтобы народ решал все, как тебе угодно? Где же в таком случае демократия? Не вернее ли предполагать, что народ решил правильно, а ты – ошибся?
Он скорчился, точно от боли в желудке:
– Ты требуешь, чтобы я поверил в виновность Фидия? По-твоему, я должен объявить Фидия вором только потому, что народ несправедливо обвинил его в хищении ценностей? Скажи мне: я должен поверить в эти небылицы?
Аспазия положила руку на его руку, словно желая передать ему часть своего тепла и своей убежденности:
– Нет, о Перикл, ты должен оставаться при своем мнении, но ты обязан смириться перед судом народным. Иначе не имело смысла жить и бороться.
Он хотел было возразить ей, но в это время появился раб.
– Я с письмом, мой господин, – сказал раб.
– Подойди ко мне.
Это был молодой иллириец по имени Небус. Такой стройный, чернявый, молчаливый…
Небус подал дощечку. Перикл вытянул руку, чтобы лунный свет упал на письмо. И прочитал. А затем, не говоря ни слова, подал Аспазии.
– Кто принес? – спросил Перикл раба.
– Молодой человек в пурпурном старом плаще.
– Где он?
– Ушел.
– Ничего не сказав?
– Он сказал только два слова: «Передай хозяину».
– Можешь идти, Небус.
Перикл еще раз прочитал письмо. Оно было немногословно. И повторил вслух с некоторым, как показалось Аспазии, удовольствием:
– «О, великий Перикл, а все-таки был ты тиран и останешься им, если тебя снова изберут в стратеги наивные афиняне. Прощай, великий, благородный тиран! Агенор».
Книга пятая
Геродот выглядел смущенным. Присел. Потер руку об руку. Объяснил свое смущение: из Турии пришли неприятные вести. Тамошние правители перессорились меж собой. А когда правители ссорятся – жизнь для историка становится нестерпимой.
– А для поэта? – спросил Перикл.
– Поэту – что? Его дело – песни петь. А ссора служит ему пищей для размышлений.
Перикла рассмешило это утверждение.
– Однако же, – сказал он, – ты не слишком высокого мнения о певцах.
– Напротив! – Геродот вытянул правую руку. – Я о них самого лучшего мнения. Они – правая рука государства. Без них люди обратятся в стадо овец.
– А теперь, – продолжая смеяться, сказал Перикл, – поэтов ты превознес выше всякой меры.
Геродот сказал, что, во-первых, не хаял поэтов; во-вторых, не ставит их выше всех. К поэтам Геродот относится по достоинству: ибо песни нужны обществу, особенно демократическому.
– А в Италии, – спросил Перикл, – в Италии тоже поэты почитаются земными богами?
Геродот на старости – если пятьдесят с лишним лет можно назвать старостью – выбрал Турию в Италии для постоянного местожительства. Он заявил своим друзьям, что хорошо в Турии, где много простора для человека думающего, где не помышляют о войнах, а мир почитается высшим благом. А время от времени он будет приезжать в любимые Афины, чтобы подышать просвещенным воздухом. Что же касается Галикарнаса, где впервые увидел свет, то о поездке туда не может быть и речи – варвары оставили там слишком глубокий след. Италия – по его словам – страна, где человечество снова обретет себя, как во времена Гомера. Разумеется, под духовным покровительством Афин…
– А теперь о поэтах, – сказал Геродот. – В Турии тоже чтят поэтов, но пока их там маловато. Настоящих. А графоманов – полно. Впрочем, как и везде. А знаешь, где более всего графоманов?
Перикл предположил: в Афинах.
– Нет, – сказал Геродот.
– В Египте?
– Тоже нет. Хотя египтяне и любят пописать, а затем терзать слух своих знакомых.
– Неужели же в Вавилоне?
– Нет. В Колхиде. Там полно муз и поэтов. И щебечут поэты по-птичьи, так же как и египтяне в Мемфисе. Такая речь у них.
– Я бывал в Колхиде, мой дорогой Геродот. Не знаю, как там насчет поэтов, но вино отменное. И мореходы тоже. Я однажды похвалил тамошний мед. Они, колхи диоскурийские, заметили на это, что лучше меда – стихи и песни.
Геродот рассказал некую сказочку, которую выдал за быль (такое бывало с ним):
– Молодого колха ранили в ногу. Дротик повредил мякоть и вошел по самую кость. Не так-то просто вынуть из ноги скифский дротик. Воин попросил, чтобы спели ему песню. Желание его было исполнено. Слушая песню, колх позабыл о ране и о дротике, который был извлечен врачевателем…
– Будь я на твоем месте, – сказал Перикл, – я поселился бы не в Турии, а Колхиде. Диоскурия – приятнейшее место.
Геродот сладко потянулся и попросил вина.
– Ты много пьешь, – заметил хозяин.
– Пожалел?
– Для тебя – нет. Я знаю: не в твоем характере пьянство.
– Разве я произвожу впечатление пьяницы? Или ты, Перикл, и в самом деле стал скуп?
– Я всегда был бережливым.
– Не замечал… Прикажи принести вина – не пожалеешь. Я припас для тебя ворох городских новостей. А за вином язык становится шустрым.
Перикл выглянул за дверь и распорядился принести вина.
– Тебя не назовешь кутилой, – подтрунивал Геродот.
– Почему? Я очень люблю посидеть в кругу друзей.
– А ты бывал когда-нибудь пьян, милый Перикл?
– Нет. Это не в моем нраве. Тебе, наверное, известно, что я только раз был на свадьбе. Своего родственника Евриптолема. И сбежал, не дождавшись конца.
– Об этом весь мир говорил.
– Люди скверно живут, Геродот.
– Согласен. Хуже собак.
– Я не хотел бы восседать на пирах, когда мои соотечественники часто не имеют даже куска хлеба.
– Ты хочешь взвалить на свои плечи все страдания мира?
Перикл промолчал.
Принесли вино. Геродот поднял кувшин над головой. А в левую руку взял фиал:
– Перикл, мне хочется пить. Потому что муторно на душе. Ты понимаешь меня?.. Вот я не был здесь целый год. Не видел своих друзей. Скажу по правде: я унесу отсюда плохие впечатления. Мне кажется, что в самое сердце, в самую грудь мою насыпали тяжелого щебня… Дай-ка выпьем!
Геродот дважды осушил фиал, не пытаясь разбавить вино водою.
– Я теперь пью с утра, – сказал он. И глаза его сверкнули доброй улыбкой, какой только может обладать наивный ученый с душою поэта.
Перикл пригубил:
– Это вино с моего участка. Нравится?
– Да.
– Оно густовато. И немного терпкое.
– Как кровь, – сказал историк. Третий фиал подтвердил, что вино пришлось ему по нраву. – В прошлый раз я напился у тебя. Боюсь, что это случится и нынче.
– Пей, – сказал Перикл.
Он припомнил один занятный случай. После обсуждения дела в Народном собрании к нему подошли двое молодых людей. Они задали вопросы: почему Перикл трусит и не идет походом на Сицилию, где много богатства, а люди слишком строптивы и не желают подчиняться Афинам? «В Сицилию? Зачем?» – спросил Перикл молодых людей. «Воевать», – был ответ. «Зачем?» – «Чтобы завоевать!» И они открыто обвинили Перикла в трусости. Тогда Перикл, будучи стратегом, пригласил их к себе домой. Где и угостил вот этим самым кровеподобным, густым, как мед, вином. «Нравится?» – спросил их Перикл. «Очень!» – был ответ. И тогда Перикл сказал им: «Не лучше ли сидеть в Афинах и пить вот такое вино, чем потерять возможность пить его? Притом навсегда». Молодые люди почесали затылки. А на следующий день вся агора́ гудела об этом. А главное – неожиданную славу приобрело Периклово вино. Вот это самое вино!
– Да, – согласился историк, – лучше пить вино, чем лежать в благодатной сицилийской земле. Ты прав, Перикл, причем как всегда. Я люблю тебя за ум, за рассудительность, люблю за неторопливость суждений. И за доброту! Особенно за последнее. Разреши тебя обнять за все это.
И Геродот обнял старшего друга. И поцеловал братски. И пообещал написать книгу о нем.
– Кстати, Перикл, почему ты не напишешь книгу сам?
– Какую?
Геродот, как говорят финикийцы, сделал большущие глава. От удивления.
– О себе, разумеется!
Перикл ухмыльнулся:
– У меня никогда недоставало на это времени…
– Но теперь-то оно есть! Напиши же!
– Книгу о себе? – спросил Перикл.
– Это будет книга о себе, о друзьях, об Афинах. О морских походах. О битвах на земле. Это будет, наконец, книга о справедливости. Непременно о справедливости! Ты можешь ради увлекательности рассказать мифы, слышанные тобой, включить песни, любимые тобой, и стихи Гомера, Гесиода. И, скажем, Архилоха. Последний очень любопытен своими стихами против красавицы Необулы, отказавшейся выйти за него замуж. Пройдут годы, стихи Архилоха забудутся – зато они останутся в книге знаменитейшего Перикла. Разве это не благо для потомства?
Перикл не ответил.
А историк продолжал:
– Книгу о себе – понимаешь? Ты ее оставишь после себя, Перикл.
– Зачем? Для кого?
– Я же сказал: для потомства.
Перикл произнес серьезно, тихо, как молитву:
– Дела, только дела останутся для потомства.
Геродот, чуточку горячий от природы да еще чуточку подогретый напитком Бахуса, воскликнул:
– Но ведь и о делах требуется рассказ!
Перикл не стал возражать: может быть.
– Обязательно рассказ! Причем торопись: скоро тебя снова пригласят в стратеги, и писать тебе будет недосуг.
Перикл нахмурил брови. Отхлебнул вина, немножко зло, немножко резко, тем самым выдавая свое недовольство. Он сказал:
– Геродот, ты друг мне. Но зачем же издеваешься надо мной? Разве я того достоин?
– Нет!
– Так почему же издеваешься?
– Это не мое личное предположение, – оправдывался историк. – Весь город говорит об этом.
– О чем?
– Что быть тебе снова стратегом.
– Мне?
– Да. Тебе. Периклу.
– Об этом говорит весь город?
– Да. И я пришел сообщить тебе, что…
– Не надо, друг мой.
– Почему? Я пью именно за это. Учти, Перикл, народ отходчив. Особенно афиняне. Они недолго помнят зло, тем более что повинны в этом зле сами. Они снова вручат тебе бразды правления. Попомни мои слова!
– Этого никогда не будет, – сказал Перикл.
Геродот поднял фиал. Пятерней расчесал бороду, пригладил волосы на макушке. Казалось, он взошел на трибуну и начинает речь в Народном собрании.
– Послушай, Перикл, мы с тобой должны условиться об одном: или мы вовсе отказываем в здравом смысле афинянам, или не допускаем и мысли о том; что и они, как все люди, могут ошибаться. Чего они добились без тебя? – Геродот выпил и стал один за другим загибать пальцы на руках. – Выиграли войну у Спарты? Нет. Запросил ли мира царь спартанский? Нет. Может, царский опекун Никомед повел интригу против молодого царя,? Нет. Может, улеглась чума? Нет. Может, больше стало хлеба? Тоже нет! Объясни мне: чего же они достигли без тебя?.. Говорят, что близ мегарской границы произошло столкновение с конницей лакедемонян. Что же сделали прославленные афинские стратеги? Они попросту сбежали с поля боя. Они бежали, как дети от гнева шипящих гусей. Но будь это Перикл – хлопот бы хватило на целый год Народному собранию: зачем да почему бежал? А здесь – просто: струсили и – всё! Я говорю тебе, Перикл: они еще придут, они позовут тебя. За это я и пью.
Перикл упрямо твердил:
– Не придут. Не попросят.
– В Колхиде пьют вино, когда желают, чтобы сбылась прекрасная мечта…
– Я пить не буду.
– Я повторяю: чтобы сбылась красивая мечта.
– В шестьдесят пять лет не бывает мечты…
Геродот не слушал его. И с упоением продолжал:
– Красивая мечта – это Перикл на привычном месте.
– Меня и без того обзывают тираном.
– Красивая мечта, Перикл, – это война, выигранная Афинами, светочем знания.
– Светоч когда-нибудь погаснет…
– Красивая мечта, Перикл, – это ты, приносящий жертву Афине на Акрополе в честь победы…
– Победа часто изменяет даже любимцу богов.
– Красивая мечта – это ты, Перикл, в окружении своих просвещенных друзей!
– Нет, нет, нет!
– Я пью за это по-колхски.
Перикл бледнеет. Губы у него дрожат. Глаза полны слез. О Перикл, неужели это ты, победитель в битвах, в словесных и прочих сражениях?!
И все-таки Геродот допил до дна и сказал:
– Если бы это вино обратилось в цикуту, и тогда бы я выпил до дна. За тебя, Перикл, за красивую мечту!
Перикл глотнул холодной воды. И сразу полегчало в голове и на сердце. Как будто всего окунуло в прохладу. Как будто ушла от него часть жара, подогревающая душу сверх всякой меры.
Перикл растроган. Он встает, обнимает своего друга. И говорит:
– Что бы я делал без вас?
(Это он о своих верных друзьях.)
– А мы – без тебя? – вопрошает Геродот.
Перикл возвращается на свое место.
– Значит, плохи дела, Геродот?
– Очень.
– Это достоверно?
– Совершенно. Народ взбудоражен. И ко всему – эта проклятая чума.
Перикл берет фиал с вином и, думая совсем о другом, медленно пьет кроваво-красную жидкость…
…Воистину предначертанное богами:
На холм Акрополя – на эту голую скалу – поднялись Перикл, Фидий, Мнезикл, Калликрат, Поликлет, Микон и два ближайших друга Перикла: Клеонт, сын Фания, и Алкмеон, сын Ореста. Перикл измерил шагами холм: вдоль и поперек. Оказалось: длина – триста двадцать пять шагов, ширина – сто восемьдесят один шаг. Зодчий Мнезикл – хорошего сложения молодой человек, курчавоголовый – нанес эти размеры на папирус.
Потом все они отошли к западному краю холма, который против входа в старинное святилище, разрушенное мидянами в прошлую, большую войну. И еще виднелись тут развалины храмов, оскверненных врагами. Сорная трава успела вырасти среди камней. И развалины дворца, заросшие густым кустарником, – дворца времен песнопевца Гомера.
Западный край соединялся с городом: здесь существовал с давнопрошедших времен пологий спуск, по которому проложена дорога. По ней могли подыматься даже повозки, в которые запряжены два вола.
Перикл обратил свой взор на гору Ликабет, а затем на море – в сторону пирейской бухты. А под ногами простирался этот великий город, самими богами нареченный Афинами.
– Во сколько локтей ты оцениваешь эту высоту? – спросил Перикл Фидия, указывая на отвесную скалу.
Ваятель и не задумывался: он назвал цифру в сто пятьдесят локтей.
– Воистину творение божеских рук! – громко сказал Перикл. – Ибо эта скала, как бы специально для защиты города сотворенная, кажется прибежищем духа сильного и гордого, веющего над великим городом. Пусть поверженная неукротимым врагом – она все-таки была и есть хребет государства, выстоявшего в битве и одержавшего победу.
Перикл обратился к своим друзьям с такими словами:
– Доколе будет стоять этот холм неприступный, этот каменный хребет нашего города, являя собою пустынный угол? Или мы, афиняне, задумали оставить его в состоянии запустения, как памятник битвам? Как памятник разрушениям? Разве не достойно оно, это место, быть украшенным храмами и изваяниями богов?
На это Клеонт ответил:
– Нет, негоже нам оставлять без внимания этот царственный холм. Ты прав, Перикл: доколе мы будем терпеть это запустение? Или мы полагаем, что снова вернутся сюда мидяне?.. Нет, надобно тут сотворить руками эллинов нечто особенное.
Перикл ждал, что скажут другие. Не будет ли иного взгляда на сей предмет? Кто из присутствующих возразит Периклу?
Дело, несомненно, большое и благое. Но необходима осмотрительность, обдуманность, неторопливость. Поэтому-то на Акрополе в эти минуты не слышно голосов.
Перикл подумал, что присутствующие согласны с ним во всем. И это немножко обидело его: ибо справедливо полагал он, что редкое дело заставляет мыслить всех одинаково. Уточним это: редчайшее дело; скажем, такое, как война с мидянами, где ни одному греку не приходилось долго размышлять – столь ясным казалось оно. Кто, какой грек, где бы он ни жил, даже в самой Спарте, усомнился в том, как надобно встречать Ксеркса? Разве нашелся такой грек? Разве не погибли триста спартанцев, не сделав ни шагу назад? Разве не было Платей, Фермопил, Микале?..
Но одно дело – мидяне, вооруженные до зубов, и совсем иное – застройка Акрополя. Разве не должны именно в этом последнем случае столкнуться согласие и несогласие?.. И стратег упрекнул друзей:
– Неужели я высказал столь низкую мысль, что она недостойна вашего обсуждения? Неужели она не задела ваши сердца, что вы сделались немыми и не удостоили ее ни осуждения, ни похвал?
Так посетовал Перикл, привыкший к всестороннему обсуждению, привыкший к поперечным замечаниям, а подчас и резкому осуждению своих замыслов.
Тогда заговорил Фидий, как самый старший из ваятелей и зодчих:
– О Перикл! Мы выслушали тебя. И напрасно ты воспринял наше молчание как равнодушие. Разве может оставить равнодушными кого-либо из афинян замысел, имеющий в виду украсить это место, воистину священное для Аттики и всей Эллады? Но мы, – я надеюсь, что все мы, – желали поразмыслить, прежде чем выскажем свое суждение.
– Верно ли это? – спросил Перикл.
– Да, это так, – ответили его друзья.
Стратег принес свои извинения и сказал, что готов ждать столько, сколько это необходимо, чтобы выслушать их мнение.
Они стояли у трех кипарисов, избежавших, можно сказать, чудом топора мидян. Косые лучи заходящего солнца окрасили холм в красноватый цвет. И мужи, стоявшие под кипарисами, были окрашены в красноватый цвет. На фоне синего вечернего неба они казались мудрецами, сошедшими по крайней мере с Олимпа.
Зодчий Калликрат сказал:
– Все, что будет построено здесь человеческими руками, должно соперничать с божественным. А иначе – это недостойно народа, сокрушившего персов. Потомки должны сказать о нас: вот они, создавшие сии храмы и сооружения, достославные воители против персов. Ибо только их гений мог одержать столь великую победу над врагом. Но я предвижу одно: где взять столько талантов – столько золота и серебра? Отпустит ли Народное собрание деньги на эту прихоть, как назовут эту затею злоязычные недруги? Я полагаю, что с этим надо подождать, пока не выяснятся другие суждения в Народном собрании… А еще: разве нет более насущных дел у афинского народа, изнуренного войной? Разве нищета не стучится вон в те кварталы? – Калликрат указал при этом в сторону Керамика, и в сторону Ликабета, и в сторону Пникса. – Разве Афины утопают в садах? Разве не нуждаемся мы в расширении водопровода, построенного еще во времена Писистрата? Нас могут спросить в Народном собрании: а храмы, изваяния из золота и слоновой кости или новые жилища, где бы усталый и голодный человек мог найти отдохновение? Вот о чем я хочу спросить тебя, о Перикл!
Стратег слушал, опустив глаза, не пропуская мимо ушей ни одного слова. Он стоял, заложив руки за спину. Складки его плаща, ныне особенно пурпурного при свете уходящего Феба, были нерушимы, как всегда…
Фидия тоже беспокоила нехватка денег в государстве, истощенном войной. Где взять денег? У союзников?
– А почему бы и нет? – сказал Перикл. – Исходя кровью, мы защищали их дома. Почему бы им не помочь нам?
– Строить храмы?
– Хотя бы храмы.
Алкмеон, сын Ореста, веривший каждому слову Перикла, высказался в том смысле, что зодчим и ваятелям следует думать о создании красоты непреходящей. Что же до денег – об этом позаботятся стратеги и Народное собрание. А форос, получаемый с союзников? Разве его недостаточно, чтобы соорудить нечто невиданное в свете? И он сказал Периклу:
– Почему бы Афинам не воспользоваться союзнической казной на Делосе?
Перикл молчал.
– Лучшее место для казны – Афины, – продолжал Алкмеон. – В конце концов, мы заслужили доверие, чтобы держать казну у себя и распоряжаться ею на благо всего Союза.
Перикл молчал. Он слушал.
Фидий подхватил мысль Алкмеона, сына Ореста. Она ему определенно пришлась по сердцу. Почему бы, в самом деле, не воспользоваться казною на Делосе? Почему она там, на Делосе, а не здесь, в Афинах? Кто больше сделал для Греции – Афины или Делос? Мысль Алкмеона верна по самой сути своей. Если говорить откровенно, мощь Афин – это благо для всего Союза. Что бы делали все эти острова и многочисленные клерухии, если бы не надеялись на афинский флот и афинских стратегов? Что?
Клеонт тоже поддержал Алкмеона. Горячо, с присущей ему доказательностью и определенностью.
А Перикл молчал.
Мнезикл вставил свое словечко. Или, как выражаются финикияне, пташка тоже чирикнула, подавая голос в хоре орлов. Ибо Мнезикл был моложе всех. Что же касается его способностей – Перикл ставил их очень высоко и неизменно брал Мнезикла с собой, когда советовался с зодчими или ваятелями. А Фидий был его правой рукой в делах строительных. Без него Перикл не решал ни одного дела. И считал его своим наставником в искусстве, подобно тому как в политике и философии – Анаксагора.
Мнезикл сказал:
– Не кажется ли вам, что и у союзников есть предел терпению?
А больше ничего не сказал.
Живописец Микон и ваятель Поликлет подтвердили, что союзники – тоже люди, что ничто человеческое им не чуждо. Еще в старину, во времена Гесиода, пошло выражение: «Деньги делают человека». Если это так и если Афины наложат лапу на союзную казну, то союзники вопросят: «Что же это делается средь бела дня? И как это называется?..»
Перикл перебил:
– А как называется?
– Очень просто, – сказал Микон, – грабеж!
– Нас могут обвинить в грабеже?
– Запросто.
– Нас, афинян, проливших столько слез, крови и пота?
Живописец махнул небрежно – очень небрежно – рукою:
– А их никто не считает по прошествии нескольких лет. Они забываются.
– Это же противно истинно человеческой природе!
– Напротив, – возразил Микон, – так устроила сама природа. – И пояснил свою мысль одним примером. Он сказал: – На крайнем юге Ливии, где водятся слоны, замечено следующее: нет слоновьих могил. Разве слоны не сдыхают? Разве эти гиганты не падают замертво наземь, когда бьет их час?
– Падают, – подтвердил Перикл.
– А где же их могилы?
– В тамошних непроходимых лесах, наверное…
– Это предположение. Но ни один смелый охотник не находил их костей. А почему?
Так как все с интересом слушали и молчали, ответил сам живописец:
– Земля поглощает! Трава скрывает кости от посторонних взглядов… Так и слезы и кровь. Спустя некоторое время – они уже не волнуют. Горе забывается. И это вполне в человеческой природе.
Перикл вынужден был согласиться. Он сказал:
– Да, это, наверное, так. И наш друг Микон верно схватил это явление. Но при всем при этом есть на свете справедливость? Неужели деяния Афин должны быть схоронены, подобно костям слона?
Заметь, читатель, это он говорил об Афинах. Но ни словом не обмолвился о казне на Делосе. Сказать, по его разумению, означало – сделать. Поскольку между этими двумя понятиями существуют и определенная связь и определенное различие – Перикл предпочитал думать, отмерять, а потом уже, как говорится, кроить плащ.
Доблесть и жертвы афинян в войне с персами ни в ком не вызывали сомнений. Что же касается союзнической казны и отношений с союзниками – это, очевидно, подлежит общему обсуждению. Поскольку касается не только афинян.
Перикл перевел разговор на иной предмет.
– Если посмотреть на этот холм сверху, – сказал стратег, – он представляет собой неправильной формы четырехугольник. Причем каждая сторона его – не прямая, а искривленная естественным образом. Да и поверхность не очень ровная: западная сторона явно ниже восточной. Даже на глаз это заметно. Если придется восстанавливать стены и строить нечто, то надо ли придавать холму более четкую форму? То есть надо ли прилагать к нему руки и в каком объеме? Иными словами: надо ли сохранять эту первозданную форму?
И тут разгорелся жаркий спор…
Вошла Аспазия.
За нею следовал Гиппократ.
Перикл тотчас приметил, что она обеспокоена сверх меры. Непроницаемая личина врачевателя тоже не сулила ничего доброго. Так оно и оказалось.
Аспазия кивнула Геродоту, и лицо ее на миг просветлело. Перикл поднялся им навстречу, приветствуя Гиппократа.
– Геродот, – сказал он, обращаясь к историку, чьи щеки подтверждали предположение вошедших о том, что их обладатель уже изрядно пообщался с богом веселых и добрых – Бахусом, – вот наша нынешняя знаменитость: врач Гиппократ. Несмотря на свою молодость, он творит чудеса.
Гиппократ, слегка смущенный, поклонился знаменитому историку.
– Мне попалась твоя книга, – сказал он сипловатым голосом, – и я ее прочитал так, как впервые читал бы «Илиаду».
Историк усмехнулся:
– Ты читал мою книгу? Зачем? Тратить попусту время, вместо того чтобы делать людям добро, врачуя их? Нет, я не понимаю этой траты времени!
Гиппократ поразился той легкости, с какой Геродот относится к своему труду. Скромность ли это? Или дело, может быть, в другом? Иногда великие позволяют говорить о себе немножко пренебрежительно, полагая в душе, что другие воздадут им должное…
Врач сказал, что улучшение, наступившее в состоянии больного Парада, оказалось временным. Говоря это, Гиппократ покраснел, словно в этом был повинен сам он. Историк протянул известному молодому врачу фиал с вином. Гиппократ выпил…
– Болезнь – теперь это вне всякого сомнения – медленная чума. Через два или три дня окончательно определится степень заболевания.
Перикл опустил голову. Была у него надежда, но, верно, не сбудется она. Вот так и бывает часто: одна за другою, точно вереницею, следуют беды и невзгоды. Что же это такое? Египтяне, эти издревле умные люди, неспроста говорят: строишь гробницу для жены – строй и для себя и для близких своих. Они хотят сказать, что одной смерти не бывает. Точно так же, как одной беды.
Аспазия рассказывала о сыне: жар не унимается, подчас наступает состояние бреда, и тогда Парал пытается вскочить с постели и куда-то бежать. С большим трудом удерживают его переболевшие чумою рабы. Уксус, который дают ему вместе с водою, не снижает жара. Ноги по-прежнему болят, и нет у больного никакого желания поесть чего-нибудь.
– Даже любимых маслин, – сказала она.
– Мне добавить нечего, – сказал врач.
Геродот прописал свое лекарство: вино.
– Отказывается.
– Это плохо!
Перикл поднял голову и сказал тихо:
– Я жду еще худшего.
Аспазия и Гиппократ переглянулись. Они при этом как бы о чем-то условились. Но о чем?
Геродот стал распространяться о пользе вина при врачевании. Правда, он оговаривался, что слышал об этом от других.
– Что такое вино? В Беотии утверждают, что это кровь земли. А колхидцы называют лучами солнца. Египтяне именуют буквально «мать здоровья».
– Наверное, египетские пьяницы, – заметил врач.
– Пожалуй, – согласился историк. – Попался мне один египтянин на острове Элефантине. Он любил выпить и слагал занятные песни, а жрецы перевели мне его песни. Вино он называл «матерью здоровья».
Гиппократ заметил, что трудно отрицать целебные свойства вина, особенно при головокружениях, вызванных изнурительной болезнью. Скажем, лихорадкой…
Аспазия сказала:
– Гиппократ осмотрел также и Ксантиппа.
Перикла точно кольнули копьем в самую печень.
– Ксантиппа? Что с ним?
– Лежит в бреду.
Гиппократ пояснил:
– Весьма возможно, что состояние бреда есть последствия выпитого в чрезмерном количестве вина. Однако лоб его и щеки его горят необычайно. И это наводит на мысль…
Перикл посмотрел ему прямо в глаза, словно бы от них исходила опасность.
Гиппократ продолжал:
– Я велел очистить ему желудок и пустил кровь, которая ударила ему в голову вследствие напряжения в жилах.
– Это помогает? – Перикл спросил, совершенно не думая, о чем спрашивает.
– Несомненно.
– Паралу помогло?
– Немного.
– Нет ли еще какого-либо лекарства?
– Посильнее кровопускания? Посильнее очищения желудка?
– Да.
– При этой болезни?
– Да.
Гиппократ уверен, что нет.
– А в Египте?
– И там нет.
– В Финикии?
– И там.
– В Вавилоне, полном всяческих тайн?
– Нет более того Вавилона! Одно название!
– В Колхиде?
– Тоже нет.
– Откуда тебе это знать?
– Я получаю письма отовсюду.
– И сам пишешь?
– Пишу и сам.
Перикл обвел всех грустным-грустным взором, в котором было все: и мольба, и приказание, и боязнь, и решимость. Все человеческие слабости отразились в нем. Но увы! Никто не мог помочь ни ему, ни больным в их бедственном положении. Только боги!
– Я принесу им жертву, – сказал Перикл.
Гиппократ одобрил это.
– Я это сделаю сегодня же.
Врач кивнул. А историк покосился на него. И этот хитроватый взгляд не ускользнул от внимания Аспазии. И она твердо поддержала намерение мужа, сказав:
– Жертва всегда необходима в доме, где несчастье возобладало над счастьем. Она приносит покой душе. А душа в свою очередь дает покой телу, крови, жилам.
– Это очень верно, – подтвердил врач.
Аспазия протянула чашу Гиппократу!
– Прошу тебя, вот вино. Я прикажу немедля принести кушанья. Надо подкрепить силы, не правда ли? – Она указала глазами на Перикла.
– Я принимаю приглашенье, дорогая хозяйка. – И врач сел рядом с историком. Аспазия вышла, чтобы отдать необходимое распоряжение.
Историк сказал:
– Я видел врачей, видел врачующих египетских жрецов, но все они были в летах…
– Года приносят опыт…
– Ну, а ты молод.
– Это мой недостаток, – улыбнулся Гиппократ.
– В Турии все врачи дряхлые, – сказал историк.
– Правда?
– Да, да! Они беззубые, они сухие, словно мумии, которых мне показывали в Мемфисе.
– Я тебе завидую, – признался врач. – Ты видел настоящую мумию! Чья она?
– Это неизвестно!
– Как так – неизвестно! Откуда же она взялась?
– Ее отобрали у воров. Грабителей могил.
Врач изумился: чего только не бывает на свете, особенно в Египте – в этой стране былых чудес.
– Да, былых! – подтвердил историк. – А иначе я бы именовал ее просто огородом. Да, да, огородом! Египтяне сеют хлеб, они большие мастера по части овощей. И пальм. Разве Псамметих похож на Рамзеса?
– Псамметих добрый, – сказал Гиппократ, – он афинянам прислал хлеб…
– И шлет папирусы, – добавил историк.
– Верно ведь! Папирус не меньше хлеба нужен. Что такое хлеб без поэзии, которая пишется на папирусе?
– А жизнь? А здоровье? – спросил историк.
– Видишь ли, я понимаю жизнь не так, как представляют себе иные врачи. Жизнь – это совокупность материального и духовного. Причем ни одному из этих элементов я не отдаю превосходства.
– Странный врач, – признался Геродот. – Обычно врачи утверждают, что любая кишка в животе важнее мысли, души. В Турии один врачеватель доказывает, что, обладая прекрасным желудком, нетрудно стать Гомером.
Гиппократ заметил, что он перевидел много желудков, которым не составляет труда переварить даже камни, но что при этом ни разу не встречал Гомера.
– Так чему же ты отдаешь преимущество? – спросил историк. – Телесному или духовному?
Врач понял, куда его уводит этот знаменитый ученый. Спор о преимуществе духовного или зримого, телесного – давнишний. Разрешен ли он? И кому судить об этом? Как врач, Гиппократ может засвидетельствовать с достоверностью: когда болит тело – душа не в порядке, она тоже болит. Следовательно, главенство в отправлении жизни принадлежит телесному, зримому. Есть философы, которые делят мир на две части: на берущее начало от камня и на духовное, невидимое. Соединение этих двух антиподов дает живую материю, то есть человека. А без подобного соединения, без этих близнецов – нет настоящей жизни в том понимании, на котором сходится большинство ученых…
Историк, как бы потешаясь над молодым врачом, продолжал допрашивать, словно прита́н пытавшегося сбежать воина:
– А все-таки на стороне чего преимущество?
– Как врач, я должен отдать его телесному.
– А как человек?
– И тому и другому.
– А можно ли понять духовное вне телесного?
– Едва ли…
– Стало быть, телесное, видимое выше?
– Это уже спор для Зенона.
– Почему для Зенона?
– Он способен доказать все, что угодно.
Историк требовал ответа точного, ясного, недвусмысленного. Врач, казалось, дал его: духовное не может существовать вне телесного. Это все равно что вино в сосуде: разбей амфору – и вино вытечет. Вот так! Однако Геродот не довольствовался этим. Он припомнил одну историю, не совсем с хорошей стороны выставляющую делосского прорицателя. В ответ на вопрос о том, как сложится судьба небольшого сражения недалеко от острова Тенос, был дан такой оракул: враг уйдет в открытое море. И он действительно ушел, уводя с собой на буксире два трофейных корабля… Историк полагал, что всегда, во всякое время, по любому поводу необходимо давать точные и четкие ответы.
– Я читал твои книги, – сказал врач, – Это великие творения. Но всегда ли ты придерживаешься этого правила?
– Почему ты спрашиваешь меня об этом?
– Мне кажется, что сам ты – и не раз! – отступаешь от своего правила.
– Ты уверен?
– Мне так кажется.
– Это плохо. Значит, ты невнимательно читал меня. Разве я не оговариваюсь всякий раз, как только чувствую, что достоверность того или другого случая может быть поставлена под сомнение?
Врач мысленно прошелся по книгам Геродота. А в это время автор их продолжал:
– Если я видел сам – я говорю об этом. Если мне передавали что-либо – я и это оговариваю. Гиппократ, ты не очень прав в случае со мною. Может быть, я слишком щепетилен в изложении событий? Может быть, мне следовало бы больше давать воли своей фантазии, смелее высказывать свои соображения?
– Мир безмерно сложен, – заметил врач, чуть увлажнив губы и язык в разбавленном вине. – Ответы «да» или «нет» не могут доказать что-либо со всей необходимой полнотой. Даже «дважды два» требует в некоторых случаях и оговорок и доказательств.
– Вот не думал! – вскричал историк.
– Тот же Зенон сумеет доказать, что не четыре, а пять является итогом простейшего умножения одной двойки на другую. И в некотором смысле будет прав. Человеческое мышление не довольствуется больше простым ответом. Оно любопытствует в разрешении многих вопросов. Возьмем психику, когда она нарушена, когда душа мечется и ищет чего-то. В эти мгновения она как бы прозревает для мышления особенного. Не всегда это признак сумасшествия. Я знаю одного геометра, который сомневается в том, что в мире можно сыскать поверхность ровную, идеальную. Только бесконечно малую поверхность – невидимую глазом – позволительно определять как гладкую. И то с некоторым приближением.
– А донышко фиала? – и Геродот протянул, руку с пустым сосудом.
Гиппократ посмотрел на донышко.
– Нет, – сказал он, – оно весьма неровное и не может быть ровным, то есть идеально гладким. Оно подобно морю, которое волнуется, сохраняя видимость глади, ласкающей наш взор.
– О боги! – воскликнул историк. – Чего только не услышишь в этих Афинах!
Врач улыбнулся. Поднял руку, – дескать, прошу внимания:
– Некий историк, весьма глубоко чтимый мною, рассказал в одной своей книге об острове, который перемещается посреди реки, подобно пустому сосуду.
– Некий историк? – Геродот поднес фиал к губам, но не стал пить. – Я понимаю намек. Это я писал об острове Элефантине, который недалеко от первых нильских порогов в Египте. Но, друг мой, читая книгу, не надо притуплять своего внимания.
– Как это понимать, уважаемый Геродот?
– Очень просто! Я всегда оговариваюсь: «мне сказали», «мне передавали», «как говорят» или «я слышал от других». Разве этого мало?
– Мне кажется, что не всегда…
Историк не дал ему договорить:
– А хороший ли список попался тебе?
– Это трудно сказать.
– Приходи ко мне – я дам собственный. Сверенный мною лично.
– Где ты живешь?
Геродот объяснил: невдалеке от Пникса. У Западного подножья Акрополя. Спроси дом Аттика…
– Я хотел бы продолжить наш спор…
– Позволь, а кто мешает?
Тут Гиппократ кивнул на Перикла: тот сидел погруженный в свои мысли. Недвижный. Словно изваяние. Нет, не доносилось до слуха его ни единого слова спорщиков! И Аспазия забилась в угол: о ней тоже вовсе забыли двое ученых.
Геродот, что называется, прикусил язык. Пожал недоуменно плечами, вопросительно посмотрел на врача. И они встали как можно тише, словно боясь разбудить кого-то. И вышли чуть ли не на цыпочках из комнаты. А Перикл? А жена его, хозяйка дома? Они даже не пошевелились: на дом их надвигалась туча, несравненно более грозная, чем какая-либо из бывших доселе.
…Перикл как бы отошел в сторону, наблюдая за горячим спором зодчих и ваятелей. В самом деле: до какого предела может простираться вмешательство человеческих рук в облик Акрополя? Несомненно одно: старые стены должны остаться без особых изменений. Там, где они разрушены, – необходимо восстановить их, используя прочный фундамент времен Тесея. В этом пункте особых разногласий не воспоследовало. И спорщики быстро пришли к согласию. Ну, а далее?..
Поликлет выразил свое мнение следующими словами:
– Однажды два беотийца затеяли спор: строить ли дом у речки или повернуть речку к дому, когда он будет возведен на некотором отдалении от речки? Как известно, беотийцы не отличаются особым умом. И порешили они соорудить дом на некотором отдалении от берега. Но вот беда: в конце концов, когда дом был отстроен, выяснилось, что стоит он слишком высоко и речке вовсе неохота подыматься к нему. Тогда замыслили беотийцы еще одну глупость: подкопали землю под фундаментом и постепенно опустили дом до уровня воды.
– Дурацкая притча! – сказал Микон.
Поликлет возразил:
– Она соответствует уму беотийцев. Недаром называют их дуралеями.
Микон сказал;
– Напрасно их так честят! В один прекрасный день окажется, что бывшие дуралеи стали людьми смышлеными и умными. А кое-кто поотстал и превратился в дуралея. Не надо – никогда не надо! – считать целый народ или хотя бы часть его дураками. Приучив себя к этой мысли, в один прекрасный день мы пожнем горькие плоды.
Поликлет, немножко покраснев, оправдывался:
– Я эту притчу привел к тому, что не следует насиловать природу, но всячески к ней приспосабливать себя и свои помыслы.
– Сделаться ее рабом?! – воскликнул Фидий.
– Почему – рабом? Учитывать все особенности местности и в соответствии с ними строить сооружения – разве это дело рабское? Я предлагаю ничего не трогать на этом холме, но подумать о том, что и где следует соорудить, дабы сообразовать свои замыслы с тем, что приготовила нам природа.
Калликрат высказал мнение противоположное. Ход его рассуждений был таков: природа подчас слепа. Она чередует горы и долины столь причудливо, что диву даешься: чем же руководствовался высший разум, управляющий вселенной, пренебрегая симметрией – этим чудом света? Ярче всего эта симметрия проявилась в кристаллах. Треугольная призма кристалла или четко выявленный параллелепипед его – есть явление удивительное и в то же время указующее на воистину прекрасные формы. Разве недостойны Афины украситься холмом, форму которому придаст человек, – речь идет о форме прекрасной! – и великолепными храмами? Гармония красоты и разума, воплощенных в обработке холма и строительстве храмов, – вот величайший памятник доблести Афин! Таким образом, гигантский постамент и сооружения на нем будут плодами рук человеческих.
Итак, уже с самого начала этого спора мнения разделились. Одни соглашались с Поликлетом, а другие – с Калликратом. Но не полностью, разумеется: в частностях имелись расхождения. Очень важно выяснить: что делать с холмом, так как велико желание афинян увидеть его как можно более красивым? Однако в чем красота: в первозданности или в новых формах, которые придаст холму человек? Это главное, что требовалось разрешить.
Разговор не был ни коротким, ни длинным для такого рода дела, когда непродуманное решение может навсегда нанести ущерб облику великого города, где сто с лишком тысяч граждан составляли его живую и деятельную душу. Сказать: так или этак – очень легко. И последовать этому тоже легко. Но что получится в итоге?
Перикл, следивший за спором, очень хорошо представлял себе все трудности. Может быть, многие не знают того, что Перикл не раз глядел на Акрополь то издали, то с близкого расстояния, пытаясь представить себе его будущий облик. И из Пирея глядел он на Акрополь. И из Пникса. И с высоты Ликабета. Он долгие годы ходил вокруг, не выдавая своих помыслов, слушая других и ничего не говоря от своего имени. И не потому, что, как утверждают иные, не желал снисходить до других, пребывая во власти гордыни, а потому, что не мог решить про себя, на чем же остановиться твердо.
Что является большим благом для государственного мужа: говорить самому или умело выслушивать других, выявляя при этом и свое собственное, со всех сторон продуманное, мнение? Перикл придерживался последнего правила. И счастье его состояло в том, и величие его в том, что редко изменял этому правилу. Это касалось и больших и малых дел. Ибо что такое маленькое дело, как не составная часть большого?
Истинно говорят, что Фидий был его правой рукою во всех строительных предприятиях – будь то строительство Пирея, Длинных Стен или сооружений на Акрополе. И уши Перикла и все внимание его обращались к Фидию, когда этот великий ваятель излагал свои мысли по тому или другому поводу. Его видение будущих, еще не воплощенных форм было столь острым и живым, что часто не требовалось особых проверок. Фидий говорил точно, и точность его была как бы чертою очень умелого геометра.
Когда все изложили свои соответственные взгляды, а Мнезикл внес их в книгу и записал также и свое мнение, которое он не пожелал пока высказывать вслух, – слово взял Фидий…
Губы у него одеревенели. И совсем не слушались. Хотел сказать что-то – и не мог. Он подумал, что вот так, наверное, приходит смерть: хочешь вымолвить слово – и не можешь, хочешь глотнуть воды – а в горло она не проходит. Да, наверное, так и начинается смерть.
И еще: эта бледная пелена в глазах. С желтыми краешками. Это очень противно. Наверное, это перед смертью.
А еще и дыхание… В горле будто бы кляп. Шерстяной. И тоже, наверное, перед смертью. А иначе откуда эта безысходность в мыслях и отсутствие всяческой жизнедеятельности?
Но ничего подобного: он не умер! Он жив! Человек что камень, говорят лакедемоняне. Должно быть, так и есть. Иначе бы Перикл уже лежал бездыханный. А тут еще есть какое-то движение в жилах и под кадыком…
Они ушли – Геродот и Гиппократ. А он и не заметил, когда. Она здесь, а он и не чувствует ее присутствия. Ее-то присутствия! О Перикл, до чего ты дожил!..
Постепенно к нему возвращается то, что умные люди, – впрочем, и дураки тоже, – называют жизнью. Он шепчет ее имя. И видит ее сквозь бледную пелену.
На щеках у нее две росинки – две слезы. И это у Аспазии, чей ум превосходит в некотором отношении мужской!
Она точно изваяна. Из бледного мрамора. В котором нет жизни, а всего лишь одна видимость ее. Глаза у Аспазии полузакрыты. Пальцы рук сплетены крепко-накрепко… И две жилы, как будто насильно вплетенные в ее плоть, отчаянно бьются по обеим сторонам высокой и тонкой шеи…
– И он тоже? – спрашивает Перикл.
– Да.
– И не пьет больше вина? Даже вина не просит?
– Хотя бы выпил! Как я была бы рада. Я всё бы простила! Почему он заболел?
– Может быть, простая лихорадка.
– Может быть.
– Я принесу жертву.
– И чем скорее, тем лучше.
– А она, жена его?
– О боги, как она глупа!
– Сама-то она здорова?
– Женщины живучи… Мне жаль Ксантиппа.
– А Парал? Ему очень худо?
Она молчит.
– Что нам делать?
Так вопрошает человек с тех пор, как его создали боги.
– Аспазия, за что же все это? Перед кем я провинился?
Молчит Аспазия.
– Жизнь моя у богов как на ладони: за что они так карают меня?
Слезы, слезы текут из ее глаз: такие крупные и бегут по щекам… Ей теперь жаль его…
– Я любил, Аспазия, и своих и чужих детей…
Она смотрит в одну точку на серой стене.
– Любил свой очаг, уважал – чужой…
И глаза у нее совсем немигающие. Остекленевшие совсем.
Он говорит не очень уверенно:
– Я сейчас принесу жертву…
Но как это «сейчас», если нету сил, если руки не поддаются, если ноги отнялись? А все-таки он упрям:
– Я принесу жертву. Я найду… Прикажу найти белого, совсем белого ягненка. С красной лентой на шее. С белыми шерстяными нитками на рожках. И с черным-черным пятном во лбу… Я принесу жертву богам. И попробую теплой крови. И смажу ею губы моих сыновей… Я принесу жертву ровно в полночь…
Аспазия встает. Медленно-медленно шагает к нему. Берет его податливую и большую голову и прижимает к груди.
А он замирает…
Перикл обратился к Народному собранию с такой речью:
«Афиняне! Слепое тщеславие, превыше всего ставящее собственное достоинство, преувеличенное самомнение и высокомерие по отношению к себе подобным, воистину достойно не столько поругания, сколько осмеяния. И пусть любой комедиограф, берущий в руки стиль для жестокого обличения, не ищет более благодарной темы, чем рассказ о тщеславном глупце. Подобный дурак обычно наделен несравненной энергией, которую тщится применить в прославление собственной глупости, в ослеплении почитающий ее за мудрость. И он обращается к поэтам и ваятелям в надежде, что те прославят его имя в веках. Но что прославлять? Кого прославлять? За что прославлять? Если человек собрал богатую мошну на продаже скота и решил обессмертить себя в мраморе, так как у него есть чем расплатиться с ваятелем, – это еще не значит, что скототорговец достоин общественных почестей. Но это значит, что сам он, зная цену искусству, пытается увековечить себя. Разумеется, за деньги.
Но я появился на этой высокой трибуне не для того, чтобы разглагольствовать о некоем тщеславном глупце. Слово Фидия, которое он произнес перед вами, заставило и меня подняться со своего места, что я делаю весьма неохотно, полагая, что стратегу больше приличествует молчание, нежели болтовня. Однако бывают случаи, когда нельзя хранить молчание.
Афиняне! Наше государство на протяжении жизни одного поколения проявило столько доблести, мудрости и героизма, что едва ли все это можно достойно описать. Хотя есть у нас великие творения Эсхила и Геродота на этот счет, тем не менее я бы не ограничился одними ими. И соображения у меня следующие. Чем выше народный подвиг, тем величественнее он должен быть изложен при помощи несравненной поэзии и всякого другого искусства, как-то: ваяния, зодчества, градостроительства. Ибо подмечено еще давно: мало стоит подвиг с точки зрения будущего, если он не увековечен в искусстве. Представьте себе на одно мгновение: Троя разрушена, Одиссей вернулся домой, великие деяния совершены и той и другой стороной, но знаменитый слепец не написал «Илиады» и «Одиссеи». Что бы осталось от Троянской войны, поучительной во всех отношениях? Верно, память о ней жила бы в народе некоторое время. Но память имеет свойство терять очертания событий, и действительные события постепенно принимают или божественный характер, или обращаются в малозаметную сказочку для детей.
Поэтому, о афиняне, не пришло ли время подумать о том, как бы достойно отметить нашу победу в войне с мидянами? Война эта не была обычной. Речь шла о самом существовании нашего государства, каждого из нас в отдельности и наших потомков. Я не хочу распространяться дольше о предмете, хорошо вам известном. Я бросаю взгляд на клепсидру: она властно напоминает о тех минутах, которые неумолимо текут вместе с этими струйками воды…
Не настала ли пора достойно увенчать главу Афин? Разве не созрело время для того, чтобы подумать, как увековечить роль Афин – воистину гигантскую! – в той войне? И не только в войне, но и в просвещении. Если мы с вами согласны в том, что Афины есть кладезь мудрости и поэтической красоты и науки всей Эллады, то надо подумать и об этой стороне и донести до наших отдаленных потомков этот свет, исходящий от нашего великого города.
Уважаемый Фидий, чей высокий ум и талант вызывает у меня истинное восхищение, изложил свои мысли по этому поводу. Речь идет о превращении естественного постамента – Акрополя – в памятник доблестной славы Афин путем возведения на холме крупных сооружений и храма, который уже окрещен Парфеноном. И над вратами следует подумать, кои названы зодчим Мнезиклом «Пропилеями», и над статуей нашей покровительницы, божественной Афины-Паллады, воительницы и защитницы города. По замыслу Фидия эта статуя должна быть не только величественной, видимой с моря, подобно маяку, но и дорого́й. Ее следует соорудить из золота, слоновой кости и мрамора, то есть всего самого ценного, что имеет человечество в своем распоряжении…
Я снова гляжу на клепсидру, и она снова меня предупреждает. Обращаясь к вам с призывом об утверждении сего замечательного замысла, изложенного в подробностях Фидием, хочу сказать тем, которые справедливо считают каждый обол, но чрезмерно дотошно; Афины не такое уж бедное государство, чтобы не могло разрешить себе украсить Акрополь, где в старину стоял даже царский дворец. Давайте найдем деньги! Я уверен, в этом благородном деле нам помогут и наши союзники, и мы к ним должны послать депутации, наделив их соответствующими полномочиями.
О афиняне! Я молю богов, чтобы наделили нас умением и силой и помогли нам довести задуманное дело до конца!»
Перикл не сразу понял, кто же стоит перед ним. Будто расплывшееся по краям привидение. Нечто бесплотное, похожее на туман.
Понемногу туман сгущался, точно колеблемый ветерком, еле ощутимым. Сквозь странную пелену начали просвечивать знакомые черты. И только теперь – спустя несколько минут – Перикл узнал Евангела. Неужели мешали слезы? Слезы в глазах Перикла? Скорее всего – легкое головокружение, подобное тому, которое бывает в сильную ливийскую жару на южном берегу Средиземного моря…
– Евангел, ты?
– Да, я.
– Не узнал тебя. Где хозяйка?
– Она у изголовья Парада. Все время меняет уксусную примочку.
У Евангела в руке две объемистые книги. Он, как видно, явился для хозяйственного доклада. Здесь, в этом доме, так заведено: течение жизни идет своим чередом, если даже земля и небо поменяются своими местами. Дело – прежде всего. Словно у египтян – этих прирожденных чиновников, неутомимых деляг.
– Ты почему-то бледен, Евангел, – сказал Перикл.
– Это верно.
– Может, и ты болен?
– Нет, я здоров.
Перикл протирает глаза платком. Перикл жадно глотает воду…
– Зачем ты явился, Евангел?
– Для отчета.
– Какого отчета?
Что за вопрос?! Разумеется, для отчета, ведь он, Перикл, господин, а Евангел – его раб, его домоправитель. Ясно же, зачем явился Евангел!
– Да, да, вспомнил… – говорит Перикл. – Но почему ты такой бледный?.. Постой, постой, да у тебя губы дрожат…
Евангел наклоняется, чтобы налить себе воды.
– Да ты никак шатаешься?!
В самом деле, Евангел непрочно стоит на ногах. Может, выпил лишний фиал вина?.. Но он же не пьет! Он никогда лишнего не пьет. У Евангела голова точно чистая родниковая струя в горах. Так что же с ним такое? Он не в состоянии даже слова вымолвить…
– Что с тобою, Евангел?
Перикл берет рослого раба за плечи. Сажает его на скамью. А у самого – эта проклятая пелена на глазах. А у самого – эта слабость в ногах, в груди, в животе. Куриная, цыплячья слабость…
– Евангел, что с тобой?
И тут Евангел рывком выбрасывает голову и хватает ее обеими руками. Чтобы не оторвалась она вовсе. Чтобы осталась в руках, мозолистых и волосатых. И откуда-то, словно из-под земли, раздаются рыданья. Глухие. Нечеловеческие. Плач какого-то слоноподобного существа…
– Евангел, что это ты?
Перикл ничего не понимает. Почему плачет Евангел? Этого же не бывало никогда! Рабу незачем плакаться своему господину – это хорошо усвоил Евангел еще в детстве. А кручиниться по поводу каких-то хозяйственных неурядиц – тоже ни к чему: господин сам разберется. Это тоже усвоил Евангел. На протяжении всей своей жизни.
– Что случилось, Евангел?
Раб собирает все свои силы:
– Она закрыла… глаза…
– Кто?
– Моя младшая дочь.
– Зачем она это сделала?
– Она никогда их не откроет…
– Что же случилось, Евангел?
– Она умерла, господин мой.
– Кто?
– Моя дочь.
Вот теперь Перикл понимает: умерла!
– Она болела, господин.
– Чем?
– Все тем же: чумой.
– Она болела? Маленькая Эльпиника?
– Да.
– И она умерла?
– Да.
Периклу теперь совершенно ясно: умерла Эльпиника. Маленькая девочка. Десяти лет… Кажется, десяти.
– Одно горе к другому, Евангел.
– Да, господин.
– Гора, целая гора несчастья…
– Да, господин.
– Когда это случилось?
– В обед, господин. Она попросила любимых маслин. И не смогла… Она не смогла, господин.
– Что не смогла?
– Съесть, господин… Моя Эльпиника. Такая зубастенькая мышка. Я так ее называл…
Значит, несчастья вокруг! Одни несчастья. Умирают близкие, умирают дальние. Сестра умерла. Старшая. Ушли родственники в царство теней. И еще смерть. Совсем рядом… И все это за полгода… О, боги, доколе все это?!..
– Евангел, умерла Эльпиника?
– Да, господин.
И плачет, плачет Евангел горькими слезами… Не стесняясь их. Бессильный перед потерей. Совсем никчемный человек, если не смог помочь маленькой беззащитной Эльпинике.
– Брось наземь эти книги…
Евангел не слышит.
– Евангел!..
Раб подымает голову, на которой два больших, почти бычьих глаза. И слезы в этих глазах. Такие же чистые, как и у господина. Совсем чистые…
– Евангел, брось эти книги. Не до них!
Перикл налил вина в фиалы, взял себе, подал и ему и сказал:
– Евангел, мы можем помолчать?..
– Да.
И только сейчас Перикл обратил внимание на то, что на Евангеле черный плащ…
…Мнезикл сказал Фидию:
– Не взойдешь ли со мной на Акрополь?
– Зачем?
– Мне надо сказать несколько слов,
– А – здесь?
– Нет, только там.
И неутомимый Фидий ответил ему;
– Я готов.
Он это сказал своему другу, который на пятнадцать лет моложе его. Ибо таков был Фидий: для него важнее всего – умение, а уж потом – года и положение. Этот Мнезикл не построил еще чего-либо примечательного, но был замечен Периклом. И Перикл сказал Фидию:
– Смотри, этот юноша еще покажет себя.
– Он совсем же ученик.
– Знаю. Я говорю: он еще покажет себя. Посмотри его чертежи.
Перикл видел человека искусства как бы насквозь, точно сквозь стекло. Угадывал его знания. И оценивал его умение и трудолюбие. Особенно – последнее…
И вот Фидий направился к холму вместе с Мнезиклом. Пройдя агору́ и ступив на панафинейскую дорогу, Мнезикл указал:
– Вот дорога на Акрополь.
Фидий кивнул.
– Она останется дорогою и впредь…
Фидий укоротил шаг, осмотрелся вокруг, полюбовался холмом. Он согласился:
– Это так.
И они пошли дальше.
Вот они приближаются к западному краю Акрополя. Здесь кончается панафинейская дорога. Мнезикл говорит:
– Во все времена афиняне, а может быть, и их предки – пеласги – поднимались на холм по этой дороге…
– Наверное, так.
– Они не знали сюда другого пути…
И Мнезикл подождал, что скажет Фидий.
– Это так, – сказал Фидий.
– Стало быть, нет смысла прокладывать к Акрополю другой путь. Не надо растрачивать силы на то, что уже найдено и сделано самой природой, к тому же в лучшем виде.
Нельзя не согласиться с Мнезиклом…
Беседуя, они взошли на холм. И снова остановились на том самом месте, где край холма не обозначен явственно, но несомненно ощущается, где панафинейская дорога так удачно сопрягается с поверхностью холма.
– Там будут храмы? – спросил Мнезикл, указывая рукою на простирающуюся перед ними землю, поросшую сорной травой.
– Возможно.
– И различные изваяния?
– Возможно.
– Среди этих стен? – И Мнезикл мысленно прошелся по стенам Акрополя.
– Разумеется, – ответил Фидий.
– В таком случае… – И Мнезикл, отойдя на несколько шагов и просияв лицом, воскликнул: – В таком случае вот здесь, на этом месте, следует устроить вход!
Фидий спросил:
– Вход?
– Да. Ворота, достойно указующие на нечто. Вход, подготовляющий посетителя к величественному зрелищу. Наконец, укрепление, запирающее эту дорогу на вершине холма!
Фидий прошелся взад и вперед. Поднялся немного выше, снова вернулся на место. Поглядел на все четыре стороны света. И сказал:
– Ты говоришь – вход?
– Да. Пропилеи не совсем обычные: мощные и величественные. В них должна сочетаться сила Афин с их красотою. Поэзия и сила!
– Пропилеи, говоришь? – Фидий внимательно осмотрел всю местность, будто видел ее впервые, будто не участвовал в различных торжествах, когда толпы афинян с пением и плясками, украшенные венками, устремлялись сюда, на вершину Акрополя.
Мнезикл еще раз объяснил, в чем состоит его замысел. Фидий сказал:
– Если суждено построить нечто на этом холме, то Пропилеи будут первым сооружением.
И он обнял молодого зодчего.
– С сегодняшнего дня, – сказал он, – живи у меня и работай, думай о Пропилеях…
Сократ не вошел, а как бы вкатился в комнату, подобно мячу из воловьей шерсти, которым забавляются крестьянские дети. За последний год он стал чуть ниже, чуть толще, чуть лысоватее. И нос вздернулся еще повыше. Друзья называли его Толстеньким, Пузатеньким, Лысоватеньким. Многие завидовали ему. Одни – по-хорошему. Другие – всерьез. Завидовали его уму, его речистости, голосу сладкому, убедительности его речи. Недаром прекрасная и молоденькая Ксантиппа в двадцать лет предпочла этого сорокалетнего хрыча молоденьким франтам вроде Алкивиада.
Сократ был бос. Совсем бос. Но плащ на нем был отменный: из чистой, тонкорунной шерсти голубовато-синего цвета. Явился утешить своего друга. Но умел ли он утешать? И что значит – «утешить»? Сказать пустое слово? Дать медового пряника? Сказать «не горюй», когда умирают дети? Сказать «веселись», когда уходят близкие? Или «забудь», когда творится незабываемое? Нет, что значит «утешить»?
Сократ этого решительно не понимал.
Все в этом мире построено вроде бы рационально. Удобно для природы. Удобно для богов, ежели они все еще на Олимпе со времен Гомера. А человеку дан разум для понимания всего происходящего: во вселенной и в семье, на Востоке и на Западе, на Юге и на Севере, на агоре́, на Акрополе и на Керамике.
Владея столь блистательным сосудом, каким является голова, человек обязан несколько ослабить давление внешней среды на чувствительное вместилище различных переживаний. А вместилище это – душа. Нельзя терзать ее по всякому поводу. Надо понять, наконец, что душевная – невидимая – рана может оказаться во много крат опаснее телесной.
Поэтому животворная сила не в богах, а в самом человеке, обладающем ясным разумом и чистой душой.
Сократ может засвидетельствовать одно, притом совершенно достоверно: никогда не бывало, чтобы боги вмешались в земные дела в пользу страдающего человека. Скорее – наоборот. Если спорят, например, скототорговец и бедный ремесленник и если даже ремесленник прав, – то боги все равно на стороне скотов.
Дальше. Известно доподлинно, что человек умирает. А еще ранее того выяснилось, что он рождается. Следовательно, вполне определены начало и конец цепи. Середина же ее немножко туманна. Она туманна вследствие того, что жизнь слишком обременительна для большинства людей. Дело не только в рабах, которые даже не числятся в списках одушевленных предметов. Ведь и те, которые недалеко ушли от эвпатридов, от благородных и полублагородных, тоже очень часто живут трудной жизнью. Поэтому-то и слышишь вокруг: «Лучше бы не жить!», «Лучше бы вовсе не родиться!»
Сократ ходил по комнате, точно на агоре́ среди своих учеников. Привычно озирался, бросал короткие взгляды то вправо, то влево, словно желал убедиться, все ли его слышат?..
Одни упрямо взирают на звезды, на небо, полное тайн. Что они там ищут? И что они найдут в небесных сферах? Однако человеческий разум в угаре тщеславия и чувства собственного превосходства ищет ответы на свои вопросы. Иными словами: сам себе загадывает загадки и сам пытается отыскать и ответы. Но тщетно!
Между тем здесь, на земле, уйма неустроенного, уйма загадочного. Возьмем хотя бы смерть. Зачем она? Затем, чтобы убивать уже созданное и прекрасное? В самом деле, зачем? Мы не можем ответить на это. Противоречие между жизнью и смертью – явное. Но тот, кто верит в жизнь, должен поверить и в смерть. Поверить – и примириться с нею.
Невозможно утешить человека! Но можно и должно, чтобы он твердо уяснил себе: что есть жизнь и что есть смерть. Когда человек разберется в этом, в сущности противоречия между этими явлениями и в единстве их – ибо одно немыслимо без другого, – тогда он найдет то самое утешение, которое поможет ему жить и дальше, продолжая род человеческий…
Перикл, превозмогая гнетущую боль в плечах, спросил его:
– Во имя чего продолжая?..
Сократ стал против него.
– Как во имя чего? – сказал он. – А жизнь? Разве это не достойная цель?
Перикл сгорбился. Выдавил из себя:
– Не знаю.
– Это говоришь ты, о Перикл?! – Сократ подбоченился. – Может быть, я ослышался?
– Нет, не ослышался. Но ты-то сам только что говорил о бремени жизни.
– Верно, говорил.
– Стало быть, незачем жить.
– Это не так! Жизнь, само собой разумеется, чрезмерно усугублена всяческими неудобствами. Прямо-таки противна порой. Но что с того? Разве нельзя ее совершенствовать? И не в нашей ли это воле?
– Совершенствование?
– Да.
– Не в нашей! Ты, Сократ, упускаешь из виду силу высокую, божественную.
Философ смешно хмыкнул:
– При чем божества? Мы говорим о делах земных – афинских, лакедемонских, милетских, родосских. А боги там, в тех сферах! – Сократ поднял руку кверху. Жирненький палец его так и лоснился, так и сиял.
– Это неверно, Сократ.
– Я делаю различие между этим и тем, – Сократ указал на пол – землю и на потолок – небо. – Здесь, – философ топнул босой ногою, – вот здесь человек призван проделать труд воистину божественный, а именно: совершенствовать жизнь и самого себя. Пока человек блуждает во тьме мироздания, не пытаясь познать самого себя и через это познание совершенствовать жизнь, – все суета и все тщета!
Перикл попросил философа еще раз повторить сказанное, дабы проследить течение его мысли. А потом собрался с силами и сказал:
– О Сократ, у тебя острый и пытливый ум! Он видит далеко и без пары глаз. Но что он видит на земле? Одну бренность? Или главным образом бренность? И в то же время ты призываешь к жизни, отграниченной трагедией смерти… Как соразмерить и как примирить жизнь на этой земле?
– Все в диалектике! Только она способна примирить это кажущееся противоречие.
– И это принесет успокоение?
– Разуму – да.
– А душе?
Сократ колебался: принесет или не принесет? И ответил следующим образом:
– Разум, воистину освещенный правдой, способен принести успокоение самой горячей и мятущейся душе. Меня спросили на агоре́: что есть душа и не противно ли ее природе главенство телесного, проповедуемое многими философами, особенно родосцами? Что выше души? – спросили меня.
– Что же ты ответил, Сократ?
– Разум выше души. Подобно тому как родители выше, смышленее своих малолетних детей, так и разум управляет душой! А без этого невозможно признать ни примат духовного, ни примат телесного, о котором идут горячие непрекращающиеся споры…
Сократ посмотрел на Перикла. И не мог продолжать спор. Где Перикл? Здесь присутствовала только тень его…
– Выше голову, Перикл! Что с тобой?
И донеслось, словно из подземелья:
– Пропало все… Пропало все…
…Обличали благородные и богатые граждане Афин.
Приверженцы Кимона, оказавшись без своего вождя, как бы удвоили натиск против демократов, и в особенности против Перикла. Этим они как бы возмещали силу отсутствующего Кимона.
Лакедемоний был непреклонен. Пириламп твердо держал его сторону. Многие купцы, разбогатевшие на работорговле и на торговле скотом, всячески ободряли исконных эвпатридов. В Народном собрании они держались вместе, как одно целое. Это придавало им духу и, как им казалось, внушало врагам серьезное беспокойство.
Некий Полидор, сын Неандра, торговавший овцами и кипрскими сладостями, выступил с обвинениями против Перикла, Он сказал следующее:
«Афиняне! Я, как и все, прекрасно понимал досточтимого Кимона, когда тот раздавал народу плоды из своих садов или злаки со своих полей. Мы знаем, как был он щедр на подарки: едва ли найдется бедный афинянин, который не получил бы из его рук хотя бы обол. Нет, не ищите, ибо такого не найдете!
Я хочу обратить ваше внимание на то, что Кимон был щедр и что раздавал именно свои, а не чужие, не государственные деньги. По-моему, я выражаюсь достаточно ясно, и вы понимаете, о чем идет речь…
Кимона нет с нами. И что же мы видим?
Чтобы не ударить лицом в грязь, стратег Перикл по своему усмотрению тратит деньги из нашей казны. Более того: он запустил руку и в союзническую казну, вызывая подозрительность союзников в отношении намерения Афин.
Сегодня вы слышали собственными ушами, что стратег предлагает еще одну благотворительность: ввести теорикон – выдавать неимущим деньги для посещения Одеона в дни празднеств. Это щедрость? Да, несомненно, щедрость, и никак иначе не назовешь. Доволен ли народ этой мерою Перикла? Да, доволен. Ибо получает деньги, чтобы посещать Одеон.
Только обратите внимание: Перикл раздает деньги государственные, опустошая союзническую казну! Слышите?!
В одной пьесе безвестного для вас комедиографа совсем недавно довелось мне прочесть такие строки:
Он был очень добр и, руку свою запустив В широкий чужой карман, одаривал Люд, в надежде любовь обрести…Я не знаю, имел ли автор в виду Перикла, однако из головы нейдет именно его имя, когда читаешь эти строки.
Так обстоит дело с щедротами Перикла.
Теперь судите сами: есть ли разница между Периклом и Кимоном? Есть ли разница между золотом собственным и казенным? По-моему, она есть, и к тому же она весьма существенна.
Щедрый человек поступил бы так, как поступал Кимон: раздавал бы бедным собственное золото, а не государственное. Я разрешу себе процитировать еще одни стихи, которые не могут не понравиться вам своей прямотой и правдивостью. Они звучат так:
Казна чужая, словно сердце чужое: лежит, Алчные взоры к себе привлекая, и прилив Доброты вызывает, и щедрость в сердце нещедром…Судите сами, о афиняне: сколь добр этот человек на чужой счет и истинная ли это доброта? Нас сегодня просят ввести теорикон: дескать, пусть веселится народ. А завтра нас спросят: «Чья это щедрость?» Ответ же готов сегодня: «Это – щедрость Перикла!» Так иные государственные мужи Афин зарабатывают признание в народе. Судите сами, о афиняне: честно ли они поступают?»
Иппоник, богатый златом и садами, подал свой голос, говоря:
«Перикл чрезмерно испытывает долготерпение Народного собрания и всех афинян, В своей ненависти к благородному Кимону он решился на прямой подкуп государственных чиновников из тайного желания обрести в них могучую поддержку своим честолюбивым замыслам.
Я напомню вам нечто: еще не так давно мы установили плату для судей, пританов и других чиновников. Мы увеличили плату морякам, мы прибавили государственное содержание вдовам погибших на войне и сиротам. И все это по настоянию Перикла, по настоянию о д н о г о человека! Не очень ли все это показательно для нашей «демократии», над которой измываются наши комики? Куда дальше идти?!
Это та самая демократия и это тот самый демократ, которые призваны бороться с олигархией, которые любят обличать нас в пристрастии к олигархии! Можно подумать, что не было у нас ни Писистрата, ни Фемистокла, ни Кимона, ни Эфиальта – людей разных по своему складу и по своим взглядам, но сделавших для нашего государства и народа очень и очень многое…
Сегодня от нас требуют платы за чужое веселье. Я спрашиваю вас, о афиняне: что еще потребуют от нас завтра?»
С о ф о к л. Аспазия, жизнь, если посмотреть на нее открытыми глазами, странная и призрачная вещь…
А с п а з и я. И ты требуешь, чтобы я открыла глаза, чтобы совершила то, что превыше моих сил? Этого ты требуешь в то время, как рядом с нами умирают люди? А сын мой родной далеко от меня и тоже болен…
С о ф о к л. Я не требую. Я взываю. Так велит мой долг – долг твоего друга, друга твоего Перикла. Если бы я был постарше, я просто приказал бы вам…
А с п а з и я. Что бы ты приказал?
С о ф о к л. Не много: жить, чтобы жить.
А с п а з и я. Жить, чтобы жить?
С о ф о к л. Да.
А с п а з и я. Разве это не много?
С о ф о к л. Самая малость из того, что даровано нам богами… О Аспазия, ежемгновенно по всей земле разыгрывается тысяча трагедий, которых не придумал бы даже покойный Эсхил. Нет фантазии, которая смогла бы превзойти эти трагедии – столь обычные в жизни и часто столь непостижимые! Человек, рожденный от человека, в этих условиях должен взять себя в руки, а иначе прервется род человеческий. А еще, Аспазия, учти: на руках твоих Перикл. Это муж – сильный, ве-
ликий. Но за ним нужен глаз, как за сыном. Умерь свои муки, о Аспазия, положись на волю богов…
А с п а з и я. С тех пор как создана женщина, а точнее – мать, не стало богов, которые могли бы повелевать ее чувствами. Скажи мне, Софокл, что предложишь ты взамен моего сына, если с ним случится наихудшее? Что делать мне тогда?
С о ф о к л. Жить! Жить! Если даже померкнет солнце!
А с п а з и я. Оно померкнет – вместе с ним.
С о ф о к л. И тогда осветить мир своим сердцем! Другого пути боги не придумали…
А с п а з и я. Ты сказал, Софокл, что в мире ежеминутно разыгрываются трагедии…
С о ф о к л. Тысячи!
А с п а з и я. Но не только трагедии… Ты забываешь о комедиях…
С о ф о к л. Это верно. И комедии – тоже.
А с п а з и я. Не кажется ли, что на земле уж очень мирно уживаются комедии и трагедии?
С о ф о к л. В этом и вся странность жизни!
А с п а з и я. И ты предлагаешь обратиться к комедии? Утешить свою душу каким-либо пустопорожним действием? И это в то время, когда горит дом и рушатся стропила?
С о ф о к л (после долгой паузы). Я бессилен, Аспазия. Я думал, что умею понимать трагедии. Но чувствую свое ничтожество, когда разыгрывается истинная трагедия. Одна из тысяч…
…Вот слова Перикла, сказанные им в ответ на обвинения Полидора, сына Неандра, и Иппоника:
«Афиняне! Я не буду отвечать на все, что выдвинуто здесь против меня. Это для меня не ново. И вы все это слыхали не раз. Так же, как и мои ответы. Я лишь повторю: никогда, я никогда не преследовал никого, кто не сходился со мною в убеждениях! Я сам просил вернуть Кимона в Афины. А изгонял его при посредстве остракизма, как известно, вовсе не я. Но не будем об этом уже сказанном и пересказанном. Клепсидра неумолима, и она напоминает о том небольшом времени, отпущенном богами, в которое мы должны успеть проделать очень и очень многое…
…Я никого не подкупаю в Афинах! Ибо сам ежечасно чувствую себя под судом тысяч и тысяч граждан, под недреманным оком, неподкупным разумом тех, кто следит за мною и за всеми вами. И я думаю о том часе, когда народный суд – ваш суд! – воздаст должное и мне и, может быть, потребует сойти с этой трибуны, чтобы больше никогда не возвращаться мне на нее. Нет, я слишком немощен, я слишком одинок, чтобы подкупить целый народ!..
…Есть высшая радость у человека. Не тогда, когда он спит. Это делают все животные. Не тогда, когда он ест. Наслаждается пищей все живое. И любовью никого не удивишь. Однако человек более всего преображается и более всего приближается к богам, когда находится он в Одеоне, когда окунается он в мысли и чувства действующих в спектакле актеров.
…Поэтому я и прошу вас об утверждении теорикона – небольшой платы неимущим, – дабы и они могли наслаждаться самой высокой сладостью земной жизни – искусством драматургов и актеров…»
Книга шестая
Пианопсио́н на исходе. Теплая и грустная осень. Особенно тепло и грустно здесь, на берегу Кефиса, бесшумно несущего свои воды. Навевают грусть и молодые кипарисы и зеленые кустарники – вечные стражи могил. А синее небо над острыми верхами кипарисов, недосягаемое для всего живого, напоминает о нескончаемой жизни – прекрасной, как прекрасна эта синь. Такова смерть; она любит уединение, тишину и грусть. А еще и выси поднебесные. Они как бы говорят: кончилась жизнь земная, и над могилами нечто – чудесное и высокое.
Прежде Перикл ведал один путь: из дому до агоры́, до Народного собрания, Ареопага и Акрополя. А теперь до конца познает дорогу сюда, в район Керамика, где свежие могилы ждут его, как больные врачевателя…
Все предсказывали в один голос: «Аспазия не выдержит. Сломается, как дерево под натиском Борея». Но выстояла она. Удержалась на ногах! Не поддалась горю настолько, чтобы самой сойти в могилу и увлечь за собою и Перикла.
Вот лежат они: сестра, брат, Парал, Ксантипп. Под землей. На семь локтей под ее поверхностью. И плиты над ними.
Согнулись, сгорбились над могилами Перикл и Аспазия. Черные от траура. Черные от горя. А верный Сократ все говорит, говорит, говорит. Тяжело с ним. А без него – еще тяжелее. Пусть же говорит этот милый толстячок, этот плешивенький крепыш, пузатенький обладатель прекрасной Ксантиппы, которой едва минуло двадцать…
– Ты и в эти черные часы с нами, милый Сократ, – говорит Аспазия. – Хорошо, что ты с нами…
– Я всегда буду с вами.
– И в наш смертный час?
Сократ головой и руками подает знак: нет!
– Почему же, Сократ?
Аспазия поворачивается к нему. А Перикл так и остается недвижимым на своем камне. Все слышит. Но смотрит он на землю – каменистую, рыжеватую и, наверное, сухую во чреве своем…
– Почему же, Сократ?
Философ совершенно уверен – почему. Это же ясно! Неужели требуются пояснения? Если угодно – пожалуйста! И он говорит:
– Я умру раньше вас.
Перикл резко поворачивается к нему. На нем черная войлочная шапка. И черный плащ на нем. Бледное чело. Поблекшие глаза. Выцветшие губы. Немного синюшные.
– Послушай, – медленно и тихо говорит Перикл, – послушай, Сократ: почему ты должен умереть раньше нас? Разве ты старше? Тебе же всего сорок, и ты во цвете.
– А они? – Сократ кивает на могилы.
– Что – они?
– Года их не вышли. И здоровье было хорошим. Если бы не эта чума…
– Это правда, – соглашается Перикл, – в наше время трудно сказать, кто раньше уйдет в царство теней. Я всегда полагал, что война – не для людей. Она – для правителей.
Кресилай высек из мрамора бесподобные стелы для Парала и Ксантиппа. Парал изображен юным, каким и был на самом деле. Он протягивает руки к матери. Ему не хочется в царство теней. Кресилай знает, что́ делает: он не верит в подземное бытие, он не верит в бессмертие души. Парал по наитию догадывается об этом – не желает расставаться с матерью. И каменная Аспазия похожа на живую Аспазию: как любая мать на Мать. Она протягивает руки к сыну. Как бы умоляет его: «Парал, не уходи!» Но нечто жестокое, неотвратимое увлекает Парала в трясину, откуда нет пути назад…
Что же самое примечательное в этой стеле? Его глаза. И ее глаза. Две пары глаз, влюбленных друг в друга, жаждущих друг друга. И свет во глубине этих глаз, струящийся как бы из живой души. Когда смотришь на стелу, в которой пять локтей в вышину и четыре в ширину, то не думаешь, что это пентеликонский мрамор, но живая субстанция, излучающая тепло, присущее человеческому сердцу. Такова сила резца в руках Кресилая!
А Ксантипп? Разве его соответствие живому образу не есть результат сопереживания ваятеля?.. Вот Ксантипп, как при жизни, тянется к фиалу. Но этот фиал наполнен до краев эликсиром жизни, а не соком, вызывающим буйство. И в главах у Ксантиппа тот несчастный блеск, который у ягненка перед закланием. Это свет человека обреченного, родившегося только для мук. И за блеском глаз – пустота. Та самая пустота, которой пронизан каждый атом этого существа.
Кресилай подметил главное. Он отразил пропащую жизнь. Но не оскорбил ее. Ибо это не входит в обязанность ваятеля, любящего жизнь ради жизни. Оскорбление подобного себе – есть самое унизительное занятие в мире. И нет наказания более жестокого, чем то, которым надо б покарать унижающего себе подобных…
– Знаешь? – говорит Сократ, словно о деле совершенно простом и понятном, а главное – веселом. – Если мне скажут: убей себя, но не навлекай позора на главу свою, – я выпью цикуту, как фиал с вином.
Перикл оглядел с головы до ног этого толстячка, всегда веселого, но всегда думающего, и сказал:
– Ты и цикута – вещи несовместимые.
– И все-таки…
– Зачем тебе пить цикуту?
– Я это сказал к слову.
– Не надо говорить даже к слову. Человеку дана жизнь до поры, но вовсе не для того, чтобы легко расставался он с нею.
– Это то, о чем я все время твержу в беседах с тобой. Но что это значит – до поры?
– Пока он нужен.
– Кому?
Перикл чуть было не сказал «народу». Но вовремя спохватился. Ибо такой ответ показался ему банальным, употребительным только с трибуны Народного собрания. Здесь, под кипарисами, в могильной тиши, это слово прозвучало бы подобно приговору какого-либо притана на агоре́. Нет, здесь требовалось слово и более точное и более душевное. Но какое? Кому нужен человек? Семье? Это верно. Но это все равно что сказать: воробей необходим воробушкам…
Перикл сказал, подумавши:
– Может быть, своему делу?
Сократ вскинул брови. Перикл обратился к примеру:
– Скажем так: кому нужен Фидий?
– Делу? – спросил Сократ.
– Вот именно, делу своему нужен.
– Допустим: Фидий – делу, Перикл – тоже делу. А этот самый Талфабий, торгующий печеными лепешками на агоре́? Кому нужен Талфабий с его мелким плутовством? Гермесу? Или кому-либо другому на Олимпе? Или тоже своему делу на земле?
– Я понимаю «свое дело» расширительно.
Философ спросил:
– Что же включает в себя это понятие?
– Всю совокупность того, что мы называем Жизнью. В высоком понимании этого слова. Ты – философ, тебе это легче объяснить, чем мне. – Перикл обратился к Аспазии: – Не так ли?
Она не ответила. Ее губы шептали молитву, обращенную к богам. Спустя некоторое время она прервала их разговор:
– Я простила бы Ксантиппу все – лишь бы он жил! Я не питаю к нему ничего, кроме добрых чувств. Он был враг себе, а не нам. Мне очень его жаль…
Мужчины переглянулись. Сократ сказал очень тихо:
– Я, кажется, начинаю постигать смысл нашей жизни: спорить, пока живы, и прощать друг другу п о с л е – среди этих кипарисов.
Перикл прибавил к словам Сократа:
– Спорить, но щадить. Я, кажется, начинаю умнеть. В этом повинны они.
И он указал на две стелы: юнца, не успевшего постичь жизнь, и жизнелюбца, не сумевшего постичь себя самого…
Спорили жарко. Это были счастливейшие мгновения в жизни Перикла. Он добрел, он проникался любовью, малейшая черствость отступала назад. Ни одно сражение не казалось ему столь захватывающим, как эти беседы о будущих работах на Акрополе. Разговоры на закате – излюбленное занятие погруженного в различные государственные дела стратега. Вечера он проводил дома, возлежа и прохлаждаясь водою. Больше слушал, чем говорил. А говорил для того, чтобы подвигнуть собеседника на резкое суждение, чтобы вызвать на горячность, на возражение. Излагая свои мысли, он обычно заканчивал их словами: «А теперь – возражай». Справедливо полагая, что никакой спор невозможен без двух противоположных мнений, порою сам выдвигал противоположное своему мнению, как бы споря с самим собою. Аспазию особенно любил за зрелость и определенность суждений. Она умела отстаивать свои взгляды, уличать других в неправоте. При этом не имело значения, чьи слова она оспаривает. Не потому ли так домогались дружбы с нею виднейшие люди Афин, а мидиец Кир Младший назвал одну из своих жен Аспазией?..
Фидий говорил, какой следует возвести храм на Акрополе. Прежде там стоял скромный храм. Еще до персов. Звался он Гекатомпедоном. Имел он сто локтей в ширину и столько же в длину. Новый же храм должен быть удивительным по внешнему виду и по своим размерам. Глядя на Акрополь, человек прежде всего должен видеть храм, как бы вырастающий из скалы, сияющий мраморными гранями. Но дело здесь не столько в мраморе, не столько в украшениях, сколько в распределении масс, в пропорциях.
– Представим себе, – говорил Фидий, – что мы задумали нечто длинное, широкое, украшенное многими изваяниями, но приземистое. Мы потеряли бы пропорции! А теперь вообразим: сооружение длинное, неширокое, но высокое. Что же тогда? Разве не будет оно чужеродным на прекрасном, плато Акрополя?
Перикл спросил:
– Вызывает ли какие-либо сомнения проект Пропилей?
– Никаких!
– Когда будут закончены чертежи?
– Они готовы.
– Ты их уже видел?
– Я вижу их каждодневно. Я за них спокоен.
Перикл спросил Фидия: кому по справедливости можно было бы поручить строительство храма на Акрополе? Ваятель Фидий заметил, что, если память не изменяет ему, храм получил наименование Парфенона. Не следует ли утвердить его? На что Перикл ответил, что оно точно определяет замысел: навеки запечатлеть в камне милость Девы Афины. Но что последнее слово за Народным собранием, которое выскажется после рассмотрения чертежей.
Фидий запротестовал:
– Это невозможно! Зодчие должны знать, что это будет за храм и кому он посвящается.
– Верно, – согласился Перикл. И, подумавши, продолжал: – Храм Девы Афины должен воплощать в себе величие ее, мудрость и доброту ее. Назови его Парфенон в согласии с изложенным замыслом.
Требовалось также решить, кто возьмется за столь ответственное, можно сказать – бессмертное дело? Кто?!
Перебрали несколько имен. Против одних возражал Перикл, против других – Фидий.
– Опыт и талант – вот два качества, совершенно необходимых в нашем случае…
Перикл добавил:
– Как и во всех других.
Но кто же этот опытнейший и талантливейший? Может быть, объединить двух, трех или пятерых зодчих? Перикл улыбнулся. Эта мысль ему явно понравилась. И он сказал:
– Почему бы и нет?
В стратегионе тоже обсуждалось это дело. Одни сказали: Парфенон должен соорудить один человек – по мыслям своим и вдохновению. Другие; это сооружение, равного которому не будет на земле, следует поручить двум равным по способности зодчим. Поскольку ни одно государственное дело, ставшее достоянием трех, никогда не остается в четырех стенах, вскоре слухи о большом строительстве на Акрополе пошли по городу. На агоре́ разгорелись горячие споры. Каждый называл имя своего любимого зодчего и всячески расхваливал его на все лады. В Народном собрании обсуждение тоже приняло бурный характер. Одни – за одного зодчего, другие – за другого, третьи – за третьего. Не осталось в Афинах ни одной семьи, которая не приняла бы участие в этом. Перикл сказал по этому поводу:
– Афины строил не один человек. И Акрополь украсит не один, но многие, весь народ афинский. А посему нет ничего странного в том, что всяк желает подать совет. Дело государственных мужей – выслушать всех и принять неторопливое решение. И никто не должен иметь повода, чтобы сказать с обидою: «Они решили, не узнав моего мнения».
Он сидел один. Со своими сыновьями. Совсем один. День был жаркий. Солнце припекало, так, как может припекать только здесь, в Аттике, да, может быть, в Ливии. Такую жару с трудом переносят даже жители пустыни – верблюды.
А ему – все одно, жарко или холодно, дождь или ветер. Его место здесь, у могил. Какая-то сила оторвала его от мира сего. Не убила, не лишила зрения или слуха. Но закинула куда-то далеко. И теперь ему все равно. За ним придут и уведут домой. Рабы возьмут его под руки, хотя он полон сил, хотя печень его здравствует.
И, когда из-за кипарисового ствола показалось лицо молодого человека, Перикл даже не удивился. И не удивился, но не узнал его.
А тот смотрел будто трусоватый сатир, не смея выйти из-за укрытия. Что он – испугался?
– Кто ты? – спросил Перикл бесстрастно: ему было все равно – кто это: сатир или человек, злодей или друг.
– Агенор, – ответили из-за ствола. – Я приходил к тебе. Помнишь?
– Какой Агенор?
Это трудно объяснить. В самом деле, какой Агенор? И что ему надо на кладбище, где только мертвые? Даже те, которые живые, тоже будто мертвые. За примером никуда ходить не надо: вот он, Перикл!
– Я был у тебя дома, и мы спорили с тобой, – объяснил Агенор.
– Знаю, – сказал Перикл. – Но почему ты прячешься за деревом?
Молодой человек вышел из-за укрытия. Присел на камень, который рядом с могилами и который со временем превратится в стелу. Перикл тяжело уставился в землю.
– Это твои? – Агенор кивнул на могилы.
– Да, мои.
– Они умерли от чумы.
– Кто тебе сказал?
– Сейчас все умирают от чумы.
Перикл вскинул глаза на молодого человека: он как будто бы похудел, глаза по-прежнему горели огнем, а щеки по-прежнему бледны.
– И ты очень горюешь? – спросил Агенор таким тоном, будто речь шла об облаках, плывущих по небу.
Перикла задели эти слова: что за вопрос? И как он высказан? Собственно говоря, что надо здесь этому Агенору? Почему бродит по кладбищу? Или ищет повод для нового спора?
– Понимаю, – продолжал Агенор, – ты очень горюешь. Наверное, так же, как и я. Вон там, – молодой человек указал в сторону реки, – лежат мои родители. Их тоже скосила чума…
– Это плохо, – роняет Перикл.
– Они мучились долго. Лучше бы мне умереть! Они жалели меня. Отец повторял: «Ты останешься сиротой».
– Это плохо, – говорит Перикл.
– Я похоронил их с соблюдением обряда. Сейчас никому нет дела до чужого горя. Слезы лились в меру. Причитали в меру. А когда засыпали землей, все с облегчением вздохнули: дескать, можно и по домам!
– Это очень плохо…
– Когда я воротился домой, мне показалось, что это чужие стены. Они были моими, когда среди них дышали родители. А теперь стали совсем чужими. Кладбище стало родней и ближе…
– Помнится, ты ничего не говорил о своих.
– Возможно. Мы мало думаем о них, пока они живы. А потом кусаем себе локти…
– Это очень плохо…
– Теперь я хожу сюда каждый день. На могилах пусто. Там нет ни стел, ни простых надписей. Земля – и все! Опаленная зноем… Такая сыпучая. Словом, земля Аттики.
– И ты горюешь?
– Очень. Как и ты. – И жестко добавил: – Ты сильно изменился. Сначала мне показалось, что это не ты, а твоя тень. Признаться, я рад этому.
– Чему же ты рад, Агенор?
– Тому, что и вам, сильным мира сего, когда-нибудь да приходится горевать. А раньше мне казалось, что вы только веселитесь, правите народом и наслаждаетесь всеми благами жизни. Я не думал о том, что беда не проходит и мимо вас.
Перикл опустил глаза, крепко сплел пальцы рук. До белизны в суставах. До хруста в них. Он сказал себе; «Откуда такая жестокость в этом молодом человеке?» И не только подумал, но и повторил вслух этот вопрос. Агенор встрепенулся, словно подранок.
– Откуда?! – вскричал он немного визгливо. – Я скажу, откуда: от вас!
– Ты имеешь в виду…
– Да, имею! Тебя и твоих друзей, которые годами понукают народом…
– Как так – понукают? – Перикл даже покраснел от смущения.
– Очень просто: словно волами! И при этом ссылаются на Эфиальта, Фемистокла, Солона. Вы думаете, что мы ничего не видим и ничего не понимаем?
Перикл медленно переключался на эту полемику с молодым человеком. Его мысли поворачивались от мертвых к живым. И это благодаря Агенору…
– Вы думаете, что мы слепые и немые?! – вопрошал Агенор. – Вы с удовольствием подсиживали Кимона, обзывая его олигархом. Зачем? Только для того, чтобы самим взгромоздиться на шею народа. Демократы! Демократы! Знаем мы вас!
– Откуда в тебе такая злоба, Агенор?
– Все по вашей же милости! Мой отец жил в твое правление! И я живу в твое правление! Да ты бог, что ли? А ежели бог, то место твое на Олимпе, а не здесь, среди простых смертных!
Перикл впервые в жизни, кажется, дрогнул. Не то чтобы испугался за себя. Столкновение с необузданной страстью всегда его смущало. А может быть, рассудок помутнел у Агенора? В самом деле, откуда такая злоба, если человек не тронулся и пребывает в своем уме?
Агенор все больше и больше закипал, подобно воде в железном сосуде:
– Ответь мне, Перикл: что бы ты сказал, если бы тобой помыкал некий демократ Перикл, которому сто лет и все сто лет правит тобой? Сидит вот здесь, на твоей шее, и помыкает тобою? Что ты сказал бы?
Перикл – ни слова. Весь он – внимание. Поворотился к молодому человеку и, как бывало прежде, слегка выставил грудь вперед.
– Молчишь, Перикл?! А я отвечу за тебя: собрал бы вокруг себя побольше народу. Ты сделался бы вождем горячим весьма. Ты взялся бы за оружие, чтобы свергнуть ненавистного Перикла, который правит Периклом вот уже сто лет? Не правда ли смешно: Перикл против Перикла?
– Возможно, – проговорил Перикл.
– Что возможно? Перикл против Перикла? Я хочу спросить тебя: неужели не надоело тебе править?
Что ответить?
– Сорок лет власти? Разве этого мало? – продолжал сердитый Агенор. – Я требую ответа на мой вопрос: тебе не наскучило править?
Агенор встает. Он делает шаг вперед. Словно вот-вот кинется врукопашную.
Перикл властно указывает ему на камень-скамью. Приказывает без слов. И Агенор пятится. Он подчиняется. Искры у него из глаз, словно молнии гнева. Но подчиняется. Покорно садится на место…
– Ты все смешал в одну кучу, – говорит Перикл. – Ты окончательно запутал дело. И не можешь выбраться из него, как из критского ла€иринта. Ты знаешь, что такое лабиринт?
– Слыхал!
– А сам никогда не попадая в него?
Агенор отрицательно мотнул головой.
– Неправда! Ты в самом страшном лабиринте. Вот в это самое мгновение. Сам того не подозревая.
– Я? В лабиринте? – вскричал Агенор.
– Да, из которого нет выхода, если не прозреешь, если не обретешь рассудка. Пойми это. Подумай над этим. Нет лабиринта худшего, чем лабиринт из заблуждений!
Молодой человек усмехнулся. Этаким кривым, презрительным, крайне презрительным смешком:
– Ты – в рассудке. Как всегда! А я – в лабиринте. С помутневшим рассудком. Впрочем, как и все твои враги: они всегда в лабиринте!
– Потому что ты – неправ.
– Я так и думал.
– Злоба застилает тебе глаза, Агенор.
– Разумеется!
– Одно заблуждение порождает другое.
– И никак иначе!
– Только человек, не верящий в силы народные…
– Одним словом, все мы – сумасшедшие! – ехидно сказал молодой человек.
– Только олигархи, презирающие демократию…
– Словом, все твои враги – сумасшедшие. Один ты, Перикл, в своем уме, в здравом рассудке. Непогрешимый Перикл!
– Это уже не спор, – сказал Перикл.
– И к чему он, если ты всегда прав?
– Я полагаю, что мы должны слушать друг друга, если пытаемся постичь истину. Слушать друг друга…
– Вот на это ты мастер! Но что же на деле? Ты слушаешь и тихонечко гнешь свое! Только свое! И это называется – слушаешь? Нет, так не слушают! Так измываются изощренные палачи!.. У которых пальцы на вид не цепкие и кулаки вроде бы невесомые. Будто из ваты. А то, что булыжник – внутри ваты, это никого не касается… И вот, уважаемый демократ, получается так: сидишь себе в Народном собрании, выступаешь с трибуны, и клепсидра служит только тебе.
Перикл раздражается, но быстро берет себя в руки. Довольно трудно совладать с собою, когда речь идет о демократии, когда враги пытаются оклеветать ее… Он говорит:
– Я отвечу тебе по всей совести своей, как достоин того полноправный гражданин Афин. Если под словом демократия мы признаем власть народа, если демосу отводим роль главного судьи во всех государственных делах, то это и есть демократия. Если стратег чутко прислушивается к голосу демоса и в любой час готов выполнить волю его, то такой стратег и есть подлинный демократ. Ты прав: я сорок лет служил Афинам. Что приобрел я за это время? Седины? Раны? Болезни? Несчастья в семье? А еще что? Неужели же лишний клочок земли сверх родового участка? Неужели же лишний обол из государственной казны? Неужели же превысил свою власть, чтобы преследовать своих политических противников? Кого приговорил к казни? Кого обидел горькой, незаслуженной обидой? Кого? И когда меня, стратега, – может быть, первого, – призвали на суд, что сказал я? Разве связал я по рукам судей? Разве послал я стражу, чтобы разогнать их? Нет, я покорно подчинился, ибо я – демократ и признаю всей душой верховное судейство и верховную власть народа. И пусть не укоряют меня тем, что остался жив, что живу на воле, а не в темнице! Я скажу, что случилось на суде: я был невиновен, я был чист! Это было доказано! Именно это, а не мои слезы сыграли роль, как это утверждают недруги. Афинский суд не Одеон, где трагик выжимает слезу у зрителя, чтобы заслужить одобрение. Если ты способен здраво мыслить, подумай над моими словами.
Перикл поднялся, чтобы удалиться. Агенор сказал так, как говорят только заклятому врагу:
– Перикл, ты красноречив. Это известно давно. Но запомни мои слова: я убью тебя, если тебя снова призовут к власти. Мне не нужен демократ, царствующий, подобно фараонам!
Перикл засмеялся. И он сам подивился тому, что способен смеяться. Он сказал:
– Тебе не придется заносить нож, ибо никто не призовет меня к власти. Даже если этого пожелают сами властители Олимпа.
Агенор скрылся. И вскоре из тенистой чащи послышался не то хохот, не то рыданье. Ибо голос принадлежал получеловеку, полуживотному. Но это не был кентавр, которые перевелись в Аттике с тех пор, как боги перестали спускаться на землю из заоблачного Олимпа.
Перикл медленно удалился, позабыв на мгновение о дорогих могилах…
…Иктин предполагал остановить свой выбор на стиле, известном под названием дорического. Он рассуждал так: поскольку Парфенон должен быть одновременно и храмом и памятником Славы, требуется строгость. Строгость, говорил он, во всем: в пропорциях, отдельных деталях, иными словами – в целом и в частностях. Это есть памятник Афинам. Цельное, почти аскетическое по своим формам сооружение. Соответствующее этой голой скале, опоясанной крепостной стеною. Пропилеи, которые строятся так медленно, связаны с храмом Ники, подобно тому как глаза и брови с переносицей и самим носом. Но они не господствуют в Акрополе. Главою этой замечательной скалы, несомненно, будет Парфенон. Разве не согласуется логикой строгость будущего храма со строгостью холма?
На это возражал Калликрат. У него был уже опыт строительства столь строгого по форме сооружения, как Длинные Стены, протянувшиеся от Афин до Пирея. Он знал, как никто другой, что есть стиль строгий, во всех отношениях гармоничный скупостью линий, деталей, углов, граней. Но он показал и пример легкого, воистину небесного сооружения, каким явился храм Ники Аптерос. Этот храм связан с Пропилеями, но существует также и сам по себе. Дабы легкость его воспринималась более отчетливо, Калликрат позаимствовал много деталей из ионического – весьма благородного – стиля…
Перикл, выслушав обоих зодчих, обратился к Фидию с таким вопросом:
– Что думаешь ты по этому поводу?
– Иктин – весьма опытный зодчий. А Калликрат доказал свои способности и утвердил свое имя в числе виднейших строителей Эллады, – сказал Фидий.
– Наверное, это так. – Перикл хорошо знал одного и другого.
– Соединив этих двух зодчих, мы выбрали верный путь.
Далее Фидий высказался в том смысле, что люди с противоположными мнениями, объединив свои усилия, создают великие произведения. Но следует заметить, что так бывает не всегда. В настоящем случае, когда придется возвести нечто удивительное и весьма дорогое притом, соединение двух способностей – Иктина и Калликрата – может оказаться плодотворным… Обратимся к облику Парфенона: нельзя ли извлечь большую выгоду из соединения стиля дорического и ионического? Может быть, это сказано не совсем точно: соединение – не значит на скорую руку и как попало взять из одного стиля одно, а из другого – другое. Подобно тому как радивая хозяйка варит похлебку, тщательно перемешивая разные продукты, так и зодчий собирает все лучшее, чтобы приспособить его к своей работе…
Перикл обратился к зодчим:
– Я просил Фидия взять на себя бремя – великое бремя – и предложить свой чертежи Парфенона. Он отказался от этого предложения. Я сказал: «Такое не предлагают дважды в жизни». На что он ответил: «Для меня это лестно. На все века разнесся бы слух о моем подвиге. Но есть зодчие, которые это сделают лучше. Поэтому-то я и отказываюсь».
Иктин высоко отзывался о Фидии, его незаурядных способностях – ваятеля, зодчего, человека.
К этому мнению присоединил и свое Калликрат.
Таков был предварительный разговор, который состоялся у Перикла. Так он поступал обычно, прежде чем просить о чем-либо Народное собрание. Стратег говорил: «Я должен знать, что я хочу, прежде чем пойду в Народное собрание». И еще он говорил: «Я – стратег. Мое поле деятельности – политика. А еще и военное дело – морские и сухопутные сражения. Трудно сказать, – продолжал он, – как это все удается. Судить об этом народу. Будучи стратегом, приходится решать различные дела, в том числе и зодческие. Значит ли это, что я знаю зодчество так же, как морское дело? Нет, не значит. Поэтому очень надеюсь на помощь Фидия, ибо ставлю его очень высоко, подобно тому как Сократа – в философии, Софокла – в драме, Артемона – в изобретательской науке».
– Мнение Фидия, – закончил свою небольшую речь Перикл, – представляется мне верным в своей основе. Строгий дорический стиль близок нам, воинам. Но есть и поэты. Они – в самой гуще народа, как и военные. Весьма и весьма примечательным будет привнесение легкого и красивого ионического стиля в суровость дорического. Давайте же объединим в нашем небывалом предприятии две головы – Иктина и Калликрата – и скажем им: «Успехов вам, зодчие!»
Так говорил Перикл перед тем, как представить Народному собранию для предварительного одобрения великий замысел о строительстве Парфенона…
Навестил Алкивиад. Был он одет щегольски. Гиматий цвета небесного, на шелковой подкладке. Башмаки из легкой иллирийской кожи украшены золотыми планками. Перстни на пальцах массивные, с печатями тонкой работы. Волосы слегка выкрашены в персидские краски, которые дороги здесь, в Афинах.
Перикл очень ему рад. Усадил своего любимца на скамью, отечески обнял.
– Давно не видел тебя, – сказал он с легкой укоризной в голосе.
– Дела очень плохи, – Алкивиад сообщил это просто, словно о маловажном происшествии на агоре́.
– Дела плохи? – Перикл прохаживается по комнате медленно-медленно. – Почему плохи?
Алкивиад пожал плечами:
– Почему? Я скажу: если государством руководят сплошные бездарности, значит, дела могут обстоять только и только плохо!
Перикл кашлянул. И что-то пробормотал, вроде того, что, дескать, это не совсем так, дескать, Афинским государством никогда не управляли бездарности…
Алкивиад расхохотался:
– Что? Не управляли? Может быть – в прошлом. Ну, а сейчас серость погоняет серостью. У меня такое ощущение, что чума изрядно покосила Народное собрание. Хотя… – Алкивиад говорил сквозь смех, – хотя члены собрания похожи на самих себя – все они серые.
Перикл покачал головою:
– Нет, великое государство никогда не может быть управляемо людьми серыми, бездарными.
Алкивиад протянул холеную, белую руку.
– Спорим, – сказал он. – В Колхиде, говорят, спорщики подают друг другу руки, а потом, как говорится, режут их ладонью левой руки, как тупым ножом. Спорим?
Перикл осмотрел руку молодого человека так, словно тот предлагал прочесть нечто мелко и неразборчиво написанное.
– О чем наш спор?
– Я же сказал: об афинских бездарностях.
– И ты это докажешь?
– Да!
– Когда же?
– Хоть сейчас!
Перикл похлопал его по плечу:
– Ты слишком горяч, Алкивиад.
– Я говорю правду!
– Не торопись с правдой.
– Спорим?
Перикл стал перед молодым человеком. Заложил руки за спину, словно опасался, что Алкивиад схватит их, улучив минуту.
– Может, они обидели тебя?
– Кто?! – вскричал Алкивиад. – Эти болваны? Эти овечки в шкуре стратегов? Эти мнящие себя государственными мужами неучи?!
Перикл отошел туда, в угол, где стоял бронзовый светильник. И сказал оттуда:
– Ты не должен говорить так, дорогой Алкивиад. Даже я в моем положении не смею думать так. Это было бы оскорблением афинского народа, которого почитаю великим, которого люблю, которому предан до гроба. Что же заставляет тебя бросать столь чудовищное обвинение нынешним стратегам?
Алкивиада смутить не так-то просто. Он, кажется, самоуверен, как и многие молодые люди. Кажется, готов судить обо всем с первого взгляда, с наскока, без большого раздумья. Разве этому учил его Перикл?
– Скажу, – резко говорит Алкивиад, – и не постесняюсь никого. Первое: они полагали, что, устранив тебя, тут же победят лакедемонян. А что происходит на самом деле? Неумение руководить войною приводит к каждодневным поражениям. Я не знаю, чего ждут в Спарте? Они могут идти на Афины с открытым забралом. Кто им будет противостоять? Какие начальники сокрушат их ряды?.. Второе: по городу гуляет чума. Что предпринято, чтобы облегчить страдания, чтобы спасти больных, чтобы, наконец, вовремя похоронить умерших? Но даже похороны из-за недостатка леса совершаются с ужасающей медлительностью. И это называется умением руководить государством? И еще один пример: неделю тому назад были посланы корабли к берегам противника. Цель: разведка, проба силы. Чем же закончилась эта проба?
Алкивиад уставился на Перикла взглядом, полным злорадства.
– Не знаю, – сказал Перикл.
– А я знаю: корабли не выдержали бури в открытом море. Одни затонули, другие вернулись с потрепанными парусами, без мачт и снастей. Учти: и все это безо всякого участия лакедемонян!
– Кто же был начальником, Алкивиад?
– Как – кто? Скототорговец какой-то. Которого тошнит при виде волн. Я даже имени не знаю его и не желаю знать! Вот как ведутся нынче сражения на море! Может быть, лучше обстоят дела на суше? В беотийской деревне, название которой Мулита, истребили наш отряд гоплитов. В Мегаре обратили в бегство наше войско легковооруженных Не далее, как вчера, близ Элевсина вырезали спящий лагерь афинян. Как это тебе нравится? Забрались, словно в курятник, и свернули всем шеи! Такого позора еще не бывало! Однажды я повстречал финикийского купца. Он приплыл в Пирей из Сицилии. Он сказал мне: «У меня не осталось ни единой драхмы. Мне даже не на что купить хлеба». – «Что так?» – спросил я. – «Мой корабль пошел ко дну». – «Ничего, – утешил я купца, – богатство – дело наживное». – «Верно, – сказал он, – и я так думаю. Поэтому и решил утешиться…» – «Это хорошо!» – подбодрил я. «Взял одну девку, – продолжал купец, – вот тут, в одной нише, занавешенной тряпьем». – «Что же, дело мужское», – сказал я. И он расхохотался. Хохотал до упаду. Как сумасшедший. Ему было так весело, что невольно развеселился и я. «Что с тобой?» – спрашиваю. «Ничего особенного, – сказал купец, – мне больно мочиться. Та девка наградила меня болезнью, и потому мне весело». Нечто подобное происходит и с нами: чем хуже, тем лучше!
Перикл огорчился. Помотал головою – она нынче казалась особенно большой – и сказал:
– Одни огорчения, Алкивиад. Что делать мне? Куда деваться от дурных слухов?
Алкивиад воскликнул:
– А я знаю – куда!
И рассказал об одном поэте, прочитавшем ему свои записи. Это не история и не легенды или песни. В этом творении поэта действует некий Перикл…
– Перикл? – удивился Перикл.
– Да. – Алкивиад продолжал, улыбаясь: – Это история про твою жизнь и про твои дела. Поэт читал мне весь вечер…
– Бедный Алкивиад! Эти графоманы не дают покоя даже тебе!
– Я бы не подпустил его к себе ни на шаг, если бы не сказали мне, что произведение посвящено тебе. Но это не жизнеописание, а скорее панегирик. Проза перемешана с песнями, песни с вымыслом, вымысел с действительными происшествиями. Я вытерпел до конца. И не жалею об этом.
Перикл подумал, что этот графоман – наверняка графоман! – рвется к нему и ищет путей через Алкивиада. Он испугался одной этой мысли.
– Алкивиад, – сказал Перикл, – девять десятых наших книг – это творения графоманов. После флота самая главная сила наша – графоманы. Они терзают нам слух. Они бродят по знакомым в поисках добросердечных слушателей. Это бедствие просвещенного государства!.. Но скажи мне, Алкивиад, какое это имеет отношение к нашему разговору? Я же сказал, что не знаю, куда деваться, и ты…
– Верно, – сказал молодой эвпатрид, – я нарочно повернул разговор в сторону этого поэта. И вот почему: не взяться ли тебе самому за книгу?
– Какую книгу?
– О себе.
– Как это – о себе?
– Очень просто: садишься, берешь стиль или камыш, отличный папирус – он располагает к творчеству – и пишешь книгу. Глядишь, через год труд завершен. Пошел он к переписчикам, пошел по рукам!
Перикл странно улыбается. Это уже не раз предлагали ему… Писать о себе книгу! Кому она нужна?
– Людям, – говорит Алкивиад.
– Они меня немного знают.
– Потомкам!
– На потеху?
– Нет! Чтобы ума-разума набирались, читая твою книгу.
Перикл выбросил далеко вперед правую руку. Его указательный палец едва не коснулся носа столичного франта.
– Хорошо сказал, – прошептал Перикл, – хорошо сказал: чтобы набирались ума-разума. Но для этого необходима правда.
– Разумеется.
– Только правда!
– Конечно, уважаемый Перикл!
– А где ее взять?
Перикл все еще стоял с вытянутой рукой. Будто изваяние.
– Где взять правду, Алкивиад?
– Как это – где? И это вопрошает Перикл? Сам Перикл?!
Алкивиаду оставалось развести руками…
…Фидий, зарекомендовавший себя прекрасным ваятелем, последнее время все больше занимался делами зодчества: он руководил всеми постройками на Акрополе. Отвечал за них не столько перед Народным собранием, сколько перед Периклом лично. Ваятель полагал – и не без основания, – что могучая грудь Перикла оборонит его в случае необходимости.
(Стоит особо отметить великие работы Фидия, которые он лепил, отливал в металле и тесал в камне: это – «Геракл», «Афина», «Афина Благосклонная», «Афина Воительница», «Кентавр на отдыхе», «Гетера оголенная», «Эфеб, стреляющий из лука». Он изваял также и Перикла, но, увидев произведение Кресилая, разбил свое, говоря: «Пусть живет в веках более достойное!» Таков был этот Фидий, благосклонный к друзьям и ко всем, кого одаряли Музы своим вниманием.)
…Перикл сказал однажды Фидию, прогуливаясь на Акрополе:
– Друг мой, чем ты полагаешь украсить этот холм?
– Чем? – удивился Фидий. – Пропилеи, которые возводит Мнезикл, Храм Ники зодчего Калликрата и, наконец, Парфенон, возводимый Иктином и Калликратом. Этого разве мало? Я не перечислил еще многих сооружений, намеченных…
Перикл перебил его: 1
– Это все хорошо. И я осведомлен об этом вполне. Но ты сам что полагаешь соорудить?
– Я?
– Да, ты. Вот этими руками.
И Перикл сжал ему руку повыше локтя. Ваятель был смущен. Совсем не готов к ответу. И он начал придумывать, что бы ему сказать.
– Не трудись, – продолжал Перикл, – я нашел для тебя прекрасное занятие.
Он повел ваятеля на то место, где возводились Пропилеи. Стал лицом к востоку.
– Не кажется ли тебе, – сказал Перикл Фидию, – что здесь чего-то будет недоставать после того, как мы осуществим все свои планы?
Так как ваятель все еще продолжал недоумевать, Перикл раскрыл тайну еще одного замысла:
– Не кажется ли тебе, Фидий, что на этом холме прекрасное место для маяка?
– Для маяка? – изумился ваятель.
– Да. Но не о том маяке ты думаешь! Я имею в виду маяк божественный, маяк – духовный, маяк – нравственный. Я говорю о символе – оборонителе Афин… Скажи мне, каковы самые драгоценные материалы, которыми пользуются ваятели?
Фидию нетрудно было ответить на этот вопрос. И он сказал:
– Мрамор.
– А еще?
– Дерево, растущее в Колхиде, именуемое буксус.
– А еще?
– Небольшие изваяния для храмов из золота.
– Значит, золото?
– Да.
– А еще?
Фидий подумал… Что еще? Что дороже золота?
– Слоновая кость. Она дороже золота!
Перикл загадочно улыбался. И, смеясь, заключил:
– Значит, золото, кость, мрамор?..
– Да, это так.
– Самое дорогое?
– Да.
– А что еще дороже?
– Ничего! – сказал Фидий. – Только звезды на небе!
– Прекрасно! – обрадовался Перикл. – Достаточно этих. А звезды мы оставим богам.
И он предложил ваятелю еще один вопрос:
– Каким по высоте должно быть изваяние, которое, будучи водружено между Пропилеями и Парфеноном, – как они задуманы, – господствовало бы над холмом, Афинами и было бы видно в Пирее, а может быть, и дальше…
– На Саламине?
– Может быть.
– На Эвбее?
– А почему бы и нет?!
– О, это должен быть колосс!
Перикл сказал просто:
– О колоссе и речь!.. Каким же он должен быть по высоте?
Фидий присел на корточки, взял палочку, попавшуюся под руку, и провел по земле несколько линий. Он чертил и считал. В уме и на земле.
Потом встал и сказал:
– Вон выше того кипариса. Выше на десять локтей.
Перикл усмехнулся:
– А я-то думал, что много выше. – Взяв под руку ваятеля, он отошел туда, к стене, чтобы не слышали посторонние уши. Перикл сказал: – Разве было бы худо, если бы эту площадь перед храмом украсила скульптура твоей работы высотою с этот кипарис и даже выше?
Фидий не знал, что и ответить. Перикл продолжал:
– Выше кипариса и много дороже его! Скульптура Афины, богини нашей великой, созданная тобою из лучших материалов. Из золота чистого! Из кости ливийских слонов! И мрамора пентеликонского или элевсинского.
Фидий ошеломлен. Фидий как бы лишился рассудка. На одно мгновение… Как? Из золота? Из кости? Сколько же нужно золота и сколько кости из Ливии?..
И он слышит успокоительный голос своего друга, первого стратега Перикла:
– Будет золота столько, сколько потребуется. II столько же кости. И горы наши с мрамором – в твоем распоряжении…
– Пусть горят все светильники.
Так желает Аспазия. И Перикл разносит огонь по всем углам. И пылают светильники по всем углам. А через окно – квадратное и небольшое – струится синяя ночь. Она смешивается с золотом огня. Она растворяется в золоте, подобно светляку, проникшему в освещенную комнату.
Тихо-тихо в мире в этот поздний час, когда Арктур сверкает своей белизной на синем фоне. Тихо-тихо в доме, где смерть произвела опустошение.
Он говорит:
– Я хочу любить только тебя, но сердце мое на берегу Кефиса.
– А мое?
– Тоже там?
– И здесь и там. И в горах, где наш сын.
Снова становится тихо-тихо.
Она вздрагивает:
– Кто это идет сюда?
Он прислушивается:
– Никто.
– Разве?
– Все тихо.
– Перикл, я сойду с ума.
– Утешить тебя?
– Нет, не надо.
– Поцеловать тебя?
– Нет.
– Обнять тебя?
– Нет.
И снова – тихо, очень тихо. В мире. На небесах. В доме. Во дворе.
Он хватается за сердце:
– Сколько я помню себя – всегда ощущал биение своего сердца. Иногда мне казалось, что оно остановится. Вот и сейчас …
Она говорит:
– Не надо…
– Я думаю о том, что буду делать после смерти. Лежать в гробу? Холодный? Без дела? Без мысли? Совсем спокойный?
– Не надо, Перикл.
– Я всю жизнь боялся смерти. Даже тогда, когда бросался в гущу боя. Я не трусил, но думал о смерти. Скажи мне: может быть, это трусость?
– Нет.
– А что же?
– Это обычное ощущение человека, не завершившего своего дела, которому есть чем занять свои руки в этой жизни. А когда кончается дело – человек становится храбрым.
– Да?
– Это так, Перикл. Так, а не иначе.
Он убирает руку со своего сердца. Но биение его все равно слышит: оно – слева и в висках, в ногах, в затылке. Везде!
– Значит, я не трус?
Она качает головой: нет.
– Но и не герой. Я боюсь смерти.
– Значит, впереди у тебя – дела.
– Какие дела?
Он даже надул и без того пухлые губы. Обиделся, как дитя. А она – холодная и умная, красивая и смелая – утверждает, что впереди у него – дела.
– Мы вольны над собою только отчасти. И вовсе не свободны даже в самом свободном городе мира – Афинах. Это только кажется нам, что свободны. Рок тяготеет над нами, и боги указуют дорогу. Незримые боги незримую дорогу! – Она воодушевляется: – Разве не так? Разве не боги ведут нас неведомо куда? Почему мы с тобою не на кладбище, рядом с нашими детьми, если мы так вольны над собою? Я спрашиваю тебя – почему?
– Философы говорят…
– Они болтают, а не говорят. Они очень разумны, пока беда не коснется их самих. Я знала одного такого. У себя, в Милете. Он говорил: человек превыше горя! Он говорил: сила человека побеждает беду! Он говорил: человек обязан познать самого себя и через это познание победить страх и несчастье! А когда у него почти одновременно умерли жена и мать, он рвал на себе волосы, подобно египетским женщинам, и причитал целый месяц, пока не умер с горя. Вот тебе и философ!
– Наш Сократ говорит…
– Что он говорит? – Аспазия становится еще холоднее от гнева ко всем философам.
– Он говорит, что выпьет цикуту, если придется.
– Врёт он!
– Ты не знаешь Сократа.
– Он – хороший, он – ленивый. Но он нагло врет про цикуту… Философы трусливы…
– Может быть, – говорит он и вздыхает.
Арктур глядит прямо на него сквозь квадратное окошко. Такой блестящий на небе.
– Трусливы не только философы, – говорит он.
– А кто еще?
– Например, бывшие стратеги.
Она молчит.
– Дела которых оборвались раньше их жизни.
Не глядя на него, не глядя на звезды, она говорит:
– Трусливы все мужчины…
Евангел сидел на грядке и полол ее. Отбрасывал на дорожку Какую-то травку. Прореживал ее. Такую светленькую, зелененькую, в которой соединились все нежности мира. И Перикл спросил себя: зачем он это делает? Чтобы не разрасталась или, напротив, чтобы ширилась по земле своим зелененьким стебельковым потомством?
Он долго наблюдал за ним. Раб трудился прилежно. Вонзал подобие ножа в землю, аккуратно выворачивал клок травы вместе с корнями и встряхивал ее. Зачем он это делал?
Было раннее утро. Небо такое же нежное и зеленое, как и трава на грядке. Звезды только что погасли. Даже ветер не успел проснуться. А Евангел уж трудится. Правда, он мог бы поручить это несложное дело какой-нибудь рабыни или рабу. Управителю дома не обязательно собственноручно полоть грядки.
Перикл слегка кашлянул, чтобы подать знак Евангелу. Но тот не расслышал или сделал вид, что не расслышал хозяйского кашля. Перикл подошел совсем близко. А Евангел продолжал рвать траву. Не подымая головы. Его не занимали ни заря, ни поблекшие звезды, ни цвет неба. Евангел работал…
Хозяин позавидовал своему рабу. Его самозабвенной работе. Почему он, Перикл, не может вот так же забыться у грядки? Почему в голове у него мучительные мысли и видение смерти перед глазами? Аспазия не сказала этого прямо, но, наверное, от трусости. От чего же еще? Если не можешь сам уйти из этого мира, – значит, трус… Если мысль о смерти все время преследует тебя, – значит, ты трус… Но так ли это на самом деле? О чем же должен думать человек, как не о смерти? Только бараны бредут на живодерню без страха и сомнения. Только они!.. Да и то – кто знает?
Перикл вздохнул всей грудью, и Евангел услышал этот вздох. Он вскинул голову. Он широко раскрыл глаза: не ожидал!
– Что ты делаешь, Евангел?
– Вот… – раб указал на траву.
– Почему в такую рань?
– Чтобы поменьше думать.
– Как? – сказал Перикл. – Ты работаешь, чтобы не думать?
– Да.
– Это возможно?
Раб признался:
– Возможно только отчасти.
– Это поможет и мне, Евангел? – Перикл указал на траву.
– Тебе – нет.
Раб говорил очень уверенно. Он знал наверняка, что не поможет. Но откуда ему это знать?
– Ты полагаешь, что ничто мне больше не поможет?
– Только одно, – сказал Евангел.
– Что именно?
Раб кивнул на восток. И Перикл невольно посмотрел туда. А там – Акрополь! Как это понимать?..
И раб пояснил:
– Народное собрание поможет. Трибуна его поможет.
– И ты? – огорченно произнес Перикл. – И ты думаешь, что я рожден для трибуны? А больше ни на что не гожусь?
– Да!
Эта уверенность раба ужасала. Было что-то мрачное в его коротком «да», прозвучавшем словно приговор.
– Я, – сказал убежденно Евангел, – умру в тот день, когда перестану быть рабом.
– Даже если сделают тебя учителем?
– Даже!
Перикл очень хотел – по крайней мере он силился – понять этого человека, которого знал давным-давно. Однако Евангел оказался столь же таинственным, как и многие явления в этом мире. Явления, скажем прямо, подчас весьма примечательные и непостижимые.
– Впрочем, – поразмыслив, сказал Евангел, – учитель тот же раб, такой же пропащий, как раб. Может быть, я бы выжил, если бы меня сделали учителем детей.
– А стать свободным гражданином не мог бы?.. Разве этот путь тебе заказан?
– Да.
– Это ты сам придумал?
– Нет.
– Откуда же взял?
– Из жизни. Человек, который видит, слышит и запоминает, к концу жизни становится всезнайкой, мудрецом, можно сказать, египетским жрецом…
– Я первый раз слышу такое.
– Разве? – Евангел высыпает горсть пылевидной земли на грядку. И говорит: – Тот, кто хлебает горе, тот всегда умнеет.
– Это верно, – соглашается Перикл. – Горя мы с тобой хлебнули. Не то чтобы фиалом, но пифосом. Однако учти: это не последнее горе. Человек появился на свет, чтобы вечно мыкать горе, чтобы не выходить из слез и пота. Я не верю, чтобы в древности жили на земле счастливые люди. Об этом рассказывают только в сказках для детей.
– А я завидую счастливым, – мрачно заявил раб.
– Ты их видел, счастливых?
Евангел не ответил.
– Не копайся в памяти, Евангел. Это все напрасно. Счастливые люди, если они и были когда-то, давным-давно перевелись. Поверь мне!
– Но я знаю одного счастливчика…
– Кого же?
– По крайней мере до сих пор он казался мне счастливым…
– Назови его имя.
– Алкивиад.
– Это для меня неожиданно, Евангел.
Раб сказал:
– Чем не счастливец! Все ему дается легко. Даже дружба с тобою, которой домогаются многие. Молод, красив, богат. Впереди у него – хорошая дорога. Я бы сказал, проторенная…
Перикл не торопился с ответом. Он никогда не думал об Алкивиаде с этой стороны. Производить впечатление счастливого – еще не значит быть счастливым. Разве гетеры выглядят несчастными? Разве румяна их, и подведенные глаза, и сладкие песни свидетельствуют о счастье?.. Перикл не отрицал, что Алкивиад может быть счастливым. Но можно ли быть вполне счастливым, если вокруг – смерть?
– Он не умеет горевать, – сказал раб.
– Это только кажется со стороны.
– А я в этом уверен.
– Может быть… – проговорил Перикл, собираясь к себе.
Евангел сказал:
– Господин, я хотел сообщить новость…
Перикл насторожился. Какие могут быть новости в это несчастное время? Только худые! Только грустные! Только черные!.. Какая еще новость?
Над Ликабетом вспыхнула заря и снова погасла. Спустя мгновение это повторилось. Казалось, что день, как и все живое, нарождается с трудом. А небо из зеленого превратилось в желтое. Оно менялось каждое мгновение, словно бы тяжело дышало. Судя по всему, даже небо не знало полного счастья: оно производило впечатление вздрагивающего от беззвучного плача живого существа…
– Слушаю тебя, Евангел.
– Ты помнишь этого молодого человека? – И замолчал.
– Какого, Евангел?
– Который приходил с кинжалом.
– Все сейчас бродят с кинжалами…
– Тот, который стоял у наших ворот. Звади его Агенор…
– Ах, Агенор?!
Разумеется, Перикл помнит его. И даже очень хорошо. А несколько дней тому назад встретил Агенора на кладбище. Молодой человек по-прежнему выглядел худым и желтым. А глаза сверкали. Недобрым светом… Это очень странный молодой человек. Но у него свои взгляды. И поэтому достоин уважения. Если была бы на то Периклова власть, непременно добился бы для Агенора хорошей государственной должности. Которая требует острого ума и глаза. Такие люди всегда нужны государству… Как же! Перикл очень хорошо помнит Агенора…
– Так вот – он умер.
– Умер?
– Его, как и многих, скосила чума. Я об этом узнал случайно. От одного его друга-шалопая.
– Бедный Агенор!
Перикл медленно пошел по желтой садовой дорожке. Перед тем как подняться на лестницу, он обернулся и сказал:
– Ты уверен, что он умер?
– Да, – ответил Евангел, продолжая работать.
– Сходи к нему и возложи венок. Венок от меня. Слышишь, Евангел? А потом расскажешь, что было на его похоронах… Венок должен быть хороший, Евангел. Совсем свежий, из белых цветов.
И Перикл поднялся к себе. Медленно-медленно, будто опасаясь, что лестница рухнет под его ногами. И он сказал себе: «Вот ушел Агенор. И жизнь стала мрачней. Он думал о многом и меньше всего о себе. Такая потеря – всегда потеря истинная».
И Перикл увидел первые лучи солнца, поднявшегося над землею…
…Стратег Перикл высадился на мысе Херсонесе Фракийском вместе с архонтами Соклом и Алкмеоном.
Сокл и Алкмеон возглавляли войска, посаженные на корабли, плывшие по водам Меласского залива к городам Лисимахия и Кардия.
А Перикл на десяти кораблях прибыл сюда через Геллеспонт. Он сошел на берег в городе Сесте, где его встречал эпидемиург, ведавший всеми делами на Херсонесе. Звали эпидемиурга Демосфен, сын Лисимаха. После посещения Сесты, где Перикл пробыл всего сутки, запасаясь провиантом и свежей водою, он отплыл к деревне, называвшейся Сисмия. Она располагалась на южном берегу Херсонеса. Отсюда до Лисимахии по суше не более девяноста стадиев.
Жившие на Херсонесе клерухи жаловались на притеснения, чинимые варварами с Апсинарских гор, что во Фракии. Царь фракиян Ситалк, сын Тереса, как утверждал, не в состоянии был усмирить этих горцев, весьма диких нравом. А может быть, это была уловка, дабы снять с себя вину.
Народное собрание внимательно рассмотрело просьбу клерухов из Херсонеса, которые писали: «Набеги горцев, скрывающихся в скалах Апсинарии, столь жестоки, что трудно их далее выносить. Ежедневно мы теряем воинов в неравных сражениях. Варвары разрушают наши города и селения. Через несколько лет на Херсонесе не останется ни одного пригодного к несению военной службы мужчины. Особенно злобно настроены варвары по отношению к нашим эфебам. Они угоняют молодых к себе, обращая их в рабство. Девушки тоже подвержены многочисленным опасностям. Варвары лишают их чести, всячески измываются над ними и угоняют в горы. Воистину несчастна Херсонесская клерухия, терпящая несказанные бедствия вследствие постоянного нашествия варваров. Фракияне не обращают внимания на наши жалобы, говоря с укором: «Кто вас сюда позвал? Разве мало вам своей земли? Вы утверждаете, что страна ваша прекрасна, что город Афины прекрасен. Почему же вы не уберетесь отсюда восвояси?» Так отвечают нам фракияне всякий раз, когда мы жалуемся на этих разбойных варваров. А их проксен, некий Талик, сын Феса, даже радуется каждому нападению на нас. Сей проксен – весьма возможно – сам является и соглядатаем тех варваров и соучастником негласным всех возмутительных притеснений, чинимых варварами афинским клерухам. Мы просим Народное собрание о срочной военной помощи, ибо разумные доводы на варваров не действуют…»
Так писали херсонесцы в Афины.
Просьба эта не только была услышана в Афинах, но и уважена полностью и с необычайною быстротою, на чем особенно настаивал Перикл, в качестве стратега. И, таким образом, было решено отправить войска на двадцати триерах и двух грузовых судах. Общее начальствование было возложено на Перикла. Сам себе он выбрал в боевые помощники двух молодых архонтов – Алкмеона и Сокла. Плыл он с решимостью наказать варваров и раз и навсегда отбить у них охоту вершить беззакония в этой цветущей клерухии…
…Эпидемиург Демосфен нарисовал Периклу нерадостную картину разрушений, жертв и страданий. То, что увидел здесь Перикл, соответствовало услышанным от Демосфена рассказам.
В условленный день Перикл высадил своих гоплитов в маленькой гавани деревни Сисмия. То же самое сделали Алкмеон и Сокл в городах Лисимахия и Кардия. И два войска пошли навстречу друг другу, занимая все дороги на перешейке. К ним присоединились клерухи, способные сражаться. Говорят, что даже женщины вооружились дубинками – так велика была их злоба против варваров.
Цель Перикла заключалась в том, чтобы запереть все пути для отступления варваров и истребить их на Херсонесе. Это намерение Перикла было претворено в жизнь, и в течение двух месяцев на Херсонесе не осталось в живых ни одного варвара. Говорят, что по приказанию Перикла были казнены сто сорок взятых в плен. Якобы размозжили им головы по приговору суда клерухов в городе Кардия. Перикл впоследствии это отрицал, так же как и избиение пленных на Самосе. Однако доподлинно известно, что убийства пленных по приговору суда имели место. Был ли в этом злодействе повинен Перикл? Сам он сказал доподлинно так: «Я никогда не видел ничего хорошего в том, что иные убивают обезоруженного врага. Эти действия сами по себе есть не что иное, как каннибализм. Призывая к беспощадным действиям против врага, я всегда взывал о милости к побежденному. Таково мое мнение и сейчас. Таким оно было всегда». Зная характер Перикла, надо считать эти его слова не только достоверными, но и полностью соответствующими его деяниям, его мышлению и высоким помыслам.
Расправившись с врагами на Херсонесе, Перикл спросил эпидемиурга и его помощников:
– Довольны ли вы действиями моих войск?
На что последовал единодушный ответ:
– Да, довольны.
– Можно ли, по вашему мнению, нам уйти назад?
Одни сказали:
– Да.
А другие молчали. Молчал на этот раз и сам эпидемиург. И Перикл спросил его о причине молчания. Может быть, не следует покидать войскам так быстро Херсонес?
Он сказал:
– Да, не следует.
– Сколько же времени оставаться нам здесь?
Молчание.
– Месяц?
Молчание.
– Два месяца?
Молчание.
– Может быть, навсегда остаться? – спросил Перикл, теряя терпение вследствие медлительности херсонесского эпидемиурга. Перикл понял, что клерухи вовсе не уверены в завтрашнем дне.
По глубоком размышлении и посоветовавшись со своими помощниками, стратег попросил разрешения у Народного собрания на постройку стены и рва перед нею, которые, по существу, должны были отрезать полуостров от материка восточнее Кардии. Длина стены и протяженность рва – восемьдесят шесть стадиев. Без этого, как полагал Перикл, не будет спокойной жизни на Херсонесе.
Не ожидая глашатая из Афин, он приказал начать подготовительные работы. Сам наметил места, где должны быть поставлены башни, где возведены стены, а где вырыты рвы.
Была ли при этом проявлена им излишняя самонадеянность или он твердо верил в разум Народного собрания – сказать трудно. Доподлинно известно, что, приступая к постройке укреплений на Херсонесе, Перикл не получил формального разрешения из Афин, которое, однако, пришло позже.
Вследствие дорогостоящих и трудоемких работ, некоторые клерухи (из числа видных) возражали против постройки стены. Они подали такой совет: не лучше ли изгнать этих варваров из их гнезд в Апсинарии?
– Они уйдут дальше, – ответил Перикл.
– Пойти за ними и дальше!
– Они спрячутся еще дальше.
– И там им не давать покоя!
Тогда Перикл сказал:
– Когда рядом с тобою живет беспокойный сосед, лучше всего отгородиться от него, укрепившись в своем доме. Ибо, войдя в соседний дом и покорив его, ты обретаешь еще одного, нового соседа. И неизвестно, какой из них будет лучше. Если взять себе за правило наводить порядки в каждом соседском доме, то можно дойти и до конца света, где только холод и пустота. Но достанет ли сил на подобное путешествие и кому оно, в конечном счете, будет выгодно? Чтобы не ставить себя в подобное положение, – когда действия против соседей становятся почти бессмысленными, – лучше возвести преграду. Вот почему я и предлагаю эти укрепления взамен дорогостоящего и нескончаемого преследования врага на обширных землях.
Так говорил Перикл. И к словам его прислушались: одни – согласившись с ним, другие – поневоле. Оставалось только ждать, что покажет сама жизнь, как она распорядится судьбою херсонесцев.
Когда в конце концов укрепления были готовы, варвары, соразмерив свои силы, убедились в том, что дальнейшие нападения бессмысленны.
Эпопея Периклова похода в Херсонес Фракийский явилась еще одной живой страницей в доблестной жизни стратега. Это признал даже такой противник, как Фукидид, сын Мелесия, чье знатное происхождение делало его голос в Афинах достаточно весомым во всех отношениях…
В это утро – перед самой зарею – она увидела во сне землеройку. Точнее, не землеройку, а какое-то другое, но очень похожее на землеройку существо. Вроде мыши. Многие милетянки славились как толковательницы снов. Аспазия же не верила снам. Анаксагор объяснил ей, что все это – игра воображения, зряшная работа атомов спящего головного мозга. С тех пор и разуверилась она и отказалась от толкования снов.
Он тоже не спал. И она сказала:
– Я видела сон…
Он продолжал смотреть наверх.
– Я видела сон, – продолжала она, – только что. Мне кажется, что я и сейчас во сне.
– Я целовал тебя, – признался он.
Аспазия не поверила.
– Я видела землеройку.
Он повернулся к ней:
– Землеройку?
– Да. Или что-то вроде нее.
– Ты когда-нибудь видела ее наяву?
– Я? Никогда! Это оно так назвало себя…
– Кто – оно?
– Маленькое мышеподобное существо. «Я – землеройка», – сказало оно. И тут же, на моих глазах, стало увеличиваться в объеме. Оно росло и выросло во льва. Настоящего льва! С гривой, усищами, когтями, длинным хвостом с кисточкою на конце.
– Аспазия, чему приписываешь ты свой сон?
– Горю.
– А может, усталости?
– У меня болит голова. Ноет она целыми днями. Боль немного стихает только там, на кладбище. Когда увижу камень… Кресилай – великий мастер.
– Он сделал бы лучше. Он торопился.
– Я не знаю стелы краше.
– Пожалуй, и я. Впрочем, запомнилась одна. В некрополе Диоскурии. Я люблю бродить по некрополю. На каменных страницах скорбной кладбищенской книги – история города… Я видел стелу в некрополе. И никогда не забуду глаза…
– На ней была изображена женщина?
– Да. Скорбящая мать.
Она взяла себя за виски. Обеими руками. Сжала голову. Помассировала ее. И спросила словно невзначай:
– Зачем мы с тобою живем?
Он и сам этого не знал толком. Но Перикл предположил, осторожно, неуверенно, как слепец, нащупывающий на земле оброненную монету:
– Может быть, ради них?
– Как это – ради них?
Объяснить это невозможно. В самом деле, как это жить ради мертвых? Ради памяти о них? Или ради продолжения жизни, нить которой может разорваться?
Она сказала:
– Я видела землеройку…
– Ты уже говорила об этом.
– И она выросла во льва.
– И об этом тоже.
Она приподнялась. Странно посмотрела на него. Таким долгим, почти бессмысленным взглядом. Перикл протянул руку, достал со стола сосуд с водой и подал ей:
– Выпей, Аспазия.
Она говорит:
– Землеройкой назвалось само существо. А лев не признался, что лев. А почему же признаваться? Ведь он вырос из нее! Из такой ничтожной и маленькой крошки! – Аспазия показала половину своего мизинца.
Он поцеловал ее в холодную и белую шею. Не лучше ли поговорить о жизни, чем о землеройке и страшном льве?
– Нет, – решительно возразила Аспазия. – Мне нужно подумать, прежде чем решусь жить.
Он испугался:
– Аспазия!..
Он очень испугался. Ибо она нужна ему.
– Аспазия!..
Он почти умоляет ее. Так просят только бога. Да и то не всякого…
В полдень постучали. Перикл открыл дверь. На пороге стоял мрачный Евангел. Словно посланец подземного царства. Он сказал:
– Только что был глашатай. К тебе направляется…
И не закончил фразы.
– Кто направляется, Евангел?
Раб помрачнел еще больше:
– Депутация.
– Чья?
– Народного собрания.
– Зачем?
И Евангел сквозь зубы, как о большом несчастье:
– Наверное, с просьбой. У них нет головы. Им нужна голова.
Он обернулся к ней. Она стояла у ложа. Бледная. Вся в белом. Она сказала, улыбаясь через силу:
– Оно само назвало себя: землеройка!..
– Да, я знаю.
– На самом деле это был лев. Настоящий. Ливийский.
Евангел повторил:
– Им нужна голова.
– Чья?
– Твоя, о господин! – И добавил: – Они скоро будут здесь. Приготовься, господин.
И удалился. Такой же мрачный. Может, и ему приснился сон.
«Они – настоящие люди, – с завистью подумал Перикл, – им снятся сны. Другое дело, сбудутся они или нет. Главное не в этом. Важно, что снятся. Важно, что атомы не спят. Они думают и во сне. Только человеку да щенятам снятся сны…»
Аспазия спросила:
– Им нужна голова?
– Не знаю.
– Я сама слышала…
– Так полагает Евангел.
– Он все наперед знает. Он – бог.
– Возможно.
Она направилась к боковой двери, которая вела на женскую половину – гинекей.
– Куда ты?
– К себе.
– Оставляешь меня? Одного?
– Да.
– А совет? Кто подаст мне совет?
Она сказала мрачно. Почти тем же тоном, что и Евангел:
– Он тебе не нужен.
– Но почему, Аспазия?
Он сделал к ней несколько шагов и остановился.
– Ты все уже решил, – сказала она.
– Я?
– Да, ты.
Он поднял руку, чтобы разрезать воздух, как саблей, и тем заявить свое решительное «нет». Аспазия сказала:
– Ты не можешь, Перикл. Ты рожден для этого. И тебе не нужен совет. Решай! Как решишь – так будет верно.
И удалилась…
Депутацию Народного собрания возглавлял Тевкр, сын Архиппа. Это был старец, полный силы, человек цветущего здоровья. Среднего роста. С тщательно расчесанной бородой. Он пользовался уважением как среди демократов, так и среди сторонников Кимона и Фукидида, сына Мелесия. Тевкр не раз заявлял о том, что служит не партиям, но афинскому народу. И это доказывал на деле. Тоже не раз.
Депутация состояла из людей пожилых, что долженствовало, по мнению руководителей Афин, благоприятным образом повлиять на Перикла.
Хозяин встретил гостей в траурном одеянии. С почетом, сердечно. Он поздоровался с каждым в отдельности. Осведомился о состоянии здоровья, после чего пригласил присесть.
Тевкр без проволочек приступил к делу, ибо знал характер Перикла: этот не любил болтовни и ценил короткую и ясную речь. Тевкру очень хотелось доставить удовольствие Периклу. Он сказал:
– Многоуважаемый друг наш! К тебе явилась официальная депутация Народного собрания. Нам дано поручение, которое хотелось бы выполнить со всей тщательностью, ибо, как нам кажется, миссия наша освящена единодушным пожеланием афинского народа.
Тевкр обратился к своим товарищам с немым вопросом, и те дали понять, что говорит он хорошо и не требуется каких-либо поправок или пояснений.
Тевкр продолжал:
– Ты знаешь нас. Мы знаем тебя. Поэтому не хотелось бы затягивать речь. Наша миссия заключается в следующем: мы просим тебя, как верного сына Афин, явиться в Народное собрание и по его поручению принять на себя соответствующие обязанности, которые ты уже исполнял много лет подряд… Я знаю, что ты хочешь сказать. Вот твои невысказанные слова: «И за эту многолетнюю службу народу я получил сполна: чуть ли не тюрьму, чуть ли не казнь, чуть ли не остракизм». Это так, Перикл. Учти, что люди ошибаются, – на то они и люди. Ошибаются, признают промахи свои, заглаживают вину свою. На то они и люди! Народное собрание желает загладить свою вину и свой промах. Все это обошлось государству очень дорого. Но все это принадлежит теперь прошлому. События прошлого не должны загораживать дорогу к будущему… Но зачем я толкую об этом? Разве ты сам не знаешь этого? Разве ты сам не объяснишь это лучше, чем я, чем все мы, вместе взятые?
Тевкр снова взглянул на своих товарищей. Они согласно кивнули ему. Они сказали ему «да». Это были эвпатриды, люди уважаемые, коренные афиняне…
Тевкр встал и стоя повторил свою просьбу:
– Займи свое прежнее место, Перикл, протяни руку народу афинскому так, как я протягиваю ее тебе.
И старик протянул руку. Он держал ее на весу одно мгновение, два, три. И все гадали: что же будет теперь?
– Я задам один вопрос, – сказал Перикл и нахмурился. – Скажи мне, Тевкр, разве в Афинах перевелись государственные мужи? Разве свет сошелся клином на мне? Разве оскудела наша демократия людьми?
Тевкр продолжал держать правую руку на весу.
– Скажите мне, – продолжал Перикл горячо, – неужели же я и в самом деле незаменим? Если это так, то не является ли это самое ужасным недугом нашей демократии и не больше ли подходит мне звание тирана, нежели демократа? Неужели мне и впрямь придется всю жизнь стоять во главе афинского государства? Если да, то как это называется? Демократия? Тирания? Скажите же мне!
Тевкр отошел к своим друзьям, и они поговорили меж собой вполголоса. А Перикл в это время пребывал в глубоком раздумье.
Предводитель депутации Тевкр снова протянул руку Периклу и сказал виновато:
– О Перикл! Мы не в состоянии дать тебе точный ответ на твой вопрос. Мы можем сказать лишь одно: ты нужен афинскому народу. А прочее – рассудят боги.
Перикла точно из камня высекли: ровный, недвижимый, занятый своими мыслями… Что же будет?..
«Нет, не подаст руки», – подумали афиняне, явившиеся к нему.
А он подал. Как раз в то самое мгновение, как они подумали… Встал со своего места и подал.
И Тевкр заплакал. И обнял.
И точно вся комната – каждый атом стен, потолка, пола – вздохнула с облегчением: «Ох!..»
Перикл ответил тихо, очень тихо, как и подобает первому стратегу могучего Афинского государства. И вот его слова:
– Я повинуюсь воле афинян. Я отправляюсь с вами в Народное собрание и приму полномочия, которые будут даны. Время тяжелое: идет война, которой нет конца. Чума косит афинян, и не видно конца и этому бедствию. Судьба Афин на волоске. Это известно и вам не хуже, чем мне. Только и только поэтому я говорю вам: согласен, иду к вам, чтобы работать с вами!
Тевкр снова обнял его. А затем поочередно – и все остальные. Минуты были воистину торжественные,
– Но знайте, – продолжал Перикл, – я уже не тот, и вы уже не те. Время летит. Его крылья касаются всех нас. Они серебрят наши волосы и старят душу. Я иду к вам с намерением победить врага, с твердым убеждением, что мы одолеем чуму и Афины снова окрепнут. Вот с чем я иду к вам. Знайте же: я буду работать только в этом направлении…
Перикл бросил взгляд на угол комнаты, туда, где стоял бронзовый светильник. Ему показалось, что оттуда кто-то пристально следит за ним. Очень знакомый. С глазами горящими. Худой и бледный. «Это Агенор», – подумал Перикл. И в это же самое мгновение видение исчезло. Остался лишь бронзовый светильник.
Перикл побледнел. Пот выступил у него на лбу. И он попросил воды…
Вместо эпилога
Великий вождь и великий руководитель афинского народа умирал.
Его большая голова, не раз служившая мишенью для комедиографов, покоилась на жесткой солдатской подушке. Вождь почти не дышал. Не было слышно предсмертных хрипов, и тяжелые веки казались высеченными из мрамора.
Вокруг него в благоговейном молчании сидели первые люди Афин – стратеги и архонты. В углу, вокруг безутешной Аспазии, толпились друзья и почитатели Перикла.
Чума скосила чуть ли не всю его семью и многих его друзей. Он долго держался, словно утес посреди разбушевавшегося понта. Он пережил не одну смерть. Наконец рухнул и сам.
Перикл умирал медленно. Угасал, точно факел, лишенный масла. Он уходил, словно триера в безбрежный океан: бесшумно, медленно, невозвратно…
– Он уже там, – сказал Алкивиад. – Только бренное тело напоминает о том, что среди нас жил тот, кого звали Периклом. Только дела его взывают к нам, чтобы вечно помнили мы о нем и никогда не забывали его.
Так говорил молодой друг и воспитанник Перикла Алкивиад, и он склонил голову в скорбном молчании. И, обращаясь к несчастной Аспазии, прошептал:
– Мужайся.
Стратег Клеонт, сын Фания, сказал вполголоса, будто опасался разбудить спящего вождя:
– Ты прав, Алкивиад: дела его превыше дел человеческих. Афины никогда не забудут своего стратега. Его мудрые речи, сказанные с ораторской трибуны, переживут века. Его ум будет мерилом человеческой мудрости и глубины мысли. Его ненависть к врагам будет вдохновлять сынов прекрасных Афин на многие подвиги. Ты прав, Алкивиад: дела его слишком велики, и мы едва ли охватим их одним взглядом. Пройдет время, и люди скажут: «Перикл воплотил в себе все могучее и мудрое, прекрасное и грозное».
Так говорил Клеонт, сын Фания. Он умолк и закрыл лицо руками, дабы не видели окружающие его горючих слез.
Архонт Алкмеон, муж, умудренный жизнью и многочисленными ратными походами, сверх меры влюбленный в Афины, воздал должное гражданскому гению Перикла.
– О первейшие мужи Афин, – сказал он, – великий вождь, ушедший от нас в царство теней, показывал всем нам образцы преданнейшей любви к своему отечеству. Он украсил город свой красотой непреходящей. Он оставил нам Парфенон и Пропилеи. Он подарил нам Одеон – великий очаг прекраснейшего из искусств. Недреманным оком оберегая Афины от злокозненной Спарты и многих других врагов государства нашего, Перикл не жалел ни денег, ни сил для украшения великих Афин. И эта его деятельность зачтется ему благодарными потомками как лучший памятник гению Перикла. О мужи, мы потеряли великого гражданина. Я молю богов, чтобы услышали нас и даровали нам хотя бы частицу той государственной, политической и военной мудрости, которой обладал наш друг и вождь.
Так говорил Алкмеон. В торжественной тишине его голос звучал столь тихо и столь явственно, что еще тише казалась тишина и еще торжественнее становилась торжественность. Много приятного слышали уши Перикла. Но столь лестного и столь правдивого не было еще высказано. И если бы все это слышал сейчас великий вождь, то жизнь его продлилась бы по меньшей мере еще на десять лет. Но Перикл, казалось, лежал бездыханный, и только слабый отсвет былого румянца догорал на щеке его, обращенной к свету.
– Все сказанное здесь – сущая правда, – сказал архонт Сокл, человек молодой годами и весьма отважный в морских схватках. – Девять трофеев воздвиг великий Перикл в память своих побед. Он добыл эти победы, вынужденный воевать, принуждаемый к тому действиями врагов наших. Нехотя брался он за меч, но, однажды взявшись, доводил начатое до конца. О мужи многомудрые, Афины не видели и не скоро увидят государственного деятеля, подобного Периклу. Только во времена благословенные Гомера и в те поседевшие времена, когда герои рождались от богов, жили люди, равные Периклу. Но с тех пор не носила земля наша мужа более достойного, чем Перикл.
– Это истинно так, – сказал Алкивиад.
Сокл продолжал, глядя на заострившийся нос Перикла:
– Нет, я не могу думать о том, что нет его меж нами. Афины осиротели, и, кажется, осмелеют наши враги и ринутся на нас. И вот тогда-то мы почувствуем, что нет его, что ушел от нас воитель славнейший. Его военную доблесть едва ли возместим мы все, едва ли мы найдем ему достойную замену. Вот какого потеряли мы стратега и человека.
Здесь, у смертного одра великого Перикла, стратеги и архонты говорили чистосердечно. Они дали волю своим чувствам, и слова их шли из глубины сердец. Так всегда: человека особенно ценят после его смерти.
Алкивиад сказал:
– О мужи афинские, вспомните то, как великий вождь наш, приняв рулевое весло из рук Эфиальта, повел вперед наше государство. Вспомните одно из величайших благодеяний его, которое заключено в замечательнейшем акте передачи всей полноты власти Народному собранию. Перикл мог бы сделаться всевластным тираном, мог бы ни с кем не делить своей власти. Он мог бы заставить всех нас склонить головы перед ним, и нам бы ничего не досталось. Народ стал бы послушным орудием в его руках. Но нет, мужи афинские, не пошел он по столь привлекательному на первый взгляд пути.
Молчаливый архонт Протид вставил и свое слово. Он сказал:
– Это он, наш вождь, облегчил избрание архонтов из народа, отменив преимущество богатых над бедными. Не это ли великое благодеяние, оказанное Периклом согражданам своим?
– Верно, – согласился Алкивиад, – и это будет записано на золотой таблице, которую народ, несомненно, выставит у стратегиона.
– А деньги неимущим? – продолжал Протид. – Деньги на посещение Одеона? Разве теорикон не является плодом удивительных раздумий величайшего из наших сограждан, который – увы! – бездыханный возлежит на смертном одре?
Сокл сказал:
– Он, этот великий человек, сделал все для того, чтобы облегчить участие народа в управлении государством. Это и есть величайшее деяние Перикла, которое не забудется, доколе светит солнце и сверкают на небе звезды.
И вот, когда, казалось, все кончено, и сказаны все слова, и остается только прикрыть глаза Периклу заботливой рукою Аспазии, умирающий вздохнул. Он вздохнул. Открыл глаза. И губы его зашевелились.
Присутствовавшие напрягли свой слух. Нет, не умер еще великий сын славных Афин! Он слышал все, что говорилось у его ложа… Перикл обвел взглядом своих друзей, улыбнулся им, как бы благодаря их.
И он заговорил. И все слышали слова его, и все запомнили те слова, и стали слова его достоянием Афин – всех его граждан. И те слова облетели всю землю, от Столбов на западе до восточных берегов Понта Евксинского и до самых вершин египетских пирамид…
Вот что сказал Перикл, что доподлинно известно;
– Пусть это так, мужи афинские… Пусть совершил я те удивительные деяния, о которых говорилось здесь… Но вы не упомянули о самых наиважнейших… о самых, наиважнейших… о делах наиважнейших…
Умирающий перевел дух. Он снова оглядел всех и еще раз улыбнулся горькой улыбкой, как бы говоря: «Вот каков я, вот насколько слаб я – и двух слов не могу высказать». Друзья его еще ниже склонились над ним, чтобы не упустить ни единого слова, сказанного великим Периклом.
И Перикл сказал:
– Если вы и впрямь собираетесь отметить мои заслуги… и если вы когда-нибудь пожелаете сказать о них всенародно… то не забывайте о главнейших… – И он снова перевел дух. – А наиважнейшие заслуги мои суть следующие… Я никогда… никогда, обладая большой властью, никому не завидовал, никого не считал своим непримиримым врагом и ни разу не дал волю гневу своему… Вот моя наиважнейшая и первая заслуга… А вторая наиважнейшая заслуга моя – следующая… – Умирающий собрал последние силы и с возможной ясностью произнес: – Вы не отыщете в Афинах ни одного человека, кто бы по моей вине надел черный, траурный плащ… Ни одного… Ни одного…
Это было все, что хотел сказать умирающий. Это были последние высокие слова, воистину достойные великого и мудрого мужа. И, как бы высказав все, что следовало высказать, Перикл закрыл глаза, и через мгновение великий вождь афинян отошел в царство теней.
И уже не уста его, но уста друзей повторяли Перикловы слова:
«Вы не отыщете в Афинах ни одного человека, кто бы по моей вине надел черный, траурный плащ… Кто бы по моей вине надел черный, траурный плащ… по моей вине… черный, траурный плащ…»
Агудзера– Рим – Москва
1968 – 1969
Примечания
АВЛОС – род свирели.
АГАРИСТА – мать Перикла. Она была из рода Алкмеонидов.
АФИНСКАЯ ДЕРЖАВА при Перикле включала до 200 городов-государств, с общим числом жителей до 15—20 миллионов. Полагают, что в самой Аттике проживало до 410—420 тысяч человек, из них полноправных граждан – только 42 тысячи.
БИТВА С ПЕРСАМИ ПРИ МИКАЛЕ – в 479 году до н. э.
ГИЕРОМНЕМОН – это вроде нашего нотариуса в те времена.
ГОД ГРАЖДАНСКИЙ АФИНСКИЙ начинался с середины лета. Поэтому его часто обозначают дробью, например 442/1 или 442/441. Это значит, что имеется в виду вторая половина 442 года и первая половина 441 года (разумеется, до нашей эры).
ДЕМЫ – территориальные административные единицы в Аттике. Из демов состояли филы. Перикл, например, был из филы Акамантиды, из дема Холарга.
ЗАКОН О КОРЕННЫХ АФИНЯНАХ провел Перикл в 451/450 году. Этот закон предоставлял права гражданства только «чистокровным». Перикл сам испытал силу этого закона, когда дело коснулось его сына от Аспазии – «нечистокровного» юного Перикла.
КЛЕПСИДРА – водяные часы, ГНОМОН – солнечные.
КЛЕРУХИИ – поселения афинян за пределами Аттики, по существу колонии.
КЛЕРУХИ – колонисты.
ЛОКОТЬ в Аттике был равен 44,4 сантиметра.
МЕСЯЦЫ – назывались они так: посидейон (декабрь – январь) и далее соответственно: гамелион, анфестерион, элафеболион, мунихиои, тартелион, скирофорион, гекатомбейон, метагитнион, боэдромион, пианопсион, мемактерион (ноябрь – декабрь).
ОДЕОН – театр.
ОБЩЕЭЛЛИНСКИЙ КОНГРЕСС – его пытался созвать Перикл (вероятно, в 448/447 году), на котором, в частности, предлагалось обсудить вопрос «о соблюдении мира». Однако идея эта была отвергнута лакедемонянами.
ПАНАФИНЕИ – праздник в честь Афины Паллады. Отмечался весьма торжественно раз в три года.
ПАНТИКАПЕЙ – столица Боспора Киммерийского (на Керченском полуострове).
ПЕАН – боевой клич-песня.
ПРИТАН – дежурный член Совета 500.
СИКОФАНТ – кляузник, мошенник, доносчик.
СТАДИЙ равен 177,6 метра.
СТАТЕР – афинская монета достоинством в 4 драхмы.
ТЕКСИАРХ – помощник стратега, командовавший пешими.
ТЕОРИКОН (или феорикон) – деньги, выдававшиеся бедным из казны для посещения театра.
ЭПИДЕМИУРГ – верховный наблюдатель в клерухии, присланный из метрополии.
Примечания
1
Скупые сведения о Понтийском походе Перикла мы находим у Плутарха. Рассказ же о походе в Северную Колхиду и далее на север Понта содержится в находке Заканбея Гунба, и мы целиком приводим его. (Прим. автора.)
(обратно)2
Сравни с нынешним абхазским: «Бзиа́ла швабе́йт хапса́дтил». (Прим. автора )
(обратно)3
Сравни с нынешним абхазским селом Джгерда. (Прим. автора.)
(обратно)4
Не о Гагре и Туапсе ли идет речь? (Прим. автора.)
(обратно)5
Эти события на Самосе происходили в 440 году до н. э., то есть за семь лет до Понтийского похода. Прошу у читателей прощения за некоторое нарушение хронологии, недопустимое, наверное, ни в истории, ни в биографии. Но я не пишу ведь ни того, ни другого. А люди часто вспоминают события не в том порядке, в каком они происходили. (Прим. автора.)
(обратно)
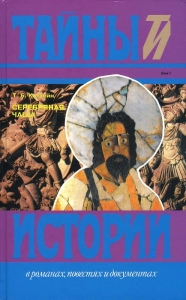



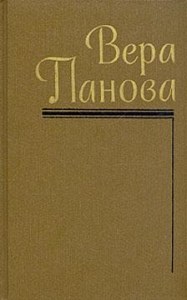
Комментарии к книге «Человек из Афин», Георгий Дмитриевич Гулиа
Всего 0 комментариев