Книга третья. НЕПОНЯТНЫЕ
Часть первая
1
Длинна и тревожна дорога в благословенную Хиву…
Длинна потому, что каждый шаг коня отдаляет путника от родного аула. Как бы торопливо ни ступал конь, как бы старательно ни подгонял его всадник, а все под копытом песок да степная колючка, и нет им конца.
А тревожна оттого, что, отправляясь в Хиву и намереваясь войти в одни из просторных ее ворот, не знаешь, вернешься ли назад. Те из почтенных, кому доводилось бывать в великом городе в далекие и близкие времена, долго потом в молитвах благодарили всевышнего за благополучное возвращение.
От отцов, дедов и прадедов передалась тревога сыновьям и внукам, и, собираясь в путь, кроме хурджуна с подарками, без которых не пройдешь ни в северные, ни в южные, ни в восточные ворота, они брали с собой еще и слова той самой молитвы, оберегающей от зла и несчастий.
С такой молитвой ехал в Хиву и Ерназар, сын младшего бия Мыржыка и племянник старшего бия Айдоса. Оба бия давно оставили этот мир. Младшего убил старший за измену, старшему отрубил голову его стремянный, чтобы старший бий каракалпаков не стал пленником хивинского хана и не был повешен на рыночной площади или растоптан копытами разъяренных коней. Тогда, в 1827 году, подавляя восстание каракалпаков, мало кого пощадил владыка Хорезма. Дорога, по которой ехал сейчас племянник Айдоса, а миновало с тех пор немало лет, все еще была усеяна человеческими костями. О многом напоминали эти кости, о судьбе непокорных напоминали. И напоминание это было печальным…
Да, трудна и длинна дорога в Хиву, утомиться может и путник, и конь, однако одолевающий ее знает: пока не коснется твоя рука кольца ворот хивинских, не покидай седла. Покинешь седло — станешь добычей случая. Случай же, как степной волк, готов вонзиться в твое горло острыми клыками, а вонзившись, вряд ли потом отпустит.
А вот покинул седло Ерназар. Забыл, что ли, совет предков или не почуял вблизи волка степного, в Куня-Ургенче сошел с коня, стал добычей случая.
Праздник справлял город. По обычаю перед народом выступали борцы, показывали свою силу и ловкость. Ввязался в борьбу Ерназар. Кровь-то молодая горяча, не остудишь ее ни мыслью разумной, ни предчувствием осторожным. Схватился с самым сильным борцом Куня-Ургенча, хвастливым палваном, прозванным Слоном. Схватился и одолел его.
Не сразу, конечно, одолел. Палван куня-ургенчский сотни раз выходил на ковер, опытен, ловок и коварен был, а о росте и силе и говорить нечего. Против него Ерназар казался соколом против беркута. Повалил все же Слона молодой богатырь, коснулись ковра лопатки куня-ургенчского палвана.
— Яша! Да здравствует! — должны были крикнуть куняургенчцы, увидя победу молодого богатыря. А не крикнули. Приняли они эту победу как унижение своего города, как позор. Борец-то их славу нес Куня-Ургенчу, возвышал его. Победил чужак Слона, вроде бы победил город. Чему же радоваться? Скорбеть надо.
Награду все же дали. Вывели Ерназару коня-красавца, чистых йомудских кровей. Глаза горят, грива струится пламенем под ветром, да и сам как пламя, не сдержать в узде.
Поклонился старикам Ерназар, поблагодарил за награду. Вставил ногу в стремя, чтобы вскинуться в седло, а вот вскинуться не успел. Тенью возник перед ним джигит в туркменской папахе. Возник и произнес негромко:
— Силен же ты, каракалпак. Как звать-то тебя?
— Ерназаром.
— Хорошее имя, береги его!
— Стараюсь.
— Сегодня плохо старался. Удивленно глянул на джигита Ерназар.
— Разве не положил на землю вашего палвана?
— Положил. Но, как говорят старики, кто победил при солнце, того победят при луне…
— Что же, у него ночью силы прибавится?
— Силы не прибавится. Да не на собственную силу Слон надеется, У него братьев кровных и некровных как муравьев в муравейнике. Сообща они и льва задушат…
Лицо и глаза у парня в папахе были добрыми, и Ерназар поверил ему.
— Рано ли взойдет нынче луна? — спросил он.
— Поздно.
— Спасибо, брат! — Ерназар вынул из переметной сумы плеть с костяной рукоятью редкой работы и отдал джигиту. — Какое имя я должен назвать, благодаря всевышнего за спасение?
— Аннамуратом меня зовут.
— Есть еще имена, что следует помнить?
— Немало… Старики тоже хотят тебе благополучия. Ерназар прижал руку к сердцу и склонил голову:
— Поклон им, братец Аннамурат!
— Береги себя, смелый богатырь, — прошептал джигит. — Не слезай с коня, пока не доскачешь до родного порога.
— Далеко родной порог. Да и не с руки возвращаться. Остановлю коня, когда найду желаемое.
— Много ли шагов до этого желаемого?
И много, и мало… — Ерназар наклонился к джигиту и сказал, приглушив голос:- Ваш город навещают чужестранцы?
— Чужестранцы? — изумился вопросу джигит. Никто, видимо, о таком не спрашивал. — Люди с чужих земель до Куня-Ургенча не доходят. Все в Хиве задерживаются. Там всякого люда полно: и с юга, и с востока, и с запада…
— И с севера?
— Должно быть, и с севера. Говорю же, там всякого люда много… А зачем тебе, богатырь Ерназар, чужестранцы?
— Разузнать хочу, где как живут, чем торгуют, кому молятся.
Джигит хоть и был прост с виду, однако не был простачком. Мысль гостя ухватил сразу.
— Живут по-разному, торгуют всяким товаром, а вот молятся одному богу. Чтобы узнать бога, не надо ездить по ханству, подними голову и глянь на небо.
— Бог, верно, на небе, — согласился Ерназар. — Да не все смотрят на небо, кое-кто и в преисподнюю, в царство шайтана.
В глазах джигита вспыхнуло что-то близкое к испугу.
— Обходи того, кто не верит в бога, бойся искушенных дьяволом.
Усмехнулся Ерназар.
— Не увидя, не обойдешь, не узнав, не испугаешься. Спасибо, братец Аннамурат, что открыл глаза мне. Зрячему куда легче, чем слепому…
На закате солнца, когда азанчи призвал правоверных к вечернему намазу, Ерназар покинул Куня-Ургенч. Никто не пошел по его следу, не пришло в голову муравьям куня-ургенчского палвана, что гость покинет праздник до того, как погасят огонь под котлами и начнется великое угощение. А если бы и пришло в голову, так не посмели бы подняться с молитвенных ковриков и тем совершить непрощаемый грех. Время молитвы — святое время для мусульманина: камень упадет с неба, земля разверзнется перед ним, не шелохнется, не прервет разговора с богом. Беспечность самонадеянных врагов или боязнь нарушить обычай избавили Ерназара от погони. Всю ночь торопил коней молодой богатырь, пересаживался то с иноходца своего на яумыта, то с яумыта на своего иноходца, давая то одному, то другому отдых. На рассвете въехал в западные ворота Хивы.
В розовой утренней дымке город показался ему сказочным. Главное — показался добрым и гостеприимным, и Ерназар с легкой душой, полный радостных надежд, направил коня к медресе Шергази-хана, где, как он знал, обучались юноши из разных стран. Однако не успел конь сделать и десяти шагов, как сзади раздался приветственный возглас:
— Мир тебе, всадник!
Не было у Ерназара друзей в священной Хиве, и родня здесь не обитала, можно было, не оглянувшись, продолжить путь, а не посмел выказать равнодушие и пренебрежение хивинцу молодой богатырь, остановил коня, повернул голову, стал искать глазами того, кто пожелал ему мира.
У дороги глаза отыскали человека в белоснежной одежде, какую обычно носят служители культа. Он был не молод и не стар, но росл и широкоплеч, красив и холен, с тонкой ниточкой усов на круглом лице, добром и приветливом. Человек неторопливо, с достоинством неся пышную чалму и самого себя, приближался к Ерназару.
— Кем будете? Откуда держите путь? — спросил обладатель пышной чалмы.
— Каракалпак я, Ерназар-палван.
— А я — турок… Ахун, — сказал обладатель пышной чалмы.
Не имя было это, а духовное звание. Лишь окончившие медресе в Хиве или Бухаре могли называть себя ахунами.
Соскочил с коня Ерназар и почтительно поклонился чалмоносцу.
— Быстр твой конь, — улыбнулся ахун, — а слава твоя опередила его. Прослышали мы и о силе Ерназар-палвана, и о мудрости его. Славную игру ты затеял в степи, и имя ей дали удивительное: «ага-бий», «брат старший бия».
Смутился Ерназар, игру-то свою держал в тайне. Не простая была эта игра, да и рискованная. Хива-то такие затеи пресекала.
— Что конь, — ответил Ериазар. — У него лишь ноги, у слова же — крылья. Летит как ветер…
— Ветром, должно быть, и занесло… — слукавил ахун. Знал, поди, кто принес весть об игре бия, да не захотел открыть имя или не мог. — Сам-то зачем пожаловал, Ерназар-палван?
— Ищу людей из других стран.
— Похвальное намерение. В Хиве их предостаточно. Я ведь тоже чужестранец. Турок тебе не подойдет?
— Родина твоя прекрасна, ахун, да на юге лежит…
— Какая же сторона света милее твоему сердцу?
— Северная.
С интересом глянул на Ерназара ахун. Загадочным показался ему молодой богатырь. То, что играл он в не поощряемую ханами игру «ага-бий», свидетельствовало о тщеславии племянника Айдоса, желании стать во главе каракалпакских родов. Власть манит многих, и не наложен запрет на желание подняться на холм властителя маленького или большого. А вот обращение к северу зазорно. Край неверных не должен манить к себе истинного мусульманина. Что может найти он там, на земле, проклятой аллахом?
— Сердце твое отворачивается от Мекки? — по-прежнему с лукавой улыбкой спросил ахун.
— Не сердце, оно отдано пророку.
Ахун взял руку Ерназара и прижал большой палец к жиле, что повыше кисти.
— Оно отдано пророку, — кивнул, соглашаясь или утверждая, турок. — Однако и преданное сердце способно томиться недугом. Лицо твое бледно, глаза полны тревоги.
— Я не спал ночь, — сказал Ерназар.
— Бодрствовал, значит. Торопил себя и коня в Хиву. А я думал, дурной сон встревожил тебя.
Турок продолжал держать палец на жиле и мысленно что-то оценивал или проверял. Голова его в это время мерно покачивалась, губы безмолвно шевелились.
— А прежде тебе не виделся дурной сон?
— Я не отличаю дурных снов от добрых, ахун-ага.
— Счастливец! Но сны, братец, бывают плохими и хорошими. Плохие предостерегают нас от опасности. Жизнь-то ведь ставит человеку, как и зверю, капканы. Не попасть бы в них. Видал ты себя когда-нибудь нагим во сне?
Задумался Ерназар. Не приходилось ему разгадывать сны, потому и не запоминал их. Но приятное, взволновавшее его необычностью своей, оставалось все же в памяти.
— Крылья видел. Летал как птица над степью и над морем, — сказал, весь посветлев, Ерназар.
— Летать хорошо во сне, — стер почему-то улыбку с лица ахун. — Ждёт тебя в будущем большое счастье. И тропа к нему пролегает где-то у берега Аму. Мост, по которому ты въехал в Хиву, для многих твоих земляков был удачливым…
— Не знал этого, — удивился Ерназар. — Печальной мне показалась дорога в великий город. Конь спотыкался о кости человеческие…
— Кости непокорных, — заметил ахун. — Склоненные головы ханский меч не сечет… Слышал ты о двух юношах, обласканных добротой властителя? Звали их Мамыт и Сеипназар. Послали их отцы в Хиву передать собранный со степняков налог. На этом самом мосту повстречал их хан и, желая поразвлечься, спросил джигитов: «Кем являются для нашего величества каракалпаки?» Мамыт не растерялся и ответил: «Ножками вашего трона». Поразился хан находчивости юноши. «Отныне ты будешь бием своего рода! — приказал он. Потом обратился к Сеипназару:- Какая пища, по-твоему, самая вкусная?» Сеипназар тоже не растерялся: «Яйцо!» Хан взял его с собой на охоту, а через два дня, возвращаясь домой, на этом же самом мосту снова спросил юношу: «С чем?» Сеипназар сказал: «С солью». Правитель похвалил его за сообразительность и объявил: «Отныне и ты тоже бий своего рода!» Так молодые степняки нашли свое счастье на хивинском мосту…
Улыбнулся Ерназар, сделал вид, будто забавная история с юношами развеселила его. И чтоб самому не показаться простачком, сказал:
— Не встретил я хана на мосту.
Уловил насмешку в словах гостя ахун, но отбросил ее и нравоучительно произнес:
— Не каждый день ты приезжаешь в Хиву, и не каждый день великий хан отправляется на охоту.
— Да, — согласился Ерназар. — Мои дороги ведут в разные стороны. Не знаю, когда снова попаду в Хиву.
— Север тебя манит.
— Манил бы север, так не направил бы я коня на юг. Я ищу людей с северной стороны.
— Русских?
— Угадали, ахун-ага.
Холодом вдруг оттенился взгляд турка.
— Я не угадываю, братец Ерназар. Я все знаю наперед.
Он помолчал, поискал холодным взглядом что-то на лице Ерназара, нашел ли, нет, неизвестно. Должно быть, не нашел, потому что спросил о снах, как и в начале разговора:
— Видишь ли себя во сне нагим, юный брат мой? Дался ему этот сон, огорчился Ерназар. Пустое небось сокрыто в ночных видениях. Однако, чтобы отвязаться от настойчивого ахуна, сказал:
— Видел…
— Вот… А ты все про крылья говорил. Прозорливого человека не обманешь. Сердце-то выдаст тайну. Беда идет по твоему следу, Ерназар.
— Какая беда? — не столько напугался, сколько удивился Ерназар.
Если убить хотели кровные и некровные братья куня-ургенчского палвана, так опоздали, ушел от них на быстром коне. Если упасть должен был мост перед Хивоя и похоронить молодого богатыря, так не упал, и жестокого хана на нем не встретил, не стал жертвой его немилости.
— Имени у нее нет, — ответил ахун. — Хотя можно и найти имя, чтобы легче было тебе распознать, под чем она кроется.
— Так какое же у беды имя?
— Измена.
— Ойбой! — не сдержал своего изумления Ерназар. Да не только изумления. Испуг выплеснулся вместе со словом. — От кого же ждать измены, ахун-ага?
— От близких тебе людей, с которыми делишь и кров, и пищу, и тайны свои. И первой предаст тебя женщина…
Ахун отпустил наконец руку Ерназара, больше она не была ему нужна.
— И помни, юный богатырь, какую бы дорогу ты ни избрал, как бы ни гнал коня, под солнцем, под луной ли скакал, беда будет рядом…
Столько накаркал страшного бедному Ерназару ахун, что тот погрустнел разом и жить и искать справедливости ему уже не захотелось.
— А если я не видел себя нагим во сне? — как за спасительную соломинку уцепился за сомнение юный богатырь.
Засмеялся турок. Смех его был зловещий какой-то и напоминал хохот гиены.
— Увидишь…
Надо было переубедить ахуна, сказать, что сна все же не видел такого Ерназар, но не успел и рта раскрыть, как исчез турок. То ли свернул в переулок, то ли смешался с толпой, движущейся к базару.
«Назад! — решил Ерназар. — Заказана, видимо, мне дорога в Хиву. Не убили в Куня-Ургенче, убьют здесь».
Он повернул коня и погнал его в сторону северных ворот. Конь будто почувствовал тревогу всадника и взял напористый торопливый шаг. Ворота были недалеко, можно было через какое-то время пройти их и оказаться за пределами цитадели, да не суждено было Ерназару легко покинуть священный город. Снова, как и на рассвете, его кто-то окликнул:
— Брат, помоги!
Знакомый был голос, и Ерназар оглянулся.
Три здоровенных хивинца гнали впереди себя избитого, оборванного человека. Лицо было в кровоподтеках у несчастного, но Ерназар узнал его: аульчанин Касым. Мазанка его ютилась на самом краю селения, возле степной дороги. Считался Касым тихим и безобидным человеком.
Конь Ерназара перегородил путь хивинцам.
— Что произошло, братья?
Хивинцы не успели ответить. Застонал, заскулил Касым:
— Они хотят меня ограбить… Я привел на базар свой скот, продал его вчера, а сегодня меня схватили эти люди и стали отбирать деньги…
— Лжет он! — оборвал Касыма старший из хивинцев. — Продал он не свой скот, а вот этого дехканина.
— Да, да! Вчера пропала моя корова, — объяснил второй хивинец. — Вечером нашли ее у мясника Махмуда. Говорит, купил недорого у каракалпака. Нынче утром встретили и самого вора. Вот он!
Хивинец занес руку, чтобы нанести Касыму еще один удар.
— Э-э! — заверещал Касым. — Клевещут хивинцы. Не верь им, Ерназар-ага. Спаси бедного Касыма!
Бедный Касым весь сжался, ожидая расправы хивинцев. Не пощадили бы они человека, заподозренного в воровстве. Смертью карают на Востоке похитителя добра чужого. Но смерть остановил Ерназар. Размахнувшись, он стал хлестать плетью хивинцев, и хлестать так, что взвыли они от боли и кинулись прочь от разъяренного богатыря.
— Спасибо, Ерназар-ага! — пал на колени Касым. — Дай коснуться благодарными губами ноги твоей!
— Не до благодарности сейчас. Возьми моего запасного коня и скачи куда глаза глядят. Спасайся! Второй раз меня не встретишь.
Поцеловал все же Касым ногу Ерназара. Вскочил в седло, и через минуты какие-то конь вынес его из города.
Солнце уже поднялось над степью, когда Ерназар перебрался через Аму. Измокший, он лег у подножия холма, чтобы обсушиться и передохнуть и в покое осмыслить, что же произошло с ним и куда направить теперь своего коня.
Глаз решил не смыкать. Засну ненароком, предостерег он себя, и приснится мне этот проклятый сон, накликающий беду. Беда же не нужна никому, тем более юному богатырю, ищущему справедливость. Поэтому Ерназар лежал с открытыми глазами и смотрел в бездонное синее небо.
В небе летали птицы. Одни высоко, другие низко. Горело южное горячее солнце. Шумели травы под легким ветром. Травы шумящие, наверное, и усыпили Ерназара. Он не заметил, как заснул. А когда проснулся, то травы уже не шумели, птиц не было, солнце клонилось к западу. Но проснулся Ерназар не потому, что смолкли травы и солнце клонилось к западу. Где-то недалеко раздавался стук, и был он громким и неумолчным. Будто железо ударялось о камни — и они звенели.
Поначалу Ерназару показалось, что стучат копыта коней. А когда стучат копыта, то всякому беглецу мерещится погоня. Странно только, почему стук не приближался, стихал и возникал в одном и том же месте.
Поднялся Ерназар и стал оглядывать склоны Кара-тау. Зоркий глаз юноши легко отыскал стайку людей, прилепившуюся у невысокой скалы. Люди махали руками, и в руках этих чернели железные молоты. Так показалось Ерназару. Одежда на людях была хивинская, но не на всех. Один был одет в светлую куртку с блестящими пуговицами. Пуговицы, попадая в лучи солнца, ярко вспыхивали.
— Русский?!
Ерназар взял под уздцы коня и направился к скале.
Да, это был русский, но совсем не такой, каким представлял себе русского Ерназар. Походил на хивинца обликом, вот только лицо было светлым. Главное, говорил по-узбекски. По-узбекски он и приветствовал Ерназара.
— Салом алейкум!
— Ваалейкум ассалом! — ответил тоже по-узбекски Ерпазар. — Хорманг! Не уставать вам.
— Спасибо на добром слове, джигит! — улыбнулся русский. — И тебе не уставать. Дорога твоя, вижу, не легкая и у этой скалы не кончается.
Смутился Ерназар. Дорога его, кажется, кончилась — и именно у этой скалы.
— Дом мой далеко, но остановиться думаю здесь, если не прогоните…
— Гость, выходит, наш? — оставил свою доску, на которой были разложены камни разной величины и разного оттенка, русский и подошел к Ерназару. — Расседлывай коня и садись к дастархану. Сейчас обедать будем… Эй, Абдурахман, ставь котел на огонь да зови ребят.
— Не стесню ли я вас? — сделал попытку отказаться от дастархана Ерназар.
— Знаешь обычай Востока: гостю почетное место. А более почетного места, чем дастархан, у нас нет.
— Вы же не с Востока… Вы с севера.
— Верно, я — русский. Но здесь ты можешь меня считать узбеком, туркменом, каракалпаком. Братом…
Расцвел, будто вторая весна пришла к нему, Ерназар.
— Я — каракалпак… Могу ли и себя считать вашим братом?
— Конечно, добрый юноша… Я наслышан о каракалпаках и рад, что судьба привела меня в их края.
— А я рад, что судьба привела меня к этой скале… Счастливая скала.
Загадочными показались слова юноши русскому, и он вопросительно посмотрел на него.
— Ты что, ищешь, как и мы, серебро и золото?
— Нет, ага, ум мой не так пытлив и знания не так велики, чтобы открывать тайны земли… Я ищу русского человека.
Еще более загадочными стали слова юноши. Загадочными и странными. Зачем этому каракалпаку русский человек? Какая причина заставила его скакать к подножию Каратау? Судя по всему, скакать не один день.
— Ну, нашел, — усмехнулся русский. — Что же ты теперь будешь делать с ним?
— Делать?! Разговаривать, — простодушно признался Ерназар.
— Чистая душа у тебя. Да не торопись открывать ее людям. Запоганят ее завистью и обманом.
— Вы-то не сделаете такое?
— Наверное, не сделаю. Но ведь ты меня не знаешь.
— Что из этого. Верю…
Смутил вконец русского Ерназар. Не был он, поди, ангелом среди людей. И среди людей не был самым лучшим. Просто человек. Добрым был. Доброта-то его и заставила проявить внимание к молодому каракалпаку.
— Трудную ты задачу мне задал. Поверил в человека. А это, значит, взвалил на меня камень величиной с эту скалу. Неси и не споткнись, не урони камень. Уронишь — потеряешь веру в себя…
— Я считал, когда в человека верят, ему легко…
— Нет, — покачал головой русский. — Ему не легко. Легко тому, кто верит… Ну да что об этом толковать… Сядем к котлу, подкрепимся!
Абдурахман, которому русский поручил разогреть обед, снял котел с треноги и поставил его на плоский камень посреди цветной скатерти. Вокруг котла расположились помощники русского — молодые и немолодые хивинцы. Их было не много, но все рослые, широкоплечие, мускулистые. Один мог заменить троих. И все же немногочисленность помощников русского удивила Ерназара. Что могут сделать великого в горах десять человек? Сдвинуть с места скалу им не под силу. За дастар-ханом не полагалось задавать вопросы старшему, а русский был здесь старшим, и юный гость не посмел бы нарушить заведенный еще предками порядок, но любопытство победило, и он спросил:
— Вы собрали столько камней! Что можно из них сделать?
— Пока ничего, — ответил русский. — Ты когда-нибудь видел берег, размытый Аму?
— Видел.
— Заметил в обнаженных пластах земли диковинные ракушки?
— Да.
— Подумал, откуда они попали туда?
— Нет. Я же говорил вам, ага, что ум мой не так пытлив и знания не так велики, чтобы разгадывать тайны земли.
— Это уже не тайна. Ракушки лежат здесь миллионы и миллионы лет. Под нами было дно моря…
— Арала?
— Арал по сравнению с тем морем — капля. И как оно называлось, никто не знает, потому что не было у него названия и некому было его дать… Так вот, ракушки — это след прошлой жизни. Остался след и на камнях, и в самих камнях. Его-то мы и ищем.
— И что ж: этот след — золотой, серебряный?
— Может быть и золотым. Но лучше, если бы это золото было черным. Ты слышал что-нибудь о нефти, добрый юноша?
То, что горит?
— Да. Черным золотом зовут его, потому что польза от черного золота велика. Придет время, без нефти жизнь замрет…
Слова русского взволновали Ерназара. О необыкновенном говорил он, хотя необыкновенное это было очень простым и находилось где-то рядом, протяни руку — и коснешься его. Груда камней высилась за спиной Ерназара. Сказочных камней.
— Хан знает, что вы ищете?
— Не только знает. Помогает искать. Джигитов дал, пусть, говорит, распотрошат гору, доберутся до сокровищ.
— Ему своих мало?
— Предела богатству нет, как нет предела желаниям. Ты ведь тоже что-то ищешь?
О богатстве не думал Ерназар. К чему оно? Есть у него конь быстроногий, второго не надо. Второго он отдал несчастному Касыму, которого чуть не убили хивинцы.
— То, что я ищу, не в камнях и не в хурджуне. Я хочу блага своему народу. Обездолен мой народ…
Загадочным все-таки был этот юный каракалпак. Похож на закатное облако, что окрашивается то одним, то другим цветом. Не поймешь, какое оно в самом деле. Оставил ложку русский, стал разглядывать Ерназара.
— Как кличут-то тебя?
— Ерназаром!
— Запомню… А я — Грушин! Ты тоже меня запомни. Благо, которое ты хочешь добыть народу, не в слове. Дай ему сокровища, что на земле и в земле. Что на земле, дать легче, что в земле — труднее. Тогда понадобится Грушин. Понял?
— Понял, ага!
Теперь за дело! Хоть и велика гора, а надо все же ее распотрошить…
— Можно мне помочь вам?
— Отчего же нельзя? Камней всем хватит. Их тут господь бог набросал, за всю жизнь не переберешь…
Верно, камней всевышний накидал щедро. Десять помощников Грушина и одиннадцатый — Ерназар — трудились в поте лица, орудуя кирками, молотками и просто голыми руками, однако перетащили и раскрошили всего лишь сотню камней. Разбитые, они не сверкали ни золотом, ни серебром. Не чернела и нефть.
— На сегодня хватит, — остановил работу Грушин, когда солнце скрылось за горой и синие тени легли вдоль берега.
Абдурахман снова развел огонь под треногой и водрузил на нее черный от дыма котел.
— Вы сказали, ага, что наслышаны о каракалпаках, — напомнил Ерназар Грушину слова его, произнесенные при знакомстве. — Хорошо ли говорят о моем народе в России?
— Мало говорят. Слишком далеко живете от нас, а когда за истиной надо ехать тысячи и тысячи верст, мало кто проявляет желание добыть эту истину. О каракалпаках я узнал больше из книг. Забредали в ваши края путешественники, они-то и поведали людям про жизнь на берегах Арала, Сырдарьи и Амударьи. Сохранилось кое-что в придворных канцеляриях, донесения послов, прошения на имя императрицы. Указ Елизаветы Петровны о принятии каракалпаков в русское подданство попал мне в руки. Великий указ, добрым словом высказано в нем желание России взять под свое покровительство малый народ.
— Держали в руках его? — засветился весь Ерназар.
— Держал и читал.
— А народу нашему сказали, будто он уничтожен. Будто отказалась от нас Россия…
Нахмурился Грушин. Складка суровая пролегла над бровями.
— Недруги сказали. Много их развелось, будто спасения хотят людям на этом и на том свете, а не о спасении думают — о гибели. Толкают на братоубийственную войну, вражду разжигают между соседями, неверие друг к другу сеют. Неверие, братец, хуже огня, души сжигает.
— Кто же посеял у русских неверие к нам? — спросил Ерназар.
— Не так спрашиваешь, братец! Кто посеял неверие к русским у каракалпаков? Дело-то Маман-бия никто не поддержал. Смельчаки, направившие коней своих на север, погибали в пути.
— Но и Россия не шла к нам навстречу? — заметил с обидой Ерназар.
— Было и такое, — согласился Грушин. — Сама кровью истекала в схватке с врагом. Полчища целые навалились на Русь. Тут не протянешь руку брату малому, рука-то держит меч и щит… Выпусти только, враг в горло вцепится.
Вздохнул Грушин, вспоминая прошлое, такое тяжелое для его родины. Воспоминания, однако, не помешали ему принять укор гостя.
— Вина тут обоюдная… Наша вина, правда, потяжелее. Мы и старше, и сильнее вас, а вот в обиду дали. Не знаю, на ком грех: на царе или на слугах его. Есть грех. Смыть бы надо его…
Тронуло Ерназара признание Грушина. Повинился он вроде бы перед каракалпаками и сделал это искренне.
— Сейчас-то рука русских свободна? — робко полюбопытствовал Ерназар.
Улыбнулся Грушин.
— Наверное, свободна, да ведь не протянешь ее народу, который не просит помощи. Соседи-то застрекочут, как сороки: русские вмешиваются в дела мусульман, не пускайте русских на землю, освященную именем пророка. Стрекот этот подхватят турки, персы, англичане…
Все, кто был у вечернего огня, слушали Грушина затаив дыхание. Удивительное говорил этот русский. Он знал не только тайны земли, но и тайны судеб человеческих. Судил ханов и царей, как бек или бий судит простого пастуха.
Внимал каждому слову русского и Ерназар. То, что Грушин судил ханов и царей, мало трогало его, а вот укор народу, сыном которого он был, огорчил. Болью отозвалось сердце на этот укор.
— Может великий народ не слышать стрекота проклятых сорок? — спросил юный богатырь.
— Может, если его заглушит голос Маман-бия.
— Но, мудрый ага, Маман-бия нет и не будет.
— Ошибаешься: мать, родившая одного великого сына, подарит народу и второго…
— Верите в это?
— Верю!
2
Спешил молодой богатырь на берег Казахдарьи к началу зияпата, коня не жалел, плеть не берег, а все же опоздал. Не дождались джигиты своего ага-бия. До полудня высматривали степь, пытаясь увидеть на краю ее силуэт всадника, скачущего к реке, когда же солнце повернуло на другую половину неба, открыли казаны с томящимся в них мясом и приступили к трапезе. Как и всякий пир, зияпат начинался с трапезы. За угощением и беседа веселее идет, и сырнай поет громче.
Ерназар прискакал в аул, когда первый котел уже опорожнили и принялись за второй. Правда, успели только выложить мясо на широкие подносы и ничья рука еще не протянулась к нему. А крик караульного: «Едет! Едет ага-бий!»-эту руку и вовсе заложил за спину. Теперь в присутствии ага-бия не посмел бы никто коснуться мяса. И не потому, что запрет существовал какой-то, уважение к старшему не позволяло. Старшим же был Ерназар.
Года, поди, еще не прошло, как затеяли джигиты игру в ага-бия, а привыкли к ней и усвоили законы, которые диктовала игра. Строгие законы, нарушение их каралось. Провинившегося судил казий, наказывали пле-точники.
Затеяли игру джигиты, сыновья именитых степняков, а мысль подала мудрая Кумар, мать Ерназара. Умнее и властнее Кумар не было на каракалпакской земле женщины. И прозорливее не было. Видела будто дорогу, которой надо идти ее народу, и не навязчиво и не требовательно, а лишь советуя по-матерински, показывала эту дорогу молодым. Не одиночек был этот путь — всех степняков. В игре-то и соединялись они.
Единения больше всего боялся хивинский хан. Подавив восстание каракалпаков в 1827 году, он перемешал и расселил их роды, сменил биев, убрал родовых старейшин. Все, кто был близок предводителю восставших Айдосу, были казнены или изгнаны из ханства. С корнем вроде бы вырвал правитель Хорезма ядовитую траву недовольства и протеста.
Уцелела Кумар, вдова брата Айдоса, да и то лишь потому, что муж ее выступил против старшего бия и погиб от его руки. Не знал хан близости Кумар замыслам Айдоса, не ведал о мечте ее увидеть поднятым снова знамя Маман-бия.
А мечта жила в сердце Кумар, как живет смелый орленок в горном гнезде. Вырасти ему надо только, опериться, и тогда взлетит он. Взлетел он, когда сыну Кумар, Ерназару, исполнилось девятнадцать и силы и ум его готовы были принять завет Маман-бия — объединиться, стать под могучее крыло России. Завет принял молодой богатырь от матери, от нее принял и напутствие: идти к цели тайным путем, открываясь лишь соратникам своим и богу.
Тогда-то и вспомнила Кумар древнюю игру каракалпаков «ага-бий». Молодые в этой игре признали старшим Ерназара, вроде бы стали под его начало, пошли за ним. Да и как не пойти, если Ерназар и по силе и по уму превосходил каждого из своих сверстников. И не только сверстников. Приняли участие в игре и тридцатилетние, которым подчиняться кому бы то ни было зазорно, тем более младшему по возрасту. Увидели тридцатилетние в Ерназаре смельчака, способного бросить вызов хану, ненавистного всякому вольному степняку. А как не пойти за смельчаком, как не подчиниться ему, как не возгордиться причастностью к делу возрождения народа своего. Игра чем-то напоминала совет биев, существовавший при Айдосе, старшем бии каракалпаков, и уже тем самым переставала быть игрой.
Зияпат устраивали поочередно все участники «ага-бия». В тот день, когда Ерназар, задержавшись у Кара-тау, торопился к берегу Казахдарьи, выпал жребий Ма-улена-желтого, сына известного в степи бая, несколько лет назад покинувшего этот мир. Не больно расторопный, забывчивый, рассеянный до смешного, он на сей раз проявил поразительную сметливость и сосредоточенность. До рассвета поднял своих джигитов, чтобы они к восходу солнца успели расставить котлы, освежить баранов, пригнанных с ночной пастьбы, перебрать пшено для байсабайлы, расстелить паласы и кошмы в юрте и вокруг юрты. Решил встретить восход солнца и гостей, как подобает истинному степняку.
Взошло солнце, съехались гости. Не сразу, конечно, и не все вместе: на пиршество принято ехать не торопясь, поглядывая на небо — высоко ли поднялись дымки костров, греющих котлы. Если не высоко, то и спешить незачем. Если высоко, надо подогнать коня. Так, подгоняя коня или сдерживая его шаг, добрались гости до аула Маулена-желтого. Добрались, покинули седла и расселись на кошмах у юрты. В дом входить без ага-бия нехорошо. Не разрешает обычай предков ставить ногу впереди ноги старшего бия. А Ерназар для молодых вроде бы старший бий.
Ну, как уже говорилось, рассвет миновал, миновал полдень, а Ерназара все не было, и пришлось гостям переступить порог юрты, начать зияпат. Начать начали, завершить без ага-бия не суждено было.
На крик караульного: «Едет! Едет!»-выскочили гости из юрты, и первым хозяин, Маулен. Встретил ага-бия, принял повод из рук его, помог спешиться.
— Слава всевышнему! — сказал Маулен, почтительно кланяясь почетному гостю. — Не дал ветру прекратить ваш путь, не позволил песку замести тропу. Снова с нами вы.
Улыбнулся благодарно Ерназар, тронул ласково плечо Маулена.
— Разве сможет ветер помешать нашему делу. Пока он дует не в лицо нам, а в спину. Торопит.
Подбежал к Ерназару и судья Фазыл.
— Ага-бий, ветер, может, и дует в спину, а вот песок сечет лицо, — в тон Ерназару произнес он. — Аскар-бий забрал нашего главного борца с собой в Хиву.
Первую потерю в стае, которую с таким трудом собрал ага-бий, нельзя не заметить, досаду вызвала она в Ерназаре, и подумалось, случайная ли потеря, но досаду не выказал своим товарищам. Сказал спокойно, с беспечностью напускной:
— Не беда, обойдемся нынче без борьбы. Найдем чем позабавиться.
В сопровождении джигитов, как старший бий, не по возрасту, а по положению, им же самим установленному, Ерназар вошел в юрту и сел на почетное место, ему лишь предназначенное. Сел и тем дал понять, что игра начинается. С этого мгновения начинается, а все, что было прежде, ага-бий не знает и знать не хочет. Да и было ли что. Пусть почувствуют джигиты власть того, кто поставлен над ними. И именно сегодня почувствуют. Надо же игру превращать в дело.
Маулен-желтый принес чайник, поставил его у ног ага-бия.
— Что прикажет великий бий? — склонившись в почтительной позе, произнес Маулен.
Угадал, что ли, желание Ерназара повернуть от игры к делу или оговорился просто этот Маулен-желтый, но, назвав великим ага-бия, вроде бы сделал его старшим над степняками. Слово не прозвучало шутливо, шутку джигиты сразу бы уловили и наградили хозяина улыбками. Ерназар тоже наградил бы. А не пришлось. Строго и торжественно преподнес высокое звание ага-бию Маулен и тем смутил его. Хотел именоваться старшим бием Ерназар, мечтал о таком взлете, когда же предложили, пусть случайно, льстя честолюбию гостя, стать первым бием каракалпаков, устыдился он такой почести. Понимал, что права на это не имеет.
Надо бы превратить все в забаву, пожурить злато-устого Маулена, наказать словом за лесть чрезмерную. А не превратил все в забаву Ерназар, не пожурил, не наказал словом. Смолчал. Прищурившись, долгим взглядом изучал хозяина, выверял, от души ли тот преподношение дорогое сделал гостю. Ничего не узнал. Отбросить же преподношение не захотел. Слишком приятным оно для него было. И нужным.
— Начнем совет! — сказал Ерназар.
Да, нынче все было не так, как прежде. Не зияпат приказывал начинать ага-бий, а совет. Советом же назывались встречи биев в ауле Айдоса, когда тот, как старший бий каракалпаков, решил объединить степные роды, создать ханство каракалпаков.
Озадаченный Маулен заморгал растерянно глазами: он не знал, как открывается совет и что ему, Маулену, надо сделать, чтобы этот совет по-доброму прошел в его юрте.
Ты всегда был нетороплив, Маулен, а нынче и вовсе неспособен двигаться, — заметил Ерназар.
Кто-то из джигитов объяснил:
— Пораженному копьем не только двигаться — стоять трудно.
Маулен развел руками, показывая этим, что он в самом деле ранен. Рана, правда, не слишком приметной была, Ерназар не сразу ее увидел, лишь когда хозяин повернулся, на левой щеке ясно обозначился шрам.
— Кто же это посмел бросить копье в моего джигита? — спросил Ерназар, улыбаясь. В истинный удар копьем он не поверил, понял, что шутка это. Копье бы снесло Маулену голову.
Маулен приосанился, выпятил вперед грудь.
— Не мужчина! Нет такого джигита, который поднял бы на меня руку. Она отсохла бы моментально.
— Женщина! — подсказал тот же веселый голос.
— Да, женщина, — подтвердил Маулен.
Ты сражаешься с женщинами? — рассмеялся Ерназар.
— Не я — они сражаются со мной.
В третий раз кто-то из джигитов пояснил:
— Жена бросила в Маулена копье.
— Именно копье! — крикнул Маулен. — Я видел в ее руке копье, хотя жена утверждает, что это был кухонный нож. Но какая разница! У ножа и копья один предок — острое железо. Они, можно сказать, братья единоутробные, близнецы, их легко перепутать. Конечно, не цени жена моего мужского достоинства, она метнула бы нож. Выбрала, однако, копье, за что я благодарен ей. Значит, любит меня и не обменяет ни на кого другого…
Джигиты дружно захохотали. Рассмеялся и Ерназар.
— Поблагодарим жену Маулена, — сказал он, — за то, что она метнула в него нож, а не копье. Иначе сидели бы мы здесь не на зиянате, а на поминках.
Ага-бий сделал омовение лица, давая понять гостям, что с забавами покончено и пора приступать к делу. Он же объявил нынче совет, а коли объявил, надо и вести его.
Джигиты повторили вслед за Ерназаром омовение и замерли, ожидая от ага-бия и его помощников каких-то важных сообщений.
Ерназар обратился к сидевпшму по правую руку от него Фазылу:
— Ну, судья, есть нынче желающие присоединиться к нам?
— Желающих много, ага-бий, но отобрали мы толь ко двух, — ответил, чуть приподнявшись, Фазыл. — Первый — юноша по имени Ерназар, сын Кабыл-бия из рода кенегес…
— Братец Фазыл, не называй никого по родам, не разделять надо людей, а объединять. Пусть все считают себя сынами одного племени — каракалпаков.
— Хорошо, великий ага-бий! Но я побоялся, как бы не спутали джигитов с одинаковыми именами. Пусть вместо рода будет другое определение. Назову сына Кабыл-бия Ерназаром-младшим.
Маулен-желтый, как уже известно, никогда прежде не встревавший в чужой разговор, нынче стал словоохотливым. Не успел судья Фазыл закончить свою мысль, Маулен тут же вставил словечко:
— Вот меня кличут Маулен-кандекли, то есть Маулен из рода кандекли. И я с этим смирился, единственно чтобы не огорчать своих кичливых родственников. Они считают себя избранниками божьими и хотят видеть каждого кандекли или муллой, или сборщиком налогов, или казначеем хана. Мне тоже советуют выбрать для себя какую-нибудь важную должность…
— Какую же должность ты хотел бы занять, брат Маулен? — глянул настороженно на хозяина юрты Ерназар.
— Любую, но лучше ту, которая повыше.
— Для степняка, отмеченного копьем жены, выше должности, чем глава семьи, нет, — сказал ага-бий. — Но и с ней ты не справляешься.
Напоминание о копье вызвало вновь веселое оживление в юрте. Джигиты показывали пальцами на Маулена-желтого и насмешливо выкрикивали: «Отбери у жены копье, это оружие мужчины!»
Скорбная гримаса исказила лицо Маулена. Никто не видел его таким огорченным и печальным. Оказывается, нерасторопный, бестолковый и забывчивый Маулен мечтал о высокой должности при ага-бии! И вот эту мечту его погасили.
Мечту Маулена погасили, а вот обиду и злобу в сердце зажгли. Кинул он ненавидящий взгляд на ага-бия и вышел из юрты.
— Кто знает юношу Ерназара-младшего и что может о нем сказать? — спросил ага-бий, когда хозяин юрты удалился.
Приподнялся с паласа есаул Артык.
— Наш новый агабиец учился в одном медресе с Сеидмухамедом, младшим братом хивинского хана, что правит ныне в добром здравии нами. Духовные отцы укрепили в нем веру в силу и справедливость всевышнего, одарили его знаниями, воспитали чувство уважения и преданности власти, освященной аллахом…
Торжественная и льстивая речь есаула поразила всех, никто так громко не восхвалял вступающего в совет агабийцев. Никому в голову не приходило ставить новичка выше остальных участников зияпата. Неловко почувствовали себя джигиты и опустили стыдливо глаза, будто провинились в чем-то перед этим воспитанником ханского медресе.
— Воспитали чувство уважения и преданности власти, освященной аллахом, — повторил Ерназар, пытливо рассматривая юного агабийца.
Худеньким, хрупким был этот однокашник ханского брата. На бледном лице его горели черные, пронзительно смелые глаза. Он, кажется, все видел насквозь и все понимал. Ум светился во взгляде, ум взрослого, многоопытного человека. Но не добрый ум — скрытный, завистливый. Многого хотел этот юноша и ко многому стремился. Торопливости, однако, в его характере не было. Он знал, сколько надо сделать шагов, чтобы достичь цели. Цель, видимо, у него была дерзкая. И идти к ней надо отсюда, из юрты Маулена-желтого. Так решил юноша.
— Повелевайте, великий ага-бий! — дрожащим от волнения голосом произнес Ерназар-младший. Голова была поднята, глаза преданно смотрели на предводителя агабийцев.
— Не время повелевать, — холодно заметил Ерназар. — Повтори правила игры нашей!
Звонко, как камешки, падающие на сухую землю, прозвучали слова юноши:
— Если я совершу неблаговидный поступок, провинюсь перед моим народом, не выполню повеление великого ага-бия, пусть бог проклянет меня! Пусть великий бий выколет мне глаза!
Страшным было наказание, ожидающее провинившегося. Произнес же клятву юноша легко, с радостью какой-то, будто пел веселую песню.
— Искренен ли ты, клянясь в верности народу?
— Искренен! Бог тому свидетель.
Ерназар не поверил сказанному, тревожное сомнение вселилось в него с первых слов, произнесенных юношей. Слишком торопливо и уверенно произносил их. Но что сомнения! Не запятнал себя ничем Ерназар-младший и, дай бог, не запятнает.
— Считай себя, Ерназар, нашим братом!
Юноша направился к своему месту на паласе. Но прежде чем сесть, сказал:
— Великий ага-бий! Повелите следующий зияпат устроить в моей юрте. Отец сочтет за честь принять всех вас у себя, а мне выпадет счастье служить вам!
Снова голос его дрожал от волнения. И волнение это подкупало. Порядок, правда, заведенный ага-бием, не допускал нарушения очередности. Нельзя забегать вперед новичку, отодвигая старых членов игры. Но и не уважить просьбу юноши тоже нельзя. Обидишь отказом, а обида что просяное зерно, брошенное в землю, прорастет, поднимется, даст сто зерен. Сто обид нужны ли?
Ага-бий отщипнул от лепешки кусочек и, поманив к себе Ерназара-младшего, вложил хлеб ему в рот. Согласие на устройство зияпата в юрте новичка было дано.
Судья Фазыл представил второго новичка:
— Мадреим, сын покойного муллы Реима из рода ктай. Он старше многих из нас, ему тридцать лет… Ну, Мадреим, не робей, покажись джигитам!
Мадреим предстал перед собравшимися — худущий, черный, будто обуглившийся тополь.
— Вот я…
Неугомонный джигит, все время подававший голос без позволения ага-бия, снова вылез с вопросом:
— Почему так долго не вступал в игру? Мадреим стал чесать затылок, обдумывая, как ответить. Думал он долго, так долго, что терпение у настырного джигита лопнуло и он подтолкнул новичка:
— Да ты ищи ответ не на затылке, а в голове.
— И там нет ответа. Не знаю, почему не вступал в игру. Среди знатных и умных людей мне вроде не место. Я и нынче боялся войти…
— Вошел, однако, — сказал Ерназар. — А раз вошел, то и останешься с нами. Правила запомнил?
Мадреим опять принялся чесать затылок.
— Знает он правила, — заверил судья Фазыл. — От робости язык не поворачивается.
— Верно, не поворачивается, — согласился Мадреим.
— Побудешь с нами, начнет ворочаться — и хорошо ворочаться. — Ерназар улыбнулся новичку и тем поздравил его со вступлением в ряды агабийцев. Джигитам сказал:-Потеснитесь-ка, братцы, дайте место Мадреиму.
На этом церемония приема в игру не закончилась. Судья Фазыл стал, вроде Мадреима, чесать затылок и пожимать плечами.
— Что ты маешься, Фазыл? — полюбопытствовал ага-бий.
— Да вот не знаю, как поступить. Просится к нам в игру степняк из чужого аула, правила наши принял, клятву верности делу уже дал…
— Чего же медлишь?
— Казах он… Игра наша каракалпакская, и все мы — каракалпаки.
— Кто он, этот казах?
Табунщик Зарлык, торе из потомков Чингисхана.
— О-о! — пронеслось по юрте. Потомков Чингисхана среди агабийцев не было. Престижно для каждого степняка сидеть рядом с человеком, в жилах которого течет кровь великого хана.
— Есаул Артык, зови сюда Зарлыка! — приказал Ерназар.
Артык выскочил из юрты и через мгновение какое-то вернулся в сопровождении высокого, стройного красавца с раскосыми черными глазами. Шепот удивления и восхищения пронесся по юрте.
— Расскажи о себе! — попросил ага-бий.
— Я пасу лошадей Батык-бая. Хозяин мой, прослышав про игру «ага-бий», послал меня сюда со словами приветствия и просьбой, если сочтете возможным, принять его табунщика в ваш круг. Зияпат, когда наступит срок, будет устроен Батык-баем.
Ерназару понравилась прямота, с которой произнесены были слова табунщиком. Без лести обращался он к ага-бию, без низкого поклона входил в юрту совета. Достоинство вольного степняка не привык ронять.
— Ел ли ты когда-нибудь с каракалпаком из одной миски? — поинтересовался ага-бий.
— Ел, и не раз.
— Прикрывался ли с каракалпаком одним тулупом во время бурана?
— Прикрывался.
-; Обоим ли было тепло?
— Обоим. Не замерз, как видите, ага-бий! Ерназар одобрительно покачал головой и сказал душевно:
— Когда едят из одной миски и прикрываются одним тулупом — становятся братьями. Мы принимаем тебя в свой круг, как брата, Зарлык.
Зарлык склонил голову, благодаря ага-бия за доброту.
— Ты больше не чешешь затылок, Фазыл, значит, конь твой больше не спотыкается? — усмехнулся Ерназар.
— Спотыкается, великий ага-бий.
— Что еще за камень на нашем пути? И велик ли?
— Велик… У стремянного Айдос-бия, Доспана, остались сироты — дочь и сын. Дочери минуло шестнадцать, сыну — тринадцать. Оба хотят стать агабийца-ми. Я прогнал их. Не место среди нас безродным и бездомным…
— Дочь Доспана — красавица! — бросил кто-то восхищенно.
Джигиты шепотком повторили: «Красавица!»
— Красота не ярлык на бийство, — заметил раздраженно Фазыл.
С укором посмотрел на чванливого судью своего Ерназар.
— Красота, верно, не ярлык на бийство. Однако и не след от проказы, за который изгоняют из аула, — произнес с горечью Ерназар. — Если нищий не получил хлеб из твоих рук сегодня, пусть уйдет с надеждой, что получит его завтра. Оставил ты надежду в сердцах детей Доспана?
Промолчал Фазыл. Надежду не оставил судья, да и не намерен был оставлять. Есть из одной миски с безродными и бездомными не собирался, тем более брататься с ними.
Молчание было понято всеми как завершение процедуры принятия в круг новичков. Внесли чайники и пиалы. Наступило время разговора о судьбе края родного. Разговор начал ага-бий:
— Рассказывают, будто попал один степняк во владения аллаха. То ли счастье ему выпало, то ли грехов у него не было, но открылись ему ворота рая, и отправился он гулять по лугам и рощам, отыскивая себе место, где можно отдохнуть. Много ли, мало ли ходил, только набрел наконец на юрту среди цветущего сада — богатую, красивую, просторную. Здесь я и поселюсь, решил степняк. Отодвинул полог, переступил порог, а хранитель рая остановил его: «Нельзя. Юрта предназначена для каракалпаков. Так повелел всевышний!» Удивился степняк: «Где же они? Или не умирают?» — «Умирают, — ответил хранитель рая. — Вот до небесной юрты дойти не могут. Весь путь их оканчивается на мосту перед вратами рая». Степняк еще больше удивился: «Сил не хватает?» Хранитель рая пояснил: «Сил много, да расходуют себе во вред. На земле начинают ссоры, на небе их продолжают. Мост узок, каждый норовит пройти первым, оттолкнуть брата, перешагнуть через лежащего. Сыны одного рода нападают на сынов другого рода. В схватке слепнут от ярости. А слепому не только по узкому мосту — по широкой дороге не пройти. Падают с моста. Под мостом-то пропасть, а в пропасти — ад. В аду и кончается их путь на том свете».
Притча была проста, а не все ее поняли. Те, кто понял, загрустили: печальной показалась им судьба собственного народа. Те же, кто не понял, заулыбались весело: забавная притча. Глупцам и на небе не везет! Надо бы сразу раскрыть суть притчи, да побоялся Ерназар укоротить тропку к истине и тем облегчить задачу. Легкое просто входит в душу человека и так же просто ее покидает. Истина же должна остаться надолго, если не навсегда. Удлинить решил тропу Ерназар, трудной сделать ее для джигитов.
— Какая земля самая плохая? — задал он загадку. Голов было много в юрте. Не все, однако, умели трудиться. Да и надобности в этом не видели. Пусть думают те, кто ближе сидит к ага-бию, кому ум дан по положению. Сообразительнее и торопливее всех считался судья Фазыл. Он первым и разгадал загадку:
— Самая плохая земля без воды. Правильной, наверное, была разгадка, а джигиты не
выразили одобрения. Сомнение вроде бы пало на них. Промолчал и ага-бий, а его слово считалось решающим.
— И я хочу спросить! — выкрикнул сидевший у входа тщедушный юнец.
— Спрашивай, Мухамедкарим! — разрешил Ерназар.
— Что на свете всего сильнее?
Не ко всем обращался юнец, а к ага-бию, так поняли джигиты и молча ждали ответа от своего предводителя. Пришлось ответить Ерназару:
— Хлеб и единство!
Непростым был ответ. Понравился он агабийцам, заставил их одобрительно зашуметь.
— Верно ведь, что сильнее единства, что важнее хлеба…
Когда коснулась истина души агабийцев и почувствовали они потребность нового прикосновения, Ерназар дал ответ и на первый вопрос:
— А самая плохая земля на свете — земля без друзей.
Это уже помогало ага-бию прокладывать тропку, долгую и трудную, к сути притчи. Единство-то в дружбе.
Джигиты пошли по долгой тропе за ага-бием. Один Фазыл не захотел вступить на нее. Ерназар как бы стер слова судьи, тем самым унизил перед агабийцами. Вытянулось обиженно лицо Фазыла, потух в глазах добрый огонек. А когда гаснет добрый огонек, где-то вспыхивает злой.
Тщедушный юнец Мухамедкарим, поощренный ответом самого ага-бия, принялся бросать вопросы, словно высевал просо на пашне. Богат был юнец хитрыми загадками. Одну кинул новичку Мадреиму:
— Как отличить умного от глупого?
Сам-то Мадреим оказался умным, хотя от робости рта не открывал при народе.
— Глупый поучает, умный учится сам! — ответил он тихо.
— О-о! — пронесся одобрительный возглас по юрте, — Мадреим, видно, учится сам.
Хозяин юрты, стоявший у порога, как и положено хозяину, весь горел желанием включиться в игру. Рот у него каждый раз открывался, когда задавали вопрос, но слова не успевали вылететь, и он закрывал его, огорченный. Похвала в адрес Мадреима подтолкнула Маулена-желтого. Он крикнул:
— Эй, новичок, Ерназар-младший, скажи, какому блюду хан отдает предпочтение? Ты учился с его младшим братом, должен знать, что любит старший!
Ерназар-младший хоть и не знал любимого блюда хана, однако не растерялся. Выпалил уверенно:
— Виноградному соку хан предпочитает сок морковный!
Огорчился Маулен-желтый. Втайне надеялся, что Ерназар-младший назовет одно из блюд, которыми потчевал он сегодня гостей. Огорчение и заставило его испытать еще раз юношу:
Чьим рабом ты себя считаешь?
— Рабом божьим! — ответил юноша.
Смелость и находчивость юноши пришлись не по душе Фазылу. Он и тут усмотрел желание джигита показать свое превосходство. Чужое же превосходство унижало вроде бы самого Фазыла, а унижение судья стерпеть не мог.
— Если хочешь знать правду, Маулен, — сказал Фазыл, — так человек прежде всего раб своей тайны.
Замысловатым был ответ, не взяли в толк джигиты, что разумел судья Фазыл под тайной. Ну, а коли не взяли в толк, то и не приняли.
— Смел в ответах Ерназар-младший, — похвалил новичка ага-бий. — Однако велика ли эта смелость? Готов ли ты к трудным вопросам?
Не отвел взгляда, не опустил голову Ерназар-младший. Принимал вызов самого ага-бия.
— Скажи, джигит, что украшает человека?
— Возможность накрыть для друзей обильный дастархан.
Блеснуть остротой мысли, увы, не удалось Ерназар-младшему. Все поняли это, и ага-бий первым. Насторожился юноша. Торопливо стал искать другой ответ. Нашел, вроде любое слово лежало у него за пазухой и труда никакого не было достать его.
— Лучшее украшение человека — не есть даровую пищу.
Ага-бий одобрительно улыбнулся. Ответ юноши понравился ему.
Игра разгоралась, каждому хотелось показать себя с лучшей стороны, потягаться с друзьями-противниками умением разить словом и мыслью. Есаул Асан, на обязанности которого было оберегать порядок во время словесного состязания и не допускать нарушения очередности, забыл про все и сам бросился в борьбу.
— Зарлык-ага! — обратился он к новичку — нравилось старым агабийцам проверять тех, кто только что вступил в игру. — Что является троном, что — короной и что главной силой правителя?
Такие загадки были по душе Ерназару. Заставляли они джигитов задумываться над тем, как устроен мир, что в нем справедливо и что несправедливо. Поэтому смолчал, узрев в поступке Асана нарушение порядка.
Новичок Зарлык, табунщик из казахского аула, дальний из дальних потомков Чингисхана, не спешил с ответом. Степенный и разумный был человек. Знал, наверное, что трон, корона и главная сила правителя, однако выдавать требуемое так просто не хотел. Подождал, пока наступит тишина настоящая в юрте и навострят уши джигиты. И когда улеглось волнение ага-бийцев и стало так тихо, что звон травы под ветром донесся до каждого, табунщик сказал:
— Трон правителя — это народ, корона — войско, главная сила — меч и нуля…
— Вот как! — поразился Асан. — А что же тогда трон, корона и главная сила народа?
— Трон народа — земля, на которой он родился и мужал, корона — солнце в небе, главная сила — кетмень и лопата, что кормят его…
Табунщик из казахского аула почувствовал себя победителем и как победитель гордо глянул на остальных агабийцев. На есаула Асана — тоже. Не вынес возвышения над собой новичка Асан и кинул еще вопрос:
— А каким, Зарлык-ara, должен быть правитель?
— Эту загадку я хотел бы предложить вам, есаул, — сказал табунщик. — Великий ага-бий, имеет право впервые вступивший в игру задавать вопросы?
— Да, конечно! — кивнул Ерназар. — Мы здесь все равны. Задавай.
— Я уже задал его устами есаула Асана: каким должен быть правитель?
— Важным! — ответил Асан. — Суровым, строгим. Не то говорил Асан. Агабийцы скривили в усмешке
губы, глупым показался им ответ есаула.
На выручку товарищу поспешил судья Фазыл.
— Правитель должен быть немногословным, — сказал он. — Многословие, как известно, груз для верблюда. А какой правитель желает уподобиться верблюду…
И Фазыл не спас положение. Про верблюда он хорошо сказал, смешно получилось. Но вот умно ли? Табунщик Зарлык, слушая есаула и судью, посмеивался, не могли агабийцы одолеть его. Бросали слова, как камни, да все мимо.
— Выпасая коней, я думал о своем месте в жизни, — решил ответить на собственную загадку Зарлык. — Нужен ли я? Не обойдутся ли умные и крепкие кони без табунщика? Отпустил их. А потом сыскать не мог. Разбрелись по степи, не погибли едва. Кобылицу молодую вырвал из пасти волков. Не подоспей вовремя, подобрал бы только шкуру да кости. Вот и пришел я к заключению, поразмыслив о своем месте в жизни: нужен табунщик. Правитель и есть табунщик, а вернее сказать, пастух. Каким же должен быть правитель? Мудрым пастухом…
Перестали насмешливо улыбаться джигиты. Поразил их своим рассказом этот потомок Чингисхана. Оказывается, не только щелкает кнутом пастух, но и ума-разума набирается, выпасая четвероногих в степи.
— Хорошо сказал, Зарлык, — похвалил душевно новичка Ерназар. — Добавлю два слова лишь, они помогут завершить сказанное тобой. Пастух должен быть добрым, любить тех, кого опекает. Долг правителя вести и защищать народ, и если для спасения народа потребуется его жизнь, отдать ее.
Все посмотрели на ага-бия. Высокие слова произнес он. Они походили на клятву, будто принимал на себя Ерназар заботу о степняках, неприкаянных и обездоленных. Правителем вроде назначал себя. Кому-то по душе пришлось это назначение, кому-то принесло огорчение. Зависть человеческая, говорят, родилась раньше самого человека. Родившись же, не покидала его ни в радости, ни в горе.
Здесь, в юрте гостеприимного Маулена, зависть еще только пускала свои ростки. Еще не понимали джигиты, какова сила ее и какую беду принесет она, распустившись ядовитым цветком. А не понимая, тешили себя желанием испробовать свои силы, примерить шутливо халат бархатный правителя, не подойдет ли он. Вдруг подойдет. Тогда зачем нужен ага-бий?!
Игра тем временем, завершив второй круг, перешла в третий. Джигитам предстояло заслушать сообщения вестников. Установил такую должность Ерназар и считал ее весьма важной. Должны агабийцы знать, что делается на просторах степных, на каракалпакской земле и на земле соседей, близких и далеких. Вестники объезжали аулы, перебирались через Амударью и Казах-дарью, доходили до западного берега Арала. Широким становился для них мир. А чем шире мир, тем понятнее.
Первым всегда рассказывал об увиденном и услышанном главный вестник Генжемурат. Его и поднял с паласа ага-бий.
— Поведай нам, братец Генжемурат, что нового в мире?
Встал Генжемурат. Ладный и статью и лицом был главный вестник. На сокола походил. Как сокол смел и быстрокрыл, за недели какие-то мог облететь степь бескрайнюю. Конь его не знал усталости. Не знал усталости и сам Генжемурат. Понимал, что, собирая по крупинкам новости и рассыпая эти крупинки перед бием и джигитами, он не любопытство праздное утоляет, а раскрывает перед ними двери в мир, чужой и незнакомый. Может быть, завтрашний мир степняков.
Сверстником и другом был Генжемурат ага-бию. Вместе росли, вместе мужали, из одной чаши пили горечь разочарования и сладость удач. Унижение народа было и их унижением, боль народа — их болью. Отроком еще Генжемурат сказал матери Ерназара, мудрой Кумар: «Мы с Ерназаром принадлежим поколению, которое затеряется во мраке, останется в тени других поколений». Мертвая тишина, наступившая после неудачного восстания Айдоса, была так тягостна и так безнадежна, что свет солнца, казалось, померк навсегда. С началом игры «ага-бий» к юноше вроде Оы вернулась опять надежда.
— Начинай, брат! — попросил Ерназар.
— Хурджун мой не слишком велик, — предупредил Генжемурат, — но есть в нем не только просяные зерна, но и жемчужины. Принял я их от купцов, караванщиков, странствующих по земле людей. Самая большая жемчужина подарена мне караванщиками, что пришли с севера. Неспокойно за пределами нашей земли, и люди спешат уйти от непогоды, укрыться в селениях соседей…
— Можно ли верить караванщикам? — спросил Ерназар.
— Надо верить, ага-бий. Если три человека повторяют одно и то же — это истина. Мне же повторили тридцать три.
— И все же?
Генжемурат взял Коран и, опустившись на палас, приложил священную книгу мусульман ко лбу — это означало, что вестник клянется говорить только правду. Когда книга вновь вернулась за пазуху, откуда извлек ее Генжемурат, ага-бий сказал:
— В правдивости твоих слов, Генжемурат, мы не сомневаемся.
— Мои слова — это их слова. Продолжай, брат!
— Казахская степь объята огнем вражды. В ханстве Вокея народ восстал против царских чиновников, хотя сами казахи недавно просили оренбургского генерал-губернатора взять их под свою защиту, так как богатеи притесняют, глумятся над бедняками. Русские вступились за простых степняков. Теперь главы родов натравливают народ на русских. Люди в растерянности, не знают, на чьей стороне правда. А огонь восстания горит, кровь льется…
— Ойбой! — застонали джигиты. Судьба братьев-казахов им была не безразлична.
— Пламя войны полыхает и над Афганистаном, — продолжал между тем Генжемурат. — В прошлом году персидский шах занял город Герат. Когда правитель уступает хоть часть своей земли врагу, он окрыляет этим и других противников. Как воронье налетели в Афганистан инглисы. Говорят, их там больше, чем самих афганцев. Протягивают инглисы руку и к Хиве. Слуги хана выловили одного дервиша, подосланного инглисами. Сейчас этот дервиш сидит в зиндане. Другого инглисского лазутчика поймали русские в Оренбурге…
— Ха-а! — засмеялся Саипназар. — Если тебя послушать, уважаемый Генжемурат, так инглисских лазутчиков придется ловить в каждом ауле, они расплодились как саранча. Может, они и в этой юрте сидят, чай вместе с нами попивают… Просяные зерна, которые ты собрал по дорогам, мне кажутся гнилыми.
— Генжемурат клялся на Коране, — напомнил Са-ипназару ага-бий. — Сможешь ли ты сделать то же самое, опровергая его слова?
— Достаточно того, что я их опровергаю. Главе рода не нужна клятва. Я — бий!
«Вот кто первым предаст наше дело, — подумал с тоской Ерназар. — А за ним пойдут и другие. Хотелось бы угадать имя второго. И третьего. Откроет ли всевышний тех, кто нанесет мне удар в спину? Увижу ли я их лица, прежде чем сам уткнусь лицом в землю?» Клятва, может быть, не нужна бию, — принял вроде бы возражения Саипназара ага-бий. — Нужны слова, заменяющие неправду правдой. Подари нам ее!
— Я не рыскаю по аулам, как степной волк, — заносчиво отбросил пожелание ага-бия Саипназар. — У меня хватает забот в собственном доме.
Люди знали, какой домосед Саипназар, потому улыбнулись насмешливо. Улыбнулся и Ерназар.
— Ты сидишь дома, конь же твой сбил копыта на дальних тропах.
Смутился Саипназар: истина-то известна джигитам. Сделал, однако, вид, будто не понял намека, махнул раздраженно рукой и смолк.
Некому было снова прервать сообщение вестника. Агабийцы ждали новых слов Генжемурата и подталкивали его нетерпеливыми взглядами.
— На западе, за большим морем Каспием, огонь войны горит еще ярче, чем на юге. Им охвачены Дагестан, Эрман, Эзере, Гуржистан. Дагестанский имам Шамиль поднял восстание, хочет править страной сам. Далеко все это от нас, не переберешься за большое море, а увидеть хотелось бы и имама Шамиля, и его джигитов.
— А как живут на востоке наши соседи? — спросил ага-бий. — Там-то, поди, тишина?
— Нет тишины и на востоке. Хан Сержан Касым-улы, который пытался освободить свой жуз от власти русских, убит ташкентским кусбеги. Его знамя поднял младший брат хана Кенесары. Изгоняет русских из собственного жуза. Силы его, однако, ничтожны, и он терпит поражение за поражением. Последняя надежда его — помощь Хивы. К хану хивинскому Кенесары послал гонцов. Их-то я встретил в нашем ауле… Только вряд ли окажет помощь Кенесары хан, в самом Хорезме неспокойно. Недовольные ханом собирают вокруг себя людей, чтобы свергнуть правителя. Есть заговорщики и среди туркмен. Какой-то Аннамурат из Куня-Ургенча готовит нападение на Хиву…
Ухватил это имя Ерназар. Джигит, что предупредил его в Куня-Ургенче об опасности, назвал себя Аннаму-ратом. Так вот каков парень в туркменской папахе! Намерен потягаться силой с самим ханом! Что же он не раскрылся перед каракалпакским палваном тогда? Не захотел? Или не смог? Тайну такую оберегают даже от близких друзей. А Ерназар был просто путником, повстречавшимся в дороге.
— Не подумал ли ты, брат Генжемурат, отчего такое волнение кругом? — полюбопытствовал ага-бий. — Понимают ли люди, чего хотят? Не злые ли силы будоражат народ?
— Подумал, ага-бий. Сила злая есть, она, как змея, вползает в мусульманский мир. Жалит души человеческие…
Насторожились джигиты. О таинственном чем-то заговорил вестник. Таинственное же, да еще в обличий ядовитой змеи, кого хочешь и удивит, и напугает.
— Инглисы — это сила.
Ты уже называл их! — напомнил Ерназар.
— Называл, верно. Только о яде не говорил. Не знал, что яд этот смертельный. Один купец из Индии открыл мне истину. Он сказал: «Нет коварнее существа на свете, чем инглисы. Они проникают на исламские земли в одежде мусульман. Коран знают лучше, чем муллы. Язык их не отличишь от родного нашего. Они приходят к нам как дервиши, ахуны, ишаны, и мы открываем им свои сердца». Вот так сказал мне индийский купец…
— Саипназар! — обратился ага-бий к заносчивому и недоверчивому джигиту, когда вестник передал сказанное купцом из Индии. — Ты все еще считаешь зерна, принесенные Генжемуратом, гнилыми?
Обиженный, что ему, бию, Ерназар предложил поклясться на Коране и тем сравнял его с простыми ага-бийцами, Саипназар не пожелал откликнуться. Будто не слышал вопроса. Порядок требовал, чтобы джигиты подчинялись ага-бию, но и порядок отвергал сейчас Саипназар, и молчанием своим показывал, как безразличны ему правила игры и сама игра. Исподлобья, с вызовом смотрел он на Ерназара.
Да, этот предаст первым, снова подумал с болью ага-бий. Если уже не предал.
— Джигит должен быть мужественным, — издали стал подбираться к Саипназару ага-бий. — Если уронил шапку, не переступай ее, а подними. От этого спина не переломится, зато голова будет в тепле. Переступивший от гордости или упрямства свою шапку погибнет на морозном ветру.
— Я не ронял шапку и никогда не уроню, — процедил сквозь зубы Саипназар. — С чужого могу сбросить. Если шапка Генжемурата слетела, пусть ее сам и поднимает. Зерна же гнилые и поднимать не надо… Кому они нужны? Не поднимется из них стебель.
Предал! Уже не тоска, а глухая ненависть охватила Ерназара. Почудилось ему, будто дело, которое он начал, не восторжествует. Не пойдут за ним джигиты.
Отступать, однако, нельзя было. Те, что сидели перед ним, верили в него пока что и ждали чего-то. Надо сохранить хотя бы это светлое ожидание.
— Какие еще гнилые зерна ты собрал, Генжемурат? Нам, возможно, они пригодятся, — спросил ага-бий. — Рассыпь перед нами, полюбуемся!
— Рассыплю, только это не просяное зерно, а жемчужина. Дорога она мне. Встретил я и подружился с одним путешественником из России. Имя его Николай, это сын Ханыкова. Ему всего восемнадцать лет, а объездил он почти всю Среднюю Азию. Книгу хочет написать про то, как управляются города Востока. Был в Хиве, теперь едет в Бухару. Еще с одним русским я подружился, ученым Грушиным. Исследует Грушин горные породы, ищет сокровища. Приборы у него удивительные, все показывают стрелками. Стоит только поднести прибор к камню, в котором спрятано железо, как стрелка сейчас же повернется. Грушин за своими сокровищами даже ныряет на дно Амударьи. Я сам видел…
— Может, он и у нас что-нибудь найдет? — загорелся надеждой Ерназар-младший. — Степь не обижена богом.
Гостеприимный Маулен тотчас подхватил слова новичка:
— Найдет. Стрелка ему все покажет. Ага-бий, позовите Грушина в наш аул. Встретим как друга, как хана встретим…
Ага-бий вдруг засмеялся, да так громко и весело, что джигиты с недоумением посмотрели на него. Причины для веселья вроде не было.
Торопыга ты, Маулен, а все прикидываешься ленивым да нерасторопным, — сказал ага-бий. — Я еще на берегу Аму услышал твое желание и пригласил Грушина на зияпат…
— Велик аллах! — завопил счастливый Маулен. — Вот это гость! Да будет его дорога без ветра, день без облака, ночь без темноты.
Будет, — заверил Ерназар.
Много было сказано, многое было узнано нынче, а ага-бию казалось, что не хватает еще чего-то. Он посмотрел на весело оживленных джигитов, не зная, продолжить игру или остановить ее, заняться котлами, где уже небось перепрело мясо. Остановить всегда легко, продолжить трудно. Трудно, потому что не готовы ага-бийцы к принятию дурных известий. А в хурджуне с новостями, что принес Генжемурат, есть и дурные, печальные. Пусть будет как в жизни, решил Ерназар: радостное и печальное вместе.
— Из дальних странствий вернемся в родной дом, — сказал ага-бий. — Что в наших аулах, чем живут земля и народ каракалпаков?
— Земля наша цветет. Зерна будет много, рыбы — тоже. В озере у подножия горы Кусхан серебрится вода от сазанов. Сами в руки просятся. Весна была дождливая, травы густо покрыли степь, теперь скот сыт. Сбор налога хану идет по всем аулам. Денег у народа, однако, мало, и лишь два рода — кенегес и мангыт — расплатились со сборщиками. Остальные пока в долгу у правителя Хорезма. Нелегко людям, но не ропщут, трудятся, живут по законам шариата. За тот лунный месяц, что прошел со дня последнего зияпата, один лишь степняк нарушил закон.
— Кто этот степняк? — встревоженно спросил Ерназар.
— Агабиец. Он среди нас, в юрте Маулена-желтого.
— Что сделал он?
— Похитил у вдовы из рода бессары двух коров и продал их в Хиве. Вчера вернулся в аул с полной сумой денег и на коне ага-бия…
— Касым! — вспомнил происшествие на хивинской улице Ерназар.
— Касым! Вот он! — Генжемурат показал пальцем на джигита, сидевшего у стены.
— Клятвопреступник! — загремел голос Ерназара. — Выходит, не тебя оклеветали хивинцы, а ты их оговорил! Судья Фазыл, вели связать вора!
Касым, почуяв близкую расправу, кинулся к двери, но двое джигитов преградили ему путь. Через минуту он был уже связан и лежал на пороге юрты, жалостливо скуля и прося пощады.
— Есть еще нарушитель шариата. Саипназар! С людьми обращается как со скотом, плеть в его руке не отдыхает. Нынче утром с ним хотел поздороваться его работник, так Саипназар вместо руки сунул ему ногу.
И третий нарушитель закона — мулла Шарип. Он наказывает детей, пуская в ход палку и даже нож. Накурившись дурманной травы банг, он разрезал пятки сыну Шукирбая. Всю жизнь мальчик будет хромать…
— Нет больше провинившихся? — спросил вестника Ерназар.
— Нет, ага-бий!
Тогда начнем суд. Фазыл, какое наказание достойно вора?
Хоть и считался Фазыл судьей, но никого еще не судил и никому не назначал наказания. Впервые он должен был решить судьбу близких ему людей. Бледный, растерянный, стоял он перед ага-бием, не зная, что сказать, какой вынести приговор.
Ты сам назначь наказание! — прошептал дрожащими губами судья.
— Братья! — обратился к джигитам Ерназар. — Судья отказывается судить вора. Придется мне объявить приговор. Вору Касыму отрезать ухо. Так поступали наши предки, когда среди степняков оказывался человек, похитивший чужое добро.
— А-а! — завыл Касым. — Пощади, великий ага-бий! Пощади!
— Режьте! Оя обрек детей вдовы на голод, нет ему пощады.
Плеточники выволокли Касыма из юрты, все еще кричащего, и там, не на глазах джигитов, отсекли острыми ножами ухо.
Ерназар подождал, пока не стихли вопли и стоны Касыма, и, когда вновь наступила тишина в юрте, объявил второй приговор:
— Саипназару вернуть столько ударов плетью, сколько он нанес своим работникам!
Саипназар не поверил сказанному. Не ослышался ли? Кто смеет наказывать бия за обыкновенную затрещину, нанесенную слуге?
— Э-э! — промычал он. — Шути, ага-бий, да знай меру.
— Если нужна мера, то определим ее по обычаю прошлого: восемнадцать ударов плетью. И нанесут их новички: Ерназар-младший и Мадреим. Приступайте, джигиты!
Судья Фазыл наклонился к ага-бию и прошептал обеспокоенно:
— Правильно ли поймут люди твой приговор?
В гневе страшном пребывал Ерназар, никакие предостережения не могли остановить его. Он отмахнулся от судьи:
— Когда вода прорывает плотину, ее не вычерпывают ковшом, а кладут камень в промоину. Пусть плети будут камнем.
Джигиты принялись стягивать с Саипназара чапав.
— Не троньте, я сам! — зарычал бий. — Черная кость и белая кость не могут соприкасаться.
Он скинул с себя чапан и в сопровождении Ерназара-младшего и Мадреима вышел из юрты. Наказание Саипназар должен был принять там же, где принял его Касым.
Тревожное безмолвие воцарилось в юрте. Напуганные решительностью ага-бия, джигиты опустили головы, боясь глянуть на Ерназара. Им казалось, что в гневе он способен учинить расправу над всеми. Ведь каждый был в чем-то виновен, у каждого на душе лежал грех, малый ли, большой ли, и попадаться на глаза в такой момент ага-бию не следовало.
Гнев ага-бия не был, однако, слепым. Он карал лишь тех, кто нарушил закон степи, предал дело, которому клялись служить агабийцы. И, увидев испуг в глазах джигитов, поспешил успокоить их:
— Не для утоления жажды мести собрались мы сюда. Мысли наши светлые, намерения добрые. Но доброту нашу превращать в зло никому не дано. И тот, кто попытается это сделать, лишится не только уха, как Касым. Он лишится права быть нашим братом. Он лишится имени каракалпак!
— Наказанные сегодня остаются в нашем кругу? — спросил Генжемурат.
— Остаются. Отец, наказывая своего сына, разве изгоняет его из семьи? Он учит его наказанием…
— Значит, мулла Шарип, разрезая пятки мальчику, тоже учил его?
На лицо Ерназара вновь легли хмурые тени.
— Он не наказывал, он тешил свое злое сердце чужим страданием, — сказал Ерназар. — Страдание ребенка будет отомщено!
Фазыл вскрикнул испуганно:
— Великий ага-бий! Ты намерен судить муллу, слугу божьего?
— Да. Но не слугу божьего, не муллу, а человека по имени Шарип. И этого человека вы сейчас приведете сюда. Судить будем все!
Руки Фазыла дрожали, он весь трясся будто в лихорадке.
— Не ты приведешь. У тебя не хватит мужества, судья Фазыл. Это сделают есаулы…
Ерназар поискал глазами есаулов, но нашел только Асана.
— Брат Асан! Доставь сюда Шарипа. Суд начнем, после третьего намаза.
3
Не простая потребность души в странствиях привела турецкого ахуна в Хиву.
Хорезм — святыня восточных мусульман. Посеять здесь, среди народов Средней Азии, зерна ненависти к русским, к России, посеять и взрастить — вот ради чего пришел в Хиву турок.
Целый год бродил в этих краях, приняв обличье нищего дервиша, — высматривал, вынюхивал, старался проникнуть в думы и чаяния людей. Чего хотят, чем дышат, чем дорожат, что ненавидят они.
Он не брезговал ничем, даже попрошайничеством. Однако все, что собирал, раздавал голодным и сирым — странникам, дервишам, калекам. Так завоевывал он доверие людей, проникал в их дома и в их сердца. Спустя год он проник в ханский дворец и представился кое-кому из свиты хана как ахун из дружественной единоверной Турции. Сумел понравиться влиятельным сановникам и получил должность муллы в медресе. Никто не признал бы в холеном, красивом, важном мулле нищего дервиша, грязного и убогого, даже те, у кого он получал пристанище или милостыню, кто, жалеючи его, клал в его хурджун лепешку, мелкую монету или ненужную, отслужившую свое одежонку.
Пошли в гору дела ахуна. Он снискал себе славу ясновидящего. И делал все, чтобы молва о нем разнеслась далеко и широко, особенно среди черношапочников. Ему необходимо было обосноваться среди них. Каракалпакские земли простирались на северных границах ханства; каракалпаки соседствовали с казахами, имели с ними давние и прочные отношения, как и с татарами, и с башкирами. Это нельзя было не брать в расчет в будущей, неминуемой, войне с Россией…
В пору своих скитаний, воспользовавшись добросердечием Кумар-аналык, ахун дважды ночевал в ее доме. Тогда-то он и узнал об «ага-бии».
В Хиве ахуна с Ерназаром свел случай: ахун как раз направлялся к главному визирю, чтобы испросить позволения присутствовать на приеме казахских послов. О том, что они прибыли к хивинскому хану за помощью для борьбы с русскими, гудела вся Хива. Ахун хотел воспользоваться случаем и поведать великому хану свой «сон». «Сон», предвещающий, что грядут важные для государства события.
Накануне он получил из Оренбурга тайную весть: русский генерал-губернатор будто бы скоро двинется в поход на Хиву. Ее-то, эту весть, он и хотел преподнести хану как провидческий свой сон.
Ахун явился к главному визирю. Взволнованный чем-то, тот метался по приемной взад-вперед, словно пес на цепи; ахун пристроился сзади и, как щенок, неотступно следовал за ним. Главный визирь резко остановился, и ахун чуть не сшиб его с ног. Он выдержал испытующий взгляд главного визиря, который как бы говорит: «Ты, ахун, для меня пока неразгаданный ребус, но погоди, я доберусь до тебя, разгадаю…»
— А вы, я вижу, пользуетесь услугами того же брадобрея, что и я, — произнес главный визирь.
— Есть два человека, которые являются образцами для всех остальных смертных! Первый из них — хан, второй — вы! — Уста ахуна источали мед…
— Какое у вас дело? Изложите мне! — поинтересовался.
Ахун заколебался: «Стоит ли рассказывать ему? Вдруг не поверит? Нужно, чтобы поверил… А что, если эта лиса пожелает — еще того хуже — присвоить мой «сон» себе? Меня же побоку!.. Но… но если «сон» не сбудется, тогда пострадает этот чванливый болван! Доверие к нему уменьшится, ко мне — возрастет! Не исключено, что я поднимусь вверх еще на одну ступеньку… Если же все подтвердится, главный визирь не забудет моей услуги и вознаградит меня».
— Говорите же! Мое время дорого!
— Досточтимый главный визирь! Мудрецы недаром изрекли: когда умирает лошадь, остается подкова, когда гибнет богатырь, остается слава. Если отдам богу душу я, ничтожный ваш слуга, то не знаю, что останется: мой несовершенный разум бессилен найти правильный ответ… Поэтому я хочу просить у вас совета.
— Справедливо говорите, ахун. Каждый смертный — зерно, брошенное в этот мир богом. Вы имеете в виду, что зерно должно прорасти и дать всходы?
— Да буду я жертвой вашего светлого ума! — Турецкий ахун схватил полу халата главного визиря и поднес ее ко лбу. — О достопочтенный главный визирь! Я хочу открыть вам нечто такое, во что и поверить трудно. Если бы я сам… если бы я раньше услышал от кого-нибудь, что простой смертный обладает волшебной силой, я бы ни за что не поверил! — Ахун смиренно сложил руки на груди. — Но ваш покорный слуга стал в это верить, да, да, верить! Потому что последнее время мои сны сбываются! И потому я почел долгом предупредить вас…
— Какой же сон вы увидели?
— На северо-западе взметнулся огненный вихрь и полетел прямо на священную Хиву!
— Какое же толкование вы склонны этому дать?
— Это предвещает нам угрозу со стороны русских. У главного визиря уже побывал ханский лазутчик из
Оренбурга с донесением, что русские готовятся напасть на Хиву. Однако он посчитал донесение недостоверным и даже не стал извещать о нем хана. Сон ахуна подтверждал сообщение лазутчика.
— Устрою вам встречу с великим ханом.
— Буду счастлив лицезреть его! Я поведаю ему свой сон, ведь беду необходимо предотвратить… Есть у меня также подозрение, что русские заслали к нам своих лазутчиков! Чтобы они все выведали, а потом провели войска русского царя самыми безопасными дорогами. И Грушин, который выдает себя за ученого, из этих лазутчиков…
Главный визирь что-то прикинул про себя, помедлил, потом сказал:
— Я проведу вас к хану. Вы все в точности изложите ему, как и мне. Если хан примет ваши слова благо склонно, а сон ваш окажется пророческим, вас на градят!
Ахун склонился до полу, опять схватил кончик халата главного визиря и несколько раз поцеловал его.
В приемной хана уже находились четверо посетителей. Судя по одежде, трое из них — казахи. Это были послы Кенесары-хана. Четвертый — каракалпак Аскар-бий, невысокий, с черной бородкой, — походил на ястреба среди беркутов, на воробья среди ястребов: он провожал послов до Хивы от самого своего аула… В приемной важно прохаживался человек с длинным, загнутым, как серп, носом и резко выпирающим острым подбородком. Это был младший военачальник при хивинском дворе Махмуднияз. Аскар-бий и Махмуднияз проводили послов к маленьким коврикам, которые были расстелены поблизости от ханского ложа. Места остальных ханских советников были чуть поодаль.
— До моих ушей доходило, — произнес ахун, обменявшись приветствиями с послами, — что казахи, некогда верные сыны ислама, продались русским, изменили своей вере и обычаям! Какое счастье, что я лице-зрею подлинных мусульман. Значит, на вас возводили напраслину!
Послы Кенесары-хана поклонились человеку, поведшему речи открытые и смелые. Главный визирь представил им турецкого ахуна, а сам справился у Махмуднияза, как приняли гостей, нет ли у них еще каких пожеланий.
— Мы довольны, очень довольны, — вместо Махмуднияза ответил один из казахов. — Если же мы получим содействие священной Хивы, наш хан Кенесары будет преисполнен благодарности.
— Мы с вами — тюрки, — решительно подал голос ахун. — И то, что вы склонили головы перед иноверцами-русскими, приняв их за луну, не делает вам чести!
— Вы изрекли великую истину! — ответствовал старший из послов. — Мы, казахи, — степняки, народ доверчивый и бесхитростный, потому оплошали однажды, приняв русских за луну.
Два стража отворили двери внутренних покоев и объявили, что приближается его величество хан. Все, кто был в приемной, тотчас же поднялись с мест и, приложив руки к груди, словно окаменели.
Вошел хан, расположился на своем месте, хлопнул в ладоши. Будто поваленный ветром камыш, все тут же опустились на коврики и замерли.
— Гости! — нарушил хан мертвую тишину. — Душа моя возрадовалась, когда я узнал о вашем прибытии. В недавние времена казахские ханы были в дружбе с русскими господами.
— О великий хан! Дружба с этими неверными подобна письму, написанному на льду… — внятно прозвучал тихий голос ахуна.
— Великий повелитель Хорезма, гость из Турции прав! — поддержал ахуна старший из казахов.
Хан скосил глаза в сторону главного визиря, точно испрашивая его мнение.
— Великий хан, вы и раньше оказывали помощь и содействие нашим соседям казахам! Теперь тоже, очевидно, поддержите их!
Старший из казахов молча поднялся, приблизился к хану, приложился лбом к кончикам «го туфель, затем попятился назад и опять опустился на свой коврик.
— Ахун, я желаю послушать тебя! — приказал хан.
— Наш великий хан, все мусульмане — пальцы одной руки; стебли, выросшие из одного корня; яблони, цветущие в одном саду. Казахи пострадали. Ничего не следует жалеть, чтобы помочь им. Это деяние ваше одобрил бы священный камень — Кааба,[2] если бы ему дано было говорить. Мои соотечественники турки и даже те, кто не осведомлен о событиях досконально, одобряют его. Мусульмане знают, что кровь, пролитая за ислам, — это священная кровь, а смерть во имя аллаха — святая смерть! Неверные же, особенно русские, — это сорняк в яблоневом саду! Вырывать его с корнем — обязанность и долг каждого мусульманина.
— Каракалпакский бий, ваше мнение? — обратился хан к Аскар-бию.
— Простите мою слабость, великий хан, — снова раздался голос ахуна, — может быть, именно черноша-почники помогут своим братьям казахам? Они ближайшие соседи. Кроме того, я хотел бы обратить ваше высокое внимание на то, что земли каракалпаков очень удобны для набегов на Россию.
Аскар-бий между тем отвешивал подобострастные поклоны хану:
— Наш великий хан! У нас в народе говорят: «Друг, который вступился за моего врага, становится и моим врагом тоже». Ваш враг — это и наш недруг.
— Пусть Аскар-бий расскажет об игре «ага-бий», которую затеяли там, — вновь вмешался в беседу ахун. — У этой игры непростая цель…
Слова ахуна застали Аскар-бия врасплох; он никогда не задумывался над тем, есть у «ага-бия» цели или нет, какие они: собирается молодежь, развлекается, состязается в ловкости, силе, знаниях и острословии. Однако коли спрашивают о цели, значит, она должна быть… Аскар-бий бухнул первое, что пришло ему в голову:
— Джигиты «ага-бия» — меч нашей страны, великий хан!
— Вот этим мечом вы и поможете Кенесары-хану! Вы, Махмуднияз, возглавите войско. Гости, о том и передайте вашему хану.
Послы удалились. Главный визирь и ахун задержались.
— Что у вас? — слегка поморщился хан.
— Ахуц хочет довести до ваших ушей свой сон… Не дожидаясь согласия хана, ахун тут же проговорил:
— Наш великий хан, прежде чем я открою вам свой сон, осмелюсь заметить: всякий меч следует вешать острием вниз. Меч, о котором мы только что узнали от Аскар-бия, тоже следует повернуть острием вниз! Об этом надо позаботиться своевременно… — добавил он многозначительно и только потом поведал свой «вещий сон».
Хан задумался, но тут вступил в разговор главный визирь:
— Великий хан, забегая вперед, скажу: наш лазутчик прибыл из Оренбурга с известиями, подтверждающими сон ахуна. Я уже заготовил фирман об изгнании из Хивы русских — всех до единого! И об аресте Грушина.
Хан колебался, не зная, какое принять решение.
— Грушии, Грушин… Ну хорошо, я подпишу фирман. Однако если сон не сбудется, то и ахуна, и лазутчика я посажу в зиндан вместо Грушина! А может быть, и повешу.
Ни один мускул не дрогнул на лице ахуна, он спокойно и с достоинством поклонился. Между тем хан вдруг сказал:
— Как бы мы, защищая чужой загон, не оставили свой собственный без присмотра. Пусть Аскар-бий повременит с помощью казахам! Его джигиты понадобятся здесь…
— Наш великий хан, если у вас вызывают опасения русские, я осмелюсь дать вам один совет. В Афганистане и Персии находятся войска инглисов; они прибыли туда, чтобы помирить враждующие страны. Есть инг-лисы и в Индии, стоит только послать гонцов…
— Подумайте и через три дня доложите! — бросил хан главному визирю.
— И еще, наш великий хан, зачем Грушин ведет записи? Делает чертежи? Нет, не в интересах науки! Он лазутчик. Прикажите отобрать у него бумаги и уничтожить все до одной!
— Этому я не верю!
— И все-таки это так!
* * *
Выходя из ханского дворца, ахун вспомнил пословицу инглисов: «Когда состязаются курица и ворона, от смеха сороки дрожит земля». Настал наконец его час смеяться…
Впервые с той поры, как обосновался в Хорезме, ахун, едва коснувшись головой подушки, заснул мертвецким сном — отошли, исчезли куда-то тревоги.
Проснулся он, как всегда, рано, к утреннему намазу. Бодрый, свежий, полный энергии, ахун снова готов был действовать. Он был осведомлен, что главный визирь по утрам заседает с советниками и мехремами — чиновниками хана и теперь опасался: как бы кто из них не предложил чего-то такого, что изменило бы распоряжения хана, а следовательно, нарушило бы его собственные замыслы.
В полдень ахун посетил главного визиря и попросил его содействия в новой аудиенции у хана. Но вчерашний его покровитель сегодня ему отказал. Он сослался на то, что хан не любит нежданных визитов, визитов, к которым он не подготовлен и, случается, зрелую мысль способен обратить в неспелый пустяк… Однако, чтобы не обидеть ахуна, главный визирь пригласил его на проводы казахских послов.
Когда главный визирь и ахун возвращались вместе с другими сановниками с этой торжественной церемонии, их нагнали два всадника. Это были мулла Шарип и Саипназар-бий. Едва приметив главного визиря, мулла залился горючими слезами:
— У нас появилась чертова игра «ага-бий»! Затеял ее подлый Ерназар! Сын норовистой кобылы, распутной вдовы Кумар! Никому от него нет покоя, всеми он верховодит, помыкает! Есаулы приволокли меня силой на зияпат — у него и есаулы есть, и палочники! Ерназар начал цепляться ко мне: «Почему не обучаешь наших детей на родном языке? Почему следуешь всему, что указывает тебе Хива?..» Мало того, еще и кулаки пустил в ход, избил меня при всем честном народе!
— 0-хо-хо, какой грех! — посочувствовал мулле Шарипу ахун. — А что стряслось с тобой, каракалпакский бий? На что ты жалуешься?
Саипназар молча глотал ртом воздух, будто его мучило удушье. За него ответил мулла Шарип:
— По наговору Генжемурата его плетками наказали: бий-де поет со слов Хивы!..
— И все это без соизволения хана и главного визиря, о-хо-хо! — подливал масла в огонь ахун.
— Вашу жалобу передам хану, — разгневался главный визирь. — Не может быть на это нашего соизволения.
— Великий главный визирь, вот если бы хан приказал Ерназару выступить с его джигитами против русских… — принялся нашептывать ахун, когда мулла Шарип и Саипназар удалились. — Если этот колдаулы не подчинится и откажется, будет хороший предлог заточить его в зиндан. Иначе он принесет много бед ханству! Много! От него надо избавиться.
— Попытаюсь склонить к этому хана!..
* * *
Пока Ерназар не поделится с матерью своими делами или грехами, пока не получит ее одобрения или прощения, душа его не успокоится. Так всегда было.
Утром, несмотря на уговоры Маулена погостить у него денек-другой, он поспешил домой.
Кумар-аналык дома не оказалось. Вместе с Хожана-заром она отправилась на берег моря.
Рабийби приняла коня у Ерназара и сразу же полюбопытствовала: «Какой гостинец ты мне привез?» Ерназар не ответил. Велел приготовить постель. И когда одеяла были раскинуты, с наслаждением растянулся на них.
Жена походила-походила рядом, жеманно вздыхая и позевывая, потом примостилась у его ног.
— Мы одни, отец! Признайся-ка, правда ведь… принесла я в ваш дом счастье? Стоило мне здесь объявиться, ты «ага-бий» затеял, стал во главе джигитов. Они тебе подчиняются во всем… И потом, святые слова: хорошая невестка — плодовитая невестка. Сначала я принесла тебе сына, потом — дочь и еще…
Тебе не надоело всякий раз петь одну и ту же песню? — пробормотал Ерназар.
— Сначала ты мне ответь! — капризно надула губы Рабийби.
— Дом, в котором добрая жена, это рай земной. Считай, что я в раю обитаю.
Рабийби расцвела и стала перебирать своими длинными пальцами волоски на мужниной груди. Потом привалилась рядом, будто ее подтолкнул кто-то незримый.
— Приласкай меня, отец! Похвали! Вспомни, я пренебрегла Мамытом, к нему благоволит сам хан, и стала твоей женой. Мамыт до сих пор не может утешиться; стоит ему взглянуть на меня, воспламеняется весь! Заигрывает, нашептывает сладостные слова…
Ерназара словно молнией ударило:
— Сгинь! Убирайся, клятвопреступница! Испугавшись, что муж, чего доброго, ее поколотит,
Рабийби бросилась к двери, выскочила наружу. Через открытую дверь Ерназар увидел приближающихся к дому мать и сына.
По лицам сына и невестки Кумар-аналык догадалась, что между ними произошло что-то неладное, но ничем этого не обнаружила. Не в ее правилах было вмешиваться в семейные неурядицы.
— Сынок, Хожаназар весь в тебя, вылитый Ерназар в детстве! И сообразительный, и шустрый. Притомился, набегался на берегу, но на руки не попросился. Гордый, да и меня, старуху, жалеет.
— Вот какой он, мой Акбопе! — широко улыбнулась Рабийби. Так уж положено по обычаю: мать не может произносить имя своего первенца и должна называть его вымышленным именем. Так легче обмануть злой дух и отвести от ребенка напасть… — Если будет на то воля божья, следующий сын будет еще смышленее.
Кумар-аналык слегка нахмурилась: «Что-то Рабийби много болтает в присутствии мужа», — но попросила мягко:
— Разожги огонь, вскипяти чай, душа моя. Хожаназар, ты тоже помоги кише![3]
Когда они скрылись за юртой, мать проговорила с какой-то особой интонацией:
— Ерназарджан, выйдем-ка на воздух, сынок, сходим к водоему!
Однажды, когда Ерназар был совсем молодым джигитом, его одолел в поединке на тое опытный борец. От стыда и обиды он укрылся в доме и несколько дней провалялся в постели, уставившись в одну точку. Мать ждала, ждала, выжидала, когда душевная рана его заживет и он успокоится, а потом велела ему подняться и идти рыть землю. Ерназар привык беспрекословно подчиняться матери. Две недели, день за днем, он копал котлован. Кумар-аналык потом пустила в него воду, так в ауле появился рукотворный водоем. Вокруг посадили деревья, приспособили его для живой рыбы. Ерназар и его односельчане ловили ее в море, а потом запускали в водоем…
Ерназар послушно побрел вслед за матерью. Взглянул на водоем и обмер: воды в нем не было, на дне лежала мертвая рыба.
— Кто же мог учинить такое? — в ужасе спросил он.
— Я!.. Ты обращал когда-нибудь внимание, что здесь кроме рыбы и лягушек полным-полно.
— Мама, ты что, решила избавиться от лягушек?
— А теперь пусти воду!
Ерназар в недоумении открыл воду маленького арыка. Она полилась в водоем с веселым плеском, и вслед за ней туда со всех сторон начали прыгать лягушки. Дохлая рыба всплывала на поверхность воды, белея брюшками.
— Что ты думаешь об этом? Понял?
— Кажется, начинаю понимать, мама! Одно неумное действие — и погибла вся рыба, спаслись только лягушки… Пустили воду — лягушки тут как тут, а рыбу уже не вернешь!
— В жизни все точно так же! Неосторожное слово, глупый приказ — и ты окажешься один, без верных друзей! — Кумар-аналык надолго замолкла, давая сыну время поразмыслить. — И еще совет. Он пригодится тебе в жизни, сынок! Три вещи унижают человека: ложь, разврат и жадность. Остерегайся их! — Кумар-аналык лукаво прищурилась. — Без причины бранить жену тоже остерегайся!
— Хорошо, мама! Все запомню! — Ерназар потеребил усы. — Я давно хочу тебя спросить… Народ деда Айдоса вел за собой или сам шел за ним?
Кумар-аналык встрепенулась от радости: она вырастила умного, могучего не одним лишь телом, но и разумом сына!
— Ерназарджан, человек постигает цену трех вещей, лишь потеряв их. Во-первых — здоровья, во-вторых — молодости, в-третьих — мудрого, умного предводителя. По-моему, люди еще не оценили Айдос-бия, не воздали ему должного. Даже теперь… Он потерпел поражение, потому что голова и руки его действовали несогласованно… Но как ты додумался до эдакого вопроса?
— Это не я, мама. У подножия Каратау я повстречал одного русского человека, он ученый. Это он задал мне такой вопрос, когда я рассказал ему о восстании…
Твой отец мечтал увидеть страну русских. Когда ты родился, он раздобыл где-то русскую колыбель; бывало, кладет тебя в нее, а сам приговаривает: «Ох-хо, моему сыну тесно стало в материнской колыбели!» Теперь-то я поняла, что он вкладывал в эти слова… Я не забыла, о чем ты меня спросил, — кто кого вел в борьбе, — но вот как ответить тебе, не знаю.
— Что же предпринять теперь? Как действовать, посоветуй мне, мама! У меня бродят в голове разные мысли… мечты меня одолевают о будущем, но…
— Надо стреножить мысли и мечты! Пусть они зреют. Запомни вот что: у человека есть три спутника в жизни. Первый спутник — друг, второй — враг, третий — соглядатай. От того, каких спутников у тебя будет больше, зависит — осуществишь ты свои мечты или нет. И знай — я никогда не сниму с тебя долг, главный долг всей твоей жизни! Вновь поднять знамя Маман-бия, повести за собой каракалпаков!
Ерназар склонил перед матерью голову.
— Если верить тому, что я услышал, в мире очень неспокойно, мама! Повсюду народ волнуется, повсюду бунтует против ханов и своих господ. В России — тоже.
— Услышал — еще не означает, что узнал; а узнал — это еще не означает, что видел своими глазами… Я это к тому, что сколько людей, столько глаз, столько суждений!
— По-моему, будет полезно отправиться в страну русских!
— Незабвенный наш Маман-бий, передают люди, сначала хорошенько узнал родную степь, только после этого отправился в чужеземные края.
— Я понял, мам!..
Ночью Ерназар долго не мог сомкнуть глаз; он перебирал в уме разговор с матерью, искал ответы на вопросы, что задавал матери. Незаметно мысли его перешли на Рабийби; они ужалили его, как пчелы. Ерназар ворошил в памяти их ссоры, размолвки, что случались между ними. Нет, нет, пришел он к выводу, жена ему верна, она не способна на обман и измену. Нет, не способна! Успокоенный, Ерназар не заметил, как сон сморил его.
Проснувшись с первыми криками петухов, Ерназар услышал, что мать с кем-то разговаривает за юртой.
«Почему это ты не обучаешь ребятишек по-каракалпакски, — допытывался он у муллы, — почему мы не можем начало молитвы, хотя бы самое начало, произносить на нашем языке?»- Это разглагольствовал Шон-кы. — Мулла разобиделся, заартачился, ну, Ерназар-ага погорячился и влепил ему затрещину. А рука у него, сами знаете, тяжелая…
Ерназар выбрался из юрты и окликнул Шонкы. Тот торопливо, давясь словами, сообщил:
— Я только-только от Фазыла. Он где-то пронюхал, что мулла Шарип и Саипназар отправились в Хиву жаловаться на тебя хану.
— Проклятые шакалы! — сорвалось у Ерназара с языка, и он тут же пожалел об этом: он недолюбливал Шонкы.
Ты колдаулы, и я колдаулы, вот я и решил предупредить тебя!.. Они небось уже добрались до Хивы! Кумар-аналык покачала головой:
— Эх, сынок, напрасно ты связался с этим ублюдком муллой! Его не переделаешь! Пусть бы обучал как умеет, по-своему! Теперь хлопот да неприятностей не оберешься…
— Ясное дело! Его весь народ наш исправить не в силах, не то что один человек!.. Сейчас род колдаулы трепещет, как бы хан не учинил расправу!
— Ерназарджан, чай готов! Или, может, молока выпьешь? Шонкы, и ты угощайся молоком.
Однако Шонкы было не до угощения. Он на все лады поносил и муллу Шарипа, и Саипназара, и Маулена, который устроить-то зияпат устроил, да, видно, на несчастье, потому что не от души устраивал, не от чистого сердца…
— Хватит, Шонкы! Ступай! — приказал Ерназар. Когда болтливый гость удалился, Кумар-аналык
вздохнула:
— Сынок, ага-бий не должен горячиться…
— Рано мне, видно, верховодить!
— Коли ты осознаешь это, значит, сынок, не рано. Нечего нос вешать, кручиниться, иди-ка поброди по берегу моря, авось и полегчает на душе. Мудрецы недаром изрекли: «Печальный человек находит успокоение, побродив по берегу моря, надменный человек — побродив среди могил».
Однако Ерназар не мог успокоиться. Куда больше, чем новость, которую принес Шонкы, мучил его вопрос, на который ему не смогла дать ответа даже мать. В полдень Ерназар направился к самому старому аксакалу из всех каракалпакских аксакалов, к Абдикариму-борода-тому. Ему было около ста тридцати лет; он похоронил сына и внука и жил вместе с правнуком Мухамедкари-мом, ровесником Ерназара…
Он ехал, покачиваясь в седле, и думал: «Наверняка Абдикарим-бородатый видел Маман-бия! Или слышал о нем от людей, близко его знавших1 Сколько ходит в народе всяких рассказов и легенд о Маман-бии! Даже я и мои сверстники слышали их не раз!..»
Мухамедкарим отсутствовал, зато Абдикарим был на месте. Его волосы и борода были белыми и легкими как лебединый пух, кустистые длинные брови почти закрывали глаза, спина согнулась, точно старый, надломленный ветрами времени тамариск. Но был он бодр и приветлив. Абдикарим-бородатый признал Ерназара, живо с ним поздоровался, расспросил, куда палван держит путь. Ерназар вошел в дом, присел, поговорил со стариком о том о сем, потом осторожно, исподволь завел беседу о Маман-бии. Аксакал закрыл сухонькими руками изборожденное морщинами лицо; он словно бы хотел сосредоточиться и никак не мог. Потом глухо, не отнимая рук от лица, заговорил:
— Никогда не интересовался я чужими делами, хотя и поступал, как все. Аул откочевывал на новое место — и я с ним; разбивали люди юрты — и я тоже ставил свою… Я и правнуку внушаю: «Живи сам по себе, своим умом!» Да разве нынче молодежь послушная? Связался с «ага-бием», хочет сделать что-то для людей. По-моему, не стоит вмешиваться в судьбы людей, не стоит страдать за других. Что толку? За всех все равно не перестрадаешь!.. Это для здоровья вредно, а человек должен жить как можно дольше…
«Да ты, аксакал, оказывается, всего-навсего крот, который знает только свою нору! Зачем же тогда тебе нужна такая долгая жизнь? — возвращаясь домой, размышлял Ерназар. — Зачем человеку дана жизнь? Не-ужто для того лишь, чтобы заботиться о своей утробе, отворачиваться от чужой беды и дрожать за свое драгоценное здоровье?»
Ерназар наткнулся вскоре на Мамыт-бия. Сидя на коне, тот размахивал плетью и последними словами ругал бедняка Гаргабая и его жену. Оба цеплялись за ноги бийской лошади, ползали в пыли… Ерназар вырвал повод у Мамыта и повел его коня за собой. Остановившись в сторонке, прошептал угрожающе:
— Увижу еще раз, что измываешься над бедняками, — голову оторву!
— Не заносись больно-то! И не вмешивайся! Не командуй тут! Хивинский хан велит сворачивать шею тем, кто не платит ему налог… И тем, кто мешает его собирать!
— Налог бери у тех, с кого есть чего взять! С себя и начинай!
Мамыт-бий промолчал, только злобно ощерился.
Ерназар пришпорил коня и помчался прочь. Опомнился он в тугаях. Навстречу ему на ишаке двигался Рузмат с вязанкой дров за спиной и напевал. Это рассмешило Ерназара. Рузмат же, издалека приметив Ерназара и его улыбку, объяснил:
— Не смейтесь надо мной! Я поступаю по воле моего бая — Сержана. В прошлый раз я отправился за дровами вместе с придурком Рустемом. Так вот, он удостоился похвалы за то, что привез дрова именно таким способом: вязанку за спину, а сам на ишаке. Меня же обозвали глупцом: я взвалил дрова на ишака, а сам шел рядом, пешком. Вот я и решил удостоиться похвалы бая…
Ерназар иронически хмыкнул, почесал за ухом.
— Ага-бий, у меня к вам просьба, можно? Если вы получите когда-нибудь высокую должность, если, если… бием станете… в общем, возьмите тогда меня своим стремянным, а? Или к себе в услужение!
Ерназар перестал улыбаться и спросил:
— Разве тебе невдомек, что быть помощником бия куда труднее, чем простым работником или дровосеком?
— Ага, я предпочитаю, чтобы умные заставляли меня камни таскать, чем сытно есть и прохлаждаться рядом с дураками.
Ерназар цепким взглядом окинул стройного, крепкого джигита.
— Есть у тебя друзья, которые думают, как ты? Делятся с тобой сокровенным?
— Есть, и немало. И близкий мой друг Векторе так же думает. Делиться!.. У нас, бедняков, это принято чаще, чем у тех, кто богат.
Ты умный джигит…
— Ага, я не осмеливался раньше подойти к вам. Но я слышал от людей о вашей мудрости. Я хочу найти человека, который бы с толком использовал и мою силу, и мой разум. Научил бы правильно жить…
— Разве умный нуждается в том, чтобы ему говорили, что он умный? — в сомнении покачал головой Ерназар.
— Нуждается. Ведь утопающему нужно громко кричать, изо всех сил звать на помощь! — убежденно ответил джигит. — И еще я хотел предупредить вас, ага. На зияпате вы приняли в игру младшего Ерназара. Наведывался он тут к моему баю на угощение… вместе с Саипназаром явились. По-моему, младший Ерназар — еще зеленая завязь, а выращивает-то ее Саипназар. Выращивает, посмеиваясь про себя… Чтобы в нужный момент напомнить этому юнцу: «Это я сделал тебя человеком!..»
— Ты хочешь стать моим защитником?
— Не вы, ага, нуждаетесь в моей защите. Не все люди, чьи отцы слепые, становятся богатырями, как наш Горуглы.[4] Не все, кого мать родила на крыше, — выше и лучше других. Бедняки тоже люди, и не все они глупы…
— Ты прав, джигит! — Ерназар одарил Рузмата на прощание теплой улыбкой.
«Да, вот тебе и бедняк! — думал Ерназар. — Сколько тайн и загадок таят в себе люди, которые кажутся на первый взгляд простыми! Воистину, каждый человек — это целый мир!.. Однако попробуй-ка возьми этого парня к себе, в «ага-бий»! Окажутся недовольные и обиженные! Губы надуют, начнут роптать!»
Ерназару часто попадались на пути грязные, оборванные дети, старики, просящие милостыню. Он видел их каждый день и так привык к человеческому горю, к нищете и бедности народа, что перестал замечать. Но сегодня с ним что-то произошло: он замечал всех сирых и убогих, словно его глаза стали более зоркими, а сердце — более чутким. Из толпы оборванцев отделился какой-то малыш, подбежал к Ерназару и протянул к нему тоненькую, как прутик, руку.
Ерназар пошарил в карманах — они были пусты.
— Разве человек, у которого нет медного гроша, садится на коня? — дерзко поддел его мальчишка.
— Как тебя зовут?
— Если вы хотите запомнить того, кому ничего не дали, так знайте — мое имя Каллибек.
Ерназар молча тронул коня. Мысли, одна безотраднее другой, роились в его голове: «Когда же не будет у нас сирых и голодных? Кто виноват в бедах людских? Верно сказал один из наших предков, что мы привыкли жить, скрывая нашу бедность, нашу нищету и скудость. Чтобы кто-нибудь, не дай бог, не посчитал, что нищи и голы, мы последнее бросаем в котел, встречая гостей… Ох уж эта наша гордыня!.. Хивинский хан пьет нашу кровушку, отбирает последний грош, последнюю крошку хлеба! Он, это он виноват в наших бедах!.. Поэтому-то Айдос-бий поднялся против Хивы!.. Если бы хан был каракалпаком, разве бы довел он свой народ до такого бедственного состояния? Конечно, нет… Давно бы поделил свои сокровища между голодными… Хотя если хан, наш каракалпакский хан, не станет обирать народ, откуда он возьмет сокровища?..»
Ерназар спешился на берегу моря, подошел к месту, где река с шумом впадала в Арал. Здесь, по словам матери, любил стоять Маман-бий. Однажды он долго-долго всматривался в реку, а потом тихонько, будто лишь для тех, у кого тонкий слух, прошептал: «Река приносит в море бурным своим течением и богатство, и мусор. Море все от нее принимает, все! Ни от чего не отказывается, молча вбирает… Так и наш народ…»
«Да, каким мудрым и прозорливым был Маман-бий! Наш народ и правда подобен морю. Какое бы бремя ни взваливала во все эпохи судьба на плечи каракалпаков, они поднимали и несли это бремя, из последних сил, но поднимали и несли».
Поблизости, за камышами, прозвучал голос. Ерназар подался на голос, но он смолк. Вокруг опять тишина, убаюкивающая тишина… Но что это? Опять голос — откуда он? Плачет кто или поет печальную песню? Может, это ветер заплутался в камышах и жалобно просит отпустить его на волю? Ерназар насторожился, крадучись направился к камышам. Шаг… другой… Теперь зазвучал шынкобыз,[5] полилась протяжная мелодия, потом кто-то запел:
Измучилась я, крутя жернова, дорогая сноха, Но в силах поднять правое плечо, дорогая сноха, Юрта возлюбленного моего манит меня к себя, Но не решаюсь приблизиться к ней, дорогая сноха!Какой нежный, какой волшебный голос! Казалось, вместе с Ерназаром ему внимает весь мир, вся природа. Завороженные прекрасным голосом, умолкли птицы, притихла река, не плещется о берег, замерло море.
— Прощай, моя единственная отрада, прощай, мой шынкобыз! Отправляйся первым!.. — то ли пропел, то ли простонал голос; раздался всплеск воды. — Боже, почему я сирота? Зачем я полюбила джигита знатного и женатого? Почему ты обрек меня на любовь, которая мне дороже жизни? Он, мой любимый, никогда о ней не узнает, а если и узнает, что с того? В этом мире люди не сострадают друг другу, не умеют ценить любовь и дорожить теми, кто преданно любит! Ты несправедлив и жесток, о боже! Одним ты даруешь смех, другим посылаешь слезы!.. Мне не жаль покидать этот мрачный мир! Прощай, палван!
Ерназар как зачарованный внимал этим причитаниям. Они прекратились, сильный всплеск воды нарушил завороженную тишину. Ерназар подбежал к реке. По ее глади расходились круги; вот мелькнула рука, исчезла, опять мелькнула. Ерназар бросился в воду, поплыл, нырнул, схватил за косы.
Бесчувственная, в мокром платье, которое точно впивалось в нее, лежала на песке девушка. Ее колотила дрожь. Ерназар, сам мокрый и продрогший, испугался, как бы девушка не застудилась. Он снял с коня попону, склонился к девушке и, стуча от холода зубами, раздел ее трясущимися руками. Ериазар обомлел — такой красоты он еще не видывал: белое, точеное тело; груди — как две перевернутые пиалы; соски что спелые джидинки; тонкая талия, стройные полные ноги… У него закружилась голова. Он не отрывал глаз от девушки, чтобы навсегда ее запомнить. В нем пробудилось острое, до блаженной, пронзительной боли желание, какого он, казалось, не испытывал ни разу в жизни. Ерназар начал гладить эти бедра, эти ноги, соблазнительнее и манящее которых не было ничего на свете. В сладком головокружении коснулся он губами девичьей груди, прильнул к губам, к шее. Каждая жилка, каждая кровинка затрепетала, ожила в нем, требуя, жадно требуя насыщения. Его поцелуи, его руки звали, призывали эту прекрасную плоть пробудиться, откликнуться на его зов. Девушка открыла глаза, испугалась:
— Боже, где я? Что со мной? Где мое платье? — Руки ее потянулись к груди, пытаясь ее прикрыть.
— Как ты красива! — задохнулся Ерназар. Скрипнув зубами, он завернул девушку в попону;
дрожа от страсти, хотел и никак не мог успокоиться. В сторонке выжал и вновь надел свою одежду. Девушка не отводила от него огромных глаз, в которых заблестели искринки жизни.
— Ага-бий, зачем ты спас меня? — вдруг горько упрекнула она.
Ерназар вместо ответа вскочил на коня; вскоре он вернулся с охапкой сушняка и разжег костер. Он просушил платье девушки, но ей не отдал. Она, не смея попросить одежду, еще плотнее закуталась в попону.
— Ага-бий, зачем ты помешал мне умереть? — укоряла она опять и опять с болью и тоской в голосе.
— Река близко, можешь снова прыгнуть, — усмехнулся Ерназар.
Девушка тоже улыбнулась — сначала робко, одними уголками рта, потом смелее и смелее… Мир посветлел для Ерназара, будто из-за черных туч показалась полная луна.
— Кто твой отец?
— Дослан! — Голос у девушки был мелодичный, чистый.
— Постой, постой… Это твоя мать после кончины мужа пришла к нам с Тенелом на руках? Значит, ты Гулзиба, да?
— Да. Откуда тебе об этом известно?
— Я много чего знаю. Ты из семьи потомственных бийских аткосшы — стремянных!
— Почему же тогда вы не принимаете в свой «ага-бий» моего брата?
— Потому, что у него молоко еще на губах не обсохло! А теперь признайся мне, Гулзиба, почему ты решила умереть?
— Признаться? — Девушка покраснела, зажмурилась.
— Конечно!
— Разве в этом признаются кому-нибудь?
— Мне можно! Я все сохраню в тайне.
— О аллах! Ну и что из того?.. Так почему же?
— Не могу сказать!
Тебе что-то мешает соединить судьбу с любимым?
— Я была у гадалки. Она мне предсказала, что я испытаю много-много трудностей и бед, будут у меня разные приключения… Потом умрет один наш недруг, только после этого сможем мы пожениться!
— Если ты веришь этим бредням, почему же ты хотела умереть? Человек является на свет божий не для того, чтобы исчезнуть без следа.
— Ерназар-ага, разве вы забыли, что человек рождается для того, чтобы умереть?
— Эх, Гулзиба, человек никому не может отомстить своей смертью! — Он осторожно взял в ладони ее косы, погладил их — они были тугие и податливые.
— И любовь бывает врагом для человека! Я и решила избавиться от своего врага, погибнуть с ним вместе. А вы, Ерназар-ага, вы знаете, что такое любовь? Сначала вы полюбили жену или она вас?
Вопрос Гулзибы заставил его задуматься: в самом деле, что такое любовь и как она к нему пришла? Пришла ли?..
— Я был молод; мать велела жениться, я и женился, — не стал Ерназар лукавить.
— У меня никого нет, кроме Тенела.
— Хорошо хоть, есть брат…
Гулзиба потянулась за платьем, попона соскользнула, обнажила ее. Ерназар не смог, не стал сдерживать себя…
* * *
В сумерках они сели на коня. Гулзиба испытывала ломоту в теле; каждый шаг коня отзывался в ней болью, но она, стиснув зубы, терпела, потому что уже понимала: эта боль от него, ее любимого. Ерназар прислушивался к себе, к тому новому, что возникло в нем.
Сердца их бились то еле-еле, почти замирая, то гулко и горячо. Они молчали. Так добрались до ее лачуги. Гулзиба легонько коснулась своими губами губ Ерназара и осторожно сползла с коня.
— Сестра! — радостно приветствовал ее Тенел. — Почему ты задержалась?
— Беспокоился?
— Да! Хозяйка меня отругала! Два теленка высосали все молоко у коровы по пути с пастбища, я не углядел за ними.
Гулзиба погладила брата по голове:
— Мы пожалуемся на твоих обидчиков ага-бию Ерназару, он за тебя заступится! — Это имя вызывало у Гулзибы блаженный трепет.
— Сестра, пастухи говорили сегодня, что Саипназар и мулла получили от ага-бия по заслугам! Он защитил от этих злыдней бедняков.
— Знаю, душа моя, слыхала. Ага-бий очень сильный человек. Другого такого сильного и умного нет. И еще, представь только, Тенел, наш с тобой предок был правой рукой Маман-бия! Оказывается, наша семья — потомственные стремянные биев. И ты тоже будешь служить ага-бию Ерназару, когда подрастешь немножко.
— Правда?! И он возьмет меня в аткосшы? Говорят, что стремянный бия должен быть очень и очень умным, грамотным, смелым.
— Я обучу тебя, помогу стать таким! Но ты должен еще быть и сильным, и терпеливым, понял?
— Как же я стану и умным, и грамотным, и сильным, и терпеливым? Разве это возможно?
— Слушайся меня — и станешь.
* * *
Гулзиба скрылась в лачуге, и Ерназару почудилось: ему грезился сон, удивительный сон, который никогда больше не повторится! Не может повториться — таким прекрасным, таким блаженным он был. Долго-долго стоял он, скрытый ночью, неподалеку от лачуги и думал: «Наверно, это и есть то, о чем в народе говорят: «Сохрани, боже, в первый раз стать мужчиной, в первый раз стать женщиной…» Бедная Гулзиба, она теперь женщина, но, наивная душа, небось не понимает этого! А я… Наверно, и я сегодня лишь изведал то, что изведывает настоящий мужчина… Испытал блаженство, которое поэтами воспевается… Да, сладка любовь, сладка женщина…»
Ерназар тронул коня. Да, сегодня ему выпало пережить и передумать столько всего, что обычно человеку выпадает за годы. События, мысли, душевные потрясения — одно важнее другого — следовали, набегали, завязывались в тугой, запутанный узел. Судьба будто решила высыпать на него все разом — высыпать и не дать ответа: как жить и действовать дальше? Как помочь потомкам тех, что сражались вместе с Маман-бием…
Около своей юрты Ерназар увидел трех коней на привязи: один принадлежал Аскар-бию, редкому гостю в его доме. «Что ему понадобилось от меня?»- насто рожился он и шагнул в юрту. Возле Аскар-бия восседал незнакомый человек. «Небось сборщик налога», — решил Ерназар; принялся, как было заведено обычаем, расспрашивать гостей о здоровье, благополучии — их собственном и их семей тоже. Потом отлучился, чтобы осведомиться, готовится ли угощение для гостей. Барана уже закололи, огонь разожгли. Около котла хлопотал Нурлыбек. «Вот подходящая пара для Гулзибы!» — промелькнуло в голове у Ерназара, промелькнуло, укололо в самое сердце. В юрту он вернулся понурый.
— Аскар-бий, где послы Кенесары? Вы, говорят, вместе отправлялись в Хиву.
— Возвратились домой.
— Ну и как их миссия, удалась?
— Удалась, однако хан поставил ее успех в зависимость от нас.
Аскар-бий представил Ерназару своего попутчика, гонца главного визиря. Как и подобает настоящему гонцу, он был немногословен. Хивинцу не нравилось, что Аскар-бий, получивший бийство прямо из рук великого хана, держался перед этим самозваным ага-бием робко, словно мальчишка. Однако он никак этого не выказывал, пил-попивал чай, безмятежно облокотившись о подушку.
По обычаю серьезные разговоры начинаются после трапезы или когда провожают гостя из дома. Только тогда дозволяется полюбопытствовать, по какому делу да с чем он пожаловал к тебе в дом.
— Ерназар, братец мой, есть одно тайное поручение, наиважнейшее поручение, о нем ни одна живая душа пока не ведает, — оповестил Аскар-бий, отведав угощение. — Оно исходит от великого хана. Я к тебе пожаловал, чтобы посоветоваться.
— Благодарю вас, бий-ага!
— Поначалу, видишь ли, оказать содействие Кенесары выпало нам, черноглазым подданным великого хана. Однако хан внезапно получил сведения, что русские собираются в поход на Хиву. Хан печется прежде всего о спокойствии и безопасности собственного государства. Он повелел, чтобы ты собрал войско против русских, собрал и возглавил. Конечно, собрать войско трудно, кто же станет спорить! Но за тобой пойдут джигиты, твои лихие агабийцы… Они пойдут за тобой в огонь и воду. Мы же тебе со своей стороны поможем.
Ерназар покосился на хивинского гонца: дорога и обильная еда разморили его — он спал, свернувшись в комок.
— Аскар-бий, зерно, попав меж двумя мельничными жерновами, в муку перемалывается. А мы — живые люди, народ.
— Ну зачем же, братец, так истолковывать повеление хана?
— Жизнь в нашем краю невесела, ох невесела! Голод, нищета, недовольство народа. Воевать с русскими — все равно что своими руками защищать и этот голод, и эту нищету.
— Что ты, что ты! Мы защитим нашу веру, сохраним в чистоте ислам и его светоч — Хиву. Нашу родную Хорезмскую низменность, хана великого защитим.
— От кого? Может, русские идут к нам с добром, несут благо нам, каракалпакам? Русских много, очень много, они сильны; неужто же сильный обидит слабого? Как же нам воевать с ними, если мы и целей-то их не знаем?
— Что ж, по-твоему, нам сидеть сложа руки и смотреть, как воюют хивинское ханство и русское царство? Правоверные против неверных?..
— Нам ничего больше не остается. Нельзя бросать камень в того, кто нас не трогает! Еще хуже быть булыжником в чужой праще, бий-ага. Не хотел бы обижать нашего хивинского гостя, — Ерназар слегка повел головой в его сторону, — но все же скажу так: лучше быть съеденным львом, чем прятаться у лисы под хвостом.
Аскар-бию была известна непреклонность Ерназара. Он с отчаянием и страхом понял, что заставить Ерназара выполнить приказ хана нельзя.
— Долг моей совести, братец, напомнить тебе о святой обязанности. Смотри, не вышло бы неприятностей из-за твоего непокорства.
Утром гонец стал рассыпаться перед Ерназаром:
— Дорогой хозяин, не взыщите, что вчера я не разделил приятности вашей беседы, уж очень я притомился в пути, да и мешать вам было бы нескромно… Вам, джигиту, пользующемуся известностью и уважением в вашем краю, я привез сообщение. Я не стал рассказывать об этом даже Аскар-бию. Меня послал к вам главный визирь. Он просит вас пожаловать к нему. У глав ного визиря есть для вас приятная новость. Не знаю, какая именно, но что приятная — не сомневаюсь!..
«Что же заключает в себе это приглашение? Благо? Зло?»- прикидывал в уме Ерназар.
— Когда?
— Если отправитесь, не задерживаясь, прямо сегодня, сделаете мне, ничтожному, одолжение.
Когда Ерназар остался наедине с матерью в юрте, она зашептала:
— Делать нечего, придется ехать, сынок! Будь осторожен: хоть лиса и линяет, она все равно остается лисой. Остерегайся гонца — как бы он не обернулся волком. Уж очень он угодлив и льстив!..
Когда Ерназар вышел седлать коней, он увидел, что около загона маячит, переминается с ноги на ногу Гаргабай, рядом с ним — сын. Гаргабай выглядел как общипанный петух: в тряпье да старье, зато сын его Бер-дах приодет, наряден.
— Эй, Гаргабай-ага, с чем пришел, что нового? — Ерназар приблизился к Бердаху, снял с него новенькую шапку, опушенную мехом черного козленка, погладил по волосам, они были шелковистые, мягкие. — Ха, видел, видел я, как ты однажды открывал на свадьбе лицо невесты.[6] Подрос, вытянулся!..
— Ерназар-палван, не знаю, как вам и объяснить, но, кажется, наградил его всевышний даром поэта. Уж больно хорошо стихи сочиняет, — с гордостью произнес Гаргабай. — Есть у меня желание: научить его грамоте, может, чего из него и получится… Хочу послать его в Хиву!
— Желание похвальное, но в состоянии ли ты его осуществить?
— Я слышал, в доме у вас — гость из Хивы. Может, он окажет содействие?
— Эй ты, оборванец, что это ты в башку свою дурацкую забираешь! Не хватало еще, чтоб всякая рвань, голь перекатная… обучалась в Хиве! — презрительно бросил с порога хивинец.
— Гаргабай-ага, я тоже отправляюсь в Хиву. Если удастся, зайду в медресе и все разузнаю! — попытался утешить Ерназар оскорбленных отца и сына.
— Да хранит тебя аллах! — сквозь слезы прошептал Гаргабай. — Аминь!
4
До Хивы путники добирались, изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами. Въехав в город, они и вовсе замолчали. На каком-то перекрестке дорогу им преградила толпа. Люди напирали друг на друга, силясь что-то рассмотреть. Всадники подъехали ближе; гонец разогнал плеткой любопытных. На дороге лежал мертвец.
— Кто он? — спросил гонец.
— Это мой невольник! — ответил толстый человек. Он, видно, так спешил к месту происшествия, что не успел завязать пояс на своем желтом халате и замотать чалму — один ее конец болтался у толстяка за спиной. — Вай, проклятый! — он ударил себя по ляжкам. — Вы только взгляните на него, люди! Он разорил меня. Я отдал за него цену трех рабов, уж очень он сильным казался! А вышло, что очень слабый. Трех палок не выдержал.
— Поехали своей дорогой, Ерназар! В Хиве такое встречается часто, — сказал гонец. — Сам слышал, раб наложил на себя руки, чтобы досадить хозяину. Очень обидчивый раб, не по чину гордый!..
Около какого-то дома гонец остановился и, попросив Ерназара обождать его, скрылся. Ерназара вмиг окружили нукеры, стащили с коня. Когда кандалы были надеты на руки Ерназара, показался гонец. Он вздохнул с облегчением, вытер со лба пот.
— Так-то оно будет надежнее! Вспомни, богохульник, что ты Аскар-бию насчет льва и лисицы… Ребята, волоките его в зиндан!
5
Любовь зачаровывает человека. Все, все — мир, люди, природа — кажется ему преображенным, волшебным, чудесным. Разделенная любовь рождает мечты о счастье, посылает удивительные сны.
Во сне Гулзиба увидела, что Рабийби умерла. Кругом все плачут-убиваются, а они с Ерназаром стоят в сторонке, крепко взявшись за руки, и улыбаются…
Гулзиба очнулась ото сна и тут же заметила склонившегося над очагом брата; он дул на затухающие угли, старался разжечь огонь.
Тенел, Рабийби жива или умерла?
— Что с тобой, сестра! Конечно, жива! Ты еще не проснулась?..
Гулзиба ощутила боль во всем теле, почувствовала истому от этой боли. «Боже, что со мной?.. Какие у Ерназара горячие губы, какие жаркие руки! Что со мной вчера было? От счастья лишилась сознания!» Гулзиба вспомнила, как мать ей наказывала при жизни: «Девушка должна беречь свою девичью честь, блюсти себя! А уж коли не соблюла, должна сохранить это в тайне. Ото всех».
Гулзибе не терпелось хоть что-нибудь узнать об Ерназаре. Ее так и подмывало спросить у соседей, как идут дела в доме ага-бия, все ли там живы-здоровы. Но она даже имени Ерназара вслух не произнесла, словно боялась быть уличенной. Она повзрослела за один день, за тот час, который провела с тем, кого любила больше жизни. Гулзиба сжала зубы и ждала, когда Ерназар даст знать о себе.
Десять дней тянулись для нее будто десять месяцев. От Ерназара — ни слуху ни духу. Она решила сходить в его аул, под каким-нибудь предлогом заглянуть к нему. Если она не застанет Ерназара, а дома окажется Кумар-аналык, она, Гулзиба, должна будет сказать: «Кумар-аналык, ваш аул богаче нашего, я хотела бы переселиться сюда вместе с братом…» «Если Кумар-аналык одобрит меня, я тут же перееду».
Гулзиба нарядилась в свое лучшее платье. У нее точно крылья выросли за спиной и понесли ее к Ерназару. Все, все ласкало глаза, радовало сердце Гулзибы, делило с ней счастье. Голый, без единой набухшей почечки тамариск казался ей усыпанным цветами; они тянулись к ней головками и кивали ей приветливо, провожали, благословляя, в аул ее палвана… Ветерок налетал, шаловливо трепал ее волосы, играючи подталкивал вперед к заветному дому… Около порога Гулзиба остановилась, чтобы унять колотившееся сердце. Радость померкла, куда-то внезапно исчезла, будто и не было ее, будто кто-то нежданно и грубо навалил на плечи неведомую тяжесть. В юрте раздавались голоса:
— Я попросила вашего сына, чтоб он привез мне из Хивы браслет и кольцо… работы ханского ювелира!..
— Значит, привезет, душа моя, непременно привезет! Слыхала небось поговорку: блеск трону придает хан, блеск жене придает — муж. Будет у тебя красивое кольцо и красивый браслет! Ты у нас счастливая невестка!
— Свекровушка, правда — я принесла в ваш дом счастье?
— Да, душа моя, но почему ты так часто об этом спрашиваешь?
Гулзиба рванулась было уйти, скрыться, но остановилась: вдруг кто-нибудь наблюдает за ней и решит еще, что она подслушивает? Она робко приоткрыла камышовую дверь.
Кумар-аналык возилась с посудой, около нее сидел Хожаназар и пил молоко из расписной деревянной миски. Гулзиба была так смущена, не смела поднять от земли глаза и потому не заметила сразу Рабийби — та лежала в глубине юрты и кормила грудью ребенка. Кумар-аналык воззрилась на Гулзибу с удивлением: еще совсем недавно была девчушка, а теперь вон какая красавица! Она приветливо улыбнулась гостье и постелила ей одеяльце. Девушка, не ожидавшая такого почета, смешалась еще больше. Она опустилась на самый краешек одеяльца и только тут приметила Рабийби. «Верно предсказала мне гадалка! Лежит среди дня, — значит, больна!»- обрадовалась Гулзиба, но тут же страшно испугалась, как бы они не догадались о недобрых ее мыслях…
— Располагайся поудобнее, доченька, сейчас я чай вскипячу!
Рабийби окинула Гулзибу придирчивым, оценивающим взглядом. Бледное лицо Рабийби исказила едва приметная, недовольная гримаска. Она всегда переживала в душе, что чересчур сухопара, что бедра у нее поджарые, а руки и ноги тонкие. Ревнивый ее взор сразу все схватил — гибкую, молодую стать, нежность тела, белое, что молоко со сливками, лицо, огромные блестящие глаза с длинными ресницами… Молодуху передернуло:
— Эй, девка, ты чего расселась? Чем заставлять старуху хлопотать, сама вскипяти чай! И пей сколько влезет!
Гулзиба поднялась и принесла снаружи вязанку аккуратно наколотых дров.
Когда огонь вовсю полыхал и чайник весело посвистывал, в юрту бочком вошел Маулен-желтый. Его лицо выражало тревогу. Кумар-аналык пристально посмотрела на него, но вопросов задавать не стала. Знала: Маулен долго молчать не может, сам все выложит.
— Сноха, я таким уж уродился, не умею хитрить, — начал он прямо с порога. — Я пришел с одной дурной вестью и с одной просьбой.
— Дурную весть разделим с тобой, просьбу постараемся выполнить.
— Под нажимом Аскар-бия судья Фазыл начал собирать джигитов-агабийцев, чтобы выступить против русского царя… Я поспешил к вам. Может, мне тоже пойти на войну против русских, а? Может, Ерназара пригласили в Хиву, чтобы поставить во главе войска? Или дать какую-нибудь большую должность?.. Если его возвысят, пусть он меня не забудет!
Кумар-аналык рассмеялась.
— Не смейся, мать, — заныл Маулен, — пойми меня хоть ты! Войди в мое положение! Мне-то чины не нужны, а вот родственникам моим… никакого ко мне нет уважения с их стороны! А так, глядишь, стал бы я пле-точником — и мне почет! Уж я бы старался, из кожи вон лез, себя не щадил!
— Вот вернется Ерназар, у него и проси должность! — отрезала Кумар-аналык, а про себя подумала: «Напрасно я сержусь! Что возьмешь с этакого пустомели! Его всерьез и принимать-то нельзя!»
Маулен-желтый рассыпался в благодарностях и задом выбрался из юрты.
Кумар-аналык встревожила весть о злонамеренной проделке Аскар-бия, однако успокоила надежда: «Вернется из Хивы сынок, получив от хана главное бийство, отменит глупый приказ… Если он и поднимет своих джигитов, то уж против другой стороны… когда для этого настанет час».
— Свекровь, а может, верно люди говорят, может, ваш сын вернется из Хивы самым главным бием? — будто прочитала ее мысли Рабийби. — Вчера я ходила по воду, встретила Мамыт-бия, он зол на Ерназара, ох зол! Говорит: «Твой муж сильный, но глупый, надменный верблюд, ищет себе рога, а потеряет голову». Каков, а? Я ему в ответ: «Поглядим, как ты запоешь вскоре! Он такую должность получит, что тебя рядом не посадит!»
— Молодец! — похвалила Кумар-аналык, но ее покоробило, что невестка ведет при посторонних неумные речи. — Гулзиба, скажи, что привело тебя к нам?
— Мы с братишкой хотели бы перебраться в ваш аул, совсем перебраться. Что вы мне посоветуете, мать?
Кумар-аналык не успела ответить — в двери показался Сержанбай. Это привело Кумар-аналык в смятение. Она и припомнить бы не смогла, когда старый бай последний раз переступал ее порог. Уж не с бедой ли какой пожаловал?.. Нет, непохоже вроде, вон как резво семенит к одеяльцу, на почетное место!.. Да, крепко его согнули годы, спина — что серп!..
Сержанбай, приободренный тем, что оказался среди трех женщин, двух совсем молодых, поднял голову, выставил вперед свою длинную седую бороду. Прежде чем расспросить о житье-бытье, осведомился:
— Где Ерназар?..
Это интересовало Гулзибу больше всего на свете. Поблагодарив бая в душе, она замерла в ожидании ответа.
Уехал в Хиву, — ответила Кумар-аналык и, помолчав, добавила:- Вот эта девушка, сирота Дослана, мечтает перебраться с братом на житье в наш аул. Как бы ей помочь?..
— Понял, понял, — перебил старик Кумар-аналык. — Я знаю и Гулзибу и Тенела, хорошие они дети! Пусть ко мне и переселяются, я их приючу! Корову выделю, почему не помочь, коли это в моих силах?
У Сержанбая не было детей, но он так и не обзавелся еще одной женой. Из-за этого многие считали его скуповатым — сколько добра всякого, скотины, а боится, как бы не разориться!.. Кумар-аналык почувствовала, что стремление Сержанбая посодействовать Гулзибе искреннее, и порадовалась тому, что людская молва ошибочна. Она поблагодарила Сержанбая и сердечно с ним распрощалась. Только Кумар-аналык взяла в руки пиалу с чаем, — в юрту влетел Шонкы.
— Невестка, наполни рот Шонкы маслом! — приказала Кумар-аналык, предчувствуя добрую долгожданную весть. Не сдержав нетерпения, она быстро поднялась сама и, зачерпнув полную ложку масла из бурдюка, подвешенного к остову юрты, сунула ее в рот Шонкы.
Шонкы с жадностью проглотил масло, но стоял молча, словно вместе с ним проглотил и язык.
— Говори, душа моя!
— Хан заточил Ерназара в зиндан! — громко возвестил Шонкы.
Из рук Гулзибы выпала пиала, разбилась на мелкие кусочки.
— Эй, невоспитанная, побереги чужое добро! — Ра-бийби бросила на нее свирепый взгляд.
«Почему он сообщает дурную весть почти с радостью? — думала потрясенная Кумар-аналык. — Почему?»
— Удивил ты меня, Шонкы, удивил! — произнесла Кумар-аналык спокойно, хотя внутри у нее все тряслось от тревоги и обиды. — Когда несут матери плохую новость, не бегут со всех ног!..
— Я еще не научился, как надобно… оповещать… — попытался он оправдаться.
Кумар-аналык собрала осколки разбитой пиалы, выпрямилась.
— Хан сажает в зиндан только равных себе! Или тех, в ком видит достойных соперников! Учти это, Шонкы! Я горжусь, что мой Ерназар не ниже хана! — Кумар-аналык взяла Шонкы за локоть и вывела из юрты. — Теперь рассказывай! Тихо и спокойно!
— Гонец возвратился! Который увез Ерназара в Хиву!..
— Где он?
— В ауле Аскар-бия. Собирают войско против русских.
— Он приехал один?
— Нет, вместе с ним хивинские нукеры.
— И ты собираешься в нукеры?
— Не решил еще.
— Шонкы, запомни навек то, что услышишь сейчас от меня. Когда падает богатырь, его поддерживают; когда падает трус, через него переступают.
— Не я один, джигиты из «ага-бия» тоже идут в нукеры.
— Я оденусь, а ты оседлай мне коня! — приказала Кумар-аналык. — Я в аул Аскар-бия!
Кумар-аналык слегка помедлила, перед тем как шагнуть из юрты на улицу.
— Сержанбай — человек слова. Отправляйся к брату и жди! — обратилась она к Гулзибе. — За вами приедет слуга бая.
* * *
На пустыре толпился народ. Люди все подходили и подходили. Пред ними гарцевал Аскар-бий и, привстав на стременах, кричал:
— Мы, каракалпаки, должны защитить священный очаг ислама — Хорезм! Это наш долг, это наша обязанность! Погибшие в этой войне, войне против неверных, обретут вечный покой в раю! Кто откажется идти в поход, будут закованы в кандалы! Посажены в зиндан. Как те вон отступники!
Кумар-аналык похолодела — так ужасен и жалок был вид людей, которых хивинские нукеры окружили, как скотину в загоне. Старики, старухи, джигиты… Кумар-аналык, никем не замеченная, смешалась с толпой.
— А где наш ага-бий Ерназар?
— Люди, — вперед выступил хивинский гонец, — у нашего великого хана нет секретов от его верноподданных! Этого ослушника заточили в зиндан! Хан намеревался сделать его вашим военачальником, но он отказался. Всякого, кто ослушается, ждет та же участь…
— Аскар-бий! — Беспокойный конь гарцевал под Артыком, есаулом ага-бия. — Как же мы подставим грудь под русские копья, если это противоречит воле нашего ага-бия?
— Э, Артык, попридержи язык! Когда ага-бий отсутствует, командую я! — Фазыл ткнул себя пальцем в грудь. — Мы, агабийцы, преданные сыны ислама! Мы не позволим стране иноверцев обратить в свою веру нас, мусульман!
— Но ага-бий Ерназар против этой войны! — возвысил голос Артык.
— Ерназар изменник! — взревел Фазыл. — Он отказывается от войны против русских по злому умыслу! Он хочет, чтобы мы стали рабами русского царя!
«Как, однако, заговорил, а? Сыну никогда не отваживался перечить, все поддакивал», — подумала Кумар-аналык.
Из толпы вынырнул красивый джигит и, желая привлечь к себе внимание, подняв шапку, замахал ею.
— Как быть тем, у кого нет лошади? Если Аскар-бий даст мне коня, я постою и за ислам, и за хана!
— Этого добра, лошадей, у нашего великого хана хватит на всех! — прихвастнул толстый хивинец.
Кумар-аналык теребила в похолодевших руках поводья: «Почему же никто не осмеливается выступить в поддержку Ерназара?»
— Люди! — раздался в этот момент властный, громкий голос Зарлыка. — Воевать против русских — это безумие! Зачем приносить бессмысленные жертвы? Нас уничтожат всех до единого! Мы ослабим наши силы, силы «ага-бия», оборвется наша связь с народом!
Толпа заволновалась, загудела, и тут к ней обратилась Кумар-аналык:
— Дети мои! Верно говорит Зарлыкджан! Не закрывайте ворота, ведущие к народу! Не забывайте: у того, кто служит чужому хану, ногти тупеют, как на камне сточенные! Подумайте, дети мои!
Гонец грубо ткнул плеткой в бок Аскар-бию:
— Женщина без мужа — что лодка без весел, останови ее! Заткни ее поганый рот!
— Э-э, не те вы речи держите, Кумар, не те! Уж нам-то известно: те, кто служит хану, пребывают в довольстве и сытости! — закричал степняк в рваной одежде. — Нам, бедноте, тоже хочется попробовать иной жизни, поесть досыта!
— Верно, верно! До каких пор нам маяться, крошки во рту лишней не иметь! — поддержали степняка несколько человек.
— Уберите отсюда Кумар! — прошептал Аскар-бий своим приближенным.
Два джигита двинулись к Кумар-аналык. Толпа зароптала — сначала робко, потом все более громко и грозно, в ней началось движение, не предвещавшее ханским нукерам ничего хорошего. Люди мешали страже приблизиться к ней. Пока стража пробиралась сквозь людскую стену, Кумар-аналык и Зарлык вскочили на коней и понеслись к ближнему холму. Ханские нукеры бросились следом, но вскоре попридержали коней: из-за холма появились всадники, они взяли беглецов в кольцо и скрылись в северном направлении, там, где были казахские степи.
Опасаясь гнева толпы, есаул хана принялся увещевать:
— Мусульмане! Хан щедро вознаградит тех, кто верен ему.
— Джигиты, не верьте! — крикнул Генжемурат. Он оказался в середине толпы. — Его слова лживы! Не предадим Ерназара! Это большой грех — предательство!
— Слушайте мои приказы, я командую, когда нет Ерназара! — Фазыл ожег коня нагайкой, очутился рядом с Генжемуратом, дважды стеганул и его.
Генжемурат расшвыривал нукеров, но они лезли и лезли на него: вырвали поводья, стащили с коня. Генжемурат грозил Фазылу кулаками, посылая ему проклятья.
Фазыл подъехал к ханскому есаулу:
— Не успокоюсь, пока не заткну глотку этому прихвостню Ерназара!..
— Вы истинный сын ислама и хивинского хана! Хвала вам!
6
Казалось бы: когда небо скрыто от тебя, что из того, что оно бескрайнее и широкое?.. Когда солнце не светит тебе, что из того, что оно в урочный час восходит и заходит?
Выросший на приволье, в безбрежной степи, Ерназар только теперь, впервые в жизни, постиг, как прекрасна синяя бездонность неба, распростертого над головой. Какое счастье каждый день видеть солнце! По утрам оно золотым огнем поднимается из-за горизонта, вечерами ускользает, ныряет в море, зажигая его то багровым, то светлым пламенем.
Небо в зиндане — величиной с кулак, едва голубеет наверху в маленькой круглой дыре. Ерназар потерял счет дням и ночам. Время будто остановилось, он в полном одиночестве. Ни одна душа, похоже, не интересуется им. Напоминает о том, что где-то все-таки есть люди, есть движение, есть жизнь, лишь стражник. Трижды в день приносит он Ерназару хлеб и воду, пять раз сообщает, что наступило время намаза.
Стражник привык к Ерназару, стал перекидываться с ним словом-другим. Желая приободрить Ерназара, он как-то шепнул ему украдкой:
— Не горюй, раб божий! Утешайся тем, что этот зиндан не для тех, кого приговаривают к смерти! Авось останешься в живых…
День бежал за днем. Ерназар начал отчаиваться, терять надежду выбраться когда-нибудь из этого сырого каменного колодца.
Однажды открылась дверь и ему велели следовать за охраной.
Ерназара привели в пустое и запущенное помеще ние. Навстречу ему поднялся турецкий ахун. Он оказал этот знак уважения Ерназару против воли: чужое страдание, видно, не может оставить никого равнодушным… Обросший, худой — кожа да кости, на руках и ногах позвякивают кандалы, но взгляд… Пронзительный, гордый взгляд человека непокорившегося.
Ерназар сразу узнал ахуна, вспомнил его предсказания, их встречу неподалеку от восточных ворот города. У него побежали мурашки по спине. Ахун поздоровался, пригласил Ерназара присесть, и тот примостился на полу у стены.
— В чем ты провинился, Ерназар, что терпишь такие муки?
У ахуна был смиренный вид и сострадательный тон. Но чутьем, которое было обострено страданием, Ерназар понял: ахун притворяется, ему все известно. Ерназар, совладав с негодованием и отвращением, ответил с достоинством:
— Не знаю.
— Выходит, сон-то твой был в руку… Видеть себя голым во сне очень плохо. Не к добру. Но, помнится мне, я ничего не сказал тебе тогда еще об одной примете: бог дает людям такие большие глаза, как у тебя, чтобы в них поместилось много слез… Если не станешь осмотрительным, вся жизнь твоя пройдет в слезах да бедах… И у матери твоей огромные глаза, потому-то ей и досталась вдовья доля.
— Что суждено богом, то и сбудется… Нехорошо, однако, бить лежачего. Не подобает это человеку духовному.
— Умен ты, остер на язык. Но слова, сколько их ни трать, не превратятся в ключ от твоих кандалов. — Ахун долго хранил угрюмое молчание, потом спросил:- Где ты учился, кто тебя воспитывал?
— Мать… и учила, и воспитывала. И я горжусь этим!
— В какой колыбели ты вырос?
— В которую клала меня мать. Когда я родился, в нашу юрту принесли колыбели и узбек, и казах, и туркмен, и русский. Мать поочередно клала меня во все эти колыбели.
Ты упрям. Не прост ты! Характерец у тебя не легкий… Хлебнешь горя, много камней обрушится на твою голову. Выдержишь ли?
— Позаимствую силу у матери.
— Что ты, как попугай, заладил-«мать», «мать»! — передразнил ахун Ерназара с раздражением. — Послушай-ка, я расскажу тебе одну поучительную историю. Жил-был один джигит, вот такой же, как ты; он тоже преклонялся перед своей матерью; она, как и твоя, была вдовой. Однажды ему взбрело в голову, что все почести и уважение, которые он до сих пор оказывал матери, ничего не стоят. Он решил отвезти свою матушку в Мекку, да не в арбе какой-то, а на собственных плечах! Посадил он мать на шею и тронулся в путь. Навстречу — шейх: «Куда путь держишь, джигит?» Джигит подробненько ему обо всем и поведал, а шейх ему на это: «Ну и глупец! Чем самому мучиться, тащить эдакий груз на шее, и мать мучить, лучше бы сосватал ей старика вдовца!..» Мать обрадовалась: «Ойбой, мой шейх! Да благослови тебя бог! Вразуми моего сына, такой он непонятливый да недогадливый». — Ахун улыбнулся двусмысленной улыбкой… — Вот так-то, Ерназар! Я усматриваю большую мудрость в этой истории! Если бы ты отдал свою мать замуж за какого-нибудь почтенного аксакала, ей-богу, проку для всех было бы куда больше!
Ерназар рванулся к ахуну, но кандалы напомнили о себе саднящей болью, он застонал от бессилия, от слабости своей, свидетелем которой стал этот ненавистный человек.
— Охолони, остынь! — сурово пророкотал ахун. — Великий хан любит забавляться лаем собак, когда им отрезают уши… Он и тебе хотел отрезать уши, да я заступился…
— Когда-то царь Сулейман обложил налогом всех обитавших на земле, даже птиц. Чтобы избежать налогов, летучая мышь выдает себя то за воробья, то за мышь. Сдается мне, у вас есть сходство с летучей мышью.
— Я чувствую, чую я: твой рот — это гнездилище для змей. Однако горячиться и держать зло на людей мне не подобает. Ты в моих глазах прежде всего мусульманин, мой брат по исламу. Ты обретешь истину, я верю в это! У каракалпаков, мне известно, есть мудрое изречение: «После того как взобрался на лошадь, думай о себе; после того как слез с нее, думай о лошади…» Ты оседлал разум своей матери, что ту лошадь, а вот свалили тебя, ты и забыл о ней! Не очень-то тебя заботит судьба Кумар-аналык!.. Мать сейчас в Хиве. Свидание с ней, а может быть, и ее судьба — в твоих руках… Помни: если слон вытаптывает чужие посевы, то винят в этом не слона, а его владельца. Расплачиваться за твои грехи придется матери.
— Чего вы от меня хотите?
— Ты собираешься держать сторону русских? Чем они тебя приворожили?
— Наш хан в юности воспитывался у русского.
— Это была уловка, глупец! Хан пожелал узнать своих врагов поближе! Чтобы потом легче было одолеть их.
— Против русских я меч не подниму. Дружба с русскими завещана нам предками.
— Если русские захватят Хиву, будут истязать твой народ, что тогда?
Такого еще не бывало. И быть не может!
— Как ты поступишь, если мать убедит тебя в обратном?
— Ее я послушаюсь. Мать для меня — все! Она для меня — мой народ!
— Ты не мужчина! — отмахнулся от Ерназара ахун. — Но все равно мне жаль тебя! Я попытаюсь склонить хана к тому, чтобы он разрешил тебе свидание с матерью. Потом тебя ждет смерть!..
Ерназара снова бросили в каменный колодец. Он ждал встречи с матерью нетерпеливо и мучительно, собрав всю свою волю. Только бы разрешили!.. Только бы не обнаружить перед ней свой страх и волнение… Улыбнуться бы ей ободряюще!
Когда на другой день Ерназар услышал над головой, через крохотную круглую решетку, зов матери: «Ерназарджан!»-он забыл о всех своих приготовлениях и совсем как в детстве крикнул: «Ма-а-а-ма!» Пока его выводили из каменного мешка, он, однако, успел овладеть собой. Кумар-аиалык оставалась спокойной, ни одной слезинки не выкатилось из ее глаз, хотя она ужаснулась, увидев сына.
Кумар поздоровалась с сыном так, словно не в зин-дане встретилась с ним, а у колодца родного аула. Не дожидаясь, пока сын заговорит, она передала ему приветы от друзей и жены, с улыбкой рассказала о шалостях и проделках Хожаназара… Ерназар каждым нервом ощущал, как подавлена и печальна мать, какой тяжкой ценой даются ей улыбка, спокойствие, нетороп ливая речь. Он положил голову ей на колени, она погладила его по волосам: рука дрожью выдавала ее волнение.
— Сынок, достоинство и сила джигита — в терпении.
— Эй вы, ваше время истекло! — хриплый голос ударил по их сердцам.
Кумар-аналык вытащила из-за пазухи мешочек и протянула сыну:
— Здесь немного денег. Их собрали джигиты из казахского аула, мне пришлось побывать там вместе с Зарлыком. Они наказывали тебе: «Наше время становится временем зинданов. Надо поближе познакомиться со стражей, авось деньги этому поспособствуют!»
Ерназар открыл мешочек, взял четыре таньга и, как кость собакам, кинул их стражникам. Отпихивая друг друга, они бросились за монетами; воровски озираясь, запрятали их в ичиги.
— Прощайтесь быстрее, — велел один из стражников. — И над нами есть люди! — добавил он, понизив голос.
— Вот их доля! — Ерназар швырнул на пол еще четыре монеты. Они тотчас же исчезли.
Стражники приумолкли, отвернулись, чтобы не мешать матери и сыну.
— Ерназарджан, наши предки учили: «Если падаешь- так падай с высоты!»-заговорила Кумар-аналык быстро и твердо. — Хан самолично распорядился упрятать тебя в зиндан. Гордись! Не каждого человека хан считает собственным врагом. Тебя заманили в сеть обманом. Они тебя боятся, ты для них опасен.
— Мама, ты видела хана?
— А ты, сынок?
— Нет!
— Значит, он и правда боится тебя… — Кумар-аналык усмехнулась грустно. — Я себе другим представляла хана. Разряженная кукла. Болтливый, сварливый. Размахивает чем-то вроде топорика и повторяет одно и то же: «Пусть твой сын отправляется в поход против России! Если он отдаст свою жизнь за священную Хиву, за ислам, то место в раю для него будет уготовано!» Вот бы сам туда и поспешил, в рай-то!..
— Хан заботится о рае для меня, грешного!
— Потом хан напустил на меня главного визиря и ахуна. Те тоже заладили: «Заставь сына! Если это те бе удастся, до самой смерти будешь у ханского двора в большом почете!»
— Что ты им ответила, мама?
— Я ответила, что должна увидеться с тобой и передать их волю.
— Много агабийцев стали нукерами хана?
— Прежде чем человек обзаведется друзьями, он сам должен проявить себя как настоящий друг. Ты пока не смог этого сделать. Это урок, который ты должен усвоить… Не опускай головы, никогда не отчаивайся, сынок!
Стражники начали торопить их, Ерназар протянул матери оставшиеся деньги:
— Мне больше они не нужны! Отдай сиротам Дослана. Их предок — дед Аманлык — был аткосшы у Маман-бия… Помоги им!..
— Хорошо, Ерназарджан! Простимся теперь! Не изводи себя понапрасну мрачными мыслями. Вспоминай добрых людей, каких повстречал в жизни. О будущем мечтай!
На улице ахун преградил ей путь и прошипел:
— Глядя на вас, я понял одну истину. Если шлюха поведет себя умно, она даже иголку превратит в стрелу из колчана.
— Негодяй! — презрительно отмахнулась от него Кумар-аналык.
В караван-сарае она быстро собрала нехитрый свой скарб и тотчас же тронулась в обратную дорогу.
…Около переправы через Амударью она столкнулась с невольниками: их гнали в Хиву ханские нукеры.
— Кумар-аналык, мы сторонники Ерназара! Мы его не предадим! Мы не пойдем на войну, лучше смерть примем! — доносилось до нее из людской толпы.
— Спасибо вам, люди! — ответила Кумар-аналык и долго-долго смотрела им вслед.
На следующий день она заметила конный отряд, возглавляли его Аскар-бий и ханский есаул. «Да, умной голове затруднительно найти умные руки, а глупую голову всегда ждут глупые руки… Быстро сторговались, проклятые!» — с омерзением взглянула она на бия и его приспешников.
— Ну, а как там твой сын? — спросил Аскар-бий. Кумар-аналык притворилась, что не услышала
Аскар-бия, не признала джигитов, которые следовали за ним. Закрыв лицо краешком платка, она молча просле довала мимо всадников. Геыжемурат повернул коня, поскакал за ней следом.
— Мать, мою дружбу и преданность Ерназару я докажу на деле! — промолвил он, когда всадники скрылись вдали. Генжемурат пожелал ей доброго пути и умчался назад.
Прежде всего Кумар-аналык решила выполнить поручение сына и заторопилась к юрте Сержанбая.
Сержанбай всю жизнь держался особняком. В ауле его считали человеком разумным, тихим, такой воды не замутит, но странноватым. Казалось, ничто на свете его не трогает, ко всем и всему он равнодушен, нет ему дела ни до радостей, ни до печалей людских: умрет ли кто в ауле, родится ли — ему все одно. Однако свою пользу он блюсти умел. Пожалует из Хивы сборщик податей, бай примет его у себя, до отвала накормит, напоит. Не торгуется, не канючит, как иные, весь налог уплатит сполна. Сержанбай не держал в доме работника. Разве вот Рузмата, хотя он не работник вроде, а воспитанник. Бай давно подобрал его, мальчишку-сироту, и вырастил. Рузмат у него и за пастуха, и за дровосека. Работает и в холод, и в дождь, хотя и то правда — себя Сержанбай тоже не щадит, целый день спины не разгибает: и скот пасет, и загон чистит, и по дому хлопочет. Рачительный хозяин…
Есть у него единственный друг, к нему-то бай привязан по-настоящему, — это огромный волкодав Басар. Когда Сержанбай выезжает куда-нибудь, Басар увязывается следом, прямо как жеребенок за кобылицей. Верный страж бая, пес не то что ночью — днем никого не подпускал близко к дому. По аулу нередко разносится весть: волк задрал чью-нибудь овцу… О Басаре же говорили, что он растерзал волка, который посягнул на овцу Сержанбая… Из-за лютого ли этого пса, из-за того ли, что хозяин необщителен и нелюдим, редко кто стучал в его дверь. Маулен-желтый разве заглянет иногда. Родственник все-таки.
Для Кумар-аналык осталось загадкой: почему в прошлый раз потребовался этому молчуну ее сын? Почему он так стремительно, не раздумывая, предложил свою помощь Гулзибе? С чудинкой он все же… Может, человек к старости меняется, добреет?.. Рядом с большой и малой юртами бая Кумар-аналык приметила новую лачугу. Опасаясь, как бы не выскочил внезап но Басар и не бросился на нес, она остановилась в отдалении и негромко позвала:
— Эй, есть кто-нибудь?
Из юрты вышла Улбосын — жена бая.
— Кто есть, кроме тебя?
— Ха, я тоже человек!
— У меня дело к баю.
— Так бы и говорила сразу. Бай на пастбище, Руз-мат косит камыш, Гулзиба в доме прибирается. Тепел пасет телят.
— Покличь Гулзибу.
Когда Гулзиба увидела Кумар-аналык, она вскрик-пула, кинулась к ней стремглав, обхватила руками, словно стреножила, передние ноги ее лошади.
— Мать! Вернулись наконец! Здоров ли Ерназар-ага?
Удивленная горячим, искренним порывом девушки, Кумар-аналык склонилась к ней, погладила по голове.
— Ерпазар шлет тебе привет и вот это. Возьми. Купишь одежду Тенелу!
— Пусть ему сопутствует счастье! Пусть жизнь его будет долгой! — Гулзиба приняла деньги двумя руками бережно, как сокровище, и приложила их ко лбу несколько раз. — Как мне отблагодарить вас?.. Можно, я буду иногда помогать вам по дому?
— Хорошо, хороню, доченька! Улбосьш, прошу тебя, отпускай ко мне изредка Гулзибу!
Кумар-аналык ехала домой и приговаривала:
— Бедный мой народ! Сколько в нем доброты! Сироты и тс чтут моего сына!
7
Ерназара водворили в темницу, но теперь она показалась ему светлее. Встреча с матерью поддержала его дух, вселила в него надежду. Он верил, что все выдюжит, все вытерпит и выйдет, непременно выйдет на свободу, не сломленный, готовый к борьбе!
Стойкость Ерназара подверглась испытанию на другой же день. Его вывели из зиндана и втолкнули в то же помещение, где в прошлый раз его дожидался ахун. Теперь вместо ахуна туда ввалились пять палачей. Они окружили Ерназара плотным кольцом. На него сразу же обрушились удары ~ его бил самый здоровенный из палачей. Звенели кандалы, Ерназар качался, но на но гах стоял. Редко попадался самому сильному из ханских палачей человек, который бы не падал как подкошенный от первого же его удара. Он чуть растерялся потом просипел:
— Ну, не передумал, воин? — Нет!
На Ерназара посыпались удары — опять и опять. Он накренился было, словно подрубленное дерево, но не упал, выпрямился.
— А теперь?..
Истязатели сжали кулаки и поднесли их к лицу Ерназара:-не кулаки, а пушечные ядра.
— Мы дух из тебя выпустим. И кишки тоже!.. Да вот… жаль вроде отправлять к дьяволу в ад такого силача. Может, ты еще сослужишь службу Хорезму, а? — оскалился здоровяк. — Взять его!
Палачи схватили Ерназара, поволокли на улицу, поставили на ноги и, осыпая затрещинами и грязной руганью, повели. Они шли недолго. Около сарая, который смутно выделялся в темноте, Ерназара сшибли с ног и кинули внутрь, крикнув: «Взгляни в окно!»
В глазах у него помутилось: прямо перед ним на перекладине качались двое повешенных.
— И тебя виселица ждет! — раздался над ним сиплый голос здоровяка. — Они болтаются здесь, потому что убили двух охранников! Пытались освободить русского лазутчика Грушина. Вероотступники проклятые!
— Грушин — лазутчик? Невежды вы! — гневно сверкнул глазами Ерназар.
Палачи снова набросились па него. Ерназар потерял сознание. Когда он пришел в себя, то понял, что находится где-то в незнакомом месте. Он пошарил в темноте руками. Наткнулся на чье-то тело…
Тихо, Ерназар, тихо! — услышал он совсем рядом.
— Кто это?
— Это я, Грушин!
— Грушин? — Ерназар был поражен и обрадован, он чуть не заплакал. Крепко сжал пальцы Грушина. — Ас-саламу алейкум, как ты здесь очутился?..
…Грушин обнаружил на Каратау залежи мрамора и, счастливый этим, бросился в Хиву, к хану. Он уже строил планы, мечтал, как хан возведет у подножия Каратау прекрасный город. Весь из белого мрамора. И будет тот город сиять в лучах солнца, светиться при лун ном свете, маня к себе путешественников со всех концов земли… В Хиве на него наскочили нукеры, оглушили, бросили в темницу. Что сталось с его помощниками, он не знает…
— Самое ужасное, что эти мерзавцы сделали, — они отобрали у меня тетради с записями, все-все чертежи! — скорбно простонал Грушин. — Понимаешь, Ерназар, у меня там ценнейший материал, важнейшие научные данные! Все это пригодилось бы не только мне, для книги, но и самим хивинцам! Людям, населяющим Хорезм! Ведь вы ходите по богатству и сокровищам, о которых даже не подозреваете! Вот что убивает меня!
Так ведь сам хан дал фирман с разрешением?..
— Хан!.. Что хан! Знаешь, сколько около него вьется подлецов! Шептунов всяких невежественных! Коварных, корыстных людей! Взять хотя бы турецкого ахуна! Этот, к несчастью, еще и неглуп!
Сквозь крошечную решетку наверху забрезжил мутный серый свет. Вскоре заключенным спустили на веревках еду.
— О, да вы тут не голодаете, я смотрю! — воскликнул Ерназар. — В другом зиндане мне приходилось туговато, держали на хлебе и воде.
— Этот предназначен для смертников. — Тогда почему же?..
— Наверно, считают, что толстяки больше страшатся смерти, жаль им расставаться с вкусной пищей.
Потянулись дни, однообразные тюремные дни. Однако для Ерназара они не пропадали зря. Он не стеснялся Грушина, чувствовал себя с ним как с братом — так прост и обходителен был Грушин — и жадно спрашивал обо всем… Как-то он решил узнать у Грушина о его семье.
— Мой отец ученый-зоолог, большой знаток пернатых. Отец мечтал, чтобы я пошел по его стопам, но неволить меня не стал, хотя и в русских семьях, бывает, родители все определяют за детей… — с удовольствием рассказывал Грушин. — Поверишь ли, Ерназар, почему я выбрал другую науку? Из-за близкого друга отца, Николая Карелина. Сколько он путешествовал! История многих стран и народов, в том числе и Средней Азии, — для него открытая книга. Каждый раз, когда он возвращался из дальних странствий, он приходил к нам. Усядется, бывало, в кресле, протрет очки, откашляется и начнет… Господи, какой он рассказчик! У меня прямо перед глазами, будто воочию, возникал хромой Тимур! Бухара, Хива, Самарканд!.. Они, эти города, мне даже во сне снились… Как-то наш друг Бичурин — тоже ученый — упомянул, что когда-то в Китай были вывезены из Коканда и Хорезма саженцы самого лучшего сорта винограда…
— Кто же Бичурину сообщил об этом?
— Умные книги! Он прочитал об этом в каком-то древнем фолианте! Там было написано, что послы Мухаммеда Оспана Халифы — зятя пророка — примерно полторы тысячи лет назад побывали в Китае и там узнали об этом.
— Да, умные книги не врут, не то что умные люди! Мой народ чтит книги и ученых… А где ты научился говорить по-узбекски?
— У нас по соседству жил купец-татарин, у него был служка, мальчик-узбек, у него и научился… Теперь примусь за арабский…
— Собираешься стать мусульманином?
— Смешной ты, Ерназар! По-твоему, каждый, кто знает арабский язык, — мусульманин? — мягко возразил ему Грушин. — Даже среди самих арабов — потомков пророка — есть противники ислама. Да и религии вообще! Атеисты, не верующие ни в какого бога!
— Из каких ты, Грушин, будешь русских, из какого рода? — в другой раз полюбопытствовал Ерназар.
— Э-э, милый, мы не делим людей на роды… Из Костромы я, из города Костромы.
«Удивительное дело! Как это — нет родов?»- подумал Ерназар и тяжело вздохнул:
— Да, мало я знаю, мало… В наши степи, видно, наука не смогла дойти-добраться, вот мы, каракалпаки, и не повстречались с ней…
— Ерназар, есть у меня одна догадка, я хочу поделиться ею с тобою, только чур, не обижайся!.. Вы, каракалпаки, чем-то, по моим наблюдениям, отличаетесь от других тюркских народов. По внешнему виду, манерам… По-моему, в вас есть славянская кровь. Как и у русских…
Хотя Ерназар и улыбнулся, но скрыть недовольство тем, что его народ отделяют от кровных — тюркских — братьев, ему не удалось…
— Ты напрасно обижаешься! Видно, не совсем правильно воспринял мои слова, — Грушин легонько коснулся плеча сотоварища по несчастью. — Я не хочу ска зать, что каракалпаки — изоави бог! — изменили когда-то славянам или отпочковались от славян. Я подразумеваю другое. Наши народы, наши предки, может быть, когда-то жили на одном побережье, пили воду из одной реки, росли под одним небом, делили невзгоды и радости поровну… Вспомни наш разговор у Каратау! В давнюю-давнюю пору каракалпаки защищали от неприятеля, от врагов, наши восточные границы — это исторические факты!
— Грушин, ты тоже на меня не сердись! Но я не могу тебе сказать — ни да, ни нет!
— Этого никто сказать не может! Не исключено, что когда-нибудь наука решит и эту загадку! На мой взгляд — загадку! — поправился Грушин.
Чего достигла у русских наука? Например, открыли ваши ученые что-нибудь такое, чтоб весь мир удивился? — уточнил свой вопрос Ерназар.
— Наверно, действительно наука должна удивлять весь мир! Я как-то об этом раньше не задумывался! Удивлять и радовать!.. Самое, пожалуй, известное, большое изобретение последних лет — это паровоз. Представляешь, ученые изобрели ну… что-то вроде арбы, которая движется без лошади или быка. Без их силы, а с помощью пара. Не делай огромные глаза, Ерназар! Это правда — не сомневайся. Отец и сын Черепановы придумали паровоз, его гонит вперед пар! Эта самая арба на пару может двигаться с грузом, потянет не меньше девятисот батманов.[7] Каково, а?
По ошеломленному виду Ерназара нетрудно было догадаться, что он не верит, никак не может поверить услышанному.
— На твой серьезный вопрос, Ерназар, я ответил вполне серьезно… Паровоз за час покрывает пятнадцать-шестнадцать верст.
Пришлось Грушину заодно объяснить Ерназару, что означает слово «час».
— Грушин, брат, если мы выберемся отсюда целехонькие, я пришлю к тебе двух-трех смышленых ребят! Из аулов! Помоги им, устрой в русскую школу! Пусть обучатся всем этим чудесам, а?
— Замечательно! Смекалистым грамотным ребятам… да им цены не будет! Польза для вашей родины, Ерназар, колоссальная!.. Присылай! Обязательно при сылай!.. — загорелся и тут же сник Грушин. — Размечтались мы с тобой; можно подумать, что ты уже несешься вольным ветром по степи, а я разгуливаю по Невскому проспекту…
Вопросы Ерназара не иссякали. То, что рассказывал Грушин, порой казалось ему сказкой. Но сказкой, в ка. кую хотелось верить.
— Конечно, дело, которым я занялся, очень нужное, благородное дело. Но недра истории, камни истории не менее важны, чем недра земли. История многому учит… — Грушин любил размышлять вслух, он чувствовал себя в присутствии Ерназара легко.
— И я так думаю! А были у вас великие батыры, палваны, военачальники — совсем-совсем непобедимые? Или цари? Расскажи мне!
— Ну что ж, вообразим, что ты решил пройти курс истории в Московском университете, — засмеялся Грушин, — а я стал твоим наставником.
Знания Грушина, не переставал дивиться Ерназар, неисчерпаемы, как воды Амударьи. Все-то он читал, про все-то он знал, о чем ни спроси, — от древних времен до нынешних дней… Чему тут удивляться, когда в России имеются не только школы, но кое-что и повыше и поважнее — университеты! Ученые разные, книгохранилища!
Ерназар услышал имена Ивана Калиты, Александра Невского, Петра Первого, Пугачева, Суворова, восторгался их подвигами… «Это счастье, что я встретил Грушина! — ликовал Ерназар. — Судьба пусть и таким жестоким способом, но облагодетельствовала меня, послала милость». О каком бы царе или народном восстании против царя ни вел речь Грушин, Ерназар и людей, и события русской истории сравнивал, сопоставлял с людьми, некогда жившими, и событиями, некогда разворачивавшимися на его родной земле. В Маман-бии он обнаружил для себя сходство с Петром Первым, но постеснялся признаться в этом Грушину. «Еще, чего доброго, решит, что зря слова и время на меня тратит!.. И потом, не так важно, есть сходство или нет. Важно, что я столько всего узнал!»- думал он.
Однажды Ерназару приснилась Гулзиба. Она обнимала его нежными, прохладными руками, целовала сладкими своими, свежими устами. Он проснулся в испарине, сердце его бешено билось, рвалось из груди.
— Грушин, может ли человек таких ле. т, как я, полюбить девушку?
Тот помолчал, помолчал, а потом ответил:
— Не знаю! Откровенно говоря, мало разбираюсь в женщинах… и в любви тоже. До сих пор не женился. Но допускаю, что может…
Грушин тоже расспрашивал Ерназара о разном, но больше всего о каракалпакских обычаях и быте, о жизни в аулах и городах… Историю злосчастной судьбы раба, который наложил на себя руки, Грушин выслушал, нахмурив брови.
— По-моему, он поступил так напрасно. Жаль, никто ему не внушил, не подсказал вовремя: стоит муравьям объединиться, они льва смогут одолеть!
— Э-э, Грушин, где найтись такой умной голове, которая могла бы вкладывать свои умные мысли в другие головы? Ведь народ — он еще темный совсем! А кто его просветит? Кто откроет ему дорогу к знаниям да наукам?
— Это, хочешь не хочешь, всюду так, только всюду на свой манер… В мире много зла и несправедливости, поэтому-то он и пребывает сейчас в потрясениях и волнениях. Люди верят в справедливого царя, хана и эмира просвещенного да милостивого. Они и восстают-то именно в надежде, что добрый властитель сменит прежнего — жестокого и беспощадного…
Ерназара одолевали мрачные мысли: «Куда же нам-то идти, куда деваться в этом запутанном мире?.. Нет среди каракалпаков единства, нет предводителя, нет знаний… Да что там знаний, грамотных и то отыщешь с трудом… Хивинский хан и бухарский эмир пекутся лишь о своей выгоде, трясутся за свой трон да казну. Как зайцы скачут то перед русскими, то перед инглиса-ми, то перед Ираном, то перед Турцией. Моему народу необходим покровитель могущественный, который сам ни перед кем не заискивает, никого не боится! Конечно, такой и только такой!.. Русское царство! Оно могло бы взять каракалпаков под свое крыло… Чтобы у тебя были друзья, сначала сам научись быть другом, так сказала мама. Мы не смогли стать друзьями? Русские не смогли принять нашу дружбу? Такое тоже может случиться — сильному не до слабого, у него самого забот хватает… Выйду на свободу, заберу с собой Бердаха и Тенела и доберусь до русского царя. «Мы ваши давние друзья, скажу я ему, прошу милости, найдите, прочитайте «Бу магу великой надежды!». Указ, который получил Ма-ман-бий от России… Мой народ так ее и назвал — «Бумага великой надежды!..».
Вопреки всему, Ерназар с каждым днем все тверже верил, что они с Грушиным останутся живыми и что впереди у них — свобода и большие-большие перемены в жизни… Ерназар спрашивал иногда у охранника: не интересуется ли кто-нибудь их судьбой? Тот отрицательно мотал головой, но однажды сообщил:
Только турецкому ахуну вы и нужны живыми. Он иногда о вас справляется… Хотя… кто там разберет, сюда никого и близко не подпускают.
— Ну, а что делается в мире?
— Какой там мир! Война! Идет война с русскими, с генерал-губернатором Оренбурга! Зинданы забиты людьми — теми, которые отказались воевать!
— Вот это новость! — закручинился Грушин. — Наши сановники с ума посходили, не ведают, что творят!.. А царь наш… одно слово — царь. Русские говорят: бог высоко, царь далеко.
Спустя некоторое время охранник принес новость:
— Эй вы, палваны, война кончилась! Войско хана возвратилось с победой! Русских взяли в плен тьму-тьмущую!..
Для Ерназара и Грушина эта новость была сущим бедствием. Их надежда на освобождение, кажется, только надеждой и останется…
— Если бы я оказался на воле и случилось чудо — получил бы я от доброго волшебника самостоятельное ханство для каракалпаков, первым делом, Грушин, начал бы я строить у подножия Каратау, — сказал вдруг Ерназар.
— Меня сделал бы главным строителем этого города. И на самой вершине Каратау мы водрузили бы с тобой… представь-ка что? Ну-ка, догадайся, Ерназар! Волшебный прибор, который предсказывал бы погоду для всего Хорезма!
— Разве есть такой?.. Наверно, есть, коли ты говоришь! Моя мать одобрила бы наши мечты, она любит повторять: желания, идущие от чистого сердца, обязательно исполнятся! Даст бог, она окажется права, а, Грушин?
Грушин, закусив губу, со слезами на глазах кивнул.
8
Хива, пребывавшая в мрачности длительное время, Хива, хмурившаяся долгие дни, как набухшая туча, посветлела, преобразилась.
В городе воцарились праздник и оживление, каких здесь давно не помнят: навруз совпал с победой хивинского втэйска. Улицы заполнили нарядные, пестрые, весело гомонящие толпы; громко приветствуя друг друга, люди спешили влиться в общий поток, который нес их к торговым рядам. А там дым стоял коромыслом. Купцы и лавочники на все лады расхваливают свои товары, заманивают к себе прохожих, клянясь, что ни у кого больше на целом свете нет такой красоты и дешевизны. Покупатели сегодня не скупятся, не торгуются особенно, будто спешат карманы свои облегчить. Ткани, халаты — красочные, вобравшие в себя все цвета радуги, ичиги разных фасонов, лакомства на любой вкус — нынче все идет ходко…
Даже нищие и сироты выглядят довольными и радостными. Обычно скупые и прижимистые, баи лезут сегодня в свои кошельки, лишь только завидят протянутые за милостыней руки. Около шашлычных, источающих соблазнительнейший аромат свежей баранины, стайками кружатся-вьются бездомные мальчишки; от подгоревших кусков мяса, которые щедро бросают им повара, рты у них угольно-черные. Мальчишки поглаживают себя по животам — они наелись, кажется, на целый год…
Хива радовалась победе. И хотя хивинское войско разбило небольшой отряд русских, врасплох застигнув его на Устюрте, — это была победа, все равно победа… Хан отправил гонцов с вестью о ней во все концы Хорезма.
Народ валил в Хиву валом — купцы, борцы, музыканты, просто зеваки; тут и там мелькали, выделяясь из толпы своими одеждами, афганцы, иранцы, индийцы, турки; они тоже поспешили в священный год на особенный, небывалый навруз.
Желая поощрить ахуна-провидца, благодаря которому удалось предотвратить русское вторжение, хан назначил его вместе с главным визирем распорядителем тоя. Однако ахуна больше, куда больше, чем устройство тоя, заботило, как бы расквитаться с Ерназаром и Гру шиным. В первый же подходящий момент он напомнил о них хану.
— Зачем омрачать себе и другим праздник! Забудем о них на время торжества! Вот после тоя… — слегка поморщился хан.
Наступил день тоя.
Хан больше всех других состязаний любил борьбу. За ней он мог наблюдать часами, забыв о времени, забыв обо всем. Хан сидел на возвышении, поднятом для него на площади, где происходили состязания борцов, сидел не шелохнувшись.
Состязания, однако, не ладились — знаменитые дворцовые борцы были не в форме, ни один из них не мог претендовать на главный приз; кое-кто был сильно изувечен, были даже смертельные исходы — прямо на глазах у зрителей… И это на таком пышном тое! По случаю такой знаменательной победы! Да еще в присутствии иноземных гостей.
Не совладав с собой, хан сошел с помоста, он старался не бежать, а медленно шествовать к биям и военачальникам, которые участвовали в походе против русских. Они моментально повскакали со своих мест и одновременно согнулись в подобострастном поклоне. Хан шел, оскалив зубы в одинаковой для всех холодной улыбке, сухо пожимая своим подданным руки.
Аскар-бий был на седьмом небе от счастья: его руки, руки простого смертного, коснулись мягкие, как хлопок, пальцы владыки. Обидно вот только, очень досадно, что мало кто из его земляков-каракалпаков стал свидетелем такого события! Аскар-бий один за другим перецеловал, смачно причмокивая, свои пальцы.
— Эй, черношапочник, что это ты делаешь? — услышал он рядом насмешливый голос.
Бий обернулся и увидел статного хивинского бая средних лет, одетого в богатый халат.
— Какое счастье! Какая благодать! Святые, чистые руки великого хана коснулись наших грешных рук!
— Э-э-э, не успеешь моргнуть — и эти святые, чистые руки с легкостью снесут голову с плеч!.. Я имею в виду, черношапочник, голову врага! — с каким-то затаенным намеком произнес бай.
Аскар-бий испуганно покосился по сторонам. Может быть, он ослышался?.. Хотя хивинец ничего недозволенного вроде бы не сказал, наоборот даже! Но все — таки:.. Пусть себе болтает, а он, Аскар-бий, все равно чувствует себя осчастливленным!
— Сыны Хорезма! — обратился хан к собравшимся на площади. Аскар-бий не заметил, как хан опять оказался на возвышении. — Вечная слава вам, моим храбрецам, победившим русское войско! Вы возвеличили ислам и лучезарный Хорезм! Пусть аллах вечно льет на вас свои лучи! Аминь!
— Аминь! Аминь! — загремело в ответ, и воздух заколебался от людских голосов, а ветерок понес, понес дальше и дальше. — Аминь! Аминь!..
— Хорезмскую низменность издревле орошают и согревают благодатные лучи ислама, — продолжал хан. — Если во всех иных религиях наличествует лишь отблеск огня, то в исламе царит солнце. Огонь погорит, погорит и потухнет; от него даже тлеющего уголька не останется, если залить огонь водой. Солнце же посылает свои лучи всему свету, они озаряют весь мир! Солнце, если будет угодно аллаху, может зажечь и сжечь землю! Это воистину так! — Хан говорил напыщенно, все больше распаляясь, упиваясь собственным красноречием.
Среди тех, кто находился неподалеку от хана, Аскар-бий заметил турецкого ахуна; он чем-то неуловимым отличался от остальной свиты. Аскар-бий стал наблюдать за ахуном и так увлекся, что едва улавливал смысл ханской речи.
— Подданные великого Хорезма! У вашего хана нет секретов от вас! Поэтому не буду скрывать, как я хочу, чтобы главный приз состязаний достался нашему пал-вану. Честь отмеченного милостью аллаха Хорезма требует, чтобы наши борцы доказали, что они самые сильные, самые непобедимые! Вспомните достойных палва-нов из ваших мест, назовите их имена, и мы тут же распорядимся доставить их сюда, на наше торжество! Упустить главный приз в борьбе — позор для всего Хорезма! Завтра заключительный день состязаний. Думайте! Прошу вас всех!
Все, кто присутствовал на площади, были польщены откровенностью хана, а пуще всего тем, что он не погнушался обратиться с просьбой к своим подданным. Все призадумались, лихорадочно перебирая в памяти палванов.
— Великий хан, есть у меня на примете один борец. Очень сильный, — выступил вперед Аскар-бий. — Это мой работник Нурлыбек, он, бывало, одолевал самого Ерназар-палвана… Но с Ерназаром есть закавыка…
— Пусть к завтрашнему дню подготовят обоих! — повелительно прервал Аскар-бия хан.
* * *
На следующий день среди борцов появились Нурлыбек и Ерназар. Зрители рассматривали их зорко, придирчиво, прикидывая, кто из них может одержать победу. Ерназара подстригли, красиво подровняли бороду и усы; грудь как у льва, могучая шея, мощные плечи, вот только худой чересчур. Нурлыбек казался крепче и сильнее… Большинство уверовало в его победу.
Ерназар обрадовался, когда оказался рядом с Нур-лыбеком, но на ум почему-то пришли нежные слова Гулзибы: «Мой палван», — и он, в который уж раз, вообразил, что относились эти слова к Нурлыбеку. Ревность холодной змеей зашевелилась в сердце Ерназара.
— Держись, Нурлыбек! Если ты победишь, я открою тебе одну тайну. Она сделает тебя счастливым.
— Не томите, скажите сразу, я тогда обязательно возьму приз!
— Гулзиба любит тебя…
— Ой, правда? Ради Гулзибы весь мир можно победить! — засиял Нурлыбек.
На середину площади вышел иранский борец. Он был среднего роста, весь будто отлитый из металла. Он не нацепил на руки и ноги, как это делали обычно дворцовые палваны, колокольчики. И без их звона он привлекал к себе всеобщее внимание своей тигриной, плавной походкой, движениями, таящими угрозу, перемещениями по кругу, которыми он словно гипнотизировал зрителей. Глашатай объявил, что иранец не проиграл ни одного боя и находился на первом месте… Затем на арену вызвали Нурлыбека, холодно назвав его имя — и только. Хан подозвал к себе Аскар-бия, который скромно затерялся в толпе биев. По глазам хана Аскар-бий понял, что тот в победу Нурлыбека не верит.
Иранец мгновенно раскусил своего противника: силен, очень силен, но совсем неопытен; он применил несколько приемов, которые подтвердили догадку, — этого наивного палвана можно было взять голыми руками… Иранец покружил, покружил вокруг Нурлыбека, мол ниеносно схватил его за голову и сделал незаметно? резкое движение. Нурлыбек обмяк и рухнул бездыхан ный. Ерназар в два прыжка очутился рядом с иранцеч и нанес ему тяжелый удар.
Зрители взревели; опасаясь, как бы не поднялась драка и народ не рассчитался сам с коварным и жестоким иранцем, судьи поспешили унести мертвого Нур-лыбека. Иранец, оправившись от удара, смотрел, как разъяренный тигр, вслед Ерназару, которого судьи выталкивали к площади.
— Разрешите мне! Мне разрешите! Ради крови молодого палвана! Ради Хорезма, где я народился на свет божий!.. — умолял Ерназар судей.
— Кто это? — удивился хан.
— Наш великий хан, это и есть Ерназар-палван! — поспешил сообщить Аскар-бий.
Уж больно он худой! Хотя сила есть… Был у него наставник?
— Был. Казахский палван!
— А многие казахские палваны выбирают себе наставников из русских! — вклинился между ханом и Аскар-бием главный визирь.
Пусть борется! — даже бровью не повел хан. — Что будет, он сам этого хотел!..
Глашатай выкрикнул имя Ерназара.
Иранец, поводя налившимися кровью и злобой глазами, широко расставил ноги, заиграл железными мускулами и заскрипел зубами… Потом медленно двинулся на Ерназара.
Ерназар для начала избрал оборону; ему было важно как можно сильнее разъярить и тем самым еще больше измотать противника. Вся площадь замерла, желая победы джигиту, не убоявшемуся этого тигра в обличье человека, страстно желая победы сыну Хорезма. Ерназар ловко увернулся от выпада иранца… еще, еще раз. Вот иранец потерял равновесие, чуть не упал. Толпа стала воодушевляться, выкрикивать Ерназару слова одобрения. У хана тоже вырвалось: «Давай, давай, Ерназар-джан!»
Палваны боролись, сцепившись как два козла, до самого вечера, но никто из них не смог одолеть другого. С наступлением сумерек хан поманил глашатаев пальцем и повелел объявить народу, что поединок будет продолжен завтра.
Слух о борьбе Ерназар-палваиа и иранца успел облететь Хиву; весь город, казалось, потянулся на площадь; зрители загодя занимали места, не расходились всю ночь. Разговорам, подробным до мельчайших деталей рассказам о том, как шло единоборство накануне, не было конца. Никогда прежде в Хиве не произносились так часто, как в ту ночь, слово «каракалпак» и имя «Ерназар». И стар, и млад, и хивинец, и каракалпак, и богатый, и бедный — все, кто прибыл сюда из Хорезмской низменности, жаждали победы Ерназара… Мулла и тот, призывая мусульман к утренней молитве, вознес к аллаху мольбу, чтобы он послал победу Ерназару.
Утром поединок возобновился. Было заметно: палваны устали, притомились, но тем не менее рвутся в бой. С иранца постепенно начала спадать спесь: он теперь больше походил не на тигра, а на огромного взъерошенного кота; он стал осторожнее и медлительнее. Ерназар действовал с умом: он захватывал иранца издали, наносил удары наверняка; чем чаще и точнее бил он по ногам иранца, испуская боевой рык, тем энергичнее и дружнее вторила ему ревом толпа, тем громче и веселее воздух оглашался: «Ха, Ерназар! Ха, каракалпак!»
В полдень соперники были такими мокрыми, будто их только что вытащили из воды. Они начали спотыкаться, покачиваться. И вдруг Ерназар с криком «ап!» как молния ринулся к иранцу. Ноги иранца оторвались от земли, и он поплыл по воздуху в неразъемных объятиях Ерназара. Ерназар поднес побежденного противника к хану и бросил прямо к ногам. Иранец рухнул, как подрубленное дерево.
Минуту стояла мертвая тишина, потом она взорвалась криками: «Слава Ерназару!» Люди плакали от радости, смеялись, били в ладоши; в глазах хана блеснули слезы.
Аскар-бий не в силах был усидеть на месте, его распирала гордость. Он снял с плеча шубу из меха ягненка и набросил на Ерназара. Ерназар поклонился хану.
— Халат бия! — коротко бросил хан.
Принесли халат из блестящей красной ткани и накинули его на Ерназара прямо поверх шубы.
— Ха, палван-каракалпак! Глаза у тебя большие, а взгляд грозный и неприязненный. Поэтому отныне будем-ка мы величать тебя «Алакоз-палван». Ты под держал и преумножил славу великого Хорезма! За это я жалую тебе бийство.
— Я ваш раб, наш досточтимый хан! — Ерназар приложил руку к груди и поклонился еще ниже. — У меня есть просьба…
— Излагай смелее!
— Вместо этой великой вашей щедрости я хочу попросить о другой. Освободите из зиндана русского, Гру-шина, с которым я был вместе…
Воодушевленный хан не стал долго раздумывать:
— Будь по-твоему! Освободить!
Главный визирь и ахун не успели предотвратить этот приказ. Ахун все-таки осмелился и прошипел:
— Наш великий хан! Но вы же собирались повесить этих людей! Чтобы устрашить наших врагов!..
Хан отмахнулся от него и приказал нукерам:
— Выполняйте!
Из толпы выбрался Сержанбай, коснулся трижды лбом земли у ног хана.
— Наш великий хан, разрешите мне преподнести Алакозу шубу! От вашего имени преподнести! Потому что я, ваш покорный раб, удостоился счастья лицезреть вас благодаря этому палвану.
Хан милостиво шевельнул бровью. Сержанбай тотчас же нырнул обратно в толпу и вынырнул уже с новехонькой меховой шубой на руках.
— Вот, Ерназарджан, для тебя купил! На деньги, вырученные за трех коров! Пусть эта шуба не знает сноса!..
Щедрость Сержанбая, который слыл скуповатым, немало изумила Ерназара. Из-за спины бая показался принаряженный Тенел и робко протянул палвану платок, вышитый шелком.
— Ерназар-ага, это сестра передала, — смущенно прошептал он.
— Спасибо, спасибо! — Ерназар потрепал мальчика по волосам.
Сержанбай широко улыбнулся Ерназару и вместе с Тенелом попятился назад.
— Наш великий хан! — наконец подступился к хану главный визирь. — Отныне весь Хорезм будет называть палвана прозвищем, которое вы ему столь метко дали… Однако непонятно, почему Алакоз на торжествах в честь победы над русскими просит освободить именно русского? Пусть явится к вам позже и разъяснит…
— Хорошо, быть по сему! — хан поднялся и гордо удалился в сопровождении почетных гостей.
Ахун пожирал их глазами. Главный визирь слегка толкнул его локтем, ахун покраснел.
— Не обижайся и не горюй! Мы с тобой пойдем следом…
— О-о, главный визирь! Моя печаль о другом! Гру-шин теперь ускользнет от нас со всеми секретами о Хорезме.
Главный визирь вздрогнул, дернулся всем телом, будто ему конь отдавил ногу.
— Как же нам быть?
Ахун как сорока повел глазами по сторонам, среди множества людей выхватил взглядом муллу Шарипа, поманил его пальцем:
— Эй, мулла, скажи-ка нам, ведь это твои каракалпаки придумали изречение: «У кого бычья сила, у того и ум бычий»? Относится это изречение к Алакозу или нет?
— О-о, конечно! Алакоз, по моему скромному разумению, напоминает еще и изворотливую змею, которая жалит даже того, кто отнес ее в тепло, когда она замерзла…
Главный визирь уставился на жирного муллу с рыжей жиденькой бородкой, крошечной головкой, на которой торчал огромный, как серп, нос и чернели бусинки глаз.
— У каракалпаков есть еще две мудрости, очень подходящие к случаю… Я хотел бы привести их вам! — Мулла вобрал в пухлые плечи крошечную свою головку и зашептал:- Если коня заседлать золотым седлом, поступь у него все одно не изменится… Если свинье отрезать уши, все она останется свиньей… Алакоз… Хоть бийство ему дайте, хоть на трон из чистого золота усадите, он будет все тем же быком. — Мулла заметил приближающегося в окружении людей Ерназара и залепетал:- Простите, великий главный визирь, всемогущий ахун, но я уйду, скроюсь, чтобы не встречаться с этим богохульником!
Когда Ерназар поравнялся с главным визирем, тот обратился к палвану:
— Алакоз, вы отныне гордость Хорезма. Однако разъясните нам, грешным и несмышленым, какой вам прок от этого русского? Почему вы так беспокоитесь?
— Он ученый человек, знания его так обширны, что открывают свет даже таким темным людям, как я…
— Э-э-э, Алакоз, да вы наивный мечтатель! Или вы в детстве не насытились сказками? Впрочем, вы еще молоды, поумнеете! А пока что отправимся-ка во дворец, хан пожелал вас принять. — Главный визирь сделал широкий жест, приглашая Ерназара следовать рядом.
По дороге во дворец ахун не умолкал: он все внушал Ерназару, что темнота лучше любого света, если ты живешь в мире и согласии с обычаями предков, с родственниками и земляками, а вот русская вера, русская власть для мусульман — что зима лютая…
— Но после зимы обязательно наступает весна! — только и сказал ему Ерназар.
Ерназара оставили в приемной; главный визирь и ахун скрылись за одной из бесчисленных дверей. До глубокой ночи никто так и не пришел за Ерназаром, однако стоило ему сделать шаг от двери, как откуда-то раздался голос:
— Алакоз, вас ждет встреча с ханом!
В тревоге и томлении он едва дождался рассвета Однако к хану его повели только в полдень.
Хан излучал милость и благорасположение. Но его сын — разнаряженный, как попугай, юноша — был подчеркнуто холоден. Ниже ханского трона застыли на ковриках в напряженных позах главный визирь и ахун. Ерназар не удостоил их взгляда, поклонился хану и его сыну.
— Ха, Алакоз-палван, как себя чувствуешь? Не очень притомился?
Ерназар снова поклонился.
— Скажи правду, Алакоз, почему обидел муллу из твоего аула? — Хан хитро прищурился. — Зачем заставил его произносить начало молитвы по-каракалпакски? Не бойся, отвечай по совести! Не раскаиваешься ли ты в своем поступке, а?
— Я благодарен вашему величеству за то, что вы удостаиваете меня беседой. — Ерназар прижал обе руки к груди и опять поклонился. — Свое гнездо всякому кажется сделанным из пуха, будь оно даже из колючек. Для меня мой родной язык так же дорог, как для вас — узбекский, для этого вот ахуна — турецкий, а для русского ученого Грушина — русский. Когда ваше величество слушает узбекскую речь, она ласкает ваше ухо. Заговорит кто-то по-турецки — радуется ахун, а по-русски — так Грушину приятно. По-моему, арабы вместе с молитвами стремились распространить свой язык среди нас, насадить его силой… Но это было сотни лет назад. Почему же сегодня я не волен говорить на своем родном языке? И потом, наш великий хан, каракалпаки, я в том числе, не понимают смысла молитвы, когда молятся на чужом языке. Какая же польза и благодать от такого обращения к богу? Оно, по-моему, должно исходить из сердца. Если бы каракалпаки молились по-каракалпакски, все бы они и намаз совершали исправно, и богу служили искренне… Почему поэзию великих Навои и Физули так почитают и так хорошо знают в Хорезме? Я думаю — потому, что она создана не на арабском или фарси, а на всем нам понятном языке. Потому и звучит она не только на устах, но и в наших душах.
— Невежа, а еще берется толковать о поэзии! — вспыхнул ахун. — Ты бы лучше изучил для начала заповеди ислама!
— Вы имеете в виду пять заповедей? — не растерялся Ерназар. — Хотите перечислю? Обрезание, соблюдение поста, пятикратная молитва, жертвоприношение богу и посещение Мекки, если, конечно, представится такая счастливая возможность. Однако кроме этих пяти есть еще шестое правило, о котором, сдается мне, вам неизвестно…
— Нет никакого шестого правила! Ты стал неверным! — с яростью обрушился ахун на Ерназара.
Шестое правило — уважение человека к человеку! — сохраняя невозмутимость, твердо произнес Ерназар.
Хан внимательно и не без интереса наблюдал за этим спором.
— Алакоз-палван, высокомерие и упрямство приносят вред и самому человеку, и его потомкам, и его народу. Есть разновидность тополя — кегей. Кегей — что гордец с задранным носом среди его собратьев тополей… Зернышки он дает — не плоды, раскроешь их, а там всякая мошкара. Плоды человека — это его дела и его слова. Пойми — один куст хивинского винограда полезнее, чем груды камней Каратау. — Хан умолк, поерзал на троне, будто ему хотелось встать и пройтись среди людей, так рабски внимавших ему. — Пока сердце мое преисполнено милости к тебе, открой мне, какие у тебя имеются пожелания? Какие заботы?
Ерназар заговорил свободно и спокойно:
— Наш великий хан, есть у меня три желания. Я открою их вам. Не уверен, что мне когда-нибудь доведется еще раз быть принятым вами. Первое — мой народ нуждается в большей свободе и меньшем налоге; второе — издайте фирман об образовании самостоятельного каракалпакского ханства; третье — прикажите, чтобы дети каракалпаков были допущены в хивинские медресе или чтобы открыли медресе у нас. Нам нужны знания.
Хан захохотал.
— Алакоз, ты что, не ведаешь разве — мед может превратиться в яд, если им злоупотреблять?
Сын хана, не подозревая, в какой омут его отец закидывает удочку, произнес:
— Алакоз, у вас земли-то всего клочок, с лепешку размером! Вас, черношапочников, — маленькая горсточка!.. Чего же тут зря слова тратить?
Турецкий ахун расправил плечи и переглянулся с главным визирем.
— Алакоз-палван, на откровенность я хочу ответить откровенностью, — обратился хан прямо к Ерназару. — Ты задумывался над тем, почему русские ликвидировали ханство в Малом казахском жузе? Почему сейчас идет схватка в ханстве Бокея?.. Русский царь хочет поглотить все маленькие государства, все до единого! И стать их единовластным повелителем! Царем-солнцем! Вспомним прошлое: Тимур сровнял с землей все государства и страны, которых только коснулась его нога… Зачем? Чтобы сделать Самарканд центром вселенной, светочем мира! Если ты и вы, черные шапки, в самом деле что-то смыслите, то не стремитесь быть звездочкой возле солнца, все равно вас никто не заметит…
— Такого терпеливого, доброжелательного, такого милостивого и справедливого владыки, как вы, не видел целый свет, — заюлил ахун, как только хан сделал паузу. — Желания Алакоза смехотворны. Знаете, наш великий хан, что они мне напоминают?.. Увидела лягушка, как подковывают коня, и тянет свои лапки: «Подкуйте и меня!» Надо же додуматься до этакой дерзости и нелепицы — просить для каракалпаков ханства!..
Разглагольствования ахуна были прерваны придворным, который будто из-под земли вырос. Он сообщил, что из Герата возвратился ханский посланец.
— Пусть войдет! — произнес хан.
Быстрым шагом вошел худощавый стройный мужчина в зеленом шелковом халате.
— Наш великий хан, простите меня! Я не могу порадовать вас. Но в том нет моей вины: на все мои уговоры и доводы инглисы ответили отказом. Помощи от них не будет.
— Почему? — бросил, как хлыстом стеганул, хан.
— Передаю в точности их слова: «Нам невыгодно лезть в змеиное гнездо русских из-за маленького хивинского ханства…» Если мне будет дозволено донести до вас мои предположения, то, по-моему, они просто боятся русских.
— Ступай отдохни!
Ханский посланец, кланяясь до земли, попятился задом и удалился. Главный визирь выскользнул следом.
Распетушившийся было ахун вмиг превратился в нахохлившуюся курицу: это он советовал хану отправить гонца в Герат за помощью к инглисам. Хан, скрыв разочарование и обиду, прокашлялся и чуть подался вперед, к Ерназару.
— Алакоз-палван, я уверен, что ты, прежде чем стать бием, изъявишь желание стать достойным защитником, храбрым нукером Хорезма. — Смятение, радость, неверие в столь счастливый исход отразились на лице Ерназара. Это не укрылось от хана. Голос его смягчился, обрел бархатистость. — Подумай над тем, что здесь услышал. Ты давно не видел мать; поезжай в аул, посоветуйся с ней. Я верю: ты человек слова… Если дашь мне обещание, то я тут же отпущу тебя.
— Я всегда считал себя нукером священного Хорезма.
— Наш великий хан, пусть Алакоз все-таки объяснит, почему он попросил освободить русского Груши-па? — главный визирь возник неслышно, как злой дух.
— Наш великий хан, Грушин ученый! Вы сами оценили его ученость и знания, когда разрешили ему исследовать богатство Каратау! Этим вы открыли дорогу настоящей науке в своих владениях!
— Что он такое несет! — Ахун выпятил грудь, подался вперед; он напоминал кота, решившего не подпускать собаку к теплому очагу. — Мышь — крошечная тварь, а в свою норку, куда сама еле-еле вмещается, норовит веник втащить… Наш великий хан, простите, что я вмешиваюсь и посягаю на ваше драгоценнейшее время, но я хотел бы высказаться до конца. Был в России знаменитый царь Петр Первый. Расширение границ своего царства он считал основной своей целью. Он посягал на страны и земли, которые могли бы приумножить мощь и богатства России. Среди них была и Азия. Он понимал: Киргизо-Кайсацкая орда и Хивинское ханство — это ворота ко всей Азии. Он проповедовал, что ключи от этих ворот должны находиться в русских руках. Этот завет Петра стал для его наследников золотым посохом, с которым они не расстаются до сих пор. Я не погрешу против истины, если скажу: Грушин лазутчик. Его заслали в ваши владения в поисках тех самых ключиков для тех самых ворот, а Алакоз имеет умысел освободить опасного лазутчика! Скрыть его за полой своего халата! Набег генерал-губернатора Оренбурга подтверждает мои обвинения. Если бы Грушин не был обезврежен вовремя, а его бумаги — сожжены…
По-прежнему сохраняя спокойствие, будто все, что изложил с такой горячностью ахун, не имело никакого значения, хан взглянул на Ерназара:
— Ну, Алакоз, что же еще важного для славы Хорезма узрел ты в Грушине? Не таись!
— В зиндане у нас было достаточно времени для бесед… Однажды Грушин начертил план города — план Хивы, отстроенной заново! Из того самого мрамора, что он обнаружил!.. Грушин рассказывал, что Петербург один из самых красивых и известных городов в мире! Так вот Грушин утверждал, что мраморная Хива будет так же красива и известна, как Петербург. — Ерназар волновался, хотел привести веские доводы в оправдание своего друга. — Еще он поведал мне об арбе, которая движется без лошади, с помощью воды и пара. Это открытие русских ученых, говорил Грушин, будет очень-очень полезно для всего мира… Нужно освободить Гру-шина! Он обучит наших джигитов разным наукам.
Ахун зло рассмеялся.
— Наш великий хан, простите мне мою неучтивость, но я не смог себя сдержать. Учиться у колдунов и магов, по-моему, все равно что взять и отвести арычок от арыка, который вырыли для себя другие.
— Ахун, вы небось имеете в виду, что основной источник находится у инглисов! — едко произнес Ерна зар. — Наш великий хан, джигиты, которые пройдут науки, — это будущие ахуны, ученые люди! Они будут стараться для Хорезма… Меня обвинили в том, что я Грушина скрываю за полой своего халата, а ведь тут пытаются закрыть солнце полой халата!.. Вы бы, великий хан, повелели найти Грушина и привести сюда! Он бы убедил вас.
Сын хана, просительно заглядывая отцу в глаза, предложил вызвать Грушина прямо теперь.
Главный визирь упал на колени перед ханом:
— Великий повелитель Хорезма! Не гневайтесь за дурную весть. Грушин убит! Его обнаружили мертвым в темнице! В день, когда этот черношапочник участвовал в борьбе. Уж не он ли совершил преступление?.. Как ни отмывай черного кобеля, все равно не отмоешь добела.
Ерназар, потеряв над собой власть, отчаянно закричал:
— Этого не может быть! Грушин жив! Он не может… не должен быть убит!
— Наш великий хан, не позволяйте этому недостойному оскорблять недоверием вашего главного визиря! Надо разобраться. Тщательно разобраться… Если не он, то кто же еще? Нельзя его сейчас отпускать! — Ахун выпаливал слово за словом, будто объединив их в одно бесконечное, как липкая паутина, слово.
— Стража!
Два стражника, стоявшие как каменные изваяния у дверей, ожили, подбежали к Ерназару, сорвали с его плеч бийский халат, поволокли к выходу. Ерназар был неутешен, он плакал и все твердил: «Не может быть! Он жив! Не может быть!»
Хан поднялся и коснулся пальцами плеча сына. Ахун повалился наземь и запричитал:
— Наш великий хан, осмелюсь дать вам совет! Совет во славу Хорезма!.. Пошлите к башкирам, казахам и татарам пять-шесть тысяч мулл вестниками вашей победы над русским войском!
— О, это святое дело! — поддакнул главный визирь.
— Пусть собираются! И еще: надо прислушаться к просьбе Алакоза… надо отправить к черным шапкам какого-нибудь известного просвещенного ахуна!
9
Кому может принести радость война? Разве тем только, кто уцелел, остался живым, да тем, кто дождался своих близких с поля брани.
В домах, куда возвратились воины из похода против русских, царит праздник, справляются той. В домах же, где женщины остались вдовами, а дети — сиротами, стоит плач, поселилась скорбь.
Кумар-аналык радуется вместе со счастливыми, плачет вместе с осиротевшими. Однако у нее своя кровоточащая рана. Она побывала в Хиве во второй раз, но ей не удалось свидеться с сыном и разузнать, где он. Зарлык также проделал долгий путь в Хиву — очень хотелось ему выручить Ерназара! — но и он вернулся ни с чем.
Испросив как-то согласия Улбосын, она позвала Гулзибу и поручила ей намолотить рис, а сама с Хожа-назаром принялась перебирать на солнышке шерсть.
— Кумар, эй, Кумар! — послышался чей-то возглас. — Суюнчи, суюнчи! Готовь подарок за радостную весть!
Гулзиба замерла, рука ее повисла в воздухе.
— Матушка, это Сержанбай кричит! Это он! Кумар-аналык как на крыльях понеслась навстречу
всаднику, который нес ей радость.
— Кумар, эй, Кумар, суюнчи, суюнчи! Ерназар стал бием! — Гнедая кобыла Сержанбая была вся в пене и пыли.
Кумар-аналык летела к Сержанбаю, словно молодая девушка на зов любимого. Овечья шерсть, которую она только что перебирала, прицепилась к подолу ее платья и волочилась по земле. Мать взяла лошадь Сержанбая за поводья, помогла ему спешиться, повела в большую юрту. Бай снял чапан, повесил его на остов юрты и принялся рассказывать:
— Свершилось! Освободили из темницы Ерназара. Он вступил в единоборство со спесивым иранцем и бросил его прямо к ханским ногам! Он осчастливил, он прославил весь Хорезм! Я собственными глазами видел слезы радости у повелителя! Хан пожаловал ему за это должность бия! Поздравляю тебя, Кумар, пусть счастье не покидает ваш дом! — Сержанбай едва-едва отдышался. — Я велел этому непутевому Шонкы быстрее скакать к тебе, ведь он резвее меня, моложе, — да куда там! «Зачем спешить?»-говорит. Лентяй, недотепа! Тогда поскакал я, летел к тебе что беркут, позабыл о своем преклонном возрасте! Уж очень хотелось обрадовать нашу Кумар.
— Аминь! Пусть бог всем нам пошлет радость. Поровну, никого не обделит! — Кумар-аналык, открыв сундук, вынула новый халат и положила его перед Сер-жанбаем.
Сержанбай смахнул слезу и, растроганный, протянул халат обратно Кумар-аналык:
— Спрячь! У меня всякого добра хватает, да и не в нем счастье. Жаль, поздно это смекаешь…
— Э-э-э, не говори так, Сержанбай! Не гневи бога! В этом мире только дьявол живет без надежды.
Бай вдруг горько заплакал. Кумар-аналык понимала, что все печали бая оттого, что нет у него детей — утешения в старости. Ей стало до сердечной боли жаль его.
Бай осушил глаза платком, но крупные слезы катились и катились по его щекам.
— Кумар, я немолод, конечно, и вроде бы сам себе голова, но нужен мне сейчас посредник… Да, хоть я и зрелый, да что уж там — пожилой человек, а все равно, видишь ли, испытываю затруднение, даже не знаю, как подступиться к делу… Сейчас вроде бы удобный момент… Не осудишь ли меня?
Я буду с тобой откровенен. Я считаю тебя матерью нашей страны, а в Ерназаре признаю и сына, и отца наших степей… Поэтому-то и думаю, что каракалпаки должны делить пополам с вами и ваше горе, и вашу радость. И еще — предпринимать серьезные шаги в жизни надо, прежде посоветовавшись с вами. Когда Ерназар томился в зиндане, я не решался обременять тебя, вносить в твою смятенную душу еще одну смуту да заботу. Ходил сам не свой. Пришло приятное известие явиться на большие торжества в Хиву. Я отправился туда, прихватив трех коров, их погонял Тенел. Я выручил за этих коров хорошие деньги, хотел при свидании с Ерназаром отдать их ему. Уж очень мне нужно было получить у него совет… Но, видать, мольба моя дошла до аллаха, смилостивился он над твоим сыном… — Бай умолк и долго-долго сидел, сосредоточенно размышляя. — Кумар, я хочу попросить у бога ребенка. Что, если я женюсь на молодой? Как ты думаешь? Угоден ли богу такой поступок? А?..
Кумар уставилась на него, удивленная, полная к нему жалости. Однако чем пристальнее она в него всматривалась, тем меньше удивлялась. Лицо сильного, волевого человека… изборождено глубокими морщинками, совсем как солончак, но глаза блестят молодо. Борода курчавится, длинная, окладистая, как лопата, значит, волосы не секутся. Рот, губы, зубы — нестарого человека. Да, старость еще не взяла над ним верх.
— Есть у тебя кто-нибудь на примете? Бай потупился, выдержал паузу.
— Кумар, мне никто так не подойдет, как Гулзиба… Девушка она умная, сирота. Калым за нее я тебе выплачу, ты ей родителей, можно сказать, заменила. Тебя буду почитать — как ее матушку, а Ерназара — как ее брата. Не раздумывай долго, не сомневайся, Кумар! Я не так уж и стар, — грустно улыбнулся бай, — четырехдневный путь вон за два дня проделал, скакал, как джигит, чтобы обрадовать тебя! Одно лишь твое слово «одобряю» будет для меня суюнчи.
Кумар-аналык колебалась, не знала, что и посоветовать Сержанбаю. Она прикидывала в уме и так и эдак, пыталась представить рядом со старым — все-таки старым! — баем юную Гулзибу… Чашу весов перевесили доводы бая: Гулзиба найдет в нем опору, обретет с ним покой, достаток, а что еще нужно сироте?
— Дело, что ты задумал, Сержанбай, очень тонкое, тоньше волоска. Я попробую поговорить с девушкой, намекнуть, но обещать ничего не могу. Если скажет «да», то мне и калыма твоего не нужно, позаботься только о сиротах, чтоб жили в сытости и спокойствии, не зная нужды и обиды. Если же скажет «нет»- смирись! Силком заставлять я ее не буду.
— Она умная! Не ответит, надеюсь, отказом.
— Ну что же, будем уповать на бога! Сержанбай не стал дожидаться угощения, попрощался и ушел. Кумар-аналык разбудила невестку и сообщила ей о скором победном возвращении Ерназара. Гулзиба, трепещущая от волнения и счастья, вынула из кармана кусочек сахара и протянула Хожаназару: «Вот, это суюнчи тебе!» Сахар водился лишь в домах людей богатых и именитых. Кумар-аналык была довольна, что на такой счастливый случай у Гулзибы оказался кусочек сахара. «Должно быть, бай и правда балует Гулзибу! — решила она. — Как бы завести с ней нужный разговор?» Но так и не смогла найти подходящий повод.
Спустя неделю в ауле объявился Ерназар. Аульчане ликовали, радовались, веселились, только Ерназар был сам не свой.
Среди пришедших навестить его друзей он не увидел Генжемурата. Ерназар спросил, где же он. Ему поведали, что Генжемурата сразила злая пуля, когда он пытался перейти к русским.
— Он был настоящим сыном своей земли! Вечная ему память! — с трудом унимая душевную боль, вымолвил Ерназар.
Вечером, когда Ерназар и Кумар-аналык остались одни, мать спросила сына:
— Что мучит тебя, почему ты хмурый?
У Ерназара навернулись на глаза слезы. Кумар-аналык всполошилась, никогда раньше она не видела сына плачущим. Сердце ее сжалось в предчувствии беды.
— Мама, я потерял друга… Помнишь, я рассказывал тебе о Грушине, русском ученом. Его убили!
— Ой, как же так? Со слов Сержанбая я знаю, что его освободили по твоему прошению!
— Если бы!.. Я тоже так думал, мама! Но как только меня вывели из зиндана, с ним и расправились!
— Кто же совершил злодейство?
— Разве они признаются!.. Меня даже пытаются обвинить в убийстве! Возводят наветы, зачем только — не пойму. Неужто чтобы оклеветать, очернить меня в глазах народа?.. Тяжко мне, муторно на душе.
Дни бежали за днями, но мысли о Грушине, печаль не покидали Ерназара. Очень он привязался к этому спокойному, доброму человеку, совсем как к старшему брату. Он свыкся с мыслью, что у него появился надежный друг, опора в делах, советчик в жизни; он надеялся, что Грушин просветит, откроет тайны науки каракалпакским джигитам. И вот — Грушина больше нет.
Ерназар мучительно решал: как ему жить дальше, как жить? Идти в нукеры к жестокому и невежественному хану? Власть его призрачна, он всего лишь кукла в руках фанатиков и глупцов!.. Нет, нет! Надо добраться до Петербурга и сказать русскому царю: «Каракалпаки уже сто лет ждут от вас помощи. Ваши друзья будут нашими друзьями, ваши враги — нашими, но в дружбе должно быть равенство. Не пренебрегайте нами, хоть мы и маленький народ, хоть мы всего лишь крохотная звездочка в вашем огромном созвездии. Уважьте наши традиции, обычаи и обряды, уважьте нашу веру… Русский народ добр и великодушен, и мы, каракалпаки, тоже добры и великодушны, только нас мало, а русских много. Великий народ на то и великий, чтобы не обижать малые народы, быть с ним милостивым и снисходительным…»
Иногда он вдруг начинал мыслить вслух, и мать, испытывая тревогу и нежность, осведомлялась у него:
— Ерназарджан, что с тобой?
— У меня все горит внутри, мама! — стонал он. Однажды он выложил ей как на духу все, что так
угнетало его.
— Я тебе вот что скажу, сынок. Соловей — он всегда поет одним голосом, но всегда новую, задушевную мелодию… Я бы не стала тебя отговаривать, никогда бы не стала, если бы ты отправился к царю со своим другом Грушиным… Но один… Есть народная мудрость: прежде чем заставить человека поклониться тебе, нужно самому поклониться.
Ерназар не понял, что скрывается за словами матери, неясными, расплывчатыми…
— Ну, а если мне пройти службу в ханском войске? Вернуться и обучить джигитов тому, что я сам узнаю? Может, создадим каракалпакское войско и пойдем в поход против хивинского хана, отвоюем себе свободу? Не удастся мой замысел — уйду с джигитами в Россию? За поддержкой?
— Прежде чем стрелять из ружья, сынок, подумай — на пользу это будет или во вред тебе самому и народу.
10
Всю свою жизнь — а время уже отсчитало ему шестьдесят лет — Сержанбай не знал, что такое лишения и нехватка. Однако он не смог бы припомнить и дня, когда бы отдыхал без работы.
После того как Сержанбай откровенно изложил Ку-мар-аналык свое дело и получил от нее добрый совет, на душе у него посветлело. Он жил в ожидании счастья. Сержанбай стал спокойнее глядеть на мелочи, на недоделки в его обширном хозяйстве — раньше они выводили его из себя. Подумаешь, не накормили, не напоили вовремя какую-нибудь скотину, — это можно попра вить… Все можно поправить, все кажется легко и просто, когда человека греет надежда…
Мотается ли бай по двору, хлопочет ли по хозяйству, он все время глаз не сводит с Гулзибы. Когда Сержанбай видел девушку — вот появилась, вот куда-то скрылась, вот опять мелькает ее платье! — он испытывал наслаждение, все казалось ему тогда прекрасным: и узоры на ковре, и яркая туркменская кошма — украшение юрты, и даже Улбосын, не давшая ему наследника, — и та вызывала в нем добрые чувства.
— Ты хорошая жена, Улбосын! Отменная хозяйка! Все наше достояние мы нажили вместе! — говорил он тогда.
Как-то в жаркий день бай наблюдал из прохладной юрты, сквозь приоткрытую камышовую дверь, за сновавшей по двору Гулзибой… К Гулзибе приблизился Рузмат, что-то ей сказал, она прыснула, закрыла ладошкой рот.
— Жена, пойду-ка я полью посевы. Отпусти Гулзи-бу к Кумар-аналык, пусть поможет ей по хозяйству.
Сержанбай велел Рузмату взять лопату и идти на огород, сам двинулся к загону за лошадью. Здесь он обнаружил глазеющего на Гулзибу во все глаза Маулена-желтого.
— Эй, Маулен, тебе что тут нужно? — рассердился бай.
— Ах, дядя, годы мои не те, а то бы стал подстилкой под ногами этой красавицы, взял бы ее в жены.
— Подстилкой ты можешь быть, а вот хозяином… — Сержанбай не мог скрыть досаду и злость на пле мянника.
— От подстилки и хозяйство начинается. Пришел посмотреть да поучиться у дядюшки и новости узнать. Правда ли, что хан решил послать пятьсот мулл во главе с нашим Аскар-бием в соседние северные страны? А турецкого ахуна — идет молва, что он очень мудрый ахун — сделал ишаном и повелел ему отправиться в каракалпакские пределы…
— Ты поведал мне сам, племянничек, новости! Мне некогда. Я спешу поливать посевы.
— Э, ты и после смерти будешь торопиться на работу!..
Бай взобрался молча на кобылу и тронулся к нолю. Басар, как жеребенок, увязался вслед за ними. На обочине, в тени турангиля, он увидел Аскар-бия, Ерназара и муллу Шарила. До Сержанбая донесся басовитый голос Ерназара:
— Мулла Шарип, вы ведь сами однажды изрекли: «Женщина — сундук, наполненный золотом!» Как же вы отваживаетесь оставить свой драгоценный сундук?.. Ради каких-то башкир, татар, казахов?..
— Э, для муллы везде отыщется сундук, наполненный золотом… — выдавил сквозь смех Аскар-бий.
Мулла Шарип плотоядно улыбнулся и пошел своей дорогой.
— Аскар-ага, боюсь, как бы женщины тех стран, куда пожалует наш досточтимый мулла, не подумали, что все каракалпаки похожи на верблюдов с воробьиными головками…
Когда Сержанбай приблизился к полю, то обнаружил, что Рузмат позволил двум аульчанам отвести на их посевы воду из арыка. Бай вспылил и, налетев на Руз-мата, огрел его плеткой. Испуганный Рузмат принялся закрывать воду; дехкане подбежали к Рузмату, схватили его за руки, крича, что их посевы начали желтеть… Гарцуя на кобыле, Сержанбай с бранью начал хлестать всех подряд. Кто-то схватил его сзади за плечи, опрокинул с седла и бай угодил прямо в арык. В ужасе он увидел, что над ним возвышается Ерназар.
— Не смей обижать людей! Не смей поднимать руку! — Ерназар был в гневе. Он повернулся к Сержанбаю спиной и погнал своего коня прочь.
Около своего дома Ерназар услышал заливистый смех сына и голос Гулзибы: «Порхай, порхай, моя бабочка!» Гулзиба забавляла мальчика, заставляя его размахивать ручонками, будто в полете. У Ерназара сразу же и гнев прошел, и досада. Девушка смутилась, отпустила руки ребенка. Ерназар и Гулзиба были не в силах оторвать друг от друга взора. Хожаназар хныкал, ухватившись за подол Гулзибы, требовал продолжать игру. Ерназар вынул из кармана платочек с красным узором — платочек Гулзибы, — вытер сынишке слезы.
— Гулзиба, спасибо тебе за платочек. Как ты поживаешь?
— Расскажите вы о себе, что я?..
— Я намереваюсь вступить в ханское войско…
— Скоро?.. Не будет ли опять скучать по вас ваша матушка, ваши дети, другие люди?
— Я вижу, ты любишь моего сынишку.
— А вы сами?
— Как свою душу.
— Я тоже.
Кумар-аналык отдыхала в мазанке и слышала этот разговор. Она притихла, затаилась, пораженная тем, как свободно они беседуют, как по-особенному звучат их голоса.
Ерназар умолк, задумался, и Гулзиба всполошилась: уж не сказала ли она что-то не то и не так… Она сделала два шага к мазанке, но вернулась назад.
— Ерназар-ага, у меня есть к вам три вопроса.
— Спрашивай.
— Какая дорога самая трудная?
— Неизвестная! Самая трудная дорога та, которую не знаешь.
— С чем можно сравнить дружбу непостоянного человека?
— Дружба неверного — письмо, написанное на льду.
— Какие люди вам не нравятся?
— Мне не нравится истопник, боящийся дыма! Мне не нравится кузнец, которого раздражает стук молота… У меня тоже припасен для тебя вопрос, Гулзиба. Как, по-твоему, умный становится умным?
— Умный, я думаю, становится умным после того, как наделает много глупостей.
«Как она повзрослела! Тогда, на берегу, была совсем-совсем юной. — Блаженная дрожь пробежала по телу Ерназара. — Неужели это никогда больше не повторится?.. О чем это я? До любовных ли утех мне теперь!.. А девушка умна, красноречива, может, это Сержанбай ее так славно воспитал? Работник его Рузмат тоже в прошлый раз проявил разум не по годам… Глядишь, и Тенел вырастет достойным помощником мне…»
— Как, по-вашему, Ерназар-ага, мой отец умирал несчастным?
Трудно сказать.
— Я буду жить только с правдой в душе, то есть помня о ней всегда… Буду правдивой, Ерназар-ага, и Тенел — тоже. Тогда ведь мы будем счастливы? — подалась Гулзиба к Ерназару. — Почему вы молчите? Я хочу жить так, как вы повелите, как укажете мне!
— Гулзиба, принеси воды! — раздался издалека голос Рабийби.
Девушка скрылась на мгновение и опять появилась, держа горлянку. Она метнула на Ерназара быстрый, какой-то особенный взгляд. И любовь, и зов, и напоминание о том, что принадлежало только им одним, было в этом взгляде. Всем существом Ерназар отозвался на него. Пронзенный страстью, он всем своим мужским естеством тянулся к Гулзибе, которая от него удалялась, устремлялся за ней. «Моя! Она была моя! Какая красавица!.. Одежда, совсем простая одежда скрывает такую красоту… Но я-то видел — она сверкает, как луна сквозь рваные темные тучи… Была бы Гулзиба байской дочкой, джигиты всего Хорезма стали бы бродягами и паломниками на дороге к ней… Да, а годы мои уходят, утекают что вода… Хотя… почему? Баи, годящиеся мне в отцы, женятся на девушках. Если бы не клятва, данная матери… А может, она поймет? Мать есть мать… Скажу ей, что хочу взять Гулзибу второй женой?..»
Гулзиба скрылась. Ерназар слегка подтолкнул сынишку к лачуге и быстро-быстро зашагал прочь — подальше от водоема, к которому направилась Гулзиба, подальше от соблазна, подальше от искушения… Однако ноги, ноги сами вскоре предательски понесли его обратно. Не помня себя, несся, летел он сквозь заросли тамариска туда, туда, к ней. Скорей бы, скорей настичь ее, схватить, сжать в объятиях, забыться!
Гулзиба сидела на берегу водоема и, как в зеркало, гляделась в прозрачную воду. Она почувствовала приближение Ерназара, медленно встала, поднялась на холмик, огляделась кругом… Как глупый козленок, не заметивший голодного волка, она побрела к овражку, скрытому от чужих глаз, спустилась в него. Рухнула на мягкую, словно пуховая перина, землю, ослабев от сладостной истомы и головокружения. Ее лицо выражало страстное нетерпение и повеление, губы горели жарко, как уголек во тьме, руки звали, требовали объятий и ласк. Ерназар растворился в безрассудном, покорном и покоряющем теле.
Накануне этого Кумар-аналык наконец-то нашла подходящую минутку и намекнула Гулзибе о намерениях Сержанбая. Девушка, не дрогнув, ответила ей спокойно:
То, что одобряете вы, одобряю и я… Только скажите обо всем и Ерназару-ага тоже. Как он посоветует, так я и поступлю.
«Все нуждаются в совете моего сына…» Теперь, нечаянно подслушав разговор Ерназара и Гулзибы, она заподозрила неладное. Как бы не обернулось все по-иному! Вон, девушка уже и платочек успела ему подарить. И он разговаривал с ней каким-то незнакомым ей, матери, голосом, будто ласкал Гулзибу, о господи, грех-то какой.
Кумар-аналык выбралась из юрты — сына нигде не было. Она растерялась — что же делать? Ждать или бежать разыскивать его? Мать металась по двору в смятении и тревоге. Как нарочно, к дому подъехал Сер-жанбай.
— Не спеши, бай, я еще не решила! — произнесла она в растерянности.
— Я и не спешу, Кумар! Я заехал попросить прощения у Ерназарджана.
— В чем ты провинился?
— Поссорились из-за воды!
— Нет его дома!
— Не беда! Передай ему: так, мол, и так, Сержанбай хотел повиниться!..
* * *
Ерназар вернулся затемно. Во дворе было пусто, и он с облегчением вздохнул, тихонечко поставив у дверей горлянку с водой. Мать, дети и Рабийби пили чай в юрте.
— Почему тыква стоит у порога? Не опрокинул бы кто нечаянно! — Ерназар никогда, не вникал в такие мелочи, не замечал их, и мать испугалась, как бы Рабийби чего-нибудь не заподозрила.
— Бедная Гулзиба, наверно, оставила второпях. Спешила домой. — Кумар-аналык покосилась на сына.
Он восседал уверенно и прочно. Лоб его разгладился, губы морщила самодовольная улыбка.
— Ерназарджан, тут Сержанбай приходил, хотел прощения у тебя просить.
Ерназар лишь усмехнулся в усы.
— Как ты чувствуешь себя сегодня, сынок?
— О, мама, очень хорошо! Бодрым, полным сил, палваном себя чувствую! — Лицо Ерназара осветилось счастьем, каким-то новым светом…
— Да, да, я вижу!.. Я тут подумала, поразмыслила и пришла к выводу: тебе нужно поскорее отбыть в Хиву. Мы с твоей женой сами управимся по хозяйству. Чем быстрее откликнешься ты на приглашение хана, тем лучше — доверия к тебе будет больше… — Кумар-ана-лык помедлила, опустошила пиалу с чаем. — Сынок, хочу дать тебе совет: прежде чем связать руки другому, подумай о своих собственных! Не забывай также и о руках друзей…
Всю ночь Ерназар метался, вспоминая Гулзибу, ее податливое, послушное и вместе с тем властное тело; оно околдовало его, взяло в полон, из которого не вырвешься, если даже захочешь. Он не мог забыть, как, прощаясь с ним, Гулзиба умоляла: «Ерназар, я на все согласна, быть твоей вечной рабой согласна, только не бросай меня!» Эти слова звучали в его ушах, в его сердце, но их теснили, безжалостно гнали слова матери: «Прежде чем связать руки другому…» Какой смысл вложила она в это наставление?.. В это предостережение? Скорее всего, она упреждала его, напоминала: не забывай о главном, о своем священном долге перед каракалпаками, Гулзиба будет тебе помехой… «Да, мать, конечно, обо всем догадалась; она права, мне надо поскорее уехать; с глаз долой — из сердца вон, авось забуду Гулзибу… и она меня забудет… Нет, не хочу! Не хочу!..» Все в нем взбунтовалось при этой мысли, и тем яснее он осознал: мать права…
За утренним чаем Ерназар, подбрасывая на коленке сына, обратился к матери:
— Всю ночь я думал, мама! — Он не пытался скрыть свою печаль. — Я согласен с тобой, ты меня убедила — будет лучше, если я сегодня же отправлюсь в Хиву…
— Ты хорошо надумал, сынок! — мать старалась подбодрить его улыбкой. — Прежде чем ты отбудешь, я хотела бы посоветоваться с тобой… К нам зачастил Сержанбай, наш сосед. Есть у него мечта. Он хочет нам поклониться, как поклонился бы родственникам сирот Гулзибы и Тенела…
— Ах, старый лис! Он, оказывается, не зря одарил меня меховой шубой… Ну, кому он хочет ее посватать?
— У бая нет детей…
Ерназар подумал, что бай решил проявить благородство и соединить Гулзибу и Рузмата, двух сирот, а потом, возможно, и усыновить молодую чету. «Боже, за что ты посылаешь мне такую пытку?» Ерназару казалось, что на большую, зияющую рану ему сыплют соль — щепотку за щепоткой. У него едва не вырвался стон.
— Ты говорила с девушкой? — выдавил он из себя с трудом, хриплым, упавшим голосом.
— Да. Она ответила, что поступит, как ты посоветуешь.
Ерназар побледнел. «Неужели она так сильно любит меня?.. По одному моему слову готова сломать свою судьбу?.. А как же мы-то с ней, сами?..»
— Сын мой, по-моему, я догадываюсь, что тебя тревожит и смущает. Видишь ли, есть одна истина, которая заключается в том, что все лампы, перед тем как погаснуть, горят особенно ярко… Вспыхивают напоследок…
Ерназар испытал такую боль, будто его ранили прямо в самое сердце. Он понял: мать ни за что не даст согласия на его свадьбу с Гулзибой. Чтобы в отчаянии у него не сорвалось с языка чего-нибудь лишнего, он закусил губу.
— Ерназарджан, судьба подарила девушке счастье… — Мать смягчилась: может быть, только теперь, впервые, осознала она меру страдания единственного своего, кровного дитяти. — Если бай все устроит, как он мне обещал, Гулзиба будет жить в достатке! Это ли не счастье в наше-то время!.. Для таких одиноких душ, как Гулзиба и Тенел…
Ерназару казалось, что у него отнимают его любимую, которая должна принадлежать по праву ему, лишь ему. Он едва собрался с духом, чтобы ответить:
— Если она будет счастлива, воля твоя.
11
После той встречи с Ерназаром в Гулзибе едва-едва пробудилась женщина — жила себе по-прежнему восторженная, доверчивая, влюбленная девушка, жила себе, не надеясь на то, что когда-нибудь будет она вместе с любимым, испытает то, что испытала близ водоема, в том тихом, неприметном овраге — мягком, как пуховая постель… Отныне в Гулзибе проснулась женщина, страстно любящая и страстно любимая, смеющая мечтать и догадываться о своей власти над Ерназаром. Готовая служить ему, как рабыня, по первому зову его броситься за ним в огонь и воду…
В тот заветный вечер Гулзиба возвратилась домой с уверенностью, что весь мир принадлежит ей, что она вкусила блаженство, самое большое блаженство, какое только дано познать женщине… Проходя мимо Рузмата, она шутливо щелкнула его по уху. И он, тайно в нее влюбленный, воспарил от этого до небес…
Гулзиба ласково обняла Тенела, расспросила о новостях, накормила его ужином и улеглась спать. Утром Гулзиба, как всегда, поднялась с первыми петухами. Двор вымела, коров подоила, разожгла очаг, вскипятила чай… Душа ее пела.
Ближе к полудню она слила в большой-пребольшой котел из всей посуды кислое молоко и принялась сбивать масло. От этого занятия ее отвлек Сержанбай. Необычно принаряженный, торжественный, шествовал он к дому Ерназара. У нее екнуло сердце: «Как бы не свалилась на меня беда!.. Как же это вчера я ничего не рассказала Ерназару о затее бая? Куда-то вынесет меня нелегкая?.. Но ведь Ерназар самый умный! Он, конечно, догадается, почему я именно так ответила его матери… Должен догадаться, зачем я сослалась на него, на его совет… Мое спасение только в нем! Ой, какая я несчастная! Что, если он даст согласие? Случается, что и умные делают других людей несчастными!»
Она ослабела, руки ее не слушались, она перестала крутить мутовкой. «Боже, помоги мне! Сделай так, чтобы он любил меня сильнее всех на свете!.. Если бы я не была ему дорога, стал бы он хранить мой платочек? Разве побежал бы за мной — ведь примчался, забыв о всякой осторожности? Зачем я зря мучаю себя, сомневаюсь?.. Он ответил на мои вопросы, поняв их тайный смысл. Самая трудная дорога — неизвестная, по которой еще не ходили… Это дорога любви, он это имел в виду: хотел уберечь меня: будь, мол, осторожна на этой неиспытанной дороге… Дружба неверного человека — что письмо, написанное на льду! Конечно же он подразумевал любовь неверного человека… Он верный, он будет любить верно… Он не скрыл от меня, каких людей не уважает, какой человек ему не нравится; он был со мной так откровенен… Любит он меня, любит!.. Дал понять, что ему не нравится истопник, боящийся огня… Почему именно истопник?..» Гулзиба глубоко задумалась, вспоминала, что девчонкой слышала однажды, как старушка наставляла свою единственную молоденькую дочку: «Любовь — огонь, кто влюбится — становится истопником! С огнем обращаться надо умеючи, а то и не разожжешь его с толком»… Однако до браться до сути этого наставления Гулзиба и сейчас не могла. Лишь знала, что теперь она сама превратилась в истопника у любовного огня. Но вот сумела ли она разжечь огонь в Ерназаре? Такой, чтобы не потух… Этого она не ведала. «А может быть, он решил, что я боюсь огня, и призывал меня не бояться?.. Нет, я не боюсь, только я никому не хочу открывать мою любовь!.. Но он… неужели он не почувствовал, как я его люблю?»
Гулзиба опять взялась за мутовку и тут услышала, что бай кричит Рузмату:
— Эй, Рузмат, кончай возиться во дворе! Захвати пару лепешек и отправляйся за дровами! Нам скоро много понадобится дров! В следующую среду я справляю той!
Сидя в мазанке, Гулзиба не могла увидеть, что Рузмат враз набычился, лицо его сделалось пепельно-серым, губы гневно сжались. Но как он, тяжело ступая, отправился в рощу, она слышала.
Улбосын, эй, Улбосын! — обратился бай к жене.
— Ну, что? — проскрипела раздраженно Улбосын.
— Ерназар отбыл в Хиву!
— Ну, а тебе-то какая радость от этого? Я думала — богатство привалило!..
— Оказывается, шуба, которой я одарил его всенародно в Хиве, сделала свое дело!
— Да о чем это ты? — безучастно переспросила его Улбосын.
Ты и сама внушала мне не раз: «Возьми, возьми вторую жену, может, нашу юрту огласит крик ребенка!» Так вот — свершилось! Кумар и Ерназар — благородные люди! Им даже калым не нужен…
— Разве у них кто-нибудь есть на примете?
— А Гулзиба? Они ее покровители. Отказались от калыма, лишь бы сироту-де не обижал… Будем готовиться к свадьбе! Почему ты хмуришься, ведь сорок лет с тобой все поровну делили — и горе, и радость! Ликуй, когда твой муж ликует!
— Да ты что, спятил? Да разве будет от тебя ребенок? Больно долго ты собирался, все сроки миновали! — насмешливо произнесла Улбосын.
— Э-э! Не говори так! Прикоснусь к молодому телу, авось и сам помолодею!.. Однако пора браться за дело. Слетаю к Маулену, хочу, чтобы он был распорядителем на моей свадьбе.
Гулзиба поняла, что судьба ее решена… А Улбосын стиснула зубы: «Кому-нибудь из вас двоих не жить!»
Долго Улбосын не теряла надежду, что и она, как все женщины, ощутит в себе движение новой жизни. Чем больше эта надежда таяла, тем суровее, злобнее становилась Улбосын. Она перестала слезно молить бога о том, чтобы он уравнял ее в радости с другими женщинами; она возненавидела себя за пустое свое чрево. Она устала верить и надеяться. Не уставала она лишь работать: второй такой работящей жены не было во всем ауле… Волосы Улбосын поседели, лицо покрылось морщинами, руки огрубели. Она предлагала баю жениться на молодой, но только непременно на бедной девушке, а ребенка от нее она воспитает сама, полноправная — нет, единственная! — хозяйка в доме. Бай, однако, пропускал все это мимо ушей. Подумывала она и о том, чтобы поженить Рузмата и Гулзибу, а ребенка их взять и вырастить, как своего собственного… Вон, однако, как оно все обернулось…
Улбосын охватила ревность, какой не знала она уже многие годы. «Гулзиба и умна, и красива; еще не законная жена, а мой старый дурак уже разума из-за нее лишился! Что же будет после? Она из него веревки будет вить, приберет все наше богатство. Настанет момент, она шепнет Сержанбаю: «Твоя-де старшая жена мешает мне, надоела», — и он тут же, не успею я глазом моргнуть, вышвырнет меня из дома, как приблудную собаку!.. Как же это я проглядела все, как же не почуяла вовремя несчастья?»
Думы, печали, ревность, злоба одолевали, переполняли Улбосын. Она искала им выход, хотела сбросить с себя их гнетущее бремя, но как, какой найти выход?.. И тут ноги, будто сами, понесли ее к сундуку; она открыла крышку, пошарила рукой по дну, в уголке… «На месте, слава аллаху! Настал день, когда он может сгодиться!» Улбосын давно хранила в сундуке яд. «Только кому из них?..»
Порог юрты переступила Гулзиба. Из нее будто выжали все жизненные соки. В лице не осталось ни кровинки. Злоба вспыхнула в Улбосын с новой силой:
— Ух, змея! Вползла в мой дом и теперь заришься на самое почетное место?
Девушка опустилась на колени, прямо у двери:
— Тетушка Улбосын, не гневайтесь напрасно! Лучше дайте мне, сироте, никому не нужной, никем не любимой, совет!
— Как половчее занять мое место? Да! И ты еще смеешь просить у меня совет?
— Да нет же, нет! — простонала Гулзиба. — Я совсем о другом…
Бледная как полотно, Улбосын сверлила соперницу ненавидящим взглядом.
12
Главный военачальник встретил Ерназара радушно, сам нацепил на него нукерское оружие, что было знаком особого расположения.
— Поздравляю, теперь ты ханский нукер! Держись за меня, будь мне верным другом. Таких лихих молод-цев я в обиду не даю! Я самый преданный хану человек — и близкий! Если он прогонит от себя прощелыгу — главного визиря, посмотрим тогда, кто займет этот пост… Есть, правда, у меня один соперник, младший военачальник Махмуднияз! День и ночь строит против меня козни, да я ухо держу востро… Я определю тебя к Махмудниязу. Можешь не надрываться особенно на службе! Но… но есть у меня деликатное поручение! Его изволь выполнять четко. Присматривай за своим начальником и докладывай мне — лично мне! — о его действиях, если они покажутся тебе подозрительными или опасными для меня… За мной не пропадет — ты еще будешь военачальником, хотя бы вместо того же Мах-муднияза.
Когда главный визирь увидел Ерназара впервые в форме нукера, он ударил в ладоши и медоточивым голосом проворковал:
— Алакоз-палван, а форма тебе, оказывается, очень к лицу, очень! Напрасно ты так долго упирался… Хорош, хорош! И хану ты пришелся по душе! Он даже к пожеланию твоему прислушался — дал турецкому ахуну звание ишана и отправил наиглавнейшим иша-ном в твои степи. Ахун наладит у вас дела, мектебы откроет, а то и медресе. Он там всех вас сделает грамотными да учеными…
— Нелегко ему придется в нашей глуши, среди темных каракалпаков, — невозмутимо ответил Ерназар. — Ахун привык к большому городу, к дворцу, к обществу таких людей, как вы… Ему у нас будет скучно.
— Он сам попросился. Потому что, говорит, каракалпаки нуждаются в попечении и заботе! Вот так-то!
Ерназар не стал пререкаться с главным визирем, поносить «отца-попечителя» каракалпаков. Он ясно понимал, что приверженец инглисов неспроста взял на себя эту заботу: близка земля каракалпаков к русским границам…
…Началась служба Ерназара в Хиве. Махмуднияз, человек грубоватый и неприветливый, был его сверстником, но казался значительно старше из-за своего вечно угрюмого вида. Ходил он тяжело, медленно, будто ноги у него были из камня. Он присматривался к Ерназару настороженно, следил за ним, не придирался попусту, но и не доверял. Однако постепенно стал выделять из числа остальных подчиненных. Настал день, когда он повел откровенные речи.
— Я готов создать для тебя условия, каких нет у других моих нукеров. Во-первых, тебя лично знает хан; во-вторых, я приглядывался к тебе все это время, и ты мне понравился; в-третьих, ты, по-моему, обладаешь какими-то чарами: ведь хан освободил из плена всех русских, хотя ты просил лишь об одном… Я не буду на тебя доносить хану или главному военачальнику, как это водится во дворце, — все здесь льют друг на друга помои… Я хочу верить тебе, как брату! Ты вроде надежный джигит…
— Человеку, который верит в меня, как в брата, я должен платить тем же.
— Сегодня у меня был важный разговор с главным визирем. Они с моим начальником что огонь и вода… Он сообщил мне по секрету, что хан не жалует главного военачальника. В обмен за помощь, за услуги обещал должность главного военачальника мне… Понял, в обмен!.. Не думай, что я какой-то мелкий интриган! Но я терпеть не могу своего начальника Он невежда и глупец, притом злобный! Своих подчиненных он и за людей-то не считает, так, букашки они для него мелкие. Он и к черношаночникам относится так же!
Наша с тобой задача — всячески вредить ему, порочить его в глазах хана и главного визиря Как — я буду тебе подсказывать! Я тебя тоже возвеличу, коли сам поднимусь!..
«Ну и ну! Волк выслеживает лису, лиса — шакала, шакал — лису, лиса — волка!.. Вот тебе и ханский дворец, вот тебе и нукерская служба!»-ахнул Ерназар про себя.
— О чем задумался, Ерназар?
— О том, как наилучшим образом выполнить ваше поручение! — едва сдержал улыбку Ерназар.
— Я посочувствую тебе, Ерназар. Хоть в золотую клетку посади птицу, все равно для нее это неволя. Ты сын степного народа, тебе простор нужен! Для тебя тюрьма — это тюрьма, но и нукерство не лучше. Но что поделаешь? Нет легких путей в жизни…
Махмуднияз разглагольствовал, а Ерназар размышлял: «Те, кто служат хану, оказывается, ежечасно ходят над пропастью, закрытой одеялом… И преуспевают не сильные духом и разумом, а подлые и ловкие проходимцы, людишки без чести и совести. Им дела нет до народа, до его нужд! Они равнодушны к своей стране! К тому, чтобы преобразовать Хорезм, как мечтал о том Грушин!.. Удивительно устроен мир: русский ученый больше пекся о нашей земле, чем хивинские сановники! Как жаль! Если я когда-нибудь осуществлю свою цель и будет у каракалпаков самостоятельное ханство, я не допущу несправедливостей, интриги буду пресекать, заботиться буду о просвещении и науках…»
— Как видишь, я посвятил тебя, Ерназар, в тайное тайных…
— Мой великий военачальник, я все понял. Махмудниязу впервые в жизни довелось услышать
рядом со своим чином слово «великий», он был польщен.
— Молодец, я на тебя полагаюсь… Знай, в скором времени я совершу набег на Бухару! Завтра же начнем к нему готовиться.
Ерназар быстро освоил нехитрые военные порядки и правила. Чтобы не привлекать к себе излишнего внимания и не снискать дурную славу увальня и лежебоки, он старался делать все быстро и споро. Спал чутко, поднимался по первому же звуку призыва к утреннему намазу, тотчас же хватал кувшин для ритуального омовения… То, как быстро нукер хватал, вернее — выхватывал из чужих рук этот кувшин, и являлось мерилом его ловкости и сноровистости. Тому, кто опаздывал к утреннему намазу, полагалось наказание тремя ударами палки; опоздал еще раз — разрезали пятки и посыпали их солью; будет нукер нерадив и неприлежен, может и в зиндан угодить — на хлеб и воду. Наученные горьким опытом, нукеры с вечера ставили у изголовья кувшины с водой…
После молитвы раздавался удар в колокол, и нукеры со всех ног припускались к конюшне, вскакивали на коней и мчались к лесу. На лесной поляне начинались учения. Как только знакомый голос провозглашал: «Завтрак!»-все молниеносно бросались к шалашам. Там на дастарханах горками возвышались лепешки. Нукеры усаживались на кошмы, подобрав под себя ноги, тянулись за чаем и лепешками. Ели они не спеша, вволю. После завтрака снова было время учений. Начинало нещадно припекать полуденное солнце, и они опять устремлялись к шалашам — на обед… После четвертой молитвы, перед заходом солнца, нукеры купали коней и возвращались в город. После ужина — последняя, пятая молитва, после чего — сон.
Однажды Махмуднияз вызвал к себе Ерназара:
Ты, Ерназар, образцовый нукер, отлично владеешь мечом и копьем, а уж на коне держишься — позавидовать можно… Освобождаю тебя от учений! Хочу дать тебе важное задание. Поезжай и разведай самую удобную дорогу для набега на Бухару.
Ерназар давно мечтал увидеть Бухару — этот чудо-городок. Он обрадовался и спросил лишь, когда ему отправляться.
— Прямо сейчас!
Он быстро снарядился в путь и, едва стемнело, сел на коня. За ним, в отдалении, следовали два всадника.
13
Каракалпаки говорят: когда готовится свадьба, оживает даже иссохший череп. Если кто-нибудь услышит краем уха, что где-то готовится свадебный пир, тут же спешит на той, не дожидаясь приглашения.
В среду в аул повалили толпы пеших, ехали всадники и на конях, и на ослах… Сержанбай не поскупился. Чтобы каждый, кто пожалует на его свадьбу, мог отведать угощения с пиршественного стола, Сержанбай распорядился разжечь огонь под множеством котлов — пусть и вдовы, и сироты, сказал он, как следует насы тятся, пусть вспоминают его свадьбу, его щедрость.
Среди тех, кто суетился около котлов и дастарханов, вихрем пронесся слух: к аулу приближается процессия из самой Хивы, возглавляет ее новый ишан. Все от мала до велика высыпали на дорогу и вскоре увидели впереди большое облако пыли. Самые нетерпеливые и любопытные помчались навстречу ему.
По дороге торжественно и медленно шествовали муллы и суфии; они плотным кольцом окружили арбу. На ней восседал человек в белоснежной чалме, с ухоженной черной бородой, величавый, осанистый. Турецкий ахун, он же ишан каракалпаков, заметил, что процессия его обросла со всех сторон людьми. Он приказал арбакешу остановиться. Зеваки, не решаясь приблизиться, замерли чуть поодаль.
— Позовите ко мне вон того длинного! — велел ишан суфи.
Длинного подвели к самым ступицам арбы, вслед за ним пододвинулись поближе к ишану самые смелые.
— Эй ты, долговязый! Великий ишан обратил на тебя свой взор! Значит, жди хорошего! Бог пошлет тебе удачу! — сказал рябой суфи. — Сейчас он расскажет, кто ты, что ты… Слушай внимательно!
Долговязый сразу поник, обмяк; он низко склонил страусиную свою шею — она сейчас больше походила на срезанную пушистую верхушку камыша. Ишан окинул его острым взглядом и отчеканил:
— Джигит, твой отец рано отошел в лучший мир… Ты забыл его! Не справил до сих пор поминки. Это большой грех!.. Если в течение трех дней ты не зарежешь корову и не устроишь поминки, ты лишишься сразу обеих своих коров!.. — Ишан ничего больше не добавил; он отвернулся от долговязого с осуждающим видом. Арба покатилась дальше.
Ишан изрек правду. После кончины отца долговязый действительно перебрался из своего аула в другой, чтобы не тратиться на традиционное поминальное пиршество. Откуда же ишан прознал про это?.. Джигиту, как и другим наивным, простодушным людям, в голову не приходило, что этот ишан появлялся в их краях не раз, только в обличье нищего дервиша…
Все окружили долговязого, загалдели разом:
— Он правду сказал? Отвечай!
Тот захныкал, подавленный страхом и стыдом:
— Да простит меня аллах, правда!.. Сразу же после тоя Сержанбая я устрою поминки! Прошу всех почтить память моего отца. — Он отделился от толпы и, понурый, пристыженный, поплелся к своему дому.
Толпа хлынула обратно к юрте бая, и люди, захлебываясь от восторга, принялись всем рассказывать об ясновидце ишане; нашлись и краснобаи, которые тут же присочинили невероятные истории о различных пророчествах и подвигах ишана. Даже щедрость Сержанбая, даже обильные его дастарханы будто слегка померкли в их глазах. Славословия баю уступили место восхвалениям великому ишану. Сержанбая это уязвило, радость его и тщеславие чуть-чуть притупились, поблекли, но виду он не показал: знал, что жирные, вкусные кушанья и кукнар[8] сделают свое дело — выветрят из голов его гостей воспоминания об ишане.
Ближе к полуночи, в самый разгар пира, раздался тревожный вопль:
— Невеста сбежала! Сбежала невеста! Бай ушам своим не поверил:
— Маулен, это ложь? Неправда это!
— Ох, правда, дядя! Беда на тебя свалилась! Ты стал посмешищем для людей, ох-хо-хо!
Сержанбай вышел из юрты, крепко хлопнув дверью. На дворе было полным-полно народу. Гости вмиг превратились в свидетелей его несчастья. В лачуге горько рыдал Тенел, его окружили люди, выражали сочувствие, пытались успокоить. Бай влепил ему пощечину.
— Где твоя сестра? — Рядом с Тенелом Сержанбай увидел Улбосын; он схватил ее за тонюсенькие, как мышиный хвостик, косы, дернул изо всех сил, повалил на землю, лягнул в живот. — Из-за тебя все мои несчастья. Из-за тебя!
Улбосын сжалась, свернулась в комок, как еж, и выпалила:
— Чтоб ты сдох, безумец! Чего затеял! Чем меня бить, на мне вымещать злобу, ищи лучше Рузмата!.. Навлек позор на свою дурацкую голову! Нужен ты молоденькой, как же! — кричала Улбосын, не помня себя от ярости.
Никогда прежде жена не осмеливалась бросать ему такие жестокие, такие оскорбительные слова. Это во сто крат усилило его боль и муку. Он понял, что лишился последней своей надежды и услады в жизни — Гулзи бы. Сержанбай полез за пазуху за ножом, чтобы прикончить эту старую, эту ядовитую бесплодную змею. Его схватил за руку Маулен:
— Дядя, опомнись! Невеста сбежала с Рузматом. Нож еще пригодится тебе! Рузмат! Отныне Рузмат твой кровный враг!
— Седлай коней, поедешь со мной! Маулен-желтый, не выпуская дрожащей руки бая,
повел его сквозь замершую толпу к конюшне.
* * *
Неподалеку от Хивы, на берегу канала, под диким карагачем лежали Гулзиба и Рузмат. Джигит не мог уснуть, хотя и очень устал. Он наслаждался близостью Гулзибы, которая безмятежно спала, положив голову ему на плечо, как на подушку. Он неотрывно смотрел на ее спокойное лицо, белое-белое при свете луны, и предавался воспоминаниям.
…Когда бай сообщил ему о своей предстоящей свадьбе, Рузмат подумал, что сердце его не выдержит, разорвется от горя… Около него, как призрак, возникла Улбосын и зашептала горячо:
— Рузмат, слушай меня, Рузмат! Бай потерял разум, надо спасать сироту! Укради ее, я помогу!
— А она? Согласится ли она?
— Если ты избавишь ее от старика, — сказала Улбосын, — она всю жизнь тебе будет пятки лизать!
Рузмат чмокнул от радости Улбосын в щеку. Тысячу лет живи, сестра!
В предсвадебной суматохе никто не заметил, как Улбосын сунула Рузмату и Гулзибе сверток, как благословила их:
— Это вам деньги на дорогу! Будьте счастливы, да поможет вам бог! Не медлите в пути!
Рузмат не мог поверить своему счастью.
Неужто это правда? Явь, а не сон? — спросил он, как только аул остался позади.
— Правда, правда, Рузмат!.. ответила Гулзиба. — В Хиву проляжет наш путь! Будем искать Ерназара-ага.
К ночи они достигли берега канала, прилегли отдах-нуть под карагачем.
Забрезжил рассвет. Рузмат так и не сомкнул глаз, а Гулзиба еще спала, чувствуя себя под надежной за щитой. Рузмату хотелось прикоснуться к пухлым, розовым губам девушки, они так и манили к себе, так и притягивали. Но он боялся спугнуть сон своей любимой.
Стало подниматься солнце… все выше, выше — так разгорается огонь в очаге. Выдержка изменила Рузмату, и он слегка прикоснулся шелковистыми усами к губам Гулзибы — алым, словно капнувшая на снег кровь. Девушка вздрогнула, испуганно открыла глаза.
— Ах, это ты!
— Прости меня, Гулзиба, — с нежностью пролепетал оробевший джигит. — Божественное солнце начало лить на землю свой свет, и я подумал — пусть мое солнышко откроет глаза и прольет свой свет на меня…
Гулзиба улыбнулась:
— Какие красивые слова умеешь ты говорить, Руз-мат! Какие хорошие слова! Меня еще никто никогда не сравнивал с солнцем. — Голова Гулзибы по-прежнему доверчиво покоилась на его плече.
— Знаешь, Гулзиба, говорят, если загадаешь желание, когда восходит солнце, оно обязательно сбудется…
— Я слышала об этом… Только я много-много раз при солнечном восходе просила бога о счастье, но бог мне так и не внял.
— На этот раз все сбудется, раз мы вблизи от священной Хивы! Вставай, попросим бога вместе!..
Гулзиба и Рузмат обратили лица на юг; девушка распростерла вслед за джигитом руки и стала за ним повторять:
— О боже, мы пришли к священному городу с чистыми помыслами! Пошли нам вместе с лучами солнца свое благословение! Сделай нас счастливыми! Аминь!..
…- Ха, вот вы где, проклятые! — словно ответствовал им сам разгневанный бог… Но это был не бог, а Сержанбай, за спиной которого маячил его племянник.
Гулзиба вцепилась в Рузмата.
— Не бойся, Гулзиба! — Он обнял ее, потом отстранил, загородил собой и приготовился к прыжку, словно тигр. — Не бойся! — повторил он и спокойно, вызывающе даже поднял голову к всадникам:- Чего хотите?
— Рузмат, поцелуй меня, пусть думают… — прошептала Гулзиба.
— Не тревожься, душа моя! Не бойся! Никому тебя не отдам, пока живой!
— Моя судьба в твоих руках, Рузмат!
14
Ерназар явился к Махмудниязу с докладом:
— Ваш приказ выполнен, мой великий военачальник! Джигиты, которых вы направили вместе со мной, оказались расторопными, я ими остался доволен… Бухара превзошла все мои ожидания! Хотелось бы побывать там еще разок! Как победителю…
Махмуднияз с трудом поверил тому, что Ерназар успел за тридцать дней обернуться туда и обратно, похвалил его за службу и усердие.
— Расскажи сперва о городе!
— В городе около ста мечетей, шесть базаров, обнесенных каменными стенами, четыре караван-сарая. Через реку Каратал перекинуты два каменных моста. Из Чу и Чимкента в Бухару доставляют селитру, это такой порошок, вроде соли, для изготовления пороха. Свинец бухарцы добывают в горе Каратау. Мы вызнали несколько дорог до Бухары, на любой из них теперь не заблудимся — ни днем, ни ночью…
— А эмира не видел? — нетерпеливо прервал Ерназара Махмуднияз.
— Видел, представился случай. Он ехал во главе нукеров. На вид это грозный и жестокий человек. Необычна его одежда. На голове красная шелковая чалма, поверх торчком торчит султан из птичьих перьев. Эмир был в шубе из меха, какого я раньше не видывал; я полюбопытствовал у одного бухарца: что это за зверь такой? Он объяснил: это соболь, обитает он на самом холодном севере… А подпоясан эмир был поясом из шкурки золотистого каракуля.
— Что удалось узнать об эмирском войске?
— Часть бухарского войска возглавляет не бухарец, а русский или инглис.
Махмуднияз помрачнел.
— Не беспокойтесь! Эмира, безусловно, можно разбить! — уверил его Ерназар.
— Вы преданный друг и хороший нукер, Ерназар!.. Завтра отдыхайте.
Ерназару стало как-то не по себе от неожиданного перехода Махмуднияза с «ты» на «вы» Что-то он чрез мерно внимателен и заботлив, как бы все это не оказалось хитростью, не обернулось какими-нибудь кознями…
— Я лучше явлюсь завтра на учения!
— Вы храбры и сильны, но притворяться не умеете, вас выдает лицо! Почему вы встревожились? Или мои похвалы кажутся вам незаслуженными?.. — Махмуднияз выдержал многозначительную паузу. — Чтобы доказать искреннее мое расположение, я готов доверить вам важные новости. Вас они тоже касаются… то есть я хочу сказать, что вы обладаете даром предвидения… Вот только, к сожалению, не все это ценят и понимают, не все способны понимать. Даже греясь у огня, мы забываем иногда о том, кто первый разжег этот огонь.
Ерназар улыбнулся и решил, что отныне он будет больше следить за выражением своего лица, особенно когда находится в этом дворце.
— Если у меня спросили бы, кто в Хиве является владыкой огня, я, конечно, ответил бы: «Хан!» И вы ответили бы точно так же. Но каждое событие, каждое начинание имеет свой собственный огонек, свое свечение! Когда же они, эти огоньки, разгораются, они прибавляют яркости тому огню, которым владеет хан. За время вашего отсутствия здесь произошли кое-какие перемены! В отношениях — с кем бы вы думали? — с русскими. Когда наш хан освободил русских пленных, царь в ответ отпустил на свободу хорезмских купцов, которых держал в качестве заложников. Так что скоро в городских лавках появятся товары, привезенные нашими купцами из русского царства… Ну как, смекнули теперь, что именно я подразумеваю?.. Вы первый разожгли огонь! Вы попросили выпустить из зиндана русского ученого в награду за славную вашу победу! Вы будто предвидели события, заглядывали вперед!..
— Мой великий военачальник, вы ко мне расположены, поэтому приписываете мне милостиво подвиги…
— Я говорю правду. Помните, мы обращались за помощью в Герат, к инглисам? Они пренебрегли «маленьким хивинским ханством» в какой-то там дикой степи! Отказали нам. Потом, видно, спохватились и направили к хану своих посланцев. Одновременно с ними прибыли и послы персидского шаха. Однако хан заставил всех их ждать! В первую очередь он принял русского посла, хотя тот добрался до Хивы последним. Я сегодня присутствовал на этой церемонии! Очень она была торжественная!
— Это событие, должно быть, занесут в летопись хивинского ханства! — Ерназар повторил то, что когда-то слышал от Грушина, мечтавшего о будущих дружественных отношениях России и Хивы.
— Наш великий хан собственными устами назвал эту встречу важной. Правда, не по всем вопросам удалось договориться с русскими… Русский посол выдвинул немыслимые требования. Он потребовал отменить у нас в ханстве рабство, настаивал на том, чтобы хан запретил фирманом использовать русских пленных как невольников. Еще русский поставил нам условие: ограничить влияние Хивы на кочевые народы, которые признали себя подданными Российской империи, а также дать русским купцам свободу торговли на нашей территории, снизить пошлины и, кроме того, требовал не препятствовать иноземным купцам, которые через Хорезм едут в Россию. Русский царь пожелал еще, чтобы мы передавали ему смутьянов и бунтовщиков, которые бегут к нам, спасаясь от его кары…
— Да-а-а, русские предъявляют очень большие требования…
— Э-э-э, еще бы! У могущественного государства и условия всегда жесткие! Царь привык диктовать да повелевать… У меня аж в сердце похолодело, когда посол заговорил о границах. Не убоявшись присутствия нашего великого хана, он заявил: если кто-либо из хивинцев приблизится к берегам Сырдарьи, к Эмбе или к пескам Барсук и попытается причинить ущерб или притеснить казахов, которые находятся под покровительством русского царя, тот будет убит на месте без предупреждения… Пригрозил — пусть ваши муллы, посланные к казахам, башкирам и татарам, не ждут от нас снисхождения и пощады, если станут натравливать эти народы друг на друга, распространять враждебные для русских слухи. Это, дважды сказал он, вызовет осложнения в отношениях между нашими странами… Хан, с одобрения своих советников, не принял требований русского посла, но они все же договорились о мире и ненападении друг на друга.
Ерназару не терпелось задать вопрос: не шла ли речь о каракалпаках? Не обещал ли им посол покровительство и защиту? Но осторожность взяла верх, и он лишь обронил:
— Соглашение о мире — это великое дело.
— Всех удивило еще одно обстоятельство. Его толкуют теперь и так и эдак. Русский знал, что посол из Персии прибыл в Хиву вместе с инглисами. Однако, несмотря на это, он счел необходимым замолвить слово и за иранцев, которые находятся у нас в плену.
«Русский проявляет заботу о далекой Персии, она находится во-о-он где! А мы — соседи, граничим друг с другом!.. Стало быть, он может попросить хана и о нас, каракалпаках: не надо, мол, притеснять этот народ! Если бы я мог встретиться с русским послом и потолковать с ним!..»- пронеслось у Ерназара в голове.
— Я не зря предлагаю вам завтра быть свободным от учений, отдохнуть… — донесся до него голос Мах-муднияза. — Зачем скрывать, мне известно, что ваша мать не раз клала вас в русскую колыбель. Не наведаться ли вам к русскому послу?
Ерназар снова насторожился. Он молчал, будто Махмуднияз ничего такого и не произнес. Тот подождал, подождал, затем решительно добавил:
— Вам надо подкараулить главного визиря и будто случайно столкнуться с ним во дворце. И шепнуть ему: «Главный военачальник нарочно затягивает набег на Бухару, который подготовил Махмуднияз!»
— Это не так легко — встретить во дворце главного визиря! Дворец кишит соглядатаями и стражей!..
— Постарайтесь… Считайте меня вашим другом! Другом вашей страны. Если у вас есть близкие люди в Хиве, не стесняйтесь, я окажу им поддержку и помощь. Помните джигита по имени Абдурахман? Он еще пытался освободить Грушина из зиндана… Абдурахман остался цел и невредим. Передайте ему при случае: если будет мне служить, не пожалеет…
Ерназар вспомнил, как Зарлык говорил его матери: «И среди тюремной стражи, Кумар-аналык, надо завести своих людей! Знакомство с ними может пригодиться…» Так и рвалось у него с уст: «Устройте Абдурахмана стражником в зиндане!»-но он решил еще и еще раз проверить, можио ли доверять Махмудниязу.
* * *
Ерназару так и не пришлось отдохнуть. На учения он не пошел, но в полдень нукер, охранявший казарму, заглянул к нему и сообщил, что его спрашивает какой-то мужчина. Возле дверей Ерназара ожидал, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, Маулен-желтый; он был взволнован, напуган, весь в пыли. Ерназар почуял недоброе.
— Случилось что-нибудь?
— Случилось! Разве сын каракалпака пожалует в Хиву просто так?..
— Говори быстро!
— Срам приключился! Сержанбай задумал жениться на Гулзибе, затеял знатный той, а работник его Руз-мат умыкнул невесту.
— Рузмат? — Ерназар вздрогнул, ревность колючкой впилась ему в сердце.
— Он, чтоб он сгинул! Что дальше?
— Мы их настигли почти у самой Хивы… Они вцепились друг в друга и твердят: «Мы давно уже муж и жена!..» Бай так разъярился, что потащил их прямо к главному визирю, потребовал смерти для обоих. Девушка может избежать смерти, если откажется от Рузмата.
— Но ведь не во власти главного визиря — приговаривать к смерти!
— Он уже успел получить фирман от хана.
— Они живы еще? — замирая, спросил Ерназар.
— Да! Да! Нужно твое содействие. Меня послал к тебе Сержанбай. Он хочет любой ценой спасти девчонку! Из-за нее совсем разума лишился.
— Идем скорее!
Сержанбай сидел, заливаясь горючими слезами, у изголовья Гулзибы. Она лежала на полу рядом с Руз-матом: оба были связаны по рукам и ногам; в ожидании смерти они обратили свои лица на юг. Поставив ногу на голову Рузмата, палач протягивал Сержанбаю кинжал: — На, держи! По ханскому фирману, ты должен сам казнить своего обидчика!
Ревность и обида были забыты, словно вмиг выветрились. Ерназар почувствовал острую боль, щемящую жалость.
— Стойте! — повелительно воскликнул он. — Не трогайте парня!
— Ерназар, не заступайся за Рузмата, пусть умрет! Он оскорбил честь уважаемого человека, посягнул на устои! — заверещал May лен-желтый. — Таких воров и нечестивцев надо изничтожать без пощады! Сержанбай взял у палача кинжал.
— У меня душа горит, Ерназар, кровь кипит от гнева! Я растил, вскормил этого проклятого, этого неблагодарного. Я убью его! Своей рукой!
Гулзибе и Рузмату заложили уши ватой, чтобы они не могли слышать друг друга и переговариваться. Но Гулзиба увидела Ерназара и простонала:
— Вы здесь, Ерназар-ага! Какое счастье! Мы шли к вам!.. Я знаю, уже поздно! Никто нам не сможет уже помочь, никто! Но покажитесь Рузмату! Ему будет легче принять смерть. Умоляю вас, добейтесь, чтобы меня казнили первой! Я не хочу жить, не хочу быть женой бая! Последнее мое желание, последняя просьба — не дайте мне увидеть смерть Рузмата. Он ни в чем не виноват! — зарыдала Гулзиба. — Чистая, добрая душа! Верное сердце!
Ерназар приблизился и встал так, чтобы Рузмат увидел его.
— О-о, Ерназар-ага-а! — Лицо парня было все в кровоподтеках.
Ерназар наклонился над ним, вынул из его ушей вату.
— Теперь мне не страшно, Ерназар-ага! Теперь я спокоен! Счастлив я, что полюбил храбрую, прекрасную, умную девушку! Она чиста и горда, эта дочь каракалпака… Умоляю вас, пусть меня казнят раньше! Вы палван и поймете меня: на ее глазах я приму смерть, как и подобает джигиту! Пособите мне, прошу вас! Прошу как брата!
Ерназар взялся за веревку, которой были связаны жертвы; он хотел освободить им руки, но на него коршуном набросились пять палачей, связали. Один из палачей подтолкнул Маулена-желтого к баю. Маулен потрусил к Сержанбаю на непослушных ногах, стал теребить его за плечо:
— Ну ты, старый бык! Перед тобой твоя жена и кровный враг, что ты медлишь, чего не рассчитываешься с этими изменниками? Пырни, зарежь! Пусть мир содрогнется! Пусть виновные получат свое! Пусть все узнают о том, как справедлив наш хан!
— Мулла, читай отходную молитву! — Сержанбай взял за подбородок Рузмата и приподнял его голову.
Собрав последние силы, Рузмат прошептал:
— Прощай, Гулзиба, прощай, цветок мой!..
Бай наклонился над девушкой с ножом в руке, с которого капала кровь. Он был жалок и стар, — казалось, он совсем состарился.
— Гулзиба, опомнись!.. — всхлипнул он. — С ним я рассчитался… Но ты… ты мне дороже жизни! — Всхлипывания бая перешли в громкие рыдания. — Останься со мной, останься!.. Я все сделаю, все! Ничего не пожалею ради твоего спасения!.. Ты моя жена!..
* * *
Волоча с трудом ноги, будто это ему только что был объявлен смертный приговор, добрался Ерназар до казармы, повалился как мертвый на постель. В мозгу у него билась одна и та же мысль, причиняя почти физическое страдание: «Если бы я был ханом, я даровал бы влюбленным жизнь!.. Гулзиба! Я-то надеялся, что она меня любит!.. А она, оказывается… Но как же так? Ведь я-то считал, что бай отдаст ее замуж за Рузмата, проявит благородство! Боже мой, как же я сразу не сообразил, что это я виноват, я отдал ее своими руками этому старику! Наверно, она так и думает… Но ее любовь к Рузмату… Они же признались, что уже давно муж и жена… Кому же верить в этом мире?.. Прочь из головы все любовные бредни, надо думать о главном, как меня учит мать. Надо думать о власти, о том, чтобы стать во главе народа!» Ерназар не мог толком сообразить, разобраться — спит он или бодрствует, в бреду он или наяву… Опять вспомнил он легенды о Маман-бии и Айдосе, вспоминал рассказы Грушина и других людей о мире, который существовал и бурлил за пределами хивинского ханства, его родных степей. О народах, которые сами распоряжались своей судьбой, были просвещенными и свободными, стремились к передовой науке, знаниям, не были изолированы от других стран и народов. И каракалпакский народ показался Ерназару совсем-совсем крошечным, отсталым, жалким, бредущим где-то далеко позади всех, а потому глотающим чужую пыль. Нужен, нужен каракалпакам просвещенный мудрец! «Нужен и хан, который прислушивался бы к мудрецу и умным советчикам! Предки оставили нам завет — стремиться к единству, объединиться во что бы то ни стало! Но почему же сами-то они этому завету не последовали? Не смогли?.. Не смогли! Не сумели! Даже в этом грязном, подлом дворце, где все поедом друг друга жрут, и то связаны меж собой нитью! Нитью, невидимой для посторонних глаз. Связаны — ив этом их сила. Они оседлали лошадь, имя которой хитрость. Именно хитрость и коварство, а не ум! Но… легко обвинять других, не пора ли оценить по справедливости и себя?.. Я спасаю тут, в этом мерзком логове, свою голову, хожу-красуюсь в ханских нукерах, а страна моя осталась без предводителя! Гибнут молодые джигиты, гибнут без вины, из-за любви…»
Ерназару стало легче дышать. Он чувствовал, что был близок к какому-то решению, которое принесет ему исцеление. Он вынул из нагрудного кармана платочек Гулзибы, долго-долго любовался им, потом порвал на мелкие кусочки и бросил в огонь…
15
Новоявленный каракалпакский ишан обосновался на землях, граничащих с Каракумами; хивинский хан объявил эти земли собственностью ишана.
Первое время ишан охотно принимал многих, очень многих посетителей. Его глаз безошибочно отмечал среди них тех, кого он встречал когда-то, в пору скитальческой своей жизни. Ишан не чурался и руку пожать такому человеку, и поведать в подробностях ему и окружающим — о его жизни, о его бедах и радостях, о его хозяйстве. Находились смельчаки, которые интересовались судьбой самого ишана, кто он да откуда. Он с достоинством отвечал смельчакам:
— Меня зовут Кутлыходжа. Но так как теперь я поселился близ Каракумов, то не буду против, если вы станете звать меня Каракум-ишаном. Отныне я — каракалпак…
Подобно тому как муха выпускает к концу лета на простор сотню мух, так и слава о провидце, прорицателе, мудреце, каких еще не знавала каракалпакская земля, стоустой молвой распространялась по степи… Вскоре каракалпаки поставили своему ишану две юрты. К ним нескончаемой вереницей тянулись обитатели ближних и дальних аулов. Они обрели наконец место, свое место для паломничества. Немало людей изъявили желание стать суфи. Состоятельные каракалпаки начали устраивать по четвергам и пятницам угощения — справлять обряд жертвоприношения прямо возле юрты ишана. Если к ним присоединялся сам ишан и делил с ними трапезу, устроители угощения чувствовали себя так, будто совершили хадж в Мекку. Те же, у кого карман был тощий, стремились оказать ишану посильную услугу: принести вязанку дров, натаскать воды, подмести вокруг — и получить за это благословение святого человека.
Слава ишана начала затмевать славу недавней гордости каракалпаков — Ерназар-палвана.
По мере того как росла его известность, ишан стал реже показываться на людях, стал меньше беседовать с ними. Это вызывало к нему еще большее уважение. Исключением были люди близкие и нужные ишану.
…Сегодня ишан принял Фазыл-бия.
Фазыл шептался с ишаном долго. Когда подоспела пора прощаться, ишан сказал:
— Всякое дерево, Фазылджан, принадлежит земле, на которой растет. Вот так-то! Человек подобен дереву… Я все запомнил! Первым делом пришли ко мне твоего родственника Касыма. Если он такой же, как ты, то есть умный, ловкий, сметливый и умеет держать язык за зубами, я помогу ему! Сделаю его царем одной большой дороги! — осклабился ишан многозначительно.
— Он будет вашим наипреданнейшим рабом! Да и я, признаться, не люблю оставаться в долгу.
Лишь только Фазыл как кошка выскользнул из двери, как уж в юрту проскользнул Сержанбай.
— Ха, кого я вижу! Умница Сержанбай ко мне пожаловал! — принялся подтрунивать над ним ишан. — Ну, как твоя супружеская жизнь? Ты одерживаешь верх? Или молоденькая жена одолевает тебя в изнурительном поединке?
Истратив огромные деньги, Сержанбай вызволил Гулзибу из рук хивинских палачей и сделал своей женой. При одном упоминании о ней он просиял:
— Святой ишан, молодость есть молодость! Ишан загоготал как жеребец, но внезапно резко оборвал смех.
— Станьте оба суфи! Это обуздает вашу плоть, примирит с воздержанием…
Сержанбай. который и пожаловал-то к ишану, чтобы посоветоваться, получить помощь в этом тонком, щекотливом деле, обрадовался. Он поднялся с места, поклонился до земли, опять сел.
— Таксыр, вы отгадали мое желание и мои затруднения… За это я готов носить ваши калоши не в руках, а в зубах. Пусть первым залогом того, что я буду достойным суфи, станет корова, которую я привязал в вашем загоне…
— Пусть аллах воздаст тебе за добро добром… Я же постараюсь умерить плотский аппетит твоей женушки А теперь не мешкая возвращайся домой.
— Почему?
— Э-з-э, как почему? Разве тебе неизвестно, что молодая женщина, пребывая долго без мужа, обязательно возжаждет мужчину…
Сержанбай вскочил на ноги, как молодой джигит. Укутавшись в длинный халат, ишан вышел из юрты вместе с ним. Неподалеку он увидел Саипназара, Ерназара-младшего, Мадреима и Фазыла.
— Хо-о-о! Вам выпало счастье созерцать самого великого ишана! — просюсюкал стоявший на посту суфи.
Ишан спросил у него сурово:
— Почему эти уважаемые люди до сих пор не в моей юрте? Как ты смел их задерживать?
— Наш великий ишан, у нас есть желание получить ваш совет! — кланяясь, произнес Саипназар. Он уже однажды был принят ишаном и удостоился его благословения.
— Заходите, заходите! — приветливо пригласил ишан и, завидя вдали Мамыта, распорядился, чтобы суфи и его провел в юрту для гостей. — Я сейчас закончу неотложные дела, и мы побеседуем.
Долго пришлось посетителям ждать ишана. Когда терпение их уже готово было лопнуть, он вошел к ним со смиренным видом, перебирая четки в руках…
— С чем пожаловали, добрые люди? Все ли у вас благополучно?
— Наш обожаемый ишан! Сколько бы на дню ни являлись мы сюда, чтобы лицезреть вас и приветствовать, все равно для нас это будет недостаточно… Однако и на этот раз мы осмелились явиться к вам вот из-за этого молодого джигита! — Саипназар ткнул пальцем в сторону Ерназара-младшего.
— Простите, если мы не вовремя, наш ишан! — Ерназар-младший склонился покорно и почтительно.
Перебирая четки, ишан хранил строгое молчание.
— Наш обожаемый ишан! — снова вылез вперед Саипназар. — Как, по-вашему, можно расценить поведение Алакоза? Сердцем он жаждет одного, а делает другое. Спит и видит — отдать каракалпаков под русское владычество, а сам служит нукером у хивинского хана…
Опустив голову, ишан пребывал в глубокой задумчивости. Потом чалма его слегка колыхнулась, колыхнулась еще раз, и все увидели, что ишан зашелся от смеха.
— В одном предании сказано: если у человека нет мозгов, то кости его — после смерти — обладают свойством не разрушаться пятьсот лет… И мы, бывает, транжирим попусту мозги, сокращая себе тем самым жизнь, но зато увековечивая свои пустые кости… — произнес ишан загадочно и, подняв голову, по-отечески взглянул на Ерназара-младшего. — На все воля божья! Зачем обрекать себя на тревоги, напрасно изводить себя тяжелыми думами?
— Мой великий ишан, я мечтаю хоть что-нибудь узнать о ханском дворце! Какой он! Правду ли говорят, что он весь из золота?.. Или еще… Слышали мы, будто сейчас в Хиве находится русский посол, который проявляет заботу об иранских пленниках. К чему бы это? — Ерназар-младший задавал вопросы свободно, будто обращался не к ишану вовсе, а просто к человеку, старшему по возрасту.
— Мой великий ишан, я тоже хочу выяснить кое-что, — вставил словечко Мадреим. — Как-то на «ага-бии» Ерназар Алакоз заявил: «Только сильный человек, ни от кого не зависимый, имеет право говорить от имени слабых!» Что бы это значило?..
— Джигиты, вы счастливы, потому что доверчивы и простодушны! Бог на стороне доверчивых и простодушных людей! Вопросы ваши разные только на первый взгляд. Ответ на них можно дать один: если ворона хочет своей гибели, она заигрывает с беркутом… Этот ваш Алакоз-палван, видать, ворон, который заигрывает с беркутом… — Ишан выразительно покосился на Ерназара-младшего.- …Ханский дворец?.. Как же лучше описать его, чтобы вы поняли суть?.. Снаружи он и красив, и страшен! Да, да, и красив, и страшен. Он манит, ослепляет, притягивает к себе своим блеском. Однако люди проницательные понимают: дворец сияет не солнечным блеском, не золотом. На нем — позолота, подделка под золото. Но в этом блеске и сиянии его могучая сила. Она многих обманывает, многих ослепляет. И вашего Алакоза — тоже. — Ишан глубоко вздохнул, паль цы еще проворнее побежали по четкам. — Русский посол, говорите вы, печется о Персии… Вы, жители аула, вспомните-ка: какой пес лает громче других?.. Не умеющий кусаться.
— Мой великий ишан, Алакоз как-то, беседуя с нами, так сказал: «После встречи с Грушиным я будто солнце увидел! Солнце, выходящее из-за туч!»-Ма-мыт-бий потеребил тонкие усики, победно прищурившись.
Саипназар негодующе фыркнул: «И этот туда же!..» Ишан укоризненно покачал головой.
— Мамыт-бий, вы же разумный человек! Неужто вы забыли, что солнце не только выходит из-за туч. но и прячется за тучи, уходит за тучи, уходит за горизонт? И тогда наступает ночь!
— Наш уважаемый ишан, вы не верите обещаниям русских? Считаете их пустой похвальбой? — пристал к ишану Ерназар-младший, — Не имеете ли вы в виду, что для каракалпаков лучше воробей в руках, чем утка в небе?..
Ишан надулся, побагровел, от его радушия и благостности не осталось и следа. Он обиделся и не считал нужным скрывать свою обиду. Однако Ерназар-младший никак не мог угомониться. Упрямое желание выяснить все, что он намеревался, понесло его как норовистого скакуна.
— Наш великий ишан, ходили разговоры, что вы советовали хану отправить посланца в Герат, к ингли-сам. Тот возвратился ни с чем. Еще люди толкуют, что инглисы убоялись русских. Когда я учился в медресе, в Хиве, у нас даже поговаривали потихоньку, тайком, будто наш хан тоже побаивается русского царя…
Сейчас испугались и стали побаиваться за своего напористого товарища его спутники: ишан сделался туча тучей.
— Язык у тебя, парень, острый, но он не заменит меча! — процедил сквозь зубы ишан. — Инглисы — сторонники спокойствия на земле, мирной жизни, поэтому-то они и не стали встревать в войну хана против русских. Не делайте поспешных выводов… Инглисы еще придут в Хорезм, но придут как братья, как старшие братья!.. Русский посол затеял свару из-за иранских пленных, потому что его держава хочет развязать с нами войну! А инглисы в этот спор ввязываться не хотят. Слабые всегда нанизывают на свои языки колючки, чтобы казаться больно сильными да храбрыми…
Все притихли, призадумались, даже Ерназар-младший, кажется, успокоился.
— Уважаемые гости, жива-здорова ли семья Ала-коз-палвана?
— Э-э-э, — пренебрежительно протянул Мамыт-бий, — затычка в каждом уголочке его юрты — его мать… Поди разберись, что у нее на душе — радость ли, горе!
— Расскажу вам одну коротенькую притчу, — голос ишана опять обрел мягкость, бархатистость. — Джигит, похожий на Алакоз-палвана, как-то поинтересовался у своей матери-вдовы, каким-де человеком был его отец? Мать ему в ответ: «Сын мой, год, когда ты родился, был смутным годом, не помню…»
Все расхохотались, а ишан с невинным видом добавил:
— Я наслышан и об Айдосе, и его младших братьях… Правда ли то, что болтают досужие языки?.. Дескать, Алакоз-палван родился от Айдоса, а не от Мыржыка?
Саипназар просиял, широкая улыбка расплылась на его крупном лице; большая, как зерно жареной кукурузы, родинка на левой ноздре ушла в складки кожи. Он заерзал в нетерпении на месте, ожидая, что же скажут его спутники, его аульчане.
— Айдос был очень похож на своих братьев, — первым нашелся Мамыт.
— Не сердитесь, коли что не так: за что купил, как говорится, за то и продаю. Но толкуют, что Айдос поссорился с младшими братьями из-за Кумар, не поделили жеребцы кобылу… Правда ли, что в молодости не было равной ей красавицы?
Тем, кто недолюбливал Ерназара или тайно завидовал ему, сплетня эта была в радость. Однако Мамыт, хотя и не был другом Ерназара, оскорбился за честь рода, к которому они оба принадлежали.
— Наш великий ишан, мало ли всяких сплетен ходит по свету о разных людях… Думаю, на Кумар клевещут. После смерти своего младшего брата Айдос отказался взять сноху в жены: как же я, сказал он, могу заставлять жену забывать мужа?
— Мой великий ишан, Мамыт ведь из рода колдау-лы… Он и не хочет чернить свой род! — не выдержал Саипназар. — А на самом-то деле все так оно и было, как вы изложить изволили.
— А что будет, если на троне в Хиве окажется другой хан? — полюбопытствовал Ерназар-младший.
Ишан ответил без промедления:
— Все люди в этом мире — гости! Случайные гости! А вот в загробном мире мы все постоянные жильцы. Бог создал нас смертными! Наступит смертный час и для нынешнего великого хана. Но вместо него на трон взойдет его сын или кто-либо из ближайших родственников. Тем и велик наш бог, что все предусмотрел! Преемственность великих мира сего — одна из его мудростей. Ханство, верховная власть — незыблемы и вечны!
Ерназар-младший понял: ишан притворяется, что до него не дошел смысл вопроса. Бесполезно вновь к нему обращаться с тем же…
— Правда ли, наш досточтимый ишан, что хивинское войско совершило набег на Бухару? — поинтересовался Фазыл.
— Бухара и Хива — две опоры, два светоча ислама на Востоке. Не вижу большого греха в том, что между ними иногда возникают распри. Это лишь легкая ссора греющихся у одного очага. До меня дошли также сообщения о подвигах Ерназар Алакоза во время этого набега.
— Каких таких подвигах? — с завистью осведомился Саипназар.
— Подвиг на войне один — наступать на врага, не страшась его! Тогда враг отступает и бежит. Алакоз за храбрость получил из рук хана белый нож, удостоверяющий его бийство.
— Ого! Значит, отныне все его потомки будут в почете! — В голосе Фазыла проскользнуло уныние.
— Фазыл, не скачите на коне неучтивости! — неожиданно оборвал его ишан. — Я лично не удивлюсь, если у Алакоза в сердце змеиное гнездо! Но убедиться в этом возможно будет лишь тогда, когда он останется без головы! — Ишан не скрывал свою ненависть к Алакозу.
— А правду рассказывают, что Алакоз освободил мятежного туркмена по имени Аннамурат, выступившего против хана? — обратился к ишану Ерназар-младший.
— Я же сказал: сердце его — скопище змей! — повторил ишан с раздражением. — Однако беседе — свое время, а угощению — свое!..
Ишан не сквалыжничал, не трясся над поступающими от мусульман обильными подношениями. Особую щедрость и уважение высказывал он биям, старейшинам родов: перед каждым ставил — не жалел! — по бараньей голове. Сегодня он не поскупился тоже, приказал зарезать по одной овце на гостя. Каракалпаки были растроганы и польщены.
Когда после обильной трапезы они получили разрешение удалиться, Фазыл слегка замешкался, поотстал от своих спутников.
— Научись держать рот на замке! — сурово отчитал его ишан. — Сейчас зачем-то вылез! Хвалился, я знаю, и раньше хвастался тем, что это я выхлопотал у хана для тебя должность — за убийство Генжемурата! Помалкивай!
— Пусть волчанка, пусть волдыри выскочат у меня на языке, если я этим хвастался. Верьте мне, я плетка в вашей руке!
— Ладно, присылай поскорее Касыма.
16
С тех пор как Сержанбай привез Гулзибу из Хивы, она не осушала глаз. Сержанбай тоже извелся, потерял сон и покой. Его терзали тревога и опасение, как бы Гулзиба не наложила на себя руки, — уж больно она отчаивалась. Бай перестал доверять Улбосын. Он подозревал, что она может помочь Гулзибе бежать опять или — того хуже и страшнее! — убьет ее. Бай сторожил Гулзибу и днем и ночью: он боялся'от лучиться из дому хотя бы ненадолго. Но так не могло продолжаться вечно, хозяйство требовало его рук… Сержанбай долго-долго перебирал в уме, кого же взять ему в работники вместо нечестивца Рузмата. Нужен был человек, слепо преданный ему, такой, который вслед за ним белое назовет черным, а черное — белым!
Бай нашел его совсем рядом. Когда он заикнулся об этом Маулену-желтому, тот обрадовался всей душой: наконец-то его придурковатый брат Рустем будет сам себя кормить-поить! Слезет с его шеи!..
Бай внушил Рустему:
— Основная твоя обязанность — заботиться о Баса-ре! Ни одна живая душа, кроме тебя, не должна близко к нему приближаться. Кормить его будешь ты, только ты, запомни! Если кто-нибудь чужой покажется возле дома — спускай пса с цепи! Если из юрты покажется не то что сама Гулзиба, а кончик ее платья! — отвязывай Басара, понял?
Эти наставления Рустем усвоил крепко: он точно родился для этой работы. Бай соорудил для него и для пса удобный, с виду опрятный шалашик. Когда Рустем заваливался спать, то спускал пса с цепи и тот носился по двору с устрашающим лаем; когда же он бодрствовал, то следил за домом и его обитателями сам. Он приучал Басара лаять при малейшем движении Гулзибы, при легчайшем ее покашливании…
— Молодец, ох молодец ты у меня, Рустем! Настоящий джигит! — похваливал его, не жалея слов, Сер-жанбай.
И все же заедало бая беспокойство. Даже эти предосторожности казались ему недостаточными. Каждую свободную минуту проводил он возле Гулзибы, испытывал при этом и мучение, и отраду. Он пробовал и грозить ей страшными карами, если она вздумает изменить ему, и прельщать обещаниями, нарядами, богатством… Гулзиба молчала, будто немая, и только глядела на бая огромными своими глазами, не видя его, не замечая.
Каждый день рядом со старым мужем казался Гул-зибе днем в зиндане. Изредка к ней допускался Тенел, допускался ненадолго — посидит чуть-чуть и исчезает. Он боялся, что сестра покончит с собой: ее потухшие глаза, вся поникшая, безжизненная фигура заставляла его трепетать от мысли об ужасном конце. Он каждый раз напоминал ей завет Epnasapav.
— Сестра, врага нельзя одолеть своей смертью!
Гулзиба оживала лишь в присутствии Тенела, умного, доброго, любящего брата. Но, увы, он был еще так молод, совсем мальчик, он не мог помочь ей! Не мог дать мудрого совета! Не понимал он еще, что такое любовь!
— Да, видно, судьба моя такая — мучиться! — кусала губы Гулзиба. — Ступай, светик мой, ступай, а то они тебя заругают!
Только не плачь, сестрица! Терпи! Не отчаивайся совсем!
Уходил Тенел, и вместе с ним исчезал свет в душе Гулзибы… Вскоре в ней забрезжил новый свет. Она стала догадываться, что зачала в последнее свое свидание с Ерназаром… там, в заветном овраге. Воспоминания о том, что произошло тогда между ними, заставляли трепетать ее со страстной силой. Сознание, ощущение того, что она теперь не одна, что она носит в себе частичку Ерназара, зернышко, посеянное в минуту их любви, то пугали Гулзибу, то делали ее счастливой и гордой.
Гулзиба стала постепенно отвлекаться, избегать мыслей о смерти. Но тоска ее по Ерназару не убывала, как не убывала и обида на то, что он своими руками отдал ее старому баю! Иногда она думала: «Пусть так! Но он любил меня, а я его, и этого никто у меня не отнимет! И зародившейся от любимого жизни, новой жизни тоже не отнимут!..» Гулзибу мучила неизвестность; ей хотелось знать, что происходит в доме Кумар-аналык, не заболела ли Рабийби, как когда-то предрекала ей гадалка… Однако она была оторвана от всего белого света, никто не открывал отныне дверь байской юрты: Сер-жанбай запретил всем навещать его молодую жену.
Улбосын поначалу науськивала Гулзибу: «Смерть и та лучше, чем такая жизнь, такое прозябание!» Постепенно Улбосын начала проникаться злобой, все большей злобой к Гулзибе. Бай не отходил от нее ни на шаг, холил и лелеял, ничего не позволял делать по дому. «Меня он никогда так не любил, никогда так не берег!»- эти мысли будили в старой, отвергнутой мужем женщине ревность и зависть, которые жгли ее медленным страшным огнем.
Когда Сержанбай заметил, что Гулзиба потихоньку возвращается к жизни, перестала плакать, а в глазах появился блеск, он чуть не потерял рассудок от счастья. На смену тревогам пришла забота, как бы добиться расположения Гулзибы, вызвать в ней хоть искорку чувства. Как уберечь ее от любви к какому-нибудь лихому джигиту… «Что ж, Каракум-ишан дал мне хороший совет! — по десять раз на дню говорил себе бай. — Сделаемся мы с Гулзибой суфи, глядишь — и жар плоти ее поостынет, влечение к мужчине, свойственное молодости, поубавится!..»
17
Миновало полгода с тех пор, как Ерназар взвалил на себя бремя нукерской службы. Он убедился, что служить хану — все равно что ходить по острию ножа. Не будешь постоянно начеку, зазеваешься — тебя, улыбаясь тебе и льстя, прикончат без всякого сожаления.
Ерназар находился в положении более привилегированном, чем остальные нукеры. Его выделял и поощрял Махмуднияз; он отличился в набеге на Бухару, за что был удостоен ханом белого ножа. Однако в своем поведении Ерназар, считали окружавшие его люди, допускал оплошности, которые отдаляли от него и нукеров, и дворцовую верхушку… В Хиве взбунтовались как-то туркмены. Ерназар будто бы случайно упустил их главаря — своего знакомца Аннамурата из Куня-Ургенча. И хотя никто за недостатком улик не мог обвинить его в этом прямо, пятно недоверия вновь легло на Ерназара.
Махмуднияз, правда, по-прежнему освобождал его от учений, давал ему больше воли, чем другим своим подчиненным. И Ерназар пользовался этим, чтобы многое увидеть и многое узнать… Ему удалось подкараулить русского толмача Михайлова и завести с ним беседу.
Михайлов был того же возраста, что и Грушин, может, чуть старше, а вот таких светлых, отливавших чистым золотом волос, как у него, Ерназар не встречал еще ни у одного человека. Ерназар назвал Михайлову свое имя и сразу же сказал, что был у него близкий, как брат, русский друг Грушин. В доказательство он тут же выпалил несколько русских слов, которым обучил его когда-то Грушин. Михайлов сообщил, что посол отбывает из Хивы, потому что его переговоры с ханом уже завершились.
— Я об очень многом и важном хотел вам поведать! — Ерназар боялся, как бы Михайлов не принял его за ханского доносчика, как бы не показал ему спину, поэтому решил выложить ему главное без затяжек. — Я из каракалпаков, есть в Хорезме такой народ, нас мало! Надо так сделать, чтоб русский царь оказал нам свое покровительство. Наше спасение, я думаю, в этом! В присоединении к России.
Михайлов, не скрыв удивления, сосредоточенно почесал в затылке.
— Ну, брат, задал ты мне задачку… По моему разумению, наш царь не стремится покушаться на чужие государства, противопоставлять один народ другому… Зачем, однако, вам, каракалпакам, все это нужно?
— Наши предки из века в век мечтали о том, чтобы найти сильную защиту могучего покровителя — это раз. У вас, у русских, как рассказывал мне Грушин, есть большие ученые, наука развита, вот и мы испили бы свою долю из источника мудрости — это два! — Ерназар ясно видел, что Михайлов осторожничает с ним, опасается, нет ли тут какого-нибудь подвоха… — Да ты не сомневайся, брат, я к тебе с открытой душой, с чистыми намерениями! Если кто и рискует в этом логове лжи и доносов — так это я…
— Если говорить начистоту, то ты зря обратился, Ерназар, ко мне… Да и решить твои вопросы… Даже для моего начальника это нелегко. К нему, я знаю, обращались туркмены с подобной же просьбой. Он пообещал им, как только окажется в России, передать ее царю на рассмотрение.
— Да-а-а, видно, нечего ждать вечером тепла от солнца, которое утром не согрело… — Ерназар приуныл.
— Нет, Ерназар, ты не прав. Чем сидеть сложа руки и ждать, пока солнце согреет, надо самому разжечь костер. Кто сам не может добыть огонь, тот и под солнцем будет всего-навсего добычей для воронов…
— Для нас, по-моему, таким огнем могло бы стать свое, самостоятельное ханство! Да только самим, без помощи, нам этого никогда не добиться. Что мы сами? Горсточка людей — бесправных и нищих.
— Я тебе скажу вот что! Никакая держава, большая ли, маленькая ли, не может обойтись без войска. Например, ты сейчас просто нукер, так? Даже сделайся ты военачальником, все равно ты будешь, как у нас говорят, генералом без армии! Нужно, пойми, нужно прежде всего иметь войско. — Заметив, что Ерназар совсем нос повесил, Михайлов засмеялся: — Да не вешай ты нос, не клони голову к земле, милый брат… Ты благородный джигит, о своем народе страдаешь, значит, надо искать пути-выходы, подходить с расчетом, с умом. Это самое главное — с умом! Наши, братец ты мой, чиновники да господа рисковать не любят. Подержи совет со своими джигитами, составьте прошение от имени би-ев — и прямым ходом в Оренбург. Но прежде всего надо собрать сильный, хорошо обученный отряд нукеров, от ряд из каракалпаков. Поверь, коли наши чиновники узнают об отряде, они скорее тебе помогут, тебе и твоему правому делу. Может, даже к царю тебя направят… — Михайлов дружески похлопал Ерназара по плечу и повторил:- В Оренбург приезжай только тогда, когда за тобой будет сила! Нукеры будут! Уразумел?
— Объясните мне, какая разница существует между русскими и инглисами?
— В каком смысле — разница? — не понял Михайлов.
— Ну, в отношении к слабым, малочисленным народам?
— Мудреные вопросы ты задаешь мне! Не знаю, что тебе и ответить, чтоб не отговорка была, а правда. Я так думаю, что солдат — русский ли, англичанин ли — не станет по своей воле обижать слабого. А вот цари да короли — русский, английский или какой-нибудь иной, как и ханы да эмиры, не больно-то они обременяют себя заботами о народе. Они хорошо относятся лишь к тем, кто ест с одного с ними блюда, а кто и подальше от них… Не очень я верю в доброту царей и тебе не советую… Коли доведется тебе, Ерназар, быть в Оренбурге, тебе или твоим друзьям, найди меня, я о тебе позабочусь! — Михайлов крепко обнял Ерназара на прощание…
Не успело отбыть из Хивы русское посольство, как Ерназара вызвали во дворец к хану. На этот раз хан принял его тотчас же. Едва Ерназар переступил порог его пышной приемной, как хан обратился к нему:
— Ну вот, Алакоз, настало для тебя время послужить мне. Ты добился славы, избежал смерти, удостоился белого ножа!
— Наш великий хан, мои постоянные думы не о том, что я совершил во славу вашу, а о том, что совершу…
— Запомни! Стрелок, который торопливо прицеливается, в мишень не попадает… Почитай за счастье, что я хочу говорить с тобой сам, а не через приближенных моих! Подойди и приложись лбом к ножкам моего трона.
Ерназар выполнил повеление хана, но, когда он возвращался на свое место, успел вставить слово главный визирь:
— Наш великий хан, если даже за вором никто не гонится, он все равно убегает… Такова сила привычки.
— Если отец оставляет сыну в наследство возвышенность, сын обязан на нее взобраться, — спокойно и с достоинством ответил Ерназар.
Хан пропустил мимо ушей словесную перепалку между главным визирем и Ерназаром — она стала привычной.
— Алакоз, твоя мудрая мать еще в молодые свои годы, как мне передавали, сказала: «Если на небе не будет луны, человек собьется с пути, если не будет солнца — душа его потемнеет». Чтобы никто не заблудился, чтобы ничья душа не стала черной, я направил в твою страну светоча знаний — ишана. Он взял себе имя — Каракум-ишан. Теперь настала твоя очередь — я направляю тебя в родные твои степи. Отныне ты бий своего рода. Но с первого же дня, как ты окажешься на месте, я вменяю тебе по всем делам советоваться с Каракум-ишаном! Я желаю слышать из уст ишана похвалы тебе! Только похвалы!..
— Наш великий хан…
— Не перебивай меня! Не возносись чересчур высоко, не злоупотребляй моей благосклонностью!.. Брюхо твое принадлежит тебе, а твои руки, которые держат оружие, отныне и навсегда принадлежат хану и Хиве!
— Наш великий хан… — не унимался Ерназар.
— Язык — враг головы, Алакоз! Ты много рассуждаешь, и потому люди называют тебя волком, а действия, поступки твои — поступками голодной собаки.
— Лисицы живут в большей сытости, чем волки, наш хан.
— Все! Я все сказал, ты все слышал! А теперь прощай!
Около дворцовых ворот Ерназара догнал знакомый стражник:
— Скорее уходи из города, палван! Соглядатаи уже донесли, что ты разговаривал с русским толмачом. Не тяни время, отправляйся скорее, иначе бед не оберешься!
Ерназар не раз видел в мечтах, как торжественно возвращается он в родные края, с каким почетом встречают его земляки. Ему было горько, что мечтам его не суждено осуществиться, что он возвращается в аул почти изгнанником.
18
Земля без людей — сирота; без земли — люди сироты; а вот дом — сирота без мужчины.
Когда-то дом Генжемурата был уютным, просторным. Не стало Генжемурата — и будто поник, будто пригнулся к земле его дом.
Получив страшную весть о гибели мужа, жена Генжемурата увяла. Улыбка, казалось, навсегда исчезла с ее приятного круглого лица. Единственная дочь исхудала, стала как тростиночка. Когда Генжемурат уходил в нукеры, жена ждала второго ребенка. Сын родился без отца, матери не с кем было разделить свою радость. Мальчик рос слабеньким, мать не находила в себе душевных сил ухаживать за ребенком так, как ухаживала бы она за ним в счастье и душевном спокойствии…
Есть ли на свете что-нибудь сильнее смерти?.. Нет! Она всевластна. Она никого не отпускает от себя обратно. Всех заставляет она смириться перед ее ликом, покориться тому, что берет у живых в свой невозвратный полон его близких и дорогих.
Смирилась со вдовьей судьбой и жена Генжемурата, со временем меньше стала чувствовать остроту своей потери.
Однажды вечером кто-то приблизился к ее дому и спрыгнул с коня. Жена Генжемурата испугалась. Взяв под крыло своих цыплят — дочку и сына, она, словно курица, затаилась в укромном уголочке. Всадник, слышала она, отряхнул шапку и направился к входу, похлопывая плеткой по голенищу сапога. Совсем как Генжемурат когда-то.
Женщина вскочила, стремглав кинулась к двери, пыталась закрыть ее створки — ей показалось, что к ней в дом жалует дурной вестник. Кто-то сильным толчком отворил дверь и шагнул в юрту. Женщина остолбенела — перед ней вырос Генжемурат! Живой Генжемурат!
Жена и дочь уставились на него, как на привидение, хотя Генжемурат ничуть на него не походил: он округлился, возмужал, раздался в плечах — красивый, сильный мужчина. Генжемурат понял причину молчаливого потрясения жены и дочки. Он ласково улыбнулся, обнял своих родных по очереди, потом обхватил руками всех разом и прижал к себе.
— Это я, живой и невредимый. Злые люди небось поспешили сообщить вам, что я отправился на тот свет. Нет! Как видите, жив и здоров. Был ранен, меня вылечили русские. — Генжемурат, замирая от счастья, поднял сына высоко над головой, пощекотал его рыжими своими усами. — Как назвали мальца? Толыбаем? Подходящее имя — сразу тебе и «полный» и «богатый»! Об этом только мечтать можно — иметь сына Толыбая! Пусть на нашей земле будет побольше богатых!..
Жена сияла как солнце. Она успела принести вязан ку дров, разжечь огонь в очаге.
— Ой, и конь-то у тебя прежний, он меня признал!.. Ну, пока чай не вскипел да не сбежались соседи, рассказывай: что с тобой приключилось, где был-пропадал, как тебе удалось добраться до дома?
Генжемурат прикусил нижнюю губу, улыбнулся глазами, потом подмигнул девочке. Она громко прыснула, а мальчик, чувствуя, что все радостны и оживлены, вдруг подпрыгнул, как лягушонок, и вцепился ручонками в ее платье.
— Я расскажу вам, моим нетерпеливым, о самом главном. — Генжемурат усадил дочку на одно колено, сына — на другое, поцеловал их и взглянул на жену взглядом, в котором были и тоска, и счастье. — Война есть война, всякое на ней случается… Моей целью было пробиться с джигитами к русским и попросить у них помощи для вызволения Ерназара из зиндана. Во время боя я высмотрел среди русских солдат их военачальника и во весь опор поскакал к нему. Кто-то выстрелил мне в спину; не знаю, на кого думать — на хивинцев, на своих ли. — Генжемурат сделал паузу, печально усмехнулся. — Я свалился с коня прямо на глазах у солдат. Меня подобрали русские и усадили на арбу рядом со своими ранеными. Везли нас аж до самого Оренбурга, там поместили в больницу. О русских лекарях и говорить нечего — чудодеи, и только! Поставили меня на ноги.
— А как же русские тебя потом отпустили?..
— Пока я не поправился совсем, не отпускали. Вот так-то! Я и языку ихнему немного за этот срок научился, потом попросил разрешения вернуться домой, они не препятствовали. Привели моего коня; они, оказывается, и его не забывали, подкармливали. И вот — вернулся целехонек. Около Аральского моря встретил Аскар-бия и муллу Шарипа. Они, по настоянию русских, возвра щались домой из казахских и других земель, где было взялись учить татар, башкир и казахов уму-разуму. Их бы самих кто поучил!.. Остаток пути мы проделали вместе.
— Все как во сне или в сказке! — прошептала жена, раскрасневшаяся от огня или, может, от радости.
— Да, да, ты права! Русские табибы заботились обо мне так, как родители никогда не заботились, выхаживали, словно дитя малое. Наверно, это и есть самое удивительное в этой сказке…
Вскоре весть о возвращении Генжемурата разнеслась по аулу — разнеслась как весть о чуде, о милости божьей.
Счастье снова улыбнулось дому, и он будто опять вырос и похорошел. Глухие тропинки, заросшие травой, через день-два снова стали пыльными, точно живыми, от человеческих ног.
На другой день навестил дом Генжемурата и Ерназар Алакоз.
— Ха, Генжемурат, выкладывай, братец, да побыстрее, новости с того света!.. — Ерназар крепко прижал друга к груди.
— Проходи, проходи, друг мой Ерназар! Тот свет — он такой, как ты мне когда-то его описал. В раю для меня местечка не нашлось, поэтому я и вернулся к вам.
Сыпались шутки, звучал смех. Когда появился Зарлык и несколько ближайших друзей Генжемурата, все затихли в ожидании. Рассказ Генжемурата о его скитаниях и приключениях был краток — ему уже надоело в подробностях повторять свою эпопею, к тому же он был уверен, что друзья все поймут с полуслова. Под конец он обратился к Ерназару с вопросом:
— Правду ли я слышал о тебе? В угоду хану, толкуют люди, ты вступил в его войско нукером?.. Когда сам вернулся?
— Недавно, совсем недавно! — задумчиво протянул Ерназар. — Оказалось, правы были те, кто изрек когда-то: «Камень ногти стачивает тому, кто служит хану». Так-то, друг! — Ерназар неторопливо поведал Генжему-рату о себе, своих злоключениях, о разговоре с Михайловым.
— Апырмай, мы с тобой и взаправду по тому свету покочевали! — Генжемурат поцокал языком, потом добавил: — Русское царство — великое царство! В больнице я столько всего наслушался о России! Весь мир трепещет, когда русский царь гневается. Правильно сделал наш хан, что принял во внимание советы русского посла, а не инглиса! Под небом, под которым мы обитаем, самое сильное государство — Российское. Жаль, что тебе не довелось встретиться с русскими чиновниками из свиты посла.
— По-моему, все зависит от дастархана, которым владеет народ! — вмешался Зарлык. — Что у нас есть такого, что могло бы прельстить русских? Чем, каким таким богатством можем мы склонить их на нашу сторону?
— Я понимаю мысль Зарлыка! — поддержал его Ерназар. — Любому царству нужно богатеть, и русскому — тоже! А что у нас есть?.. Безбрежная, голая степь, голодный, холодный народ, разъединенные и враждующие друг с другом роды и аулы. Амударья — бешеная река… Единственное наше достояние — это рыба в Арале… На службе в ханском дворце я понял: человек нужен человеку, если в том есть какая-нибудь выгода или прибыль. Народ нужен другому народу, если от него можно хоть что-то получить, поживиться за его счет… Если бы у нас была сила, хоть какая-нибудь силенка!.. Это дал мне понять и Михайлов!
— Эх, джигиты! Много я повидал разных земель да народов! Самая убогая, самая грязная и неприглядная земля — наша. Есть земли гористые, есть холмистые, есть — сплошь в лесах и зелени, а наша…
Мужчины так увлеклись разговором, что не сразу заметили в дверях Ерназара-младшего. Генжемурат радушно его приветствовал. От него не укрылось, что юноша возмужал, окреп, что и среди зрелых джигитов он держится непринужденно и свободно.
Хозяин и его гости опять вернулись к судьбе несчастной своей страны, вернулись с болью и чувством безнадежности.
— Наш народ привык кланяться тем, у кого в руках плетка, а за плечами ружье! Привык подчиняться силе! — с горечью заметил Ерназар Алакоз. — Чтобы избежать рабской нашей доли и привычек, нам нужно быть едиными и сильными, а для начала — создать войско, каракалпакское войско, джигиты. Следующее поколение продолжит наше дело! Оно, глядишь, заимеет возможность подумать и о самостоятельном каракалпакском ханстве! Да что думать — создать! Глядишь, и отучились бы каракалпаки гнуть спину и подобост растничать: «Чего прикажете да чего изволите, повелители вы наши?..»
Все глубоко задумались над его словами. Первым подал голос Ерназар-младший:
— Ерназар-ага, хоть вы и старший, все равно я хочу возразить вам.
— Говори, мой младший брат, говори смелее! Если в деле мы будем руководствоваться длиною бороды, на самый большой почет будут притязать козлы…
— Мы видим, в каком положении наша страна! Мы знаем, чем здесь живет, на что уповает и стар и млад. Конечно, люди не все одинаковы и не все стремятся к одному и тому же! Однако нет среди каракалпаков и еще не было таких, кто седлал бы и подковывал коней для других, кто возводил бы юрту для другого. И коней, и дома строят для себя. Так что — хотя мы живем каждый сам по себе, разрозненно, но чужие пятки не лижем… Меня, например, удручает другое, когда я сравниваю нашу степь с другими землями. На ее просторах нет ни одного минарета, ни одного медресе, ни одного дворца, оставленного нам предками, как это водится в других странах. — Ерназар-младший обвел всех внимательным взглядом, который вопрошал: поняли его или нет, согласны с ним или нет? — Уверен в одном: если мы соберем и обучим войско, то и ханство можем сами создать. И вообще, по-моему, нам следует больше задумываться о собственных действиях, о том, как нам нашу жизнь прожить, а не о том, как будут жить наши потомки!.. Тогда люди последуют за нами.
— Парень прав! — охотно поддержал Зарлык Ерназара-младшего.
Генжемурат, изумленный тем, что самый младший среди них высказал мысли, достойные самого старшего, тоже выразил одобрение джигиту. Алакозу претило, что младший Ерназар так пренебрежительно говорит о будущем поколении, что ему наплевать на то, как будут жить люди завтра. Однако он не стал опровергать его, сосредоточивать внимание людей на расхождениях. Если удастся создать каракалпакское войско, то это сослужит добрую службу в будущем, близком будущем, а это главное.
— Ну что ж, давайте приниматься за дело, не растягивая его надолго. Я обучу наших нукеров тому, чему научился в Хиве сам. Генжемурат небось тоже перенял кое-что у русских… Смелее! Всегда страшно начать, но ведь великое начинается с малого.
В торжественной тишине раздался тихий голос Ген-жемурата:
— Я — нукер, Зарлык и младший брат Ерназар — тоже нукеры! Так и начнется войско каракалпаков! Потом к нам присоединятся другие, обязательно присоединятся!
— Ты прав, Генжемурат, это и есть начало! Будем считать, что наше войско родилось! — Ерназар произнес эти слова и сам себе не поверил: то, что казалось сложным и неосуществимым, родилось легко и просто. — Важно собрать, сплотить надежных и закаленных джигитов!.. У нас должна быть своя воинская клятва! Для нукеров — это первое дело! Сначала принесем присягу мы, четверо, потом — другие! Я знаю, что любое воинство начинается с присяги! — внушал Ерназар своим соратникам.
— Вы хотите сказать, что тот, кто обжегся на молоке, должен дуть на воду? — улыбнулся Ерназар-младший.
— Нет, нет! Но везде и всюду нукеры дают клятву! Если кто-нибудь после этого совершит предательство, нарушит присягу, то с него и спрос как с предателя! И наказание беспощадное. Нет ничего хуже для страны, чем предательство!
— Нам еще надо придумать, как мы будем называть своих воинов. Русские называют своих — солдатами, казахи — сарбазами, хивинцы — нукерами! — проявил осведомленность Генжемурат.
— Давайте назовем их «кыран», то есть «каракалпакский сокол»! — вырвалось из уст Алакоза.
Один за другим возникали новые вопросы, которые требовали ответа и решения. Ерназара-младшего разбирали любопытство и нетерпение — а какой должна быть форма, одежда кыранов? Наверно, красивая?..
— Трудно одеть всех в одинаковую, тем более — красивую одежду, форма требует средств! — усомнился Зарлык.
— Я думаю так: тот, кто захочет стать кыраном, поверх своей одежды должен будет надевать черный чекмень, тогда у наших соколов будет что-то вроде формы! — нашел выход Ерназар Алакоз.
— Не будут ли они выглядеть чересчур мрачно? — не согласился Генжемурат. — Не станут ли похожими на душегубов хивинских!
— По-моему, Ерназар-ага здорово придумал! — так и загорелся Ерназар-младший. — Черный цвет выражает тайную печаль, тайную тоску народа, он будто несет в себе горе предков. Но вот на голове хорошо бы носить дегелей или шегирме[9] желтоватого цвета. Мы так долго ждали милости от бога, что аж пожелтели, — вот что будет означать желтая шапка. И еще хочу добавить: чтобы каракалпакские соколы не казались людям жестокими, они должны почаще улыбаться!
— Ну что ж, по-моему, краси-и-и-во все разрисовали! — растроганно отозвался Генжемурат. — Ну, а уж на ноги пусть каждый обует то, чем богат…
— Да, пока другого выхода у нас нет! — Зарлык взял обеими руками хлеб с дастархана. — Джигиты, давайте присягнем на хлебе! Пусть каждый его коснется и скажет: «Если я нарушу то, о чем мы тут договорились, пусть я буду проклят этим хлебом!..»
Алакоз первым принял у Зарлыка хлеб и повторил за ним: «Если я нарушу то, о чем мы тут договорились, пусть я буду проклят этим хлебом!»
— Настоящую воинскую присягу для каракалпакских соколов пусть сочинят наши Ерназары! — улыбнулся Зарлык.
— Джигиты, мы начинаем великое дело! — взволнованно произнес Ерназар. — Без благословения Каракум-ишана ему не суждено жить.
«Святой» ишан не благословит! — Зарлык гневно сверкнул глазами.
Младший Ерназар колебался, не зная, как отнестись к тому, что сказал Алакоз. Генжемурат пригорюнился: уж от кого от кого, а от ишана надо все хранить в секрете!
— Эх, джигиты, джигиты! — удрученно покачал головой Алакоз. — Знаете, чему я научился в Хиве, что я там воочию увидел? С помощью лжи можно обойти весь мир, открыть любые двери! Ханский дворец стоит не на земле, не на ней держится, а на лжи!.. Врага надо бить его же оружием; не беда, если мы прибегнем к лжи.
— Но каким образом? — спросил младший Ерназар.
— Мы внушим Каракум-ишану, что наше войско предназначается для его охраны и спокойствия, для защиты ислама…
— Он не поверит, — возразил Генжемурат.
— Поверит, еще как поверит! Он принял имя Кара-кум-ишана, чтобы подтвердить, доказать свою приверженность нашей земле. Он же на всех дорогах провозглашает, кричит: «Хочу стать каракалпаком!» Мы вчетвером отправимся к нему, поздравим со святым его званием, заведем речь и о войске…
Джигиты были в нерешительности, каждый взвешивал доводы Ерназара.
— Да поймите же вы! Без ишана мы ничего не сделаем, не добьемся ничего! Его одобрение — это одобрение баев, влиятельных людей, их поддержка! Они снабдят конями, оружием и другим снаряжением наших соколов! Сыновей своих охотнее станут отдавать в наше войско! Вот что такое иметь ишана в союзниках! — горячился Ерназар Алакоз.
19
Жизнь Гулзибы превратилась в пытку. С нее глаз не спускали Рустем и Сержанбай. Беременность уже нельзя было скрыть. Улбосын каждый божий день терзала ее, да так, чтобы бай услышал:
— Интересно, кто это ухитрился обрюхатить тебя? А? Рузмат или кто другой?
Гулзиба отмалчивалась. У нее язык не поворачивался возвести напраслину на Рузмата. Старый бай тоже ни словечком, ни намеком не давал понять, что у него есть какие-то сомнения, его ребенка носит Гулзиба или не его. С тех пор как Сержанбай стал суфи, у него мужской силы не прибавлялось, но вот желание иметь ее не убывало, и он мучил, терзал Гулзибу своими нежностями долгую, бесконечно долгую ночь. Наутро старик молодцевато озирался вокруг, подмигивал ей, похвалялся вслух тем, как славно позабавился он, как насладился любовью… Гулзиба со временем привыкла к его похвальбам, они даже забавляли ее. Пусть уж лучше действует языком, только пусть оставит ее в покое! Сержанбай смекнул, что Гулзибу это устраивает, и принял правила игры, которую сам затеял.
Бедная Гулзиба тосковала без Ериазара и все ждала, что он явится, явится наконец и вызволит ее из неволи. Эта надежда поддерживала ее, давала силы жить.
Но однажды эта надежда чуть было не покинула ее. Гулзиба вышла подышать воздухом и стояла, прислонившись к косяку двери. И вдруг увидела Ерназара! Он прошел совсем близко от нее, обдав ее легким ветерком, прошел мимо, отвернувшись! Стремительный и прекрасный, в новехоньком черном чекмене, в высокой желтой меховой шапке. Гулзиба чуть не лишилась сознания — сначала от счастья, а потом от обиды и горя. С той поры она вовсе лишилась покоя. Будто какая-то темная, грозная сила обняла ее, схватила мертвой хваткой и не выпускала, требовала: «Смирись! Погаси свои пламенные мечты о счастье, о светлой жизни с любимым!» Гулзиба больше всего боялась, что Ерназар не признает ребенка своим, откажется от него, будет думать о ней самое дурное, самое оскорбительное… Порой молодость и вера в счастье все-таки брали свое, и тогда Гулзиба утешала себя: «Нет, нет, Ерназар любит меня, а значит, и верит! Он просто не заметил меня или спешил куда-то!»
Каждый день Гулзиба выходила из дома, усаживалась на циновку и ждала, ждала: а вдруг Ерназар появится опять!
Ее терпение было вознаграждено. Однажды в группе всадников, одетых в черные чекмени и желтые высокие шегирме, она высмотрела Ерназара. Не помня себя от радости, Гулзиба замахала ему платком. Ерназар попридержал коня, повернул его к ней.
Ни Сержанбая, ни Улбосын поблизости не было, только маячил рядом Рустем, он, как обычно, возился с Басаром. Ерназар приблизился; пес залился яростным лаем. Под этот лай Ерназар уронил тяжелые, как могильные камни, слова:
— Не смей мне больше показываться на глаза! — С этим и уехал.
Эта встреча была самым страшным мигом в ее жизни. Силы изменили Гулзибе, ноги ее подкосились, и она, бесчувственная, повалилась на землю.
Рустем с любопытством наблюдал за Гулзибой — что же будет дальше? Он даже хлеб перестал жевать. А она все лежала на земле, лежала без движения. Он поспешил к ней, приподнял ее голову, потом поднял Гулзибу на руки и понес в дом.
Гулзиба пришла в сознание не скоро; у изголовья она увидела Рустема и сразу вспомнила, все-все вспомнила! Она вглядывалась в Рустема напряженно, долго, с рождавшейся где-то в глубинах сознания мыслью: «Я должна, должна растоптать проклятую мою любовь! Победить ее, избавиться от нее, иначе… Изменю ему, подлому, а потом признаюсь, прямо так и скажу, что я тоже его разлюбила! А потом, потом… умереть!.. Наложу на себя руки, чтобы не терпеть больше эту муку мученическую!»
Она мягко улыбнулась Рустему.
— Ты носишь имя сказочного батыра Рустема, почему же ты робок и не смел? Тебе полагается быть отважным!
Рустем радостно встрепенулся: к нему ласково обратилась молодая женщина, красивая как луна. Впервые в жизни он услышал такие слова.
— О какой отваге ты говоришь?
— Ты молодой джигит, но никогда не пошутишь, не улыбнешься!
— Что толку в моих шутках? Ведь ты первая убежишь от меня, обманешь!
— Нет, не обману. Не убегу!
— Поклянись! Поклянись богом!
— Пусть проклянет меня бог, если я убегу от тебя… Признайся, ты пробовал когда-нибудь быть, быть… настоящим джигитом?
— Нет!
— Почему не женишься, не обзаводишься семьей?
— Брат не позволяет. А сам я не знаю, как взять девушку в жены, что с ней делать!
— Хочешь, я научу?
— Не шути так зло! Ведь обманешь! Меня всегда все обманывают!
— Я поклялась! — Гулзиба взяла его большие мозолистые руки в свои, слабо сжала. — Только никому ни слова! Не проболтайся!
— Господи, кому? Собаке, что ли, так она все равно не поймет!.. Ох и баловница ты, Гулзиба! — дурашливо осклабился Рустем.
— Следи за баем. Как только он отлучится из дому на день-два, приходи ко мне ночью и ложись со мной… Потом брат женит тебя, у тебя будет жена, и сын у тебя будет тоже.
— Ах, если бы у меня появился сын! Я бы посадил его на плечи и катал! А как же быть с Басаром?
— Отпусти его, пусть себе бегает.
— Хорошо!.. Поскорее бы черти унесли бая подальше от дома! А теперь я пойду, ладно, Гулзиба?
Гулзиба осталась одна. Она лежала зажмурившись и с отчаянием думала о том, до чего довел ее Ерназар, до чего довела ее глупая, слепая любовь к нему! Готова на любой грех, чтобы отомстить за обиду, за оскорбление!
— Этот клятвопреступник Алакоз всегда ниспосылает на нас всякие напасти! — донесся до Гулзибы голос разгневанного бая. — Теперь придумал затею с каракалпакскими соколами! Может, он обладает какими-то колдовскими чарами? Даже враги и те поддерживают его! Вон Каракум-ишан стал на его сторону.
— О чем это ты? — вяло прервала его Улбосын. Гулзиба припала ухом к остову юрты, а руку прижала к груди, пытаясь унять бешено застучавшее сердце.
— У нас нет сына, который мог бы стать Ерназаро-вым соколом! Так мы должны, видите ли, дать средства на снаряжение одного воина!
— Господи, и правда напасть! Что за снаряжение?
— Коня и оружие. Самое маленькое, считай… стоимость десяти коров! А у нас и осталось-то всего сорок голов!
— Все пустил по ветру ты сам! Из-за этой мерзавки Гулзибы! — упрекнула его Улбосын. — Ну, а потом? Как же будет потом — возвратят нам обратно коня и оружие?
— Коли пошел бы на службу родной сын или свой человек, это бы еще ничего, можно и дать! А так ведь — старайся для чужого! Рустем на коне-то не удержится, пентюх этакий! Вот разве Тенел?..
— Интересно будет посмотреть, как ты заикнешься об этом Гулзибе! Она по одному волоску выщиплет твою седую бороду!
— Уфф! И что делать, как быть?
— Уфф! Именно, что «уфф!», — заскрипела Улбосын.
Не успели они начать намечавшуюся ссору, как пожаловал запыхавшийся Маулен-желтый.
— Радуйся, радуйся, дядя! Только что свершилось великое событие! Теперь, ей-богу, твоему племяннику повезло! Попал-таки на седьмое небо!
— С чем это тебе так повезло? Уж не с каракалпакскими ли соколами?
— Ясное дело, с ними! А что?
— Ведь спокойная-то жизнь лучше!
— Ого, как запел! Видно, приятненько молоденькую-то, мягонькую жену баюкать в объятиях, а, старый греховодник?.. — Маулен захихикал. — Событие свершилось такое, что и самому главному визирю доложить не стыдно! Помнишь его условие, когда ты выпрашивал Рузмату смерть, а Гулзибе жизнь? Или забыл? Так я напомню: «Коли затеет Алакоз на каракалпакской земле какое волшебство, сразу же сообщить! Иначе не жить ни вам, ни вашим близким!..» Ты, дядя, поклялся ему на Коране! Сейчас как раз и свершилось такое «новшество»!
— Правда твоя, Маулен! — сплюнул Сержанбай мрачно. — Правда! Появился Ерназар, и в стране снова началась смута. Если в Хиве от нас с тобой узнают об этих «соколах»- тьфу на них! — мы получим большое вознаграждение!
— Надо спешить!
Терпение, племянник, терпение! Подготовимся как следует и завтра утром — в путь-дорогу! Побываю заодно и у хивинского ювелира, закажу для младшей жены золотую безделушку! Она того заслуживает!
— Хитрец ты, дядя! Ох хитрец! Знаешь женщин! Они душу готовы отдать за пустяковину, которая блестит! И не только душу, хи-хи!..
Всю ночь в доме Сержанбая была суматоха; женщины готовили его в дорогу. На рассвете он вместе с Мауленом-желтым взял направление на Хиву.
Когда всадники оставили позади себя аул, они начали обсуждать, какую награду пожалует им главный визирь за примерное служение… Они боялись продешевить, решали, как бы половчее и похитрее ответить главному визирю на вопрос: «Чего желаете за верность?»
— Когда он спросит меня, дядя, я сделаю вид, что мне ничего не нужно! Но ты будь начеку и тут же объяви, что твоему племяннику необходима должность, хорошая должность! Бия или мураба, ладно?
— Да, да, это ты хорошо придумал! Я тоже буду скромничать, отказываться, а ты попроси для меня две тысячи танапов земли! Только — плодородной земли. Чтобы скот мой пасся привольно, жирел…
— Дядя, мы понимаем друг друга с полуслова! Я для тебя выпрошу самую что ни на есть золотую землю! Как я рад, дорогой, что моя мать и ты родственники, близкие родственники! Недаром в народе говорят: хорошо, когда мужчина похож на дядю! Я точно пошел в тебя, вылитый ты! Поэтому-то я и умный такой!
Так и тряслись они на своих конях, громко строя планы своего скорого обогащения.
— Ну-ка, полюбуйтесь-ка, люди добрые, как сорока наигрывает мелодию, а змея поет песню, — услышали они чей-то голос.
Сержанбай и Маулен начали испуганно озираться по сторонам.
На обочине дороги, поджав под спину вязанку дров, отдыхал сирота Векторе.
— Эй ты, сумасшедший, ты что это, сам с собой разговариваешь или болтаешь со злым духом? — сердито прикрикнул на него Маулен.
— Нет, это я вам говорю! — спокойно ответил Бек-торе. — Вам! Доносчикам, которые спешат в Хиву, чтобы на нашей земле опять поднялась смута.
— Посмотрите-ка на него! Ах ты, клеветник! — Маулен повернул коня к Векторе и занес над ним плетку. Векторе поднялся, схватился за топор.
Сержанбай знал этого парня, раньше он частенько наведывался к Рузмату. Векторе был из тех, кто не лез в карман за словом, не спускал обиды никому. Он шепнул племяннику:
— Не связывайся с ним! Поедем своей дорогой! Маулен и топора убоялся в сильных руках Бекторе, и предупреждение дяди принял во внимание.
— Ох, изменились, ох, испортились в нынешние времена люди-людишки! — принялся сетовать Сержанбай, когда они оказались на безопасном расстоянии от Векторе. — Особенно голодранцы всякие, бесштанные сироты обнаглели! Не пойму, отчего у них, чуть что, ноздри раздуваются от злобы!.. Слово им скажешь — тут же тебе в ответ десять! Этот вот ничтожный Векторе живет и кормится тем, что таскает дрова по домам, а поднял топор на тебя, даже не задумался! На тебя, знатного, уважаемого человека! Не приведи бог, если они, такие вот босые и голые, объединятся! Не дай бог, чтобы Алакоз взял их сторону! Тогда наступит конец света, это я тебе говорю!
— Ничего, ничего, дядя! Зачем зря кручиниться? Время и жизнь — они вразумляют и обламывают всякого, даже самого горячего и бесшабашного!.. Смешно, но даже мой братец-придурок и тот, кажется, начинает смекать, что к чему… Давеча, когда мы с тобой готовились уже тронуть коней, он мне вдруг шепнул: «Брат, я хочу жениться!»
Бай усмехнулся насмешливо, но тут же погасил усмешку: вспомнил предостережения Каракум-ишана. «Нельзя надолго оставлять без присмотра молодую женщину, ох нельзя! Всякое ей может на ум взбрести!..» Чем больше удалялся он от дома, тем большим грузом ложились на сердце сомнение, подозрение, ревность. Сержанбай чувствовал себя так, словно не восседает на лошади, а тащит ее на себе. Даже Маулен-желтый, поглощенный своими сладкими грезами о бий-стве, почуял, что с дядей творится что-то неладное.
— Дядя, у тебя ничего, случаем, не болит?
— Ой, болит! Болит кругом! Стар я стал!
— Ничего, скоро будет аул, мы там заночуем, вот ты и отдохнешь!
— Нет, Маулен! — Бай решительно натянул поводья. — Я лучше поверну обратно! Такой длительный путь не по слабым моим силенкам, не выдержу я его! Вернусь-ка я домой и лягу в постель, все и пройдет!
— А как же я? — чуть не лишился дара речи Маулен. Ты отправляйся дальше! Однако помни о нашем уговоре, не забудь и меня! Мне плодородные земли проси! Не поддавайся алчности, бог велел заботиться о ближнем!
— Ясное дело, дядя! Позабочусь, конечно! Не забуду! — вымолвил Маулен, окрыленный тем, что вся слава и вознаграждение достанутся ему одному.
— Передай от меня почтительный привет главному визирю! Объясни, что я заболел в пути, а начали-де его мы вместе! — Сержанбай, не мешкая больше, пустил коня обратно.
Бай нещадно гнал коня, и сытый быстроногий скакун летел по бескрайней степи что резвый заяц. Бай вцепился в его гриву и весь устремился вперед. Туда, туда, к Гулзибе.
…До аула он добрался за полночь. Кругом сонная тишина. Сержанбай осторожно привязал коня, прислушался, огляделся. Басар, растянувшийся возле загона, лениво поднял морду, узнал хозяина и уронил ее на ла пы опять. Бай, как вор, прокрался к юрте Гулзибы. Из юрты раздавался храп, мужской храп! В глазах у Сер-жанбая потемнело. Он нащупал рукой свой топорик — он точил его чуть не каждый день, и потому был топорик всегда острым. Приподнял камышовую дверцу, неслышной тенью скользнул внутрь. Створки двери не были плотно прикрыты. «Ага, приготовились к побегу, поэтому и двери не заперли, побоялись, как бы они не скрипнули в нужный момент, не разбудили старшую жену! Скрипа побоялись, а храпа — нет! Ублюдки!..»
Купол юрты был закрыл кошмой лишь наполовину, и лунный свет свободно проникал сквозь отверстие: казалось, кто-то любопытный и нескромный заглядывает сверху в юрту, где в постели, рядом, раскинулись два молодых тела. Возле Гулзибы лежал Рустем. Голова его свесилась с подушки будто отделилась от туловища. Бай содрогнулся: они так крепко спят, потому что утомлены ласками… Как призрак, приблизился Сержанбай к постели, наклонился, надавил лезвием топора на ненавистную молодую шею. Тело Рустема тяжело и вместе с тем бессильно опало, вдавилось в постель…
Бай был странно, неправдоподобно спокоен, мысль его работала четко и ясно. Нет, он не будет убивать ее сам. Утром он приведет сюда людей, приведет Ерназара Алакоза, заставит ее, блудницу, перед всеми признаться в своем грехе. И какую мученическую смерть назначат ей люди, такой он, Сержанбай, ее и предаст…
Сержанбай оставил топор у изголовья Гулзибы и опять тенью выскользнул из юрты. Он отвел коня в загон и скрылся во тьме, решив дождаться утра подальше от этого богом проклятого дома.
Гулзиба проснулась, будто кто-то толкнул ее страшной, холодной рукой. Рядом с собой она обнаружила Рустема. Когда же он умудрился прилечь возле нее, когда приплелся сюда? Гулзиба вскочила, как испуганный джейран: совсем близко белело жуткое, мертвое лицо Рустема, а возле холодно поблескивало орудие, которым злодеяние было совершено.
Гулзиба не издала ни звука. Вся ее воля, вся выдержка сосредоточилась на одном — как отвести беду. О беде грозно и красноречиво говорил Гулзибе топор Сержанбая, поставленный около ее изголовья. Она по няла: это знак неизбежной казни, расправы с ней, неверной женой.
Из тьмы, из лавины мыслей Гулзибе нужно было выловить одну-единственную, спасительную! Ошибиться нельзя!
Откуда только взялись у Гулзибы силы! Она не почувствовала тяжести убитого, когда тащила его через двор. Ей казалось, что все это не она делает, а кто-то другой, кто снится ей в дурном, страшном сне! Она не заметила, как оказалась в маленькой землянке, где бай держал всякий старый хлам. Как схватила лопату и стала рыть, копать, копать землю, не ощущая напряжения и усталости. Яма получилась глубокая, аккуратная, ровная. Гулзиба столкнула в нее тело и так же равномерно и сильно вновь заработала лопатой… Она разбросала на этой тайной, глухой могиле охапки сена, разную рухлядь… Когда Гулзиба входила в юрту, пес отрывисто и громко залаял. Из маленькой юрты донесся недовольный голос Улбосын:
— Гулзиба! Это ты? Что ты там делаешь? Гулзиба в мгновение ока сгребла окровавленное
белье, вытерла о него топор, спрятала все в темный угол. Она двигалась с ощущением нереальности происходящего, еще не выявленного — для себя самой — потрясения оттого, что это двигается и это все делает она сама. Гулзиба видела себя будто со стороны, чужим, однако очень зорким зрением; вот выпрямилась, вот подала голос:
— Сестра Улбосын, прошу вас, ложитесь со мной, мне что-то не спится, страшный сон приснился!
— Это ты подняла шум на дворе?
— Я. Хотела было перебраться к вам, да собаки испугалась. Идите ко мне, мне страшно!
Улбосын прибрела полусонная, натыкаясь в темноте на одеяла и подушки, повалилась на постель. Гулзиба стерегла ее сон, как охотник добычу. Потом тихонько достала топор и, приподняв голову Улбосын, дважды ударила свою жертву по горлу. Улбосын захрипела, дернулась, испустила дух.
На рассвете Гулзиба услышала далекие голоса и поняла, что это идут по ее душу… Она приладила у своего изголовья топор, прилегла рядом с Улбосын, закуталась в одеяло.
— Поглядите-ка на эту сучку! — в ярости взывал к людям Сержанбай. — Дрыхнет, развалилась со своим полюбовником!
Сержанбай сдернул с постели одеяло и покачнулся, замер, как криво забитый кол. Гулзиба открыла глаза, зевнула и тут же потеряла сознание: то ли от пережитого, то ли от жуткого своего соседства.
Среди людей находился Ерназар Алакоз. Опомнившись, с трудом придя в себя, Ерназар гневно обрушился на старого бая:
Ты что, с ума сошел, несчастный?.. Грейся теперь у пламени, которое сам разжег.
Гулзиба то ли в бреду, то ли наяву простонала:
— Алакоз, я не виновата! Нет за мной никакой вины!
Однако Ерназар уже не слышал ее, он почти бежал к своему дому, спешил унести ноги от этого места. Навсегда с ним распрощаться.
Сержанбай стоял, застыв в безмолвии, как высохшее кривое дерево, к которому люди пришли, чтобы срубить или вырвать с корнем.
20
В хивинском ханстве наступила передышка от войн и междоусобиц. У главного военачальника поубавилось дел и забот, он зачастил к главному визирю — поболтать, обменяться дворцовыми новостями и сплетнями. Главный визирь этому рад-радехонек! Опасный соперник постоянно на глазах, — стало быть, не плетет против него коварные сети, не вступает в сговоры, грозящие ему невесть чем.
Чтобы выказать себя гостеприимным, радушным хозяином и приятным собеседником, главный визирь развлекал гостя забавными историями. Он знал их великое множество, особенно о Насреддине-эфенди; он был неистощим — один анекдот следовал за другим, доставляя удовольствие и слушателю, и рассказчику. Военачальник смеялся до слез, захлебываясь, еле-еле выдавливая из себя между приступами хохота:
— Как вы остроумны, как находчивы! Какая у вас бездонная память!.. Такого искусного, такого веселого рассказчика еще не видывал ни один ханский двор!.. Нет вам равного, досточтимый главный визирь, как в государственной мудрости, так и в замечательном острословии!
Главный визирь и главный военачальник, довольные собою и друг другом, пребывали в прекрасном расположении духа.
Однажды, когда они только-только отсмеялись над очередными похождениями Насреддина, осторожненько открылась дверь и в щелке показалась хитрая, узкоглазая физиономия Маулена-желтого. Он проник в приемную, как проникает шкодливый кот-ворюга, опасливо косясь на хозяина: в каком тот нынче настроении, не прогонит ли, не пнет ногой?.. Главный визирь, польщенный робостью и подобострастием своего осведомителя, поощрительно ему улыбнулся. Маулен расплылся в улыбке, приосанился. Главный военачальник подивился такой его наглости, но потом сообразил, что это, очевидно, один из армии доносчиков и лазутчиков главного визиря.
Главный визирь важно кивнул Маулену, подбородком указал ему место, которое тот мог занять, и продолжал рассказывать свои забавные истории.
— Э-э-э! В жизни бывают такие забавные случаи, что никакой анекдот не сравнится!.. Когда я был мальчишкой, то находился в услужении у прежнего нашего незабвенного хана. Однажды к хану — уж не ведаю, как это ему удалось! — проник мужчина. По виду его можно было принять за сумасшедшего. Глядя хану прямо в глаза, он потребовал, настойчиво потребовал для себя должность, и не какую-нибудь захудалую, а сытную да выгодную! Покойный хан был человек умный и находчивый. Он прищурился эдак и говорит с самым серьезным видом: «Я жалую тебе должность надзирателя над конскими хвостами! Ступай!» Посетитель обрадовался и, гордый и довольный, удалился. Да-а-а… Через неделю-другую приемную хана стали осаждать баи и бии с жалобами: «Мы лишились покоя! Какой-то ненормальный, ссылаясь на хана, утверждает, что он надзиратель за конскими хвостами. Расхаживает с тремя-четырьмя джигитами и отрезает, если не заплатишь ему налог, хвосты у всех лошадей подряд!» Хан повелел доставить пред свои ясные очи этого «надзирателя». Тот явился, да не пустой, а с богатой мошной! Негодник сдал деньги в ханскую казну! «С этой должностью я справился! — поклонился он хану и изрек:-Дайте мне теперь другую!» Хан, пусть земля ему будет пухом, милостиво на него взглянул: «Жалую тебе должность надзирателя за ветром! Ступай!..» Осенью наш надзиратель повадился со своими джигитами на гумна да мельницы. «Чтобы молотить зерно, нужно мое разрешение, я надзиратель за ветром!..» Опять приемная хана не могла вместить всех жалобщиков, повалили — не протолкнешься. Вызвал хан безумца опять, а тот и на этот раз явился во дворец с кучей денег и вновь сдал их в казну. Как, вы думаете, поступил наш хан? «Ты настоящий мужчина, мне нужны такие, как ты! Ты дорожишь должностью, ревностно выполняешь обязанности, умудряешься получать прибыль с конских хвостов и ветра! И тебе, и государству прибыль!»-похвалил хан безумца и велел выделить ему тысячу танапов земли, пожаловал бийство.
— Вах-вах! Ну и ну! — восхитился главный военачальник. — Каким мудрецом показал себя хан, каким хитрецом — сумасшедший! Хотя какой же он сумасшедший! Умный из умных!
— То-то и оно! Если хочешь добиться чего-то в жизни, неси хану, коли он потребовал шапку, вместе с нею и голову — заключил главный визирь и обратился к Маулену:- Ну, а у тебя есть какая-нибудь дол-жностишка, а?
— За меня некому замолвить словечко, а то не было бы человека на свете, который так бы старался на службе, как я! — потупил глаза Маулен. — Я бы превзошел того сумасшедшего, ей-богу. Я бы для хана заставил Амударью повернуть воды вспять. С любой должностью можно справиться, коли очень хотеть да стараться — сил не жалеть! Если желаешь угодить благодетелям да знаешь, чего они ждут да что любят!.. Э-э-эх! Я, к примеру, даже поинтересовался-выведал, какие блюда нашему возлюбленному владыке больше всего по вкусу! Вот вы, великий наш визирь, обожаете морковный сок!.. Так-то! К тому же ни один человек в моем ауле не догадывается, какой я ловкий, осмотрительный и наблюдательный. Считают меня простодушным, доверчивым, даже придурковатым. Я лишь притворяюсь простодушным да угодливым — чтобы добиваться своих целей!.. Трудно мне приходится с Ерназаром Алако-зом — того обмануть нелегко! — Маулен остановил поток слов, заметив, что главный визирь помрачнел, насупился. — Нет, нет, великий наш визирь, не сочтите, что я пришел выпрашивать должность! Мне она совсем не нужна! Она нужна моим родичам, без должности я в их глазах и не человек вовсе! Нет у меня авторитета! — Снова понесло-подхватило Маулена. — Я предпочитаю жить тихо и спокойно, но уж так повелось: имея должность, легче управлять людьми, влиять в интересах нашего премудрого хана!
— Ну и краснобай! — воскликнул главный визирь. — Ну и болтун!.. Ты пожаловал сюда, надеюсь, не для того, чтобы слагать касыды в честь должностей! Давай выкладывай свои новости! — Маулен бросил пугливый взгляд в сторону главного военачальника. Главный визирь повторил повелительно:- Выкладывай!
— Вернулись муллы из казахских, татарских и башкирских земель, — промямлил Маулен.
— Без тебя известно! Порадуй-ка меня свежими новостями!
Маулен почувствовал себя так, словно кто-то влепил ему увесистый подзатыльник. Его круглые глаза забегали в растерянности:
— Великий главный визирь, могу ли я, ничтожный, узнать, кто сообщил вам эти новости? Кто опередил меня?
— Эй, черношапочник, неужто ты считаешь себя единственной опорой ханского трона в твоих пыльных степях? — пренебрежительно ответил главный визирь. — До меня доходят сведения и о тебе тоже! О твоих неблаговидных поступках, позволяющих подозревать тебя в неверности, в продажности! Да и язык у тебя чересчур длинный…
Маулен покрылся холодной испариной: кто же клевещет на него, возводит напраслину?.. Ни одному человеку, кроме дяди, неведомо, что у него есть тайное поручение главного визиря — следить и докладывать…
— Великий главный визирь! Конечно, я приму с покорностью и ваш гнев, и вашу милость! Но я чист перед вами! О наших делах и уговорах я не обмолвился ни с одним живым существом! Пусть я сгину, если вру! — Маулен со страхом и подобострастием ловил взгляд главного визиря. Тот не сдержал улыбку, и Маулен затараторил опять:- Я шел к вам, чтобы доложить о проделках Алакоза, которого наш мудрый хан предусмотрительно выгнал из Хивы. Алакоз находится в сговоре с Генжемуратом! Генжемурат недавно вернулся от русских, из Оренбурга, мы-то все считали его погиб шим, даже поминки по нем справили! Этот самый Ген-жемурат только и знает что нахваливает русских.
— Об этом мне тоже известно. Расскажи поподробнее об Алакозе.
— Он вместе с Аскар-бием собирал у себя дома предводителей родов! Они совещались целый день и ночь! Зарлык-торе и Генжемурат — это правая и левая руки Алакоза!
— Ну, а ты сам?
— Я участвовал тоже; иначе как бы я узнал о том, что они задумали?
— Продолжай!
— Они отправились к Каракум-ишану, получили его согласие на то, чтобы создать самостоятельное войско. Войско «каракалпакских соколов»! Еще об одном порешили: если какой-нибудь бай не захочет отдать своего сына в «соколы», то он обязан будет обеспечить снаряжением одного воина. То есть конем, оружием… И теперь — самое плохое: есть у нас такие, что радуются всей этой затее, уж так радуются!
Главный военачальник в волнении привстал со своего места, опять сел, принялся теребить усы.
— И для каких же целей нужно им это войско?
— По их словам, чтобы защищать страну, защищать ислам и Каракум-ишана. Но я им не верю! Соберут они силы и пойдут войной на Хиву!.. Алакоз не будет сидеть сложа руки!
Главный визирь сидел неподвижно, прямо; он что-то прикидывал.
— А вдруг Алакоз действительно хочет угодить нашему хану, стать его опорой?.. — произнес он задумчиво, тихо. — Скажи-ка, а мать Алакоза… как она себя ведет в этом деле, что говорит?
— Когда совещались в их доме, она речь держала: «Богатею ханство нужно, чтобы держать в повиновении бедных. Бедняку ханство нужно, чтобы оно защищало его от баев. Хану нужно ханство, чтобы укреплять свой трон и повелевать людьми! — А потом спросила у тех, кто явился на этот совет:- Какое ханство намерены вы защищать?»
— Дурное намерение что уголь: если и не прожжет, так испачкает! — мрачно изрек главный военачальник.
Главный визирь скривился, будто от незрелого кизила, а Маулен нахохлился, как воробей, оказавшийся перед клювом ястреба.
Э-э, зачем придираться к словам? Цепляться к ним понапрасну? Эдак жить будет невозможно, а тем более — находиться у руля власти!.. — отрезал главный визирь. — Не обижайтесь на меня, на мою резкость! — слегка смягчил он тон, покосившись на главного военачальника.
— Разве я посмею! Во всей Хорезмской низменности не найдется человека, который обиделся бы на слова такого прозорливого и могущественного человека, как вы. Что касается меня, то для меня хуже нет, когда кто-нибудь выступает против меня с неприязненным словом! Оно для меня куда хуже самого острого копья! — счел все-таки необходимым поддержать свой авторитет главный военачальник.
— Не будь у человека языка, ворон давно бы выклевал ему глаза… Однако не следует пренебрегать одной истиной: беркут на мошкару не охотится.
— Чем колодец глубже, тем больше в нем воды. Вы же самый, самый глубокий кладезь разума и мудрости! Мы нижайше склоняемся перед вами и понимаем, почему вы находитесь у кормила власти, а нам доверена всего лишь сабля…
Маулен-желтый сидел, сжавшись, пытаясь разобраться, что же скрывается за этими высокопарными словами двух могущественных людей ханства… Что они говорят, но не договаривают друг другу? Его ухо лишь уловило слова главного военачальника: «Этому человеку нужно пожаловать должность…»
Главный визирь приказал Маулену выйти и ожидать за дверью.
— Вы только что справедливо заметили, что вам доверена сабля! — Главный визирь не скрывал своего недовольства. — Зачем вам вмешиваться в сферу, которая вас не касается?.. Я пока что в здравом уме и памяти и сам знаю, чего заслуживают мои соглядатаи. У этого человека нюх, как у собаки, а вот преданности — нет! Я должен его испытать, еще и еще раз проверить. Должность главного визиря мне не так просто досталась, не по протекции, а по заслугам… Я еще, слава богу, соображаю, в чью пиалу с шербетом добавлять мед, а в чью — яд…
— О великий главный визирь, я, ничтожный, надеюсь, смиренно надеюсь, что в мою пиалу вы не добавите яда… — поджал тонкие губы главный военачальник.
Главный визирь решил сменить гнев на милость:
— О-о! Ведь мы друзья! Яд у меня припасен для врагов! Их, увы, такое количество у нашего высокочтимого хана, что на всех не хватит!.. — Он нервно передернул плечами, потом крикнул:- Введите черноша-почника!
Маулен протиснулся в полуоткрытую дверь бочком, остановился поодаль от сановников. Потом затрещал как сорока, забыв о придворном этикете:
— А еще Ерназар Алакоз высказал одну крамольную мысль, когда они там обсуждали дела, связанные с каракалпакскими соколами. «Соколы должны быть закаленными, сильными, преданными нам воинами, готовыми ко всему — к стуже, плену, пыткам, зиндану, голоду, — сказал он. — Нас ждут тяжкие испытания и борьба, мы не вложим сабли в ножны, пока не создадим каракалпакское ханство, которое даст свободу нашему народу!»- Маулен глубоко, с облегчением перевел дух, будто сбросил с себя непосильную ношу.
— Маулен, ты хорошо выполнил свой долг! Но впредь помни: надо быть всегда на страже! Кто посеет плохое зерно, тот ничего не соберет! Возвращайся домой! Присоединись к соколам, следи внимательно за тем, чему они обучаются, какие цели у Алакоза. Авось после этого твои посевы и принесут тебе урожай!
Маулен-желтый вышел от главного визиря посрамленный, униженный. Он никак не мог взять в толк, за что же визирь так отчитал его, да еще в присутствии главного военачальника. Почему говорил с ним, как с последним из последних глупцов, последним из последних слуг! Будто он провинился, а не оказал ему важную услугу.
Путь Маулену предстоял долгий, времени было достаточно, чтобы подумать обо всем. «Овцу режут и для свадьбы, и для поминок, ей всегда один конец — что в праздник, что в горе… Не уподобился ли я овце? Да еще по собственной глупости!.. Недаром говорят, что собака бывает бита столько раз в день, сколько раз повстречается с глупцом… Я — собака, главный визирь — глупец! Сколько раз его встречу, столько и буду битым». Конь медленно брел вперед, Маулен чувствовал себя как змея, которую оглушили палкой: головой она двигает, вертит ею в разные стороны, а ничего не видит… «Что я делаю? — стучало у Маулена в висках. — Что я такое творю? Глупец ты, Маулен, глупец, растерявший остатки разума! Сам, своими руками пачкаешь, поганишь котел, из которого ешь. Унижаешь свою страну, свою землю!.. Если умрешь, кто тебя предаст земле по обычаю предков? Кто справит по тебе поминки? Уж, ясное дело, не главный визирь!.. Люди твоей несчастной страны будут с тобой до конца! Твои земляки да сородичи, тот же Ерназар Алакоз, которого ты предаешь!.. — Маулен искренне корил себя. — Без них я пустое место, мелкая, ничтожная тварь! Человек должен держаться своей родины, только ее! Правильно учили наши предки: человека, которого полюбит его страна, полюбит и весь мир! Почему же я не могу стать таким человеком? Что мне мешает?.. Что? А если прямиком отправиться сейчас к Алакозу и покаяться, признаться во зле, которое я причинил ему?.. Ведь народная мудрость гласит: если продашь ковер соседу, то один краешек ковра навсегда останется твоим!.. Сделать добро Ерназару и его сподвижникам куда как лучше, чем служить-прислуживать главному визирю! Мау лен стащил с головы шапку, почесал в затылке. — Эх, знать бы наперед, что ждет человека! Насколько проще бы жилось, насколько меньше бы ошибок делалось!..» Он переправился через Амударью, подвел коня к воде, чтобы напоить.
— Маулен-желтый, здравствуй и прощай, счастливого тебе пути! — послышалось громкое приветствие.
— А-а-а, Мадреим, это ты?! Откуда и куда направляешься?
— Видишь, во-о-он Нукус! Красивое местечко, правда? А дочь здешнего бия еще краше!
— Ну и ловкач, ну и проныра! Небось и сына-наследника у бия нет, так что умрет он — и все его богатства тебе достанутся! Ну, я тоже не лыком шит! Меня в самой Хиве уважают, так что еще увидишь меня высоко-высоко!
— Да пошутил я, Маке, пошутил! Еду дядю навестить в аул! — смущенно признался Мадреим.
— Ты хитрый, но я тоже не простак! Это я, я пошутил! Ну, прощай, нам с тобой не по пути! — Маулен проклинал себя за длинный свой язык, за страсть к хвастовству…
…Маулен спешился около юрты Сержанбая. Кругом пустота, тишь, будто все повымирали. Однако перед входом в юрту поставлены два больших очага: в котлах, видать, недавно готовили пищу, вон еще и золу убрать не успели. «Господи, да не приключилось ли чего худо го с дядей? Уж не скончался ли он, часом, ведь домой-то повернул чуть живой? Но тогда бы родственники голосили, толпились бы здесь!»
Маулен сунулся в сторону загона, оттуда за ним настороженно следил Басар. «Что-то приключилось! Что-то неприятное произошло! Не знаю, как и в дом-то войти — то ли с плачем, то ли молча?» Маулен привязал коня и опасливо шмыгнул в юрту.
Там лежал Сержанбай, бледный, осунувшийся, постаревший. Маулен опустился у его ног. Что с тобой, дядя?
— Маулен, читай поминальную молитву! Умерла моя старшая жена! — Из глаз бая покатились крупные слезы.
В юрте показалась Гулзиба, держа в одной руке дастархан, в другой чайник.
— Пусть душа бедняжки найдет успокоение на том свете! — скороговоркой произнес Маулен. — Сильно она страдала, сильно, что не могла родить тебе наследника!.. Если Гулзиба благополучно разрешится, то ты, дядя, устрой на счастье большой той… Сношенька, вели Рустему бросить моему коню сена!
— Нет Рустема! Он, оказывается, отправился вслед за нами в Хиву! — вздохнул бай.
— Да, судя по всему, братец мой решил набраться ума-разума, на белый свет поглядеть, прежде чем жениться! — пошутил Маулен.
Гулзиба расстелила скатерть, помогла баю приподняться, подложила ему под локоть подушку с ярким узором.
Они молча напились чаю, и Маулен подумал, что сейчас не время заводить с дядей серьезные разговоры — уж очень он немощен. Маулен сослался на усталость и распрощался.
На дороге он нос к носу столкнулся с муллой Шари-пом. Маулен попросил муллу навестить дядю.
— Ладно, а куда сам несешься, людей с ног сшибаешь? Нет чтобы посидеть с больным дядей. Ох, люди, люди, совсем не боитесь божьего осуждения!
— Несусь, очень спешу я к Ерназар Алакозу!
— Ага! Хочешь, как и другие безбожники, плясать под его дуду? Ружьем поиграть захотелось? — вцепился в Маулена мулла Шарип.
— Джигит, который боится взять в руки оружие для защиты своего народа, все равно что продажная жен щина! А шлюха — это пища без соли! Я не из таких людишек!
— Ну ты молодец, Маулен! Как отбрил муллу! — Мадреим возник рядом с Мауленом как из-под земли. — Мудрецы учат: избегай бессовестного! Ты, я вижу, исправился. Поедем вместе! У людей с благими намерениями одна дорога.
21
Осень подходила к концу.
В степи задул пронизывающий до костей ветер. Он носился над Аралом, ломая, корежа хрупкую еще корочку на поверхности его вод, сбивал с ног путников, оказавшихся на степной тропе…
И только всадникам в черных чекменях и желтых шапках ни ветер, ни холод, казалось, нипочем. Они состязались в силе, быстроте и ловкости, с гиканьем гонялись друг за другом, лишь пар валил от их разгоряченных потных лиц и от взмыленных их лошадей.
— Отдых! Обед! — объявил зычно Ерназар. Всадники наперегонки пустились к реке, спешились,
достали, как по команде, из хурджунов лепешки и, обмакивая их в ледяную речную воду, тут же набранную в походную посуду, начали быстро, энергично работать челюстями… Утомленные бешеными скачками, разгоряченные лошади жадно пили воду, войдя в реку, взломав тонкий покров льда.
Сегодня кыраны наслаждались волей, особенно остро ощутимой после десяти дней пребывания в темных и сырых землянках, вырытых у зарослей приморского камыша. В день они получали одну лепешку и одну пиалу холодной воды — так порешил Ерназар, чтобы лучше закалить соколов, будущих защитников каракалпакской земли… Сегодня с утра он вывел шестьдесят своих джигитов, разделенных на десятки, в степь и устроил состязания между ними.
Во время скудного обеда они тоже сидели по группкам, вместе со своими десятниками. Лица у всех исхудалые, бледноватые, но оживленные и улыбающиеся. Ерназар зорко всматривался в воинов и, к своему удовольствию, видел молодой блеск в их глазах, слышал задорные шутки и смех.
— Соколы! Теперь — на солнце, погрейтесь! — отдал он новую команду.
Опять все лавиной тронулись в поисках удобных, освещенных солнцем местечек. Ерназар заметил, что Маулен кого-то. ищет глазами, озирается. «Проныра, хочет сообщить мне еще какую-нибудь новость!.. Да, огорошил он меня недавно! Принес весть, что жена Сержанбая разрешилась сыном! Жена Сержанбая!..»
Ерназара отвлекли шум и хохот, донесшиеся с привала, где расположились джигиты Генжемурата. Он прислушался к разговору, который вели кыраны.
— Какая болезнь лишает человека сна?
— Зависть!
— Верно, очень верно!
— Тоже умники! Скажут же такое — зависть!.. Голод да нищета — вот самые страшные болезни, от них действительно не уснешь! Попробуй-ка на пустой желудок!.. Вот если бы каждый мог клевать то, что нашел да заработал сам, тогда бы все спали сном праведников.
— Чего захотел, куда замахнулся! Тогда бы лишились сна судьи, муллы… и ханы. Они бы с голоду померли!
Все дружно захохотали.
Ерназар улыбнулся в усы и направился к десятке Зарлыка, в которую определил своего сына Хожаназара: хоть и не вышел еще мальчишка годами, пусть привыкает к воинской доле. Здесь тоже стоял шум.
— Что такое жизнь?
— Жизнь — это не прожитые годы, а совершенные тобой дела.
— Дела, жизнь!.. Судьба сильнее их!
— А почему собака называется собакой?
— Потому что она лает на всех подряд — и на того, кто появился поблизости, и на того, кто не появился. Просто не может она не брехать!.. — подал голос Хожа-назар.
Ерназар ходил от одной группы к другой, сам не вступал в разговоры, но слушал, внимательно слушал, стараясь понять, чем живут, о чем думают, как понимают жизнь его соколы. Рядом с ним оказался Маулен-желтый.
Что, Маулен, заскучал? — спросил он первое, что пришло на ум.
— Нет! Вспомнилась мне народная мудрость: «Не бойся зимы, за ней придет весна!» Сейчас мы переживаем зиму, но потом наступит весна, Ерназар!
— Сейчас мы переживаем лето, Маулен. После лета придет осень, потом зима, потом уж весна, — поправил его Ерназар.
— Голому да босому не страшны ни снег, ни дождь. Стали соколами — ко всему привыкнем!
— Да, привыкать придется! — подтвердил Ерназар и стремительно зашагал дальше.
Мысли его, помыслы вновь сосредоточились на том, что занимало его последнее время неотступно: «Когда, когда отправиться к русским? Какой момент выбрать? И достаточно ли у нас теперь воинов? Что скажут, как посмотрят на нас русские чиновники? Захотят ли выслушать и понять? Цель нашего присоединения к России, кажется, теперь ясна, ясна и Генжемурату, и Зар-лыку, и младшему Ерназару. Как быть с остальными десятниками?»
Алакоз тихонько подозвал Ерназара-младшего.
— Собери-ка всех десятников вон к тому туранги-лю! — распорядился он.
Когда все собрались, Ерназар решительно приступил к делу.
— Десятники, я хотел бы с вами посоветоваться. Судя по всему, сейчас к нам больше никто не присоединится. Думаю, пора нам оставить место, где мы эти дни проходили воинскую выучку, переместиться… Туда, где условия еще суровее, где погода стоит прохладнее. Минуем казахские степи, приблизимся к русским владениям! Авось там нам удастся встретиться с русскими начальниками и вернуться в страну нашу намного сильнее…
— Если мы доберемся до Оренбурга, я покажу вам русских лекарей, которые спасли меня от верной смерти! — вскричал Генжемурат.
— Джигиты, Ерназар-ага предлагает дело! — откликнулся вслед за ним младший Ерназар, потом нахохлился как сова. — Однако мне хотелось бы, Ерназар-ага, предостеречь всех: военная тайна — это тайна тайн; от того, сохраним мы ее или выболтаем, зависит судьба народа. Поэтому пусть каждый из вас даст клятву молчания.,
— Дадим! — дружно согласились все.
— Коли так, то сегодня же распустим наших соколов по домам, — сказал Алакоз, — пусть каждый готовится в поход, запасет продукты на месяц. Объявите своим молодцам, что мы перемещаемся на новые места, чтобы продолжить занятия.
— Надо, как и в прошлый раз, получить благословение Каракум-ишана, — заметил Ерназар-младший.
— Верно! Только надо сделать это хитро, чтобы он ничего не заподозрил! — поддержал Генжемурат.
— Сделаем так, как он нас сам учил, — кивнул Алакоз.
22
Фазыл сильно переменился с той поры, как получил в Хиве бийство за доблесть, проявленную в походе против русских. Он стал молчаливее, сдержаннее, не вступал в споры и обсуждения, сторонился остальных биев. Однако обвинить его в том, что он забыл о народе и его интересах, тоже нельзя — послал же он в каракалпакское войско молодцеватого джигита из своего рода.
Как и прежде, Фазыл раньше других собирал ханский налог, первым отвозил его в Хиву. Не отставать от него в этом старался разве только Саипназар.
Как-то они возвращались вместе из Хивы. Саипназар болтал без умолку, перескакивая, по своему обыкновению, с одного на другое. Добрался и до Алакоза, принялся клеймить его, охаивать. Фазыл рассердился и буркнул:
— Да ты, похоже, перестал быть мужчиной.
— Почему это? — вскинулся Саипназар.
— Пустомеля ты, пена наносная! Простить не можешь, что Алакоз велел на «ага-бии» слегка тебя поколотить! А над тем не задумываешься, что Ерназар Алакоз страшен нам не этим! Его за другое следует ненавидеть. Ведь он ведет народ и нас вместе с ним к погибели…
— То есть как это? — растерялся Саипназар.
— А ты сам пошевели мозгами, может, и дойдет до тебя! — поморщился, как от зубной боли, Фазыл.
Это заявление Фазыла, человека, не любящего бросать слов на ветер, заставило Саипназара задуматься и, кажется, что-то понять. И хотя оба они не пускались больше в объяснения и откровенности, но стали держаться ближе друг к другу, стали чаще вместе ездить в Хиву.
Сегодня они собирались в путь, чтобы отвезти налог за осенний урожай. Они уже тронули было коней, как показались и пронеслись мимо них разгоряченные быстрой ездой соколы.
— Ну и ну! Кожа да кости остались! Из-за бессердечного этого Алакоза! — проскрипел Саипназар. — Чего скалишься, чему радуешься?! — вдруг сорвался он на крик, завидя отставшего всадника.
— Нас ждет семидневный отдых, страдалец ты наш! — насмешливо откликнулся всадник.
— А потом, после отдыха? — равнодушно осведомился Фазыл.
— Потом уйдем далеко-далеко на учения, примерно на месяц! — бодро сообщил молодцеватый складный парень.
— У какого десятника служишь? — поинтересовался Фазыл.
— Десятник у нас самый лучший — Генжемурат! — гордо отозвался парень и поскакал догонять товарищей.
Фазыл вздрогнул, гневно стиснул кулаки: «Эх, проклятье! Жаль, дрогнула тогда у меня рука! Попасть-то я попал ему в спину, да не уложил наповал!»
— Что это ты помрачнел, брат? А, Фазыл? — полюбопытствовал Саипназар, сверля его глазами.
— Я всегда мрачнею, когда эти ликуют! Куда они направляются? Зачем? Что-то здесь не чисто! Завернем-ка к Каракум-ишану, — разволновался Фазыл.
Они увидели Каракум-ишана возле юрты с тремя незнакомыми всадниками. Судя по всему, они спорили. Фазыл и Саипназар сочли неудобным приближаться к ишану верхом и спешились.
— Вот те, кто нам сейчас нужен! — обрадовался ишан и знаком поторопил их приблизиться.
Всадники, что находились рядом с ишаном, были одеты как казахские воины, но в одном из них Саипназар, к великому своему удивлению, признал Касыма, того самого, которому по приказу Алакоза за воровство отрезали ухо.
— А ну-ка полюбуйтесь на поживу этих доблестных воинов! — призвал Фазыла и Саипназара ишан и протянул руку в направлении загона.
Там лежали связанные по рукам и ногам двое русских.
— Вах, отволочь бы этих русских Алакозу и его соколам, — прошамкал суфи в чалме, напоминающей стог сена. — Пусть бы вместо чучел из камыша метали копья в этих безбожных гяуров.
— Как вы с ними поступите, как распорядитесь их головами — нас не касается! Нам нужны деньги! Выкуп за них! — хрипло рявкнул всадник на вороном коне. — Ясное дело, пришлось намять им бока, проклятущим! Уж больно непокорные, дьяволы! И сильные! Из них отличные рабы получатся!
— Мой ишан, дозвольте — я поторгуюсь? — вежливо осведомился Фазыл.
— Ох, не наступим ли мы змее на хвост с этими русскими? — усомнился Саипназар.
Каракум-ишан и Фазыл гневно уставились на него.
— Ты, я вижу, еще не до всего дорос, Саипназар! Не сообразил, что я хочу во всем — во всем! — идти Алако-зу наперекор! Хочу повести наш народ за собой по пути, противоположному тому, что избрал Алакоз! — внушительно произнес Фазыл. — Мне ли бояться чего-то?
— Прости меня, нечаянно сорвалось с языка! — смешался Саипназар.
— Бии, послушайте меня! — потребовал внимания ишан. — В волчьей норе всегда есть кости. Помню, когда я впервые встретил этого волка Алакоза в Хиве, он заявил, что каракалпакам, мол, хорошо иметь десять тысяч сильных рабов. Будь он сейчас здесь, он отвалил бы за этих двух большой куш!
— Сколько просишь за этих? — Фазыл метнул взгляд на воина, возвышающегося на вороном коне.
— В Хиве мы наверняка выручили бы за каждую голову по коню, седлу и попоне.
Ишан сделал Фазылу знак: «Бери, не торгуйся!»
— Пошевеливайтесь, бии! — прохрипел всадник. — А не по карману вам, так не задерживайте нас! Мы продолжим наш путь!
Фазыл стал развязывать хурджун, чтобы достать деньги, и мимоходом полюбопытствовал:
— Кто ты будешь, мой друг по сделке?
— В торговых сделках друзей не бывает, — отрезал казах. — Мы воины Кенесары. Если говорить правду, то нас можно считать и друзьями вашими, и врагами. Судьба у нас одна, мы близкие соседи, даже посевы наши и джайляу перемежаются. Среди нас живет много каракалпаков, а среди вас — казахов. Так повелось издавна. Я, например, к вам вражды не питаю, только вот русских не люблю, а вы, ходят слухи, питаете к ним почтение. Уж очень крепко притесняют нас русские чиновники!.. — Всадник почесал плеткой за ухом и доба вил, заметив, как внимательно его слушают:-До того дошло, что Арынгазы — хана Малого жуза — вызвали русские в Оренбург, и оттуда он не вернулся! Даже с ханом расправились, а уж что там вести речь о простом люде! Хан Среднего жуза хотел отделиться от русских, да куда уж!.. Правда, дело его продолжает Кенесары, у него много сторонников… А вообще-то Букей-ское ханство дало большую трещину! Лет семь-восемь назад группа черных казахов состряпала письмо оренбургскому губернатору с жалобой на собственных султанов. Помогите нам, возьмите под свою опеку! Вот и доопекались, теперь и пикнуть не могут против неверных, голоса поднять не смеют! — разглагольствовал казах, все больше входя в раж…
Никто из тех, кто так жадно слушал сейчас казаха, не догадывался, что всадников к Каракум-ишану привел Касым; он же и научил этим речам своего сотоварища по разбою. Одноухий Касым находился в стане Кенесары по заданию Каракум-ишана, чтобы доносить ему обо всем, что там происходит.
Фазыл и Саипназар отсчитали деньги и вручили их казахам. Обе стороны так увлеклись подсчетами, что не сразу поняли, кто издал грозный крик: «Что здесь происходит?» У загона переступал с ноги на ногу конь Ерназара, а сам он впился взглядом в пленников, в одном из которых признал Михайлова.
Что здесь происходит? — Ерназар повернулся к ишаиу и зловещим шепотом повторил:- Что?
— Дали хорошенько неверным — и вся недолга! Уж очень норовистые, дьяволы, брыкучие! — визгливо расхохотался болтливый казах. — Да ты не сомневайся! Они не скоро очухаются!
— А ну слезайте с коней! — завопил Алакоз. — Хватай предводителя, — приказал он Ерназару-младшему.
Казах ловко увернулся и стал наскакивать на Алакоза. Тот попытался поймать его, но казах ускользнул от Ерназара и даже успел оставить на его голове отметину саблей.
— Не упускай их! — крикнул Алакоз Ерназару-младшему.
— Не упускай!
Алакозу удалось повалить своего противника на землю, но тот, падая, ухитрился запустить саблей в одного из русских. Ерназар-младший схватил мертвой хваткой второго казаха; Касым пришпорил коня и был таков. Противник у Алакоза был сильный, тренированный, схватка между ними шла тяжелая, упорная — то Алакоз подминал казаха под себя, то казах его. Кровь и пот застлали Алакозу глаза; это совсем разъярило его, и он рывком бросил казаха навзничь, сжал руками его горло. Каракум-ишан схватил Алакоза сзади за плечи:
— Брось, оставь его, свет мой! Если он умрет от твоей руки, это вызовет вражду между казахами и каракалпаками!
Алакоз опомнился, поднялся с земли, но вскоре увидел, что сабля казаха рассекла голову русского. Словно беркут бросился он на поверженного врага и отпустил его, лишь когда тот испустил дух.
Каракум-ишан с удрученным видом протянул:
— Что ты натворил, Ерназар! Теперь вспыхнет вражда с обеих сторон! Месть! Подымется смута!
Алакоз пропустил его сетования мимо ушей: он ринулся ко второму казаху, которого держал в железных своих объятиях Ерназар-младший.
— Если ты хочешь рассчитаться и с этим воином Кенесары — убей русского тоже! Тогда я прикажу всем быть слепыми и немыми!.. — понизил голос Каракум-ишан.
— Где третий негодяй? Куда он делся? — лабычился Алакоз, руки и голос которого дрожали от возбуждения.
— Он сбежал, как заяц, как последний трус! — сообщил Ерназар-младший.
— Ой-ей-ей! Пропали наши денежки! Он унес их с собой! — взвизгнул Фазыл.
— Ну и разини! Ищите теперь ветра в поле! — Гневу ишана, кажется, не было предела. — Догоняйте!
Фазыл и Саипназар вскочили на лошадей и помчались по дороге, на которой скрылся Касым. Казах мешком плюхнулся в ноги ишану, начал причитать, вымаливая себе пощаду.
— Давай простим его! — обратился ишан к Алакозу. — Мусульманская душа как-никак! А того неверного мы обязаны убить, нельзя оставлять живого свидетеля. Иначе русские дознаются, отомстят за своих! Нападут, всех нас отправят к праотцам — и правых, и виноватых…
Алакоза распирала ненависть, он никак не мог унять ее. Ишан, рассердившись, произнес с обидой:
— Оказывается, у человека, обладающего бычьей силой, мозги тоже как у быка! Да, да! Я забочусь о спокойствии и благоденствии страны, а ты…
— Мы по-разному заботимся! Всяк на свой лад! — строго, с вызовом поправил его Алакоз. — Я заберу с собой этого русского, решу, как с ним быть! Ерназар, братец, этого казаха я поручаю тебе, поступай с ним по своему усмотрению.
Ерназар-младший схватил за шиворот жалкого, поскуливающего казаха и потащил его прочь от людей.
Каракум-ишан, взбешенный неповиновением и своеволием Ерназара, молча сглотнул слюну. Сегодня, понимал он, ему нанесен урон в глазах тех, кто наблюдал разыгравшийся здесь скандал. Его ослушались, его волей пренебрегли…
— Не оставляйте у меня ни мертвых, ни живых! Забирайте всех! Здесь чистая обитель ислама! Не оскверняйте ее! — произнес он.
* * *
Касым несся вперед, сбавляя постепенно скорость. Фазыл и Саипназар — все ближе, ближе, и вот наконец все трое оказались рядом. Нож Касыма в мгновение ока оказался у горла Саипназара, Фазыл же заломил ему сзади руку.
— Стой, уймись, не дергайся, дурак! Отвечай нам, видел ты Касыма или не видел? — вскричал Фазыл.
— Нет, нет! Конечно, нет! — У Саипназара душа ушла в пятки.
— Ты еще не запамятовал, как плетка гуляла по твоей спине, плетка Алакоза? — рявкнул Касым.
— Нет, нет, конечно, нет! — откликнулся Саипназар.
Касым схватил Саипназара за бороду и притянул к себе:
— Слушай внимательно! Прямым ходом последуешь в Хиву. Там распустишь слух, что Ерназар ни за что ни про что убил невинных людей — одного русского и двух казахов. Еще скажешь, что он собирается со своими погаными соколами бежать к русским!
— Сделаю, все сделаю! — согласился Саипназар поспешно. — Но… поверят ли мне?
— Поверят, поверят, не бойся! Сошлешься на меня, так всему поверят, даже небылицам! Если подведешь, этот нож достанет тебя всюду! Теперь отвечай: видел белого верблюда?
— Нет, нет!
— Отправляйся!
— А налог? Я же должен отвезти деньги в ханскую казну!
— Болван! Вот болван! Их же у тебя отнял силой Алакоз!
23
Ерназар взвалил бесчувственного, истекающего кровью Михайлова на коня, направился к своему дому,
Кумар-аналык заохала, захлопотала вокруг сына и его друга. Она расстелила обоим постели, промыла и перевязала раны. Когда они уснули, успокоившаяся Кумар-аналык поплевала себе за ворот — от сглаза — и вздохнула с облегчением: «Слава богу, рана у Ерназара могла оказаться куда опаснее! Сабля лишь скользнула по голове, не задев кость! Видно, долго будет жить мой сыночек! Долгая суждена ему жизнь!»
Первым проснулся Михайлов. Увидев сидящую рядом с ним старую седую женщину, он улыбнулся светлой и радостной улыбкой. Кумар-аналык восприняла ее как доброе приветствие ей.
— Сын мой, как тебе спалось?
— Спасибо, мать, хорошо! Ты из татар?
— Нет, я русский.
Будто ей сделали от души щедрый подарок — так приятно было Кумар-аналык: она оказала в своем доме помощь русскому. Она ласково спросила, не желает ли чего ее дорогой гость. Михайлов попросил напиться.
Кумар-аналык вместо воды поднесла теплое молоко: оно полезное и придает раненым силы, объяснила она. Михайлов приободрился, кровь начала приливать п®~ немногу к его бледным щекам.
— Мать, не знаешь ли ты, далеко отсюда дом человека по имени Ерназар?
— Какой Ерназар? — опешила она.
— Я познакомился с ним в Хиве, он служил там нукером, он из каракалпаков.
— Господи, сынок! Вот чудеса! Да ты же в его доме! Вот он, рядом с тобой лежит! — взволнованно сообщила гостю Кумар-аналык.
Пораженный Михайлов с трудом приподнялся на локте, взглянул на Ерназара, на его перевязанную голову.
— Что с ним такое?
— Он тебе сам обо всем поведает, когда проснется… Ерназар и Михайлов радовались, как дети, хлопали
друг друга по ладоням, жали руки, смеялись.
— Что у тебя с головой, Ерназар? Ты ранен?
— Э-э-э, у нас первым должен говорить гость! — засмущался Ерназар.
Михайлов не заставил долго упрашивать себя. Он поудобнее расположился на мягкой постели и начал свой рассказ.
— Вообще-то, если быть откровенным, много всего пришлось мне испытать и изведать после нашей с тобой встречи в Хиве. Скажу сразу: просьбу твою я не забыл, поделился с одним толковым чиновником, когда добрался до Оренбурга. Не просто толковым, но и влиятельным. И знаешь, Ерназар, он с полуслова схватил суть. Подумал-подумал и ответил: «Каракалпакам надо оказать помощь». Да-а-а… Приспело время, и он отправил меня к вам, да не одного, а вместе с учителем! Тот когда-то был подготовлен специально, чтобы обучать казахских ребятишек. Чиновник тот дал нам поручение — отобрать среди вашей детворы самых смышленых и привезти их на учебу в Оренбург… В Каракумах, на беду, на нас напали всадники. Мой спутник и я пробовали с ними объясниться мирно, да они не захотели мирной беседы. Избили нас, заложили уши ватой, глаза завязали тряпками и погнали через пески, понукая камчами и бранью. Как скот какой-нибудь!.. Что было дальше — не помню, видно, потерял я сознание. Очнулся уже у тебя в доме. Все произошло прямо как в сказке, как по мановению волшебной палочки.
— Да, бог, видно, в большом гневе на мой народ! Нам никогда не сопутствует попутный ветер! — В голосе Ерназара была искренняя и глубокая горечь.
У Михайлова невольно вырвалось:
— Почему, Ерназар?
— Умер твой спутник! — И Ерназар коротко пересказал Михайлову, что приключилось около обители Каракум-ишана.
Ерназар и Михайлов погрузились в раздумье, удрученные, опечаленные. А Кумар-аналык, не теряя времени даром, сварила наваристый бульон из двух кур, Рабийби принесла его в расписной деревянной миске. Ерназар разлил бульон по вместительным чашам и протянул одну из них гостю. Рабийби между тем уже ставила перед ними блюдо с бешбармаком и отварную курятину. Их хмурые, угрюмые лица расстроили Рабийби; она приветливо напомнила мужчинам, что живой человек не должен скромничать за столом. Мужчины принялись за еду.
— Эх, Михайлов, Михайлов! Человеку почему-то всегда кажется, что все, кроме него, счастливые да удачливые. А с кем ни поговоришь по душам, видишь — на свете нет счастливых людей. — Ерназар потупился, потом обратился с просьбой к гостю:- Расскажи мне о себе, очень хочется мне узнать, как ты раньше жил, что привело тебя в наши края.
— Ну что ж, расскажу, коли интересно. Ты небось потому интересуешься моей судьбой, что считаешь: близкие люди быстро поймут друг друга. Да, да, ты для меня близкий человек, я о тебе много слышал доброго, ты спас меня, так что… — Михайлов взъерошил свои волосы, откашлялся. — В десять лет я остался сиротой. Отец мой, говорили мне люди, был одаренным художником. Когда я подрос, то решил пойти по его стопам… Бродил по родному Архангельску, по его окрестностям и много рисовал. Моя мазня нравилась людям, ее покупали, я начал зарабатывать себе на жизнь. Однажды я расположился на берегу и рисовал корабли, стоявшие в порту на причале; чувствую, чья-то рука опустилась мне на плечо. Оборачиваюсь — офицер. Ему приглянулась моя работа, мы разговорились, познакомились поближе, и он между делом предложил перебраться в Петербург. В столице я стал чертежником-рисовальщиком в штабе. В Петербурге меня ждали не только радости, но и разочарования. Там я убедился, что мой благодетель офицер очень жесток с солдатами, груб с подчиненными. Однажды я сделал на него карикатуру… понимаешь, сделал на него злой-презлой рисунок. Он разгневался и как бунтовщика изгнал меня из штаба… да в Оренбург. Здесь я тоже не бросил своего занятия, и, может, поэтому ко мне были внимательны, даже великодушны высшие чины и сам генерал-губернатор тоже. По его распоряжению один татарин стал обучать меня татарскому языку. У меня оказались способности к языкам, и вскоре я мог свободно переводить генерал-губернатору и его эмиссарам во время экспедиционных поездок по городам Средней Азии. Одновременно с переводом я стал выполнять обязанности картографа, то есть наносить на бумагу населенные пункты, реки, дороги, которые нам попадались. Эта работа очень мне нравилась, к тому же я знал: она поможет тем, кто будет исследовать, изучать ваши края.
— Захватывающая у тебя, однако, жизнь! Много путешествовал, много повидал! Спасибо тебе, друг, за совет, который ты дал мне в Хиве. Я собрал шестьдесят джигитов, мы готовимся отправиться в Оренбург.
— Замечательно, Ерназар! Вместе и отправимся. Но пока вы будете снаряжаться для похода, мне надо бы съездить в Куня-Ургенч. Есть там один туркменский джигит — Аннамурат, мне надо повидаться с ним.
— Поезжай, ясное дело, ты успеешь обернуться! Я приготовлю для тебя самого лучшего коня.
На том они и расстались.
Среди ночи Ерназар проснулся от холода. Через открытый верх в юрту падал снег; огонь в очаге погас, стояла пронизывающая стужа. Ерназар набросил на жену и детей еще пару одеял. С большим трудом удалось ему отворить дверь, которую совсем занесло снегом. Он выглянул наружу. И тут Ерназар услышал покашливание, робкое, но настойчиво повторившееся. Ерназар прямо на босу ногу надел калоши, закутался в бешмет. Густо, сплошной стеной валил снег, в двух шагах невозможно было ничего разглядеть — ничего, кроме серой снежной пелены. Послышался скрип: кто-то явно старался привлечь к себе его внимание.
— Кто здесь? — прошептал Ерназар.
— Это я, Тенел!
— Почему ты здесь в этакую поздноту и непогоду? Что стряслось?
— Я хочу стать вашим аткосшы!
— Моим стремянным? Утра тебе мало, что ли? Вон какой снег валит, ночь на дворе!
— Аткосшы должен быть закаленным, не бояться ни стужи, ни голода! К тому же, Ерназар-ага, до меня дошли разговоры, — Тенел замялся, понизил голос, — что есть недовольные тем, что вы приютили у себя русского. Как бы кто не явился сюда со злыми намерениями! Мы опасаемся!
— Кто это «мы»?
— Сестра и я…
Тенел не успел договорить, их окружили всадники, нацелили на них ружья. Пораженный Ерназар не знал, наяву все это происходит или во сне. Сзади накинули аркан, дернули за него; он не удержался на ногах и упал. Всадник тронул коня; Ерназар быстро поднялся и, ощущая петлю на шее, вынужден был побежать вслед. Калоши соскочили с ног, и Ерназар бежал по снегу босой. Тенел бросился за ним, захлебываясь слезами.
— Вах, да это, оказывается, не русский! — взвизгнул всадник.
— Русского нет, он давно ушел! — спокойно ответил Ерназар.
— Ну что ж, тогда прихватим этого мальца вместо русского! — И они подцепили на аркан Тенела.
* * *
Отослать-то Тенела к дому Ерназара Гулзиба отослала, однако места не могла найти себе от неясной тревоги. Потом не утерпела и сама, увязая в снегу по колено, стала прокладывать тропинку к дому любимого. Она увидела, что какие-то незнакомые люди тянут за собой на арканах Ерназара и Тенела.
— Эй вы, разбойники! Что вы такое вытворяете? Гулзибе никто не ответил, она побежала за всадниками вслед. Подобрала на снегу калоши, догадавшись, что их потерял Ерназар. Она догнала его и попыталась надеть их ему на ходу. Калоши спадали, сваливались с ног вновь и вновь. Гулзиба сдернула с головы платок, разорвала его.
— Подними ноги, душа моя, я привяжу тебе калоши платком!
— Уйди, сгинь с глаз моих! — Ерназар отпихнул ее со злостью, но она уцепилась за его колено — и вот одна, а потом и другая йога Ерназара, заледеневшие, синие, уже обуты.
Ерназар отталкивал от себя Гулзибу, ругался, кричал, но она, не обращая на это внимания, совала ему в руки оторванный подол своего платья: «Возьми, душа моя, используешь, если откроется рана…»
Выдержка и смелость женщины поразили всадников, они замедлили ход; им было любопытно, отчего Ерназар пинает и проклинает ее с такой яростью. А он вдруг — среди ругани и брани — шепнул ей быстро-быстро:
— Извести моих джигитов, чтобы в погоню не пускались! Не надо зря проливать кровь! Это приказ! Сам вернусь!.Это люди хана…
Гулзиба глядела им вслед, пока они совсем не скрылись, не растворились в снежной мгле…
Сержанбай так и ахнул: жена ввалилась в юрту простоволосая, в разорванном платье, дрожа всем телом.
— Вай, вай! Откуда ты явилась, бесстыжие твои глаза!
— Лежи тихо и помалкивай! — отрезала Гулзиба.
— Откуда ты явилась, из чьей постели вылезла!.. Горе мне, горе! — хныкал Сержанбай. — Я ведь все знаю — и что ребенок не мой, и что путаешься с кем ни попадя! Скажи, признайся, от кого ребенок! Чьего выродка я называю своим сыном?
— Не выводи меня из себя, старик! — повелительно, с угрозой произнесла Гулзиба.
— Голос на меня повышаешь! На своего мужа и благодетеля! Тварь неблагодарная! — В руках Сер-жанбая сверкнул топор, до ужаса знакомый Гулзибе. Она содрогнулась и как орлица кинулась на старика, вцепилась ногтями в его морщинистое, костлявое горло.
24
Снег валил все сильнее и сильнее; завьюжило; завыл ветер; вся земля, казалось, потонула в дикой снежной круговерти. На рассвете Кунар-аналык укутала потеплее внука, который спал вместе с ней в лачуге, и приступила к своим обычным утренним обязанностям… Сын и невестка нынче что-то заспались. Кумар-аналык начала беспокоиться: Ерназар почему-то до сих пор не показывался. Она растолкала Хожаназара и велела покликать отца: нужно, мол, расчистить снег вокруг юрты. Мальчик прибежал обратно встревоженный:
— Отца нет!
Словно горькая желчь прорвалась и залила материнское сердце; неужто Ерназар связался с какой-нибудь беспутной бабой?
Рабийби подошла к ней вплотную и взволнованно, потерянно пробормотала:
— Свекровь, я-то проснулась давно, Ерназара рядом не было; я думала, что он вот-вот вернется обратно. Не знаю, о чем и подумать!
Мать заглянула в юрту — одежда Ерназара висела на месте. «Если бы он ушел по своей воле, то, конечно, оделся бы!»- промелькнула недобрая мысль. Женщины стояли, беспомощно опустив руки, в недоумении: что предпринять, к кому обратиться?.. Послали Хожа-назара за Шонкы, чтобы тот оповестил соколов о случившемся. Вскоре со всех сторон к их дому потянулись джигиты. Все они терялись в предположениях, все были в смятении и испуге.
Люди судили-рядили о том, что же могло произойти, приключиться да как следует действовать… Из снежной пелены показалась черная-пречерная, как обугленное дерево, как живое проклятие, фигура. Все замерли в ужасе, будто к ним явился вестник смерти. Мать и Рабийби тесно прижались друг к другу, и Кумар-ана-лык повторяла, словно заклинание:
— Не пугайтесь, не пугайтесь, бог милостив! Бог милостив! Он не допустит! Не пугайтесь!..
Черная фигура приближалась все ближе. Это была Гулзиба. Она показалась всем неправдоподобно прекрасной в траурном своем платье. Движения ее были исполнены скорбной грации; руки, скрещенные на груди, выделялись на черном платье как белый мрамор. Гулзиба остановилась в нескольких шагах от людей, будто перед ней возникла преграда.
— Люди, — произнесла она глубоким, печальным голосом, — сегодня в ночь скончался Сержанбай. По нему, кроме меня, некому прочесть поминальную молитву. Приходите, помогите мне похоронить его, как велит обычай.
— В снежную ночь умирают только плохие люди! — с облегчением вымолвил молодой воин. — Кто же захочет читать такому молитву?
Гулзиба подняла с достоинством голову:
— Я знаю, вы не любили его! Но обычай велит хоронить мусульманина согласно нашим обрядам! Так завещали нам предки. Вы должны прийти! — взывала Гулзиба ко всем, кто толпился возле юрты Ерназара.
К ней нерешительно шагнул Маулен; она окинула его изучающим пристальным взглядом, потом вдруг объявила:
— Хивинцы ночью угнали Ерназара-ага!
— Откуда ты знаешь? — набросились на Гулзибу со всех сторон. — Небось во сне привиделось!
— У человека, который ухаживает за больным мужем, сон чуток.
— Объясни нам, не тяни, что произошло, женщина! — потребовала Кумар-аналык.
— Я своими глазами видела, как хивинцы поволокли Ерназара и моего брата на арканах вон в ту сторону, — Гулзиба вытянула руку в сторону Хивы. — Он успел шепнуть мне, чтобы я никого не будила. Он не хотел, чтобы вы пускались за ним в погоню, зря проливали кровь. Он сказал, что сам вырвется из лап хивинского хана, — сказала Гулзиба и зашагала прочь.
Соколы загалдели все вместе, стали спорить, должны ли они выполнить приказ Алакоза или ослушаться его.
— Ваше хваленое единство и дружба — пустота, воздух! Вы трясетесь за свои шкуры, а честь ханства, честь Ерназара для вас7 ничего не значат? — обрушился на них Векторе. — Дайте нам коней, мы настигнем негодяев, отобьем у них Алакоза!
— Мухамедкарим, ты мало, видать, драл этого голодранца, этого бесштанного! Вон как разговорился! — рассердился не на шутку Мадреим.
— Эко, хватился! Я давным-давно выгнал этого строптивца! — угрюмо огрызнулся Мухамедкарим.
— Джигиты, спокойно! Не думайте, что хивинцы такие уж глупцы! Что, по-вашему, они нас специально дожидаются? — веско заметил Ерназар-младший. — Алакоз распорядился правильно… Меня другое сейчас беспокоит — не прихватили, не увели ли они вместе с ним Михайлова?
— Нет, нет! Русского Ерназар успел проводить вечером! — сообщила Кумар-аналык.
— Неужели тот мерзавец, что ускакал от нас во время столкновения с казахами, успел обо всем донести хану? — высказал опасение Ерназар-младший.
— Так это или не так, никому из нас неведомо, — возвысил голос Зарлык. — В любом случае нам необходимо собрать налог, отвезти его в Хиву хану и там замолвить за Ерназара словечко.
— Люди! — протолкался вперед Маулен. — Налог, он и есть налог! Надо дать хану большую взятку!
Кругом заволновались, зашумели.
— Не пожалеем денег для Алакоза! Ничего не пожалеем!
Лишь один Мамыт-бий стоял в сторонке молча, с достоинством, ожидая, когда он сможет бросить в эту реку слов свое словечко. Кумар-аналык поглядывала с тревогой на Мамыта: ничего доброго не ждала она от человека, которому ее сын перебежал в любви дорожку… Мамыт молчал, молчал, ждал, ждал, терпел, терпел, а потом вдруг рявкнул, да так громко и веско, что шум и крики моментально прекратились:
— Бии, каракалпакские соколы! Мы полны благих намерений! Все до единого. В народе говорят: делая добро, не останавливайся на полпути! Давайте мы так и поступим — денег побольше соберем! Часть их потратим на новую юрту для Ерназара; взгляните, как эта обветшала! Пусть Алакоза дожидается новехонькая юрта!..
— Верно, верно, вот молодец! Вот голова! Додумался! — заволновались соколы.
Бии хранили молчание, бросая друг на друга испытующие, пронизывающие взгляды. Кумар-аналык лихорадочно соображала: нет ли какого-нибудь подвоха в словах Мамыта? Не почувствовали ли чего недоброго в них близкие люди? Нет, вроде бы все восприняли радостно их и спокойно, как должное. И все же на душе у нее было смутно: «Хорошо, если в нем самом не затаилась, не свернулась лютая змея ревности! Хотя, с другой стороны, оба уже давно обзавелись семьями, детьми, остепенились!»
— Люди! — прижала к груди руки Кумар-аналык. — Спасибо вам! За заботу вашу, за желание пособить нам! Вернется Ерназар — это и будет для, нас главным нашим богатством. И наша старенькая юрта будет для него опять что ясное небо над головой! Свобода — она для моего сына дороже самой богатой юрты!
Генжемурат сосредоточенно размышлял над тем, кому поручить сбор денег, а главное — кто осмелится преподнести их хану.
— Степняки, кто будет собирать и вручать деньги?.. Тут нужны люди, подходящие для такого случая, соответствующие… По-моему, с этим хорошо справятся Са-ипназар-бий и Мамыт-бий.
— Джигиты! — вскричал Артык. — Пусть не держат на меня обиду Саипназар и Мамыт, но я бы предложил еще Фазыла: его в Хиве уважают.
— К тем, кто собирает деньги, надо подключить еще Маулена и Шонкы — оба быстрые, шустрые! — завопил кто-то.
— Ну и умники! — поднял кулак Векторе. — Да это равносильно тому, чтобы доверить деньги ворам!
От Векторе отмахнулись как от назойливой мухи, а Зарлык, как бы продолжая вслух невеселые свои думы, вымолвил:
— Лучше всего будет, если к хану обратится Кара-кум-ишан.
Соколы дружно одобрили, поддержали Зарлыка, а Маулен-желтый добавил с несвойственной ему серьезностью:
— Друзья мои, есть две мудрости, одинаковые для всех времен. «Деньги заставляют плясать всякого» — одна. Вторая: «Золото сбивает с пути истинного даже ангела». Тащите деньги, раскошеливайтесь, и мы освободим Алакоза! А теперь на нас лежит еще одна обязанность — надо предать земле тело Сержанбая.
Толпа возле дома Алакоза стала медленно таять. Остался лишь Генжемурат да несколько наиболее доверенных соколов. К ним он и обратился сразу же:
— Джигиты, имеется еще одна мудрость! Она гласит: «На свете нельзя верить двум существам — хану и змее…» Как мы поступим, если хан не запляшет при виде денег? Если он не внемлет прошению Каракум-ишана?
— Зиндан окружает крепостная стена, она высокая, каменная, — в раздумье произнес Зарлык.
— Генжемурат, у меня и моих друзей ветер свищет в кармане. Нет у нас денег на выкуп нашего палвана. Но мы готовы, если вы позволите, рискнуть и порушить эту каменную стену, — подался вперед Векторе.
— Векторе, не лезь, не высовывайся! — оборвал его Ерназар-младший.
— Тут и без тебя хватает умных людей. Мать, в какую сторону двинулся Михайлов?
Кумар-аналык показала на юго-запад. Ерназар-младший без промедления двинул своего коня в том направлении, остальные последовали за ним.
— Генжеке, ведь не зря же ты столько времени был среди русских, — почти с мольбой сказал Ерназар-младший. — Неужели они не знают способа проломить стену зиндана?
Генжемурат ехал, прикрыв глаза.
— Слыхать-то я о таком слыхал, да что толку!.. — хмыкнул он. — Был у русских великий военачальник Суворов, так его солдаты умели ловко одолевать крепостные стены и врасплох заставать неприятеля.
— Ох как нужен нам Михайлов! Он наверняка научил бы нас одолевать крепостные стены! Вот бы отыскать его! — Зарлыка переполняло нетерпеливое желание скорее приступить к делу.
Случается иногда: человек чего-то страстно, исступленно хочет — и желание его сбывается. Может ли быть что-либо выше, чем радость от исполнения желания?..
На третий день, близ Кунграда, соколы наткнулись на Аннамурата и его джигитов. Среди них находился и Михайлов. Они тут же рассказали ему о беде с Ерназаром.
Все вместе они отправились в тугаи строить стену. Потом ее, эту стену, прозвали в народе «русской стеной»…
25
Дом Саипыазара для каракалпаков превратился в Мекку. К нему тянулись все — имущие и неимущие; каждый нес, что мог: кто нес овцу, кто козу, кто связку сушеных дынь, заготовленных на зиму. Те же, у кого в доме не было даже пиалы риса и фунта масла, бросали у порога Саипназара вязанку дров: каждому хотелось быть причастным к великой народной заботе… Враги Ерназара изнывали от зависти: «До чего же люди глупы, ну овцы, да и только!.. Не родственники, не близкие, а волокут и волокут!..»
Собрано было уже много, но народ все подходил и подходил, и не только каракалпаки. Аул узбеков-шаб-базцев, расположенный на берегу Амударьи, прислал арбу с рисом и двух коров. Туркмены из Куня-Ургенча пожертвовали сорок кувшинов льняного масла и двух коней. Казахи из северного аула пригнали двух одногорбых верблюдов и пятьдесят овец… Такое зримое проявление чистой, бескорыстной дружбы поражало, волновало, умиляло каракалпаков. Однако больше всех удивил их русский рыбак. Он появился в ауле однажды, восседая на арбе.
— Гляньте-ка, русский рыбак! — воскликнул Шонкы.
Из дома важно, неторопливо выплыли Саипназар и Мамыт.
— Вот наш вклад, — русский широким жестом показал на полную арбу. — Принимайте!
— Какой такой вклад?
— От рыбаков Арала. Море нас кормит, как и вас, поэтому можно считать, кормимся мы из одного котла с вами! — Он откашлялся. — В общем, рыбаки мы! Мы прослышали, что знатный ваш джигит впал у хана в немилость и вы средства собираете, чтобы его выкупить. Мы тоже решили внести свой вклад, вот он. Меня послали к вам мои сотоварищи. Осетры здесь да новая джутовая сеть.
— Мы у русских ничего не примем! — замахал руками Саипназар. — Прознает хан или Каракум-ишан, так они все, что мы насобирали, объявят поганым!
— Поганым!.. Я же не свинину привез, а свежую рыбу! Что нам, неизвестно, по-вашему, что мусульмане считают рыбу райским блюдом! Зачем же отказываться от райской пищи! — Рыбак недоуменно пожал плечами. — А сеть новехонькая, крепкая, для вас плели, старались.
Саипназар призадумался — джутовая сеть стоит самое малое столько же, сколько десять коров, а это ой-ей какие денежки!
Рыбак, задав своей лошади сухого клевера, выждал минуту-другую, потом с достоинством и скрытой горячностью сказал:
— И чего сомневаться-то, чего? В заботе одного человека о другом нет плохого. Это не против религии, какая бы она там ни была — мусульманская, православная!.. Это же угодно любому богу — быть добрыми, помогать ближнему!..
Если так… давай разгружай свою арбу, рыбу вон туда бросай, только сам, своими руками! — решился все-таки Саипназар. — А сеть свою положи рядом. Сам поскорее поворачивай обратно!
Рыбак сноровисто разгрузил арбу и без лишних слов отправился восвояси.
…Саипназар, Мамыт, Маулен и Шонкы потеряли покой: рыбацкая сеть приковывала к себе их жадные взоры.
— Джигиты, придется взять мне эту сеть… Догадается ишан, что это русская сеть, — несдобровать нам, ох несдобровать! — смиренно потупился, заохал Саипназар.
— Зачем же, бий, вам брать на себя этакий грех — прикасаться к дару неверных! — Маулен бочком-бочком все ближе подвигался к сети. — Вы большой человек, вы бий. Вот я, всем известно, грешный и маленький человечек. Одним грехом больше, одним меньше — для меня без разницы. Давайте уж я всех вас выручу, возьму на себя еще один грех!
Шонкы тоже не дремал, он уже ухватился за сеть и рванул ее на себя.
— Осторожно! Порвешь! Она знаешь каких денег стоит! — зло бросил ему Мамыт.
— Э-э! Когда русские что-нибудь делают, то делают прочно. Не порву!..
Однако Маулеп-желтый тоже ухватился за сеть и потянул ее на себя. Ему удалось перетянуть, и он поволок ее подальше от онемевших Саипназара и Мамыта. Шонкы тащился за ним следом, не выпуская из рук кончика сети.
— Эй ты, отцепись! — прикрикнул на него Маулен. — Отстань от меня! Теперь-то я вижу: сделать плохому человеку добро — все равно что посеять семена в пустыне! Кто первым предложил собрать деньги и отнести их хану? Я! Если бы не я, никакой сети сейчас не было бы.
— А я первый подал пример другим — пожертвовал два золотых! — ответил Шонкы. Он запыхался от напряжения и спешки.
Когда они удалились от дома Саипназара, Маулен выпустил сеть из рук, подскочил к Шонкы, ткнул его в плечо.
— Несчастный! Чем впиваться в сеть как пиявка, лучше бы головой малость поработал! Ты что, слепой, не видишь, как хитрят, плетут свои коварные сети бий? Проучить их следует, вот что!
— Да ты о чем? — выпустил из рук ношу растерявшийся Шонкы.
— Да все о том! Вии что-то затевают! Наверно, задумали присвоить себе часть собранных средств! Они же готовы повеситься из-за медной таньга, а тут такое богатство привалило! — Маулен опустился на сеть, потянул Шонкы за подол, усадил рядом, — Эти два навозных жука нарочно уступили нам сеть. Словно собакам кость кинули! Чтобы мы язык за зубами держали: ведь мы-то видели, кто и сколько принес!.. Нет, нет, нельзя нам брать эту сеть себе, нельзя присваивать…
— А что же с ней делать, куда девать? Может, сжечь, все ж таки сеть-от от неверных…
— Да не тараторь ты, не тараторь, пустомеля! — отмахнулся от него Маулен. — Сеть надо преподнести главному визирю. Это дорогой подарок, он ему обрадуется. Тем более сеть — не верблюд, ее легко скрыть от людских глаз…
— А почему именно визирю? И кто это пустит нас к нему? Мы для него мелкая сошка! — уныло промямлил Шонкы.
— Ты, может, и мелкая сошка, но что касается меня!..
— Да полно тебе бахвалиться! Тоже мне вельможа! — пренебрежительно пожал плечами Шонкы и захихикал с издевкой.
— Вельможа не вельможа, а особа! — не удержался Маулен. — У меня есть больше, чем должность! У меня есть тайна! Если ты сохранишь ее — поклянись мне! — я тебе ее открою!
— Если я выдам твою тайну, пусть ворон выклюет мне глаза, пусть сломанная арба переедет через меня! — зачастил Шонкы, сгорая от любопытства.
— Видишь ли, я нашел общий язык с главным визирем, потому что оказывал ему кое-какие услуги. Государственного значения…
— Почему же тогда он до сих пор не наградил тебя?
— Чудак! Я сам отказался от должности! Потому что человек без должности вызывает доверие у людей… Ему легче распознавать врагов и уничтожать их. А потом уж, когда всех врагов выявим и уничтожим, можно будет и о себе подумать, о должности и позаботиться. Эта парочка, Саипназар и Мамыт, обнаружили себя, разоблачили как враги.
— То есть как это? — раскрыл рот Шонкы.
— Я разгадал все их хитрости, хотя, заметь, эти бий не просты, ох не просты! Главному визирю надо будет обязательно сообщить, что Саипназар и Мамыт вместе с Фазылом собрали деньги для освобождения Ерназар Алакоза! Да, да, мы назовем, сколько именно денег они имеют! В Хиву они привезут, клянусь головой, меньше, чем собрали! Их уличат в воровстве и обмане, заточат в зиндан… А мы будем с тобой стражами, верными стражами интересов и каракалпаков, и хивинцев!
— Тогда давай действовать прямо сейчас!
— Ох, Шонкы, не торопись в рай! — Маулен пожалел, что посвятил этого безмозглого Шонкы в свои замыслы. — Ну ладно, а кто же будет тащить сеть?
— Тащи ты, ведь ты хозяин! Ты особа! — кротко и смиренно согласился Шонкы.
— Хочешь взвалить такую тяжесть на моего коня? — Маулен подозрительно покосился на Шонкы.
— Тогда давай я приторочу ее сам к своему седлу..
— Хочешь показать в Хиве, что это ты привез подарок? Что ты главный? Нет уж, лучше я сам…
— Не угодишь тебе никак! — Шонкы споткнулся о корень джангиля, но не упал, сплюнул с досады и поспешил к своему коню.
26
Гулзиба не пожалела на поминки средств, что скопил старый бай, и на семидневное поминание расщедрилась тоже. Она понимала: иначе на ней навечно останется пятно, клеймо, а жить с ним в ауле будет и зазорно, и тяжко.
Гулзиба получила желанную свободу, но, получив, не знала, что с нею делать. Долгими ночами ворочалась она, металась в своей одинокой постели, снедаемая тревогой за свое будущее, снедаемая беспокойством за Ерназара и Тенела.
Она не совладала с собой, принарядилась однажды и отправилась к Кумар-аналык, чтобы хоть что-нибудь о них выведать.
После смерти мужа Гулзиба расцвела, похорошела. Большие ее глаза засветились, засверкали ярким блеском, будто кто-то взял и промыл их живой водой — на восхищение и зависть другим. Никто, однако, не догадывался, что блеск этот отражает жар ее беспокойной души, жар пережитого горя, потрясений, и что понадобится еще немало времени, чтобы он, этот блеск, обрел истинную чистоту, истинную прелесть обновленной, окрепшей, страстно любящей и счастливой этим души.
Рабийби недовольно, нервно передернула плечами, увидев Гулзибу. Она презрительно сморщила тонкий носик и демонстративно удалилась в мазанку.
Гулзиба заметила одежду Ерназара, висящую на остове юрты, тот самый пояс, который был на нем в ту незабываемую последнюю их встречу. Сердце ее зашлось от любви и страдания. Да, воистину… хотя любовь и не огонь, но если она вспыхнет однажды, погасить ее невозможно.
— Зачем пожаловала? — холодно осведомилась Кумар-аналык. Она ничего не могла с собой поделать: уж очень она невзлюбила Гулзибу с тех пор.
— Я хотела бы присоединить свою юрту к вашей! — тихонько прошептала Гулзиба. — Если вы не будете возражать, я бы, я бы… хотела… стала бы вашей второй невесткой! — докончила, запинаясь, Гулзиба и сама ужаснулась тому, что заявила, что вырвалось у нее помимо воли.
— Ты не спятила, случаем?.. — разгневалась мать. — Веди себя пристойно, не срамись сама и других не срами! Несчастный человек не может сделать другого счастливым, а я хочу видеть сына счастливым!
Гулзиба вышла из дома Ерназара, оглушенная словами и неприязнью Кумар-аналык… У своего порога она обнаружила поджидавшего ее Мадреима. Она пригласила его войти, угостила чаем.
— Гулзиба, все в ауле были удивлены тем, как ты почтила мужа. Люди оценили твою преданность, — повел он речь после того, как опорожнил два чайника. — Каждый мужчина жаждет иметь именно такую жену, как ты! Которая так была бы верна своему долгу.
«Господи, знал бы ты правду!»-ужаснулась про себя Гулзиба.
— Однако пуще других жажду иметь такую жену я… — продолжал Мадреим. — Явился я к тебе неспроста, а чтобы признаться в этом.
— Оказывается, у тебя серьезные намерения, — на мгновение закрыла глаза Гулзиба.
— Не нужна мне, так я решил, неопытная девушка, не испытанная в беде…
— Чтобы испытать, для этого самому надо умереть!.. — тонко и печально улыбнулась Гулзиба.
Мадреим рассмеялся, погладил свои усы.
— Проиграл я, Гулзиба, проиграл, признаю!.. Но что ни говори, а дом без женщины — это тело без рук…
— А дом без мужчины — руки без тела, наверное! Только я еще не успела это почувствовать, — Гулзиба бросила на гостя быстрый взгляд.
— Хе-хе-хе, я снова проиграл, признаю! Я готов посадить тебя на своего коня и повести его под уздцы — самолично…
— Женщину надо выбирать не глазами, а ушами, — загадочно обронила Гулзиба.
В колыбели заплакал ребенок, и Гулзиба поднялась, принялась покачивать люльку. Мадреим на цыпочках удалился.
27
Осень в Хиве выдалась холодная: повалил ранний мокрый снег, задули северные колючие ветры…
Стражники, прохаживаясь около стен зиндана туда-обратно, притопывали ногами, дули на руки, чтобы хоть немножко согреться. Особенно невыносимыми казались им предрассветные часы. Влажный промозглый холод пробирал до костей — стражники готовы были на время поменяться местами с теми, кто томился в сыром и смрадном зиндане.
Ерназар потерял много крови, пока ханские приспешники волокли его по снегу и слякоти. В зиндан его бросили бездыханного. Он свалился на земляной пол, как сноп, и спал, спал, не в силах поднять, разлепить свинцовые веки. Тенел выдержал этот жуткий, чудовищный путь легче. Его воодушевляло, что он страдает ради Ерназара и вместе с ним! К тому же упрям был подросток и горд; ему хотелось казаться сильным — не сдаваться назло мучителям. Крепкий молодой сон освежил Тенела. Он бережно вытер, очистил и перевязал рану Алакоза тряпицей, которую Гулзиба засунула Ерназару за пазуху.
Ерназар очнулся лишь на третий день и сразу же обратился к Тенелу:
— Мальчик, ты живой? Как чувствуешь себя?
— Если бы меня сейчас освободили, я бы, ей-богу, четыре раза обошел вокруг земли и не устал, Ерназар-ага! Таким сильным сделала меня сестра. Она всегда следила, чтобы любые испытания мне были нипочем! — Тенел говорил порывисто, искренне. — Сестра научила меня всему, всему, что я знаю! А пуще всего наказывала она мне быть вашим преданным слугой и другом.
Ерназар вздохнул полной грудью и едва слышно откликнулся:
— Я верю тебе!
Красивое смуглое лицо парнишки просияло, и он восторженно выпалил:
— Я самый счастливый сирота во всем Хорезме!
— Почему?
— Не каждому сироте выпадает такое — быть заточенным в зиндан по приказу самого великого хана! — Тенел улыбнулся лукавой, совсем не детской улыбкой. — К тому же я своими глазами увидел знаете что? Бывает, оказывается, что всадник боится связанного по рукам и ногам пешего! Вооруженный — безоружного…
— Ха, ты загадываешь мне загадки! — усмехнулся Ерназар.
— Нет. Я слышал, как наши мучители жаловались друг другу, прямо-таки стенали: «Ох, устали мы, измучились. Потом обливаемся, словно не мы их гоним, а они нас!..»
Ерназар засмеялся и бросил на Тенела ласковый и внимательный взгляд. Лицо опухшее, в ссадинах, рубашка висит клочьями, на руках — следы, кровавые следы от ударов плетью. «Мужественный паренек! Хорошо воспитала его Гулзиба!.. Преданный, выносливый будет воин, надежный помощник в моих делах!» — с волнением подумал Ерназар.
Спустя неделю Ерназар уже мог подниматься сам… Он умывался ледяной водой, и Тенел не отставал от него; потом они садились за скудный завтрак: делили пополам лепешку, подпихивая друг другу кусочек побольше, запивали холодной водой, в которой плавали льдинки. Случалось, что сверху на них падали сосульки; Ерназар и Тенел посмеивались, шутили, что вот-де им шербет подают, чтобы они запивали им обильные, вкусные яства.
Настал день, когда о них вспомнили, вывели наружу, втолкнули в убогую, грязную сторожку. Там их ждал Каракум-ишан. Повелительным жестом он отпустил стражников.
— Ну вот, Ерназар, я здесь. — Ишан обратил к Ерназару и Тенелу лицо, полное заботы и сочувствия. — Правы, видно, наши предки — пусть лучше победит жеребеночек твоего аульчанина, чем конь родственника, живущего от тебя поодаль… Веришь ли, я себе места не находил, надо же приключиться такой беде! Мы с тобой из одной страны, из одного аула почти. Место вечного успокоения — кладбище, даже оно будет у нас с тобой одно и то же: коли я первый предстану перед богом — вы меня похороните, коли ты предстанешь первый — я… Тебе известно, в чем тебя обвиняют? — чуть ли не ворковал ишан.
— Нет!
— Я выведал, в чем тебя обвиняют. В убийстве русского и двух казахских сарбазов. Ко всему прочему — русский-то был куплен на деньги из ханского налога.
Ерназар раскатисто расхохотался.
— Вот это справедливость! Выходит, я трех человек убил?
Ишан нахмурился. Он колебался: обнаруживать свой гнев сразу или выждать…
— Кто этот малый? — кивнул ишан на Тенела.
— Это мой народ! — просто, буднично, как о чем-то естественном и бесспорном, ответил Ерназар.
— Хе-хе-хе! Ну ты, Ерназар, мастер красно говорить!.. Те, что мне сообщили о твоей беде, почему-то ни словечком не обмолвились о твоем народе! Видно, очень мал он, немощен да неприметен. Лишь умоляли меня сохранить в целости твою голову.
— Если будет цела моя голова, я позабочусь, чтоб мой народ стал и приметным, и великим!
— Палван ты, Ерназар, палван, но только… Ладно, сейчас не время спорить и пререкаться. Неизвестно, долго тебе тут гнить или мне удастся вызволить тебя отсюда… Хана сейчас нет, он отбыл на охоту… Пока мне лишь удалось договориться с главным визирем, чтобы тебя хоть кормили сносно. Тебе будут приносить еду, какую ты пожелаешь! Советую тебе попросить голову барана или коровы — мясо ее очень целебно, придает человеку силы! Для твоих великих целей сила понадобится, ох как понадобится! — Ишан не мог совладать с собой, в его словах сквозило ехидство. Он осторожно снял с головы чалму, начал ее поправлять — она потеряла нужную форму.
— Мой ишан, вам как каракумскому ишану полезно знать мудрости нашего народа. Одна из них гласит: ты, моя чалма, святая, поэтому ты вне подозрений.
— Любопытный ты человек, Ерназар! Не простой! Тебя упекли в зиндан, аркан на твоей шее, можно сказать, вот-вот заменят петлей, а ты все шутки шутишь! А твой народ шуток твоих не понимает вовсе, уж больно они у тебя тонкие да заковыристые! Ему бы, твоему народу, чего-нибудь попроще надо, а? А ты, как ни веселись да ни бодрись, а все в темнице!
— Я… я понимаю, — серьезно заявил Ерназар.
— Ну ладно, шутки в сторону! Потолкуем серьезно! — Ишан быстро заученным жестом нацепил на го лову чалму. — Знай, когда мусульманин ест другого мусульманина, у меня в мозгу словно медь плавят! Мусульмане должны жить в дружбе!.. На этот раз я проделал путь в Хиву исключительно ради тебя. О случившемся мне сообщил Аскар-бий, слезно просил за тебя. Зачем просить? Друг, настоящий друг появляется раньше солнца! Если бы даже никто не хватился тебя, не позаботился, я бы сам бросился на помощь… Мой тебе совет: хочешь быть на свободе — повинись, признайся во всем хану, поклонись ему!
— Я не виновен! Особенно перед ханом. Я намеревался подтвердить, доказать твердость, надежность ханского слова перед русским царством! Я поступил согласно договоренности между великим ханом и русским послом!
— Ерназар, зачем ты вечно вмешиваешься в чужие дела? Берешь на себя, на свою шею вину других людей? Не из-за гордыни ли дьявольской, не из-за упрямства ли ослиного? Сам накидываешь на себя петлю! Ведь человек должен стремиться к тому, чтобы выжить! Выжить в этом смутном, бурлящем несчастьями мире, выжить и пожить подольше! Мир и так тесен…
— Нет, ишан! Мир не тесен, он таков, каким его делают, создают для себя люди. Наши хорезмские владения тесны, это верно! И вы их стараетесь еще больше сузить, сжать!
— Астапыралла! О боже! — Ишан прикрыл глаза, словно ему больно было видеть своего обидчика: потом заговорил медленно, вкрадчиво, будто вытягивал из теста волосинку. — Ерназар, ты любишь свой народ, желаешь ему добра — допускаю! Но не туда взор свой обращаешь… Ты ищешь могущественного покровителя и друга для каракалпаков… К этому же стремились твои предки Маман и Айдос. Ответь мне: получили они поддержку, помощь и пользу от русских?.. — Ишан вперил в Ерназара острый, умный взгляд. — Вот то-то!.. От добра добра не ищут — весь мусульманский мир стремится ныне к сближению с инглисами: и Персия, все арабские страны. Да и, к слову сказать, твои любимые русские тоже не прочь иметь тесные отношения с инглисами, потому что у них есть чему поучиться, разным наукам да премудростям… Так не целесообразнее ли и твоему народу войти в светлую, обширную и прочную юрту инглисов, чем… чем облокачиваться на жалкую лачугу русских?
— Это я уже слышал от вас — и не раз!
— И ничего в этом нет странного, что слышал. Я не устану повторять: инглисы — самая высокая гора в мире.
— В народе говорят: есть горы, способные родить лишь мышь!
— Подумай все-таки еще разок над моим советом. — Ишан сохранял хладнокровие. — Человеку больше всего на свете свойственно стремиться к жизни! Жизнь — вот его извечное, самое страстное желание!
— Нет, человек больше всего должен стремиться к другому — быть человеком, жить по-людски… Ведь звери да твари разные тоже живут…
Выведенный из себя ишан удалился. Нет, никак не удается ему приручить этого степного льва! Сделать его своим орудием! Предлагает ему жизнь и свободу, а тот упирается, отказывается и от жизни, и от свободы, чтобы остаться пусть в неволе, но львом! А такой Ерназар — гордый, независимый — лишь помеха, от него необходимо избавиться.
Каракум-ишан застал главного визиря в момент, когда рабыня мыла ему ноги, а сам он с видимым удовольствием грыз красное яблоко. Он улыбнулся ишану глазами, прожевал кусок, поинтересовался:
— Вы чем-то обеспокоены?
— Еще бы! Алакоз имеет на вас зуб. Мне кажется, он ждет не дождется хана, чтобы оклеветать вас, опорочить. Надо поскорее его убрать! Может, до него каким-то путем дошло, что черные шапки собираются выкупить его, уж очень уверенно и нагло держится!
— Вы напоминаете мне пугливую сороку! — хмыкнул главный визирь и хлопнул в ладоши:- Введите тех двух!
В приемную ввели Маулена и Шонкы; они приблизились к ишану, смиренно его поприветствовав, робко уселись поодаль.
— Наш великий ишан, мы счастливы лицезреть ваше священное величество! — произнес Маулен-желтый.
— Спасибо, мусульмане! — ответствовал торжественно ишан.
Главный визирь понаблюдал за всеми троими и приказал:
— Маулен, повтори то, что ты мне уже рассказал! Я хочу, чтобы уважаемый ишан все узнал из первых уст.
Маулен стал лихорадочно припоминать, что и как он говорил главному визирю! Тут уж не приведи господи извратить сказанное, донеети до ушей ишана что-то не так, как до ушей главного визиря! С другой стороны, стоит ли повторять все точь-в-точь, доверяют ли эти люди друг другу настолько, чтобы…
— В этих покоях всякая, даже малая ложь — большой грех, — прекратил его колебания ишан. Ангелы, которые охраняют человека, в судный день жестоко покарают его за малейшую неправду!..
Маулен втянул голову в плечи, будто над ним уже занесли карающий меч.
— Зачем мне лгать? Я ценю истину превыше всего, хотя я всего лишь простой смертный… Алакоз приносит несчастья и беды на нашу землю, поэтому слуги хана, верные его стражи, поступили очень благоразумно, заточив этого смутьяна в зиндан. Ведь Алакоз — все одно что прогорклое масло! От него смрад по всей нашей степи… Поэтому-то все каракалпаки — от мала до велика — благодарны великому хану и его мудрому главному визирю. Мы поспешили сюда, чтобы рассказать еще об одном безобразии. Два бия — хотя, по моему-то разумению, они не имеют никаких оснований быть бия-ми! — так вот два бия, Саипназар и Мамыт, собирают средства, чтобы освободить Алакоза. Люди тащат им последнее! Даже те, кто обычно и налог-то хану не платит. Можно сказать, каракалпаки из собственного котла хлеб насущный вынимают, а несут! Если Алакоз вернется в наши степи, не поручусь за каракалпаков: они позабудут не только великого хана, но и всемогущего аллаха!
— Верно говоришь, ой как верно мыслишь! — поддакнул ишан.
— Люди потеряли рассудок, ей-богу! Может, оттого, что столковались с русскими? Даже от них дары принимают — вот, к примеру, джутовую сеть. Ворюги Саипназар и Мамыт хотели присвоить ее, да мы отобрали ее у них, привезли сюда, пожаловали главному визирю!.. — Тут Маулен сообразил, что хватил лишку, выдал и себя, и главного визиря. Он остановился на полуслове, будто налетел с разгону на препятствие.
Главный визирь же по-прежнему излучал довольство и спокойствие. Он поднялся с места, скрылся во внутренние покои, принес оттуда с помощью слуги сеть.
— Я взял ее, по правде сказать, для вас, мой ишан. Вы ее освятите, и ваши мюриды будут ловить ею рыбу! О нас, грешных, надеюсь, тоже не забудете! — Он хитро, заговорщически подмигнул ишану. — А теперь отправляйтесь, каракалпаки! Терпение — вот что украшает человека! О награде для вас я позабочусь!
Маулен и Шонкы попятились и скрылись за дверью.
— О мудрый главный визирь, вы мастер обращаться с людьми, — подобострастно поклонился ишан. — Однако вернемся к самому неотложному. Как мы поступим с Ерназаром?
— Мой ишан, как посоветуете, так и поступим!.. Велите казнить — казним, велите помиловать — помилуем! — откликнулся главный визирь с едва заметной насмешкой в голосе…
Ему доложили, что три каракалпакских бия просят разрешения войти. Главный визирь тут же распорядился, чтобы отыскали и привели обратно Маулена и Шонкы. Первым уверенно и быстро вошел Фазыл-бий; за ним, пыхтя и отдуваясь под тяжестью хурджунов, переступили порог Саипназар и Мамыт. Они опустили их на пол, и тут же все трое согнули спины в низком-низком поклоне. Фазыл приложил руки к груди и заговорил:
— Мы доставили вам пожелания каракалпакского народа, все они в этих хурджунах. — Голос его дрожал, Фазыл едва справлялся с волнением. — Великий главный визирь, если я в чем-нибудь перед вами провинился, прошу даровать мне ложку моей крови, прошу простить вашего покорного слугу!
Мрачный, как туча, главный визирь оборвал его:
— Не тяните! В чем дело?
— Страна наша не желает больше видеть в своих пределах Ерназар Алакоза, поэтому каракалпаки собрали скромный дар нашему великому хану и послали нас к вам.
— Повторите еще раз! — грозно рявкнул главный визирь. — Повторите!
Фазыл выпрямился.
— Цель нашего приезда — донести до вас желание всего народа…
— Вся страна боится-страшится волка Алакоза! Недовольна им! — поспешно встрял в разговор Мамыт. — Не жалейте волка, иначе он истребит всех овец! Не останется на земле ни одного живого каракалпака!
Каракум-ишан сидел с опущенными веками, поглаживая свою подобную черному вееру бороду; на его лице ничего нельзя было прочесть — ни радости, ни огорчения. Главный визирь сделал едва приметный жест, и на пороге появились Маулен и Шонкы.
Саипназар сразу же вскинулся:
— Ага, попались!
Маулен загадочно молчал и улыбался, он чувствовал себя под защитою самого главного визиря.
— Ха-ха! Тебя, Саипназар, совсем не красит яростный взгляд… быка. Ты больше похож на общипанную лисицу! И место твое — в зиндане! — все-таки не удержался и буркнул Маулен.
Саипназар аж побагровел от такой наглости.
— Фазыл-бий, повтори еще разок, зачем вы оба пожаловали к нам? — приказал главный визирь.
— Страна каракалпаков ждет не дождется, чтобы хан заткнул рот Алакозу. Он отрекся от истинной веры. Он язва на теле нашей земли… В знак этого мы доставили в Хиву дар нашего народа.
Узенькие глаза-щелки Маулена округлились, как у совы; нервный тик охватил Шонкы.
— Верные сыны ислама! Верные сыны каракалпаков! — Ишан попытался как-то помочь Маулену и Шонкы, выручить их. — Оказывается, Аскар-бий обманул, ввел в заблуждение не меня одного!
— У нас все мечтают избавиться от злой воли Ерназара, — заявил Фазыл. — Все, вплоть до немощных стариков! Мечта эта не предосудительна!..
— Фазыл-бий, чем твои спутники докажут, что они враги Алакоза? — прервал его главный визирь.
Саипназар в мгновение ока обнажил плечо:
— Вот он, след Алакоза! Каждый раз, когда мои дети задают мне вопрос: «Что это? Откуда это у тебя, отец?»- не знаю, куда деваться от стыда!
— Но ведь… но ведь как же так? Вот этот бесстыжий Мамыт подбивал людей поставить для Алакоза новенькую юрту! — попытался восстановить истину. Маулен.
— Великий главный визирь, мой ишан, не стану отрицать, он сказал правду. — Благообразное лицо Мамы-та залилось краской. — Когда жена Алакоза была еще девушкой, я хотел жениться на ней. Но он с помощью своей матери вскружил Рабийби — так зовут ее — голову, увел у меня. Никогда этого ему не прощу!.. Я рассчитал так: если в Хиве накажут по справедливости, то есть убьют Алакоза, его вдова достанется мне вместе с новой юртой… Не бывает человека, который не стремился, хоть самую малость, к достатку!
Ишан подошел к Мамыту, похлопал его по спине.
— Кто самый счастливый человек на земле? Такой, как вы, правдивый и искренний человек!
— Мне пришла на ум одна мудрость, — решил Маулен не сдаваться и хоть как-то выпутаться из создавшегося положения. — Кто раньше вспыхнет, тот раньше и потухнет… Алакоз вспыхнул рано.
— Говорят еще и так: у муравья перед гибелью вырастают крылья. — Уж от кого от кого, но от этого нахального выскочки Маулена Саипназар отставать не желал. — Алакоз стал крылатым муравьем.
— Нечестивца Алакоза не заботит, что обрести счастье трудно, а потерять — ничего не стоит! — присовокупил Мамыт.
— Великий главный визирь, осчастливьте этих богобоязненных мусульман! — вскричал Фазыл; уж очень ему не хотелось, чтобы сейчас, при свидетелях, разгорелась склока между его земляками. — Пожалуйте двоим из них халаты из собственных рук, а наш святой ишан двум другим дарует по молитвенному коврику. Тогда все они станут счастливейшими из смертных!
— Ну что ж! Подарки они получат завтра, при людях, когда все соберутся на утренний намаз! Пусть это станет истинным торжеством и вознаграждением по заслугам! — Главный визирь отпустил всех.
Когда каракалпаки остались одни, Саипназар сказал Фазылу:
— О, да ниспошлет аллах тебе благополучия, Фазыл-бий! Если бы не ты, не сносить бы всем нам головы. Почитай, сами на собственную казнь пожаловали!
— Да, опростоволосились, опростоволосились наши «умники» Маулен и Шонкы! Опозорились! — насмешливо протянул Мамыт. — Поделом им!
Однако, когда утром люди собрались на утренний намаз, среди них царили уныние и страх. Ночью дворец был окружен туркменами. Они перебили стражу и скрылись. Дворец замер, погрузился в тишину. Улицы Хивы опустели, люди попрятались по домам. Главный визирь призвал к себе на совет Каракум-ишана. После долгого раздумья ишан выразительно хмыкнул раз-другой, а потом веско произнес:
— Ночной набег — дело не такое уж простое! Туркмены не только проявили свою обычную враждебность! Но выразили таким образом свою поддержку Алакозу. Не исключаю, они, возможно, рассчитывают, что нукеры кинутся в погоню за ними, город же и Алакоз окажутся без должной охраны, тут они и ударят! Вы не хуже меня знаете, как туркмены стремительны и увертливы! Не исключаю также, что их подбили на это русские! Надо обо всех этих соображениях поставить хана в известность…
По правую руку хана уверенно расположился главный военачальник, это пришлось не по нутру главному визирю. «Вот пройдоха, уже успел проникнуть к хану! Расселся тут! И когда только успел, ведь хан и вернулся-то с охоты недавно, чуть сам не напоролся на туркмен!»- подумал он и важно занял свое место.
— Ваше мнение? — коротко, забыв о приветствии, бросил хан.
Главный визирь изложил ему то, что только что услышал от ишана, но изложил как собственное мнение. Главный военачальник вытянулся перед ханом:
— Наш великий хан, когда человек стареет, он отстает от жизни, советы его становятся, как бы это поточнее выразиться, — дряхлыми… Слова главного визиря, увы, подтверждают эту истину. Иначе разве стал бы он возражать против того, чтобы настигнуть разбойников и уничтожить их! Эту жалкую кучку! Наш великий хан, один ваш знак — и мои люди догонят их и полностью уничтожат.
— Действуй! — приказал хан.
28
После встречи с Каракум-ишаном Ерназар почувствовал боль и тошноту. Тенел решил, что у Ерназара открылась рана и ее следует перевязать. Неумелыми руками он нечаянно содрал с раны корку запекшейся крови. Ерназар застонал, заметался, но тут раздался шепот стражника:
— Твоя жена принесла нашему главному начальнику кучу денег. Он поделился со мной и в придачу дал напильник для тебя, Алакоз… Да, бедность не тетка! Бедность — огненная рубаха, которая жжет человека! Ведь у меня детей целый воз — мал мала меньше. Ради них я пошел на это, ради них… — Он бросил сверху напильник, тот глухо звякнул. — Работайте осторожно, прислушивайтесь, не идет ли кто… и еще — не сбрасывайте кандалы сразу, вдруг кто придет проверять и нас, и вас! Каракум-ишан коварен!..
Руки ослабевшего Алакоза еле-еле водили по металлу, Тенел обливался потом, старался изо всех сил своих… Кандалы же будто решили вступить с Ерназаром и Тенелом в неравное состязание — едва поддавались.
Ранним утром над ними опять раздался шепот стражника:
— Ну как, Алакоз, закончили? Нынешней ночью совершили набег туркмены! Жаль, мы заранее не знали! Вот бы вам сбежать во время переполоха!..
Ерназар рассчитал: им с Тенелом понадобится не менее одного дня, чтобы довершить начатое.
— Эх, аттегене, аи как жаль, некстати все это! Теперь повсюду усилят стражу, расплодится нукеров, что навозных жуков! — крякнул досадливо Ерназар. Но чтобы не расстраивать приунывшего Тенела, он задрал голову и сообщил стражнику:- Сегодня распилим!
— Алакоз, когда выберетесь, свяжите меня крепко-накрепко, избейте, оставьте синяков побольше. Но не усердствуй! Помни — у меня детей куча… — увещевал стражник почти со слезами.
Ерназар трудился, потел вместе с Тенелом до поздней ночи, они даже отвлекаться на еду не стали. Когда наступила ночь, наверху раздался топот. Ерназар сунул напильник под себя. Топот все усиливался.
— Ерназар, ты где? — отчетливо прозвучал знакомый хрипловатый голос Генжемурата.
Ерназар рванулся навстречу этому голосу:
— Мы тут!
Он распростер руки, кандалы со звоном упали, со-скользнули с него вниз, на зловонный холодный пол. В кромешной мгле он не разобрал, чьи руки вытаскивали его с Тенелом из темницы, — рук было много. У крепостной стены он оказался нос к носу с Михайловым.
— О, Михайлов! — вырвалось у него с удивлением и радостью. — Как ты здесь…
— После, после! Двигайся за Генжемуратом! За крепостной стеной ожидают друзья.
— Стражника, стражника свяжите… — были последние слова Ерназара, перед тем как он забрался на спину Генжемурата.
Его тут же опять подхватили чьи-то руки, потянули, подняли наверх. Сначала Ерназара, потом Тенела посадили на коней — все было проделано бесшумно и быстро. Ерназар признал среди всадников Ерназара-млад-шего и Зарлыка.
— А как же Михайлов и Генжемурат? — все-таки успел осведомиться он.
— Они сначала убедятся, что нам удалось скрыться, потом… скроются сами.
Когда выбрались из города, Ерназар спросил:
— Где моя жена?
Вместо ответа Зарлык огрел коней Ерназара и Тенела, сам же отделился от группы, повернул в другую сторону.
— Ерназар-ага, следуйте за мной, — донесся из тьмы голос Ерназара-младшего. — Михайлов посоветовал, чтобы мы бежали из города по восьми дорогам, так нам легче будет обмануть преследователей. Мы соберемся потом у «русской стены».
Ерназар не стал допытываться, что это за «русская стена» такая, и лишь молча пришпорил коня.
* * *
Главного визиря словно на адском огне поджаривали… Его распирало от ненависти к главному военачальнику — виновнику его унижений и позора. Он слал ему самые страшные проклятия, изобретал в уме самые изощренные пытки для него.
На рассвете призыв к молитве был заглушен во дворце паническим воплем:
— Бежал Алакоз!
— О боже! — в ужасе схватился за голову главный визирь и поспешил к хану.
Хан расхаживал по приемной большими шагами, тут же толпились испуганные насмерть сановники.
— Никого не схватили? — спросил хан.
— Схватили одного. У самого зиндана. Главный визирь, Каракум-ишан и еще несколько
сановников отправились в зиндан.
— Кто? Когда? Как? — Главный визирь поставил ногу на связанного, избитого стражника.
Стражник шевельнул разбитыми губами:
— Не знаю.
— Эй, палач! Повесить этого растяпу на городских воротах! Пусть весь город любуется!.. Где задержанный?
По приказу главного визиря человека с изуродованным до неузнаваемости лицом подняли, прислонили к стене. Главный визирь спросил его имя.
— Векторе! — тихо, но внятно ответил он.
— Не неси околесицу! Друзья не оставили бы тебя, если бы ты действительно был Векторе! Тоже нашелся «господин бек»! — пролаял, как пес, главный визирь.
Векторе промолчал, будто это не к нему обращался могущественный ханский министр.
— Кто возглавлял шайку? Ответом опять было молчание.
— Сколько вас было?
— Я один.
Не бреши! Был с вами русский?
Я был один! — повторил с достоинством Векторе.
— Обратите внимание, мой главный визирь, — все каракалпаки такие вот упрямые. Иметь дело с ними — чистое наказание! — воскликнул со вздохом ишан. — Будто они из железа!
— Не будь мой народ железным, вы давно истребили бы его! — повысил голос Векторе.
— Гордец паршивый! И перед смертью талдычит — «мой народ»! Ты что, сын бая иди бия? — хмыкнул кто-то из свиты главного визиря.
— Да он пес безродный, сирота! — презрительно процедил сквозь зубы Каракум-ишан.
— А ты кто? Уж не тот ли нищий, что бродил по нашим аулам, все вынюхивал, да подслушивал, да канючил, чисто пес шелудивый! Как это тебе удалось вдруг ишаном заделаться, оборотень ты эдакий!
— Не удивлюсь, если и наш главный визирь покажется этому безумцу… если он примет его за, за… такого же бездомного бродягу и сироту, как и он сам! — захлебнулся, растерялся, начал заикаться ишан.
— Если тебе дорога жизнь, отвечай: кто подбил вас на это преступление? — Главному визирю сравнение Каракум-ишана не понравилось.
— Я!
— Хочет выказать себя храбрецом, — хихикнул кто-то. — Если ты любишь свой народ, то отвечай правду — народу ты живой нужен! На кой черт ему твое мертвое тело?..
— Я люблю свой народ и тех, кто его любит! — гордо поднял Векторе обезображенную голову.
— Палач, этого тоже волоки к городским воротам, пусть болтается рядом со стражником! Одумается, захочет говорить — мы даруем ему жизнь!
Нукеры обследовали все вокруг! Определить, по какой именно из восьми дорог умчался Ерназар, было невозможно. Главный визирь обмолвился будто ненароком, когда ему доложили об этом:
— Да, да, нескладно получилось! Наш главный военачальник маловато оставил в городе нукеров, маловато!.. Конечно, невозможно предвидеть все, но…
— Я счастлив, что вы убедились в моей правоте, — напомнил главному визирю Каракум ишан, как только они остались наедине.
— Я-то убедился! Убедился! — досадливо поморщился он. — Но вот как быть теперь, как вести себя? Что доложить хану?
— Если дать понять хану, даже тонко, очень осторожно, что вчера он отдал ошибочный приказ, — это равносильно тому, что добровольно пойти на виселицу и самолично накинуть себе петлю на шею… Нужно придумать что-то умное…
— Меня, кажется, осенило! Ведите меня к хану! — потребовал ишан.
— Вы подозреваете, что каракалпаки замахнулись на самого хана?
— Берите дальше и выше! Я подозреваю, что здесь не обошлось без русских! Чует мое сердце, что это все они придумали!
Совершенно подавленный событиями, главный визирь поморгал и растерянно протянул:
— Если на овцу накинуть тигриную шкуру, вряд ли все-таки овца превратится в тигра!.. Я чего-то не понимаю, не улавливаю… Вы столько раз твердили о никчемности русских… Ни на что-де они не способны…
— Овца, разумеется, не станет тигром в его шкуре, но напугать других — напугает… — внушительно втолковывал ишан главному визирю. — Не топор режет, мой великий и мудрый главный визирь, а мастер! Тот, кто искусно им владеет!
29
«Русская стена» показалась Алакозу настоящей крепостной стеной — высокая, прочная, довольно широкая. Рядом с нею был поставлен теплый, удобный и вместительный шалаш. Землю в нем покрыли шерстяными кошмами и туркменскими коврами. И стена, и шалаш пришлись Алакозу по душе.
— Получше да потеплее будет, чем в юртах богачей, — одобрительно хмыкнул он, расположившись в шалаше.
— Ковры принесли Аннамурат и его джигиты, — пояснил Ерназар-младший. — А теперь отдыхайте! Разговаривать и дела решать будем, когда подоспеют все соколы.
На другой день Алакоз проснулся будто заново рожденный. Он с удовольствием напился чаю, заваривать который Ерназар-младший был мастак. Спустя час-другой Алакоза, однако, стало тревожить, что соколы собираются чересчур медленно.
— Не беспокойтесь! Они скрываются в лесах, не хотят наводить на след ханских собак, — успокоил его Ерназар-младший.
— В ваше отсутствие нами тут командовал Михайлов. Очень он умный человек, многому научил нас. Это его затея, чтобы туркмены всполошили своим набегом хана и отвлекли из Хивы часть нукеров. Да разве туркмен догонишь, — засмеялся Ерназар-младший звонко и молодо. — Они рассыпались по степи как горох… Это опять же Михайлов велел нам бежать в разных направлениях. Он очень хотел поскорее освободить нас!
— Ерназар-ага, помните, вы обещали, что обязательно побываем в русском царстве? — напомнил Тенел.
В шалаш пулей влетел подросток лет четырнадцати-пятнадцати и замер на пороге от смущения и растерянности. Судя по всему, он очень торопился — сильно запыхался и никак не мог унять частого прерывистого дыхания. Ерназар удивленно уставился на оборванца, а Тенел обрадовался, вскричал:
— Хау, да это же Каллибек!
Алакоз припомнил, как этот парнишка однажды отчитал его за то, что у него в кармане не нашлось медного гроша. Ерназар-младший решил для острастки спросить мальчика, зачем он здесь, чей он и откуда.
— В ауле ходит много всяких слухов и разговоров о «русской стене», вот я и решил взглянуть на нее собственными глазами. — Каллибек метнул на Ерназара-младшего дерзкий взгляд.
— Где твои попутчики? Чей ты сын?
— Разве умный человек пойдет искать стену, о ко торой не должны знать враги, с ненадежным человеком? Но я пришел сюда один. А моим отцом был бедный дехканин Бекжан.
— К какому роду ты принадлежишь? — продолжал допытываться Ерназар-младший.
— У нас, сирот, не заведено интересоваться, спрашивать друг у друга, какого мы роду-племени! — насупился Каллибек.
Ответ понравился Алакозу.
— Каллибек, если я задам тебе вопрос, ответишь ли ты мне? — спросил он со значением.
В старых обычаях было испытывать молодежь мудреными вопросами, но не всех и не каждого, а лишь тех, на кого аксакалы или именитые люди возлагали свои надежды. Такое испытание считалось честью, и сироты ее никогда почти не удостаивались… Каллибек напружинился, подобрался, как птица перед полетом, однако на его желтоватом худом лице нельзя было обнаружить следов волнения.
— Скажи-ка мне, какое, по-твоему, самое плохое слово?
То, из-за которого человек способен возгордиться, зазнаться!
— Как ты думаешь, какой человек в этом мире счастливый, а какой — несчастливый? — Ерназар Алакоз испытующе взглянул на Каллибека.
На этот раз Каллибек подумал, прежде чем ответить.
— На этот вопрос дать один-единственный ответ нелегко, Ерназар-ага. Потому что каждый понимает счастье и несчастье по-своему. Для некоторых счастье — это всего-навсего достаток в доме. По-моему, счастливый тот, кто знает жизнь и людей. Если же подразумевать, что такое счастье или там несчастье в семье, то в народе говорят так: когда муж плохой — семья несчастлива наполовину, когда жена плохая — семья несчастлива полностью.
Алакоза поразила взрослость, почти неправдоподобная для подростка. Мальчик рассуждал, как умудренный жизнью человек. Ерназар-младший был удивлен не меньше; он полюбопытствовал:
— Эй, откуда тебе все это известно?
— Сирота кормится у разных людей, не в одном доме! Не стану лгать: в каких только аулах и семьях я не перебывал в поисках хлеба! Для меня все люди одинаковы — и те, кто сунул мне в руку кусочек лепешки, и те, кто ничего не дал… А вот в сундук моей души каждый что-то да вложил, а я сохранил!
Ерназар частенько мечтал о том, как он возьмет с собой в Оренбург Тенела и Бердаха, оставит их там учиться, постигать русскую науку. Сейчас он подумал: «Хорошо бы вместе с Тенелом и Бердахом прихватить и Каллибека!»
— Если я отправлю тебя в другую страну, как ты на это посмотришь?
— Для меня это будет самым большим счастьем! Увидеть мир, узнать, как живут разные люди! Что составляет их радость, что — печаль!..
Тезка, а у тебя не пропало желание совершить путешествие в русское царство? — осведомился Алакоз у Ерназара-младшего.
— Я человек слова! Я не меняю своих намерений! — солидно изрек Ерназар-младший.
Ближе к полуночи к «русской стене» прискакали на взмыленных лошадях Мадреим и Мухамедкарим. Ерназар-младший всполошился:
— Разве вы были не втроем?
— Векторе схватили! — с горечью сообщил Мадреим.
— Не может быть! — вырвалось у Ерназара-младшего, он побледнел. — Где схватили?
— Его поймали у самой стены, можно сказать — за ноги с нее сдернули! — всхлипнул Мадреим.
— Он не выдержит пыток! Он приведет сюда ханских нукеров! — Ерназар-младший был в панике.
— У нас есть выход — сняться отсюда! — попытался успокоить всех Алакоз. — Но почему задерживаются Михайлов и Генжемурат?
— Они должны оставить ложные следы в Туямую-не, а Зарлык с джигитами — в Ходжейли!
Казалось, воздух наполнился ожиданием несчастья. Каллибек и Тенел, уединившись в уголочке, о чем-то шептались.
— Каллибек, ты хорошо знал Векторе. Какой он парень? — спросил Алакоз.
— Умный, спокойный, — тотчас же откликнулся Каллибек.
Умеет хранить тайны?
— Еще как! И потом — он терпеливый. Иногда кто-нибудь из сирот жаловался ему, как бессердечны сытые люди. А он говорил: «Сытый голодного не разумеет! А ты терпи, как твой народ терпит голод и лишения».
— Молодец Векторе!.. — улыбнулся Алакоз мальчикам. — Конечно, пока все не соберутся, нам с вами, джигиты, придется подрожать да потрястись слегка, на то нынче и холода! — смягчил он свои слова шуткой. — Может, чтоб отвлечься, поговорим, помечтаем, а? Вот ты, Мадреим, чего бы ты хотел?
— Мира! Покоя! Если так оно и выйдет, я создам снова семью.
— А есть ли у тебя кто на примете? — поинтересовался Алакоз.
Мадреим встрепенулся, лицо его просияло, озарилось внутренним светом.
— Коли джигиту повезет с женой, его печаль уменьшится вдвое, а радость увеличится вдвое. Я раньше не верил, что бывают хорошие жены, а теперь поверил, убедился! — Мадреим задохнулся от восторга и волнения. — Имя моей мечты — Гулзиба. Плохо только, что я уже сейчас ревную ее ко всем на свете!
— Заруби у себя на носу, страдалец ты мой! Ревность мужа все одно что бешеная собака: на хозяина лает, а вора в дом пускает. — Мухамедкарим дружески толкнул Мадреима локтем в бок.
— Ерназар-ага, оказывается, Сержанбай умным был человеком, проницательным! Какую жену себе высмотрел-выбрал! Хоть на старости лет, на закате жизни, да повезло ему с женой.
— Почему «был»? Разве он умер? — Ерназар почувствовал спазм в горле.
— Умер, а как же, умер! В ту самую ночь, когда вас угнали в Хиву. Эту весть, вернее, обе вести сообщила нам Гулзиба! Пришла к вашей юрте уже в трауре и объявила. Какая она была красивая!
— Да, она умная женщина, — произнес Алакоз веско. — Мне понятны твои намерения и желания, Мадреим. Ну, а ты, Мухамедкарим?
— А что я… Недаром говорят: удивляться надо не тогда, когда кукушка садится в чужое гнездо, а тогда, когда она совьет свое. Я как кукушка… — пожал в смущении плечами Мухамедкарим.
Ерназар-младший не стал делиться с друзьями тем, что собирается делать, как собирается жить. Он рассказал Ерназару, как все переживали за него, как каждый старался хоть что-нибудь, хоть самую малость внести, чтобы только освободить его, вырвать из лап хивинцев. Вспоминал, кто как себя проявил, что сказал… Сообщил он и то, что собранные средства должны были отвезти в Хиву Саипназар и Мамыт во главе с Фазылом.
— Я всем вам благодарен, — голос Алакоза дрогнул. «Вот о каких деньгах стражник толковал мне! Только он-то считал, что их сунула тюремной страже моя жена, — размышлял он. — Это, наверно, придумал Фазыл, он расчетливый, сметливый, решил небось, что хана купить сложнее, чем стражу! А тюремщики народ алчный — за деньги отца родного продадут, не то что своего хана!»
На рассвете послышался конский топот — это прибыл Зарлык со своими соколами, а спустя час-другой стали подтягиваться и остальные. Когда уже все, кажется, отчаялись дождаться Михайлова и Генжемурата и' уже стали свыкаться с мыслью, что они скорее всего тоже угодили в руки врагов, на опушке леса показались Михайлов и Генжемурат. Их кони ступали рядышком, грива в гриву. Было видно, что оба всадника утомлены, но ничем не встревожены. Это сразу приободрило и Алакоза, и его соколов.
— Джигиты, мы заставили вас изрядно поволноваться, — были первые слова Михайлова. — Но мы сделали большой крюк с Аннамуратом и его друзьями, чтобы наверняка сбить с толку преследователей.
Туркмены все целы?
— Целехоньки. Они скрылись в направлении Устюрта. А сами-то вы как?
— Живы-здоровы, головы тоже на месте! — переговаривались между собой соколы.
Начали разжигать костры, готовить котлы; соколы суетились, довольные удавшейся операцией. Теперь, когда с ними был Алакоз, они чувствовали себя уверенно, считая, что все образуется, будет как надо. Их оживление и радость погасил Мухамедкарим. Он не выдержал всеобщего ликования; ему казалось, что грех молчать, грех скрывать правду, таящую опасность.
— Джигиты, Векторе попался!
— Что, что ты сказал? — подступили к нему со всех сторон…
Словно рухнули разом все подпорки уютного, надежного шалаша и пронесся над его развалинами холодный ветер. Воцарилась тишина, изматывающая, оглушающая сильнее, чем раскаты грома. Все забыли про весело потрескивающие костры, про бурно кипящие котлы со свежим мясом. Каждый примерял по-своему и опасность и последствия того, что Векторе оказался в ханском застенке. Все с тревогой и надеждой погля дывали то на Михайлова, то на Алакоза.
— И зачем мы только взяли с собой Векторе!
— Попробуй не возьми его! Он был такой хитрющий! Все равно бы увязался!..
— Зачем так! Он не хитрый вовсе, а умный!
— Какая разница, что хитрый, что умный!
— Очень большая!.. Умный заботится о пользе народной, а хитрый — он только о своей выгоде печется!
Тогда, выходит, среди каракалпаков тьма-тьмущая хитрых… И среди хивинцев тоже! — не сдавался джигит, который назвал Векторе хитрым.
— Кто взбирается на коня, всегда рискует и под конем оказаться! — произнес строго Михайлов. — Вы взялись за священное дело, стали соколами. Да будет вам известно — не вы одни поднялись против своего угнетателя хана. У нас в России люди тоже не раз восставали против царя. Даже во времена правления великого нашего царя Петра Первого — против него, против несправедливости господ крестьяне поднимались! Их вождем был Кондратий Булавин; он, между прочим, обращался за поддержкой к каракалпакам… Так-то вот!
Все подались к Михайлову, окружили его, просили взглядами: расскажи, расскажи еще! Михайлов, переглянувшись с Алакозом, стал рассказывать соколам о Пугачеве, о Разине, о декабристах.
— А вы сами, вы тоже против царя? — без обиняков спросил молоденький чернобровый сокол.
— Как вам поточнее ответить? Хоть я и русский, но хвалить всех русских подряд за то лишь, что они русские, не буду. В царском окружении немало мерзавцев и холуев, которым наплевать и на свой народ, а уж на другие народы — тем более. Поэтому-то отчасти до сих пор и не осуществилась мечта ваших предков о присоединении к России. Для меня нет народов плохих и хороших. Одни — звезды побольше, другие — звезды поменьше, а так все равно каждая звезда — это звезда, и каждая светит по-своему.
— А религия? — раздался робкий голос.
Все насторожились,'замерли в ожидании ответа.
— Религия? По-моему, религия — что конь, конь с разными седлами да с разными всадниками.
Воины приутихли, стараясь осмыслить то, что услышали.
— Соколы, а не последовать ли нам за Михайловым?.. Задерживаться здесь опасно! — направил разговор в нужное русло Алакоз. — Мы с вами собирались продолжить учения поближе к Оренбургу…
— Может быть, среди вас есть такие, кто желал бы побывать прежде дома? Наведаться к своим? — предложил Зарлык, прочитавший на лицах некоторых замешательство.
— Джигиты! — вскричал Михайлов. — У нас, русских, есть хорошая поговорка: «Тайну, которую не должен знать враг, не открывай даже другу».
Алакоз оглядел всех внимательно, зорко. Потом произнес, как отрубил:
— Соколы! Не будем обсуждать очевидное! Будет лучше, если мы все сразу же двинемся в путь!
— Может, оставить Тенела? Чтоб наши семьи зря не тревожились, не волновались, а? — протянул нерешительно Мадреим.
— Нет, оставаться не должен никто! — твердо и непререкаемо приказал Алакоз. — Если мы не будем сейчас разбиваться на группки, в аулах и так поймут, что мы — все вместе, когда нас много — мы сильны.
Тронулись в путь…
На рассвете, когда соколы приближались к Казах-дарье, им повстречались Каракум-ишан, Фазыл, Саип-назар, Мамыт, Маулен и Шонкы. Каракум-ишан почувствовал, что отряд Ерназара хочет миновать их молча, без объяснений, и поехал ему наперерез.
— Ерназарджан, задержитесь! — Ишан прытко соскочил с коня и неожиданно для всех склонил голову в белой, как очищенный лук, чалме, приложил руки к груди. — В соответствии с указанием великого хана я склоняю перед вами голову! Я обязан огласить его новый фирман.
— О чем же? Уж не о том ли, чтобы всех нас засадить в зиндан?
— Нет, нет! Что вы! Всем вам хан пожаловал должности, — поспешил объяснить Фазыл. — Мой ишан, поторопитесь!
— Вы помогли бежать Ерназару, но все равно, все равно и деньги сыграли свою роль. Хан смилостивился, — чуть не визжал от восторга Саипназар.
— Ерназарджан, кыраны! — Каракум-ишан поднял вверх руку, в которой держал нагайку. — У меня хорошая, благая весть для вас! Великий хан понял ваши обиды, внял вам! Он просит вас забыть былое! Он издал фирман, по нему каждый из вас удостоен какой-нибудь должности — бия, военачальника, сотника…
Кыраны, заинтригованные этим известием, подались ближе к ишану. Он вытащил из-за пазухи свиток, развернул его и принялся перечислять.
— Биями объявлены: Жаныбек из рода бессары, Саипназар из рода мангыт, Артык из рода балгалы… Можно сказать, никто не обижен!.. Рахманберды из рода баймаклы, Асан и Мадреим из рода ктай, Сырым из рода кипчас, Ерназар из рода кенегес, Генжемурат из рода муйтег, Арзы из рода костангали, Абди из рода канглы, Кадырмухамед из рода куйын… — Ишан перечислял имена монотонно, будто читал молитву. — Среди тех, кому пожалован чин сотника, — Кутлымурат, Му-хамедкарим…
— Эй, Маулен, тебе что пожаловал хан — бийство или чин сотника? — радостно, во всю глотку завопил Мухамедкарим.
Маулен подогнал коня к соколам, присоединился к ним.
— Мне похвастать нечем! В плохое время мы живем! Если бы я был подлый да коварный, я один восседал бы возле ханского трона, один из всех каракалпаков! — пробурчал насмерть обиженный Маулен.
— Э-э! Должность не тому дают, кто за ней гоняется, а тому, кому суждено ее получить!.. — Мадреим захлебнулся смехом.
Маулен выпустил длинное-предлинное ругательство.
Алакоз увидел, что среди кыранов растет возбуждение. В мгновение ока выхватил он из рук ишана фирман, разорвал его в клочья, бросил на землю.
— Зачем, почему? — ахнул Ерназар-младший. — Или ишан читал нам не то, что было в бумаге?
— Разве это важно? Поверить хану, уверовать в его благие намерения — все равно что на воду опираться. По-моему, хан задумал с помощью этого самог9 клочка бумаги заманить нас в Хиву! А там расправиться с нами! — громко закричал Ерназар, обращаясь к соколам.
Ишан вытащил Коран и приложил его ко лбу:
— Если хан великой Хивы причинит вам малейший вред, малейший урон, пусть меня покарает аллах!
— Ерназар, мы из одного рода, у нас с тобой одни предки, — выступил вперед Мамыт. — Если я вру, обманываю вас всех, пусть и меня покарает аллах! Хан хочет примирения!..
К Ерназару вплотную подъехал Фазыл.
Уж не потерял ли ты окончательно совесть, Ерназар! Не грех ли так оскорблять ишана! — вскипел он. — Ведь он послан нам, каракалпакам, на счастье! Хан дорожит его словом больше, нежели богатством, которое мы ему принесли в дар! Твою судьбу решило слово ишана! Тебе сохранили голову, всем вам пожаловали чины и должности! Ты, Алакоз, вместо того чтобы радоваться и благодарить, оскверняешь дастархан, ханский дастархан, с которого все мы кормимся!
— Фазыл, твоя горячность мне понятна! — заявил спокойно Алакоз. — Но пойми и ты меня! Не верю я хану, не верю! Он обманывает и ишана, и всех вас, и тебя тоже. Это мое убеждение!.. Джигиты, не будем задерживаться!
— Ерназар-ага, остыньте! А вдруг все это не обман, а правда? Чистая правда? — урезонивал его Ерназар-младший.
— Если вы сомневаетесь, пошлите в Хиву верного человека, — заявил ишан.
— Верно! Я съезжу и все разузнаю! — горячо поддержал Ерназар-младший. — Пока я не вернусь, вы этих пятерых из рук не выпускайте… Я сейчас мигом домой, прихвачу еще одного коня — и в Хиву! Если меня не будет через пять суток, можете снимать с этих людей головы и отправляться куда порешили…
— Ловко придумал! Мы и боролись, добивались, чтобы стать вожаками своих родов, аулов, а стало быть, и страны. Если хан уразумел это наконец, то и хивинское ханство нам подходит, — надрывал горло Мадреим.
— Правильно, правильно рассудил Мадреим! — загалдели, те, кто получил ханскую милость.
Сердце Алакоза упало.
— Что скажешь, Генжемурат?
— Сейчас должен решать ты!
— Зарлык, а что думаешь ты?
Зарлык опустил голову и промолчал. Алакоз с надеждой обратил взгляд к Михайлову, но ишан поспешил сказать:
Чего тут раздумывать? Твои люди, Алакоз, предлагают дело! Если вы обнаружите, что я солгал, можете повесить меня на первом же турангиле! Пока ваш джигит будет отсутствовать, свяжите меня по рукам и ногам! Я согласен.
— И откуда вдруг взялось-отыскалось столько должностей! Во всем хивинском ханстве раньше никогда их не было в этаком изобилии! — с напускным смирением покачал головой Генжемурат.
— Да-а-а! Если раньше ханское знамя держало немного рук, то теперь его понесут во-о-он сколько! — загадочно присовокупил Михайлов.
— Двум рукам трудненько держать пару знамен, но одно знамя должна держать пара рук! — проскрипел ишан, сверля Михайлова ненавидящим взором.
— Джигиты, следуйте за мной! — воззвал к соколам Алакоз. Однако никто, кроме Михайлова, Генжемурата, Зарлыка и еще двух-трех всадников, не тронулся с места. Алакоз попридержал коня. — Ну, коли так, скачи, Ерназар, в Хиву! Вместе с Генжемуратом!
Алакоз не стал отделять ишана от его спутников. Он распорядился, чтобы их отвели в лачугу, что находилась рядом с «русской стеной» и шалашом.
На пятые сутки, в сумерки, из Хивы прискакали Генжемурат и Ерназар-младший. «Фирман хана — подлинный, — сообщили они, — не поддельный…»
Алакозу будто кинжал в сердце вонзили — теперь соколы за ним не последуют…
— Ерназар! Ты счастье приносишь, ей-же-ей! — заплясал Мадреим. — Пошли мы за тобой — и нам счастье выпало! Теперь можно и расходиться с миром по домам!
— Мадреим, ты что, чужие мысли умеешь читать? — вскричал Ерназар-младший. — Вы, Ерназар-ага, возобновили «ага-бий», обучили нас всяким премудростям, уму-разуму научили!.. Вы создали отряд каракалпакских соколов! Трудности, лишения — мы всё выдюжим теперь!.. Дали нам воинское мастерство! — заливался он соловьем, — Даже от русских мы не получили бы столько высоких должностей да чинов, как от Хивы!.. Бекто-ре-сирота не выдал нас, и это тоже из-за уважения к вам! Какое на нас свалилось счастье, какая удача!
— Где Векторе? — Алакоз был мрачен.
— Его повесили на городских воротах, так до сих пор и…
Ерназар сглотнул слюну, перевел дыхание.
— Да, хан милостив, очень милосерден наш хан!..
Соколы приумолкли.
— В детстве у нас была игра в «дыни». Ребята лепили из глины дыни, стараясь опередить друг друга — кто раньше, кто быстрее слепит. — Зарлык поочередно поворачивался лицом к своим соколам. — Тот, у кого дыня не получалась как надо, быстренько разрушал ее, остальные следовали его примеру. Все своими руками ломали дыни, которые только что слепили, ломали да еще при этом приговаривали: «Нашу игру нарушил черт…» Даже вступали в состязание: кто раньше всех разрушит то, что сделал собственными руками…
— Зарлык, мне твои намеки не ясны, вернее — не нравятся… Среди нас нет глупых детей, — Мухамедка-рим был слегка обескуражен и обижен.
— Ерназар-ага, у вас, по-моему, нет оснований обижаться на народ и на своих джигитов, — пробовал оправдаться Ерназар-младший. — Сейчас все надо принять таким, как оно есть. Слава богу, вы избежали страшной опасности, можете спокойно вернуться в аул, к семье… Правда, в Хиве нам дали понять, что показать пример в сборе ханского налога первым должны вы…
— Голова повинна в том, что творит рука! — с грустью произнес Алакоз. — Я не смог стать хорошей головой, не сумел…
— Джигиты! — возвысил голос ишан. — Хоть вам это будет и не по нраву, предупреждаю вас: хан недоволен тем, что среди вас находится русский! — Он двинулся прочь, за ним потянулись остальные.
Около «русской стены» остались Алакоз, Михайлов, Генжемурат и Зарлык. Алакоз грозно покосился на Генжемурата, и тот вспылил:
Чего ты ешь меня глазами? Что я — враг тебе?
Алакоз долго, долго следил за всадниками, пока они все до самого последнего не скрылись в лесной чаще.
— Кто-то когда-то спросил у мудреца: «Как вы стали мудрецом?» Тот ответил: «Наделал-натворил целую гору ошибок — тогда и стал!..»- буркнул Алакоз и отвернулся от Генжемурата. Потом горячо обратился к Михайлову:- Мы последуем за вами!
Михайлов грустно помотал головой:
— Нет! В таком составе это нецелесообразно. Видишь ли, я сам не понимаю порой всех хитросплетений, всех колебаний в политике нашего царя. Иной раз мне кажется, что он просто боится, остерегается людей, которые прибывают к нему, говорят от имени своего народа. Может, он принимает их за беглецов?
На лице Зарлыка застыли скорбь и безнадежность, он сидел будто глухой и немой. Генжемурат так сжал губы, что они побелели.
— Почему же так все обернулось? — спросил Алакоз у Михайлова голосом, в котором звучали обида и боль.
— Знаешь, главная сила в любом деле — цель и вера в нее! Я думаю, что веры — я имею в виду веру в большом смысле! — было недостаточно! Твой народ, твои джигиты еще не поняли до конца твою высокую цель! Пока не поймут, не поверят — будь к этому готов, — ничего у вас не получится!
— Вера, цель! — вскинулся, вознегодовал Алакоз. — Разве этот народ кому-нибудь, кроме бога или шарлатана какого-нибудь, поверит?
— Поверит, поверит! Если умно поведешь себя! Прежде всего нужно подорвать веру людей в хана и в ишана, поколебать их авторитет! Помните, я рассказывал вам о Иване Калите? Вам пока придется пользоваться его методами…
— Ну что ж, не будем торопить события! — с грустью изрек Алакоз. — Но есть у меня к вам одна просьба. Нельзя нам уже теперь упускать то, что пригодится в будущем… Что, если мы пошлем к вам в Оренбург, Михайлов, двух-трех смышленых ребят? Не поможете им русской наукой овладеть?..
— Попробую! — коротко выразил свое согласие Михайлов.
Ерназар уединился в шалаше с Каллибеком и Тенелом. Беседа их длилась долго.
* * *
Каллибек и Тенел пустились в дорогу с Михайловым. Зарлыка и Генжемурата Ерназар отправил в аулы, сам же остался у «русской стены».
Ему необходимо было побыть наедине с самим собой. Разобраться в событиях, в людях и себе самом. Ерназар чувствовал себя точно волк, рыскающий по вымершему, совершенно пустому лесу, — никому он не нужен. А ему?.. Нужен ли кто-нибудь ему? Из живущих на земле людей? И что такое человек вообще? Человек, в котором так причудливо смешались трусость и смелость, сила и слабость, ум и безумие, верность и предательство!.. «Где уж мне постичь человеческую природу, коли я в себе-то толком разобраться не могу», — в бессилии думал он. Голова у него шла кругом, мысли ме шались, гнали одна другую… Как и почему он так позорно просчитался, обманулся в народе своем, в людях, в джигитах, взлелеянных, воспитанных собственными руками?.. Что нужно, что необходимо народу? И нужно ли вообще что-нибудь? Может быть, его удел — покорность и неволя! Может быть, подачка с ханского стола — это все, чего жаждут те, на кого Ерназар надеялся, кого он принял за народных защитников?.. А чего хочет он сам, к чему стремится, чего добивается? И хватит ли у него мужества и терпения, чтобы опять и опять внушать каракалпакам достойные помыслы и цели, повести их за собой. Хватит ли?.. Люди так устроены, что жалкие крохи, если крохи эти швыряет им хан, слепо принимают за щедрый дар. Да еще славят при этом ти — рана: как-де он милостив, как печется о них, как ценит тех, кто верно ему служит!.. Да, раболепство и покорность, слепота и мелкое тщеславие — как они уродуют людей и как цепко держат в своих когтях!.. Лишь бы сильные мира сего ценили, лишь бы не забыли о пользе и выгоде «ближних своих»!
Ерназару казалось, что он не выдержит и рухнет под тяжестью этих раздирающих сердце дум, разочарований и обид. В конце концов он пришел к выводу, что ему не остается ничего другого, как покончить с собой. Человек, который так опозорился перед народом, перед собой, который остался один, покинутый и преданный своими соратниками, жить не должен и не может!.. Но сначала он обязан объяснить матери свое решение и только потом осуществит его…
— Ассалам алейкум, Ерназар-ага! — услышал он бодрый молодой голос.
— А, это ты, Бердах! Ну, как успехи, как учение у Каракум-ишана?.. — безучастно откликнулся Ерназар.
— Он прогнал меня.
— Прогнал? Почему?
— Ему не нравятся мои песни! — лукаво улыбнулся Бердах. Но улыбка на его лице быстро угасла; он заметил, каким измученным и постаревшим выглядит Ерназар. — Вы сильно утомились, Ерназар-ага?
Ерназар замялся, потом направил разговор в другое русло:
— Если в карман сироты даже положить монету, она там все равно не сохранится — карман-то дырявый! Дорогой мой, отец твой беден, страна твоя нищая, почему бы тебе не обучиться знаниям у ишана, а потом употребить их на пользу отца и страны твоей?.. — Больше он ничего не добавил, лишь сделал Бердаху прощальный жест рукой и повернул назад.
Ерназар, вновь подошел к «русской стене». Он долго гладил стену по шероховатой и холодной поверхности своими огромными ладонями… Потом отпрянул от нее, закрыл искаженное страданием лицо руками, повернулся и поплелся прочь, согбенный, разбитый.
— Эй, Ерназар, что, все твои надежды и сила только в этой стене? — возникла перед ним Гулзиба.
Он встрепенулся, однако не остановился. Гулзиба догнала его.
— Я… я… сердце мое чуяло, что ты останешься здесь один в обиде на весь белый свет…
— Бес, а не женщина! — грубо огрызнулся Ерназар.
— Я женщина! Человек я!
Ерназар оторвал глаза от земли. Гулзиба была одета празднично, будто на свадьбу собралась. Он поморщился:
— Чего тебе надо?
Ты устал! Пойдем, вернемся в шалаш! Тебе необходимо отдохнуть. Успокоиться… Пойдем! — мягко настаивала Гулзиба.
Ерназар почувствовал и слабость, и усталость, и облегчение: ему не надо было принимать никаких решений, за него думают, о нем заботятся…
Гулзиба принялась наводить порядок в шалаше; она заново разостлала кошмы, разворошила слежавшееся сено. Она двигалась с такой естественной грацией и легкостью, она была так хороша, что руки Алакоза сами потянулись к ней. Гулзиба отстранилась от него.
— Сядь и выслушай меня! — В голосе Гулзибы было что-то такое, что заставило Ерназара безропотно подчиниться. Он отступил от нее, присел у входа в шалаш. — Я считаю тебя старейшиной аула, поэтому пришла высказать тебе свою жалобу. В народе говорят: девушка — это лампа, которая светит чужой семье… Увы, мне посветить не удалось…
— Ничего себе девушка! — саркастически рассмеялся Ерназар. — Кого теперь хочешь окрутить, сбить с пути? Мадреима или Маулена?..
Ты очень устал! Ложись, я сделаю тебе массаж! Авось полегчает! — Гулзиба держалась спокойно и невозмутимо.
— Кошка ты!
— Чем с ума сходить да плести невесть что, ложись-ка! Я помогу тебе! Ничего нет целебнее массажа для человека в таком состоянии, как ты… Алакоз упрямо дернул плечом.
Ерназар, Ерназар, меня уже нельзя унизить, оскорбить или испугать! Ради тебя я прошла через ад… А в сердце твоем я вижу лишь змею!
— Раздевайся и меня раздень! — жадно потянулся он к Гулзибе.
Она резко вскочила и выбежала из шалаша. Когда Ерназар выглянул наружу, то увидел, что Гулзиба прислонилась к «русской стене» и горько-горько плачет. Сердце его дрогнуло. Он потихоньку приблизился и осторожно спросил:
— Это ты ездила в Хиву, дала деньги страже? Гулзиба не могла унять рыдания.
Почему ты выдала себя за мою жену? Почему? Разве нельзя было сказать, что я твой брат?..
— Ох, Ерназар! — сквозь слезы вымолвила Гулзиба. — Во всей стране нет человека сильнее и умнее тебя, однако… В чем-то ты как дитя малое… Родственники и друзья-приятели твои — они всего-навсего войлок твоей и моей юрты. А мы друг для друга — остов ее. Неужто ты это до сих пор не понял? Я не посягаю на то, чтобы войти в твой дом хозяйкой, еще одной хозяйкой. Я мечтала об этом, да мечту мою светлую разбили, разрушили. Но ты знай — моя любовь будет тебе защитой и опорой всегда и везде. Всю жизнь.
— Когда мы встретились на берегу реки, а потом около водоема, я еще верил, что такая любовь бывает на свете…
— Я все та же Гулзиба.
Губы Ерназара скривились в усмешке.
— Женщины что кошки. Когда они голодны, то едят, глаза жмурят от удовольствия! Но стоит им насытиться, забывают обо всем и обо всех.
Ты заблуждаешься, Ерназар! Ты и раньше не очень-то меня понимал, видел во мне лишь усладу, лишь мое тело тебя прельщало. Оно так влекло тебя, так манило, что ты терял голову… А ведь я человек, Ерназар, человек! Теперь я не та девочка, которую ты встретил когда-то на берегу реки! С той поры солнце всходило и заходило много-много раз, много воды из той реки утекло в Арал!.. Ты честный, ты храбрый человек, ты отец каракалпакам, они тебя оставили сейчас, не поня ли, потому-то я и пришла к тебе. Я верю в тебя, я знаю: ты хочешь народу только добра! Он пока не понимает тебя и твоих целей до конца! Однако и твоя вина в этом есть! Ты мимо людей глядишь, душу их не видишь! — Гулзиба сняла с головы платок, спрятала в него лицо, потом сказала:- Я расскажу тебе сейчас все, что прошло мимо тебя, о чем ты никогда даже не задумывался… И поведала ему она как на исповеди, — и почему она пыталась утопиться, и о бескорыстии бедного Рузмата, отдавшего за нее жизнь, и правду о смерти Рустема, Улбосьш и Сержанбая… Она говорила спокойно. Ошеломленный Ерназар только и смог пробормотать:
— Все как в дастане!
— Судьба каждого человека — это дастан, только не каждый это осознает! Поэтому судьба других людей кажется ему сказкой! — с достоинством произнесла Гулзиба. — Ерназар, в Хиву я привезла все, что осталось от байского богатства, любой ценой я хотела освободить тебя. Для себя, для страны нашей. Но больше всего я думала о тебе. Ты не понимаешь людей, лучших их порывов и устремлений, не видишь, не ценишь! Вспомни Векторе! Ты небось думал, что он выдаст тебя, а он предпочел расстаться с жизнью! Со своей молодой жизнью! Ты веришь тем, кому не следует верить, Ерназар, и не веришь тем, кому надо верить!.. — Гулзиба умолкла. — Бессердечный ты! — Она быстро направилась к коню, вскочила на него.
— Гулзиба!.. — неслось ей вслед. — Гулзиба!.. Ерназар, оседлав коня, погнался за ней, настиг ее.
— Гулзиба!..
Она продолжала скакать вперед; щеки ее были омыты слезами. Ерназар схватил ее коня под уздцы.
— Прости меня, Гулзиба, прости! Когда у человека свои тревоги, свои заботы, ему бывает не до горестей других. Я все время жил мыслями о судьбе народа, поэтому…
— А я? Разве не принадлежу, не отношусь к нему, твоему народу?..
— От кого, у тебя ребенок? — вырвалось у Ерназара.
— Господи, когда же ты удушишь змею, что угнездилась у тебя в сердце? — с отчаянием простонала Гулзиба.
— Как зовут твоего сына?
— Чтобы скрыть от людей правду, я назвала его Нурджаном. Именем, которое было созвучно с именем Сержанбая. Но… но по правде, оно должно рифмоваться с твоим именем! Сына зовут Нурназар.
Ерназар направил коней обратно, к «русской стене».
— Я облегчила свою душу, Ерназар, тем, что открыла тебе всю правду! — услышал он нежный шепот Гулзибы. Ерназар вел коней так, что они касались один другого боками. — Говорят, несчастливый человек не может сделать счастливым другого человека, не может наделить его счастливой судьбой… Я несчастливая, но готова все сделать, все, чтобы только ты был счастливым! Все, что в моих силах, возможное и невозможное.
— Я очень счастлив, Гулзиба, сейчас!
— Пройдет время — и весь народ твой будет счастливым!
— Когда это будет!..
— Как было бы хорошо, если бы мужчины научились у женщин терпению и умению ждать.
* * *
— Гулзиба, никогда раньше я не подозревал, что объятия женщины могут быть такими сладостными! — зашептал на ухо Гулзибе заново покоренный ею Ерназар. — Ты вернула мне силы и веру в себя. У меня просьба к тебе: пусть ни один человек не узнает о нашей с тобой любви, я дал клятву матери…
— Не тревожься понапрасну! Ты для своего народа останешься единым и непогрешимым богом!.. И для меня тоже!
Ерназар просиял.
Ты вернула мне больше, чем силы и веру! Мне снова хочется жить, и гораздо больше, чем раньше!
…Ерназар вновь вернулся к каждодневным делам и заботам.
Он стал сам отвозить в Хиву ханский налог. В этом пышном многолюдном городе будто кто-то душил его, будто кто-то следил за ним из-за каждого угла подозрительным взглядом. В Хиве он чувствовал себя так, словно этот город перехитрил его, разбил его мечты и надежды, а теперь насмехается над ним. Быть там, среди чужих людей, таящих за улыбками враждебность и ненависть, для Ерназара стало сущей пыткой.
Однако стоило ему встретиться с Гулзибой втайне от всех, как жизнь опять начинала казаться ему прекрасной, а окружающий мир — сиять всеми цветами и красками…
Жизнь продолжалась!
Часть вторая
1
Оренбург — врата в Россию для людей Востока… Слава об Оренбурге среди каракалпаков шла такая же, как слава о русском царстве. Царстве сильном, мощном, грозном — куда до него хивинскому ханству! — и в то же время свободном, привольном и добром.
Каллибек и Тенел держали путь не просто в русский город, а в новый, чудесный мир. Два сына каракалпакских степей, с младенчества привыкшие к бескрайним пескам, к зарослям камыша на берегах Арала, были убеждены, что и другие земли и страны, такие же, как их родная, с детства милая земля, ничем от нее не отличаются. Их представления начали рушиться чуть ли не с первых шагов. Даже в соседних казахских степях, о которых Каллибек и Тенел прежде и знали, и слышали, Михайлов сумел открыть им много такого, чего прежде не заметил бы их глаз, — богатства этих степей, прошлое народа, их населяющего.
Оренбург поразил юношей. Город из дерева, кирпича и камня, гостиный двор, лавки купцов, церкви, колокольни, амбары, таможня — все крыто жестью, все крепко, надежно, удобно и богато. Каменные дома, да еще не в один этаж. Это произвело на Тенела и Калли-бека впечатление сказочное, нереальное, ошеломляющее. Они были в восторге. Михайлов только улыбался.
— Вот это дома! Они, наверно, никогда, никогда не разрушатся! — восклицал Тенел.
— Никогда не изнашиваются да не разрушаются лишь склепы на кладбищах! — поправил его Каллибек.
— Эка куда хватил, парень! Человеку, думающему о завтрашнем дне, негоже сравнивать дом со склепом, — Михайлов недоуменно покачал головой.
Каллибек ничего не ответил, только едва заметно усмехнулся.
На улицах путникам повстречалось множество народа — одеты люди были странно, не как в ауле, речь их была непонятная, говорили они громко, не стесняясь. Среди них было немало военных — Михайлов тут же объяснил своим подопечным, как отличить, кто солдат, кто офицер. Тенел и Каллибек смотрели на все широко открытыми глазами и время от времени подталкивали друг друга локтями в бок и перешептывались: «Вот это силища!..»
Михайлов жил в доме из жженого кирпича, неподалеку от казармы. Владелица дома, сердитая, неприветливая старуха с морщинистым лицом, принесла Михайлову ключи и, что-то ворча себе под нос, удалилась.
— Вот и моя обитель! Дом этот принадлежит вдове, вы ее только что видели. Женщина, доложу я вам, она крутая, раздражительная и скуповатая, но я с ней лажу, — сообщил Михайлов.
В комнате Михайлова стояли кровать, стол и три стула. Он слегка подтолкнул Каллибека и Тенела к стульям, и они уселись на них — точь-в-точь робкие, желторотые птенцы, впервые вылетевшие из гнезда и умостившиеся на ветке дерева. Михайлов открыл ключом соседнюю комнату, обвел ее внимательным взглядом, потом позвал туда и ребят.
— Вот здесь будет ваша спальня, — бодро объявил Михайлов. — Тут просторно и удобно! Запомните: отныне, с этой самой минуты, мы с вами начинаем учить русский язык. Все, что я скажу по-татарски или по-казахски, я буду повторять на русском языке. Слушайте и учитесь! — Михайлов задорно подмигнул ребятам и действительно заговорил по-русски.
Юноши, конечно, не поняли ни единого слова, но одно они усвоили твердо и сразу же: с Михайловым они не пропадут, с ним будет им и хорошо, и надежно. Каллибек и Тенел с благоговением взирали на белоснежные постели, трогали, оглаживали руками простыни, подушки в накрахмаленных наволочках, скатерть на столе… Михайлов принес кое-какую посуду. Из мешочков тут же были извлечены засохший хлеб, жареное просо, другая немудреная снедь; Михайлов уместил на столе объемистый чайник с уже заваренным чаем. Каллибек и Тенел были очень голодны, но сейчас им было не до еды. Они глотали куски кое-как, жевали быстро, запивали чаем, не чувствуя его вкуса: им не терпелось поскорее обойти весь город, все увидеть, все осмотреть — начать новую, прекрасную, как в сказке, жизнь. В нетерпении по очереди выглядывали они в окно на улицу. Они не могли глаз оторвать от маршировавших солдат, вслушивались в звуки офицерской команды, в звуки городской улицы…
После чая они пошли в комнату к Михайлову и принялись осматривать ее. Больше всего поразило их, что стены комнаты разукрашены каким-то причудливым орнаментом. «Это обои из бумаги!»- пояснил с улыбкой хозяин. Но еще сильнее ошеломила их полка с книгами. Каллибек и Тенел будто прилипли к полу возле нее, не решаясь пошевельнуться возле этакого богатства.
— Григорий-ага, — наконец набрался храбрости Тенел, — у нас говорят, что бумага — дар аллаха, и на ней могут быть написаны только его слова, святые слова!
Михайлов подошел к парням, обнял их за плечи, не удержался и погладил по волосам; потом снял с полки одну из книг.
— Я думаю, у вас так говорят, чтобы люди почитали и ценили и бумагу, и книги. А вообще-то на бумаге пишут не только божьи слова, но нередко и слова против бога! Ладно, мы еще успеем с вами во всем разобраться да обо всем потолковать! А сейчас давайте устраивайтесь, осваивайтесь, обживайте комнату — вашу русскую юрту! И спать, спать, на отдых! Завтра нас ждет много важных-преважных дел!
На сон грядущий Михайлов рассказал Каллибеку и Тенелу историю Оренбурга и про его сегодняшний день тоже рассказал, и опять на двух языках.
К полудню, пока ребята спали, Михайлов уже успел побывать на службе. Он договорился, что они пока будут работать на строительстве новой казармы. Он не хотел огорчать их и потому не признался, что его просьбы и попытки определить их куда-нибудь на учебу оказались тщетными.
Михайлов первым долгом повел юношей на место, где им предстояло трудиться, познакомил с нужными людьми. Потом они весь день бродили вместе по городу. Вечером, когда они вернулись домой, Михайлов усадил ребят за стол, перед каждым положил бумагу и карандаш и торжественно провозгласил:
— Вот, братишки мои, я сам займусь вашим образованием. Проще говоря, буду учить вас писать и считать.
— А когда мы сможем прочесть эти книги? — показал Каллибек пальцем на полку.
— Это зависит от вашего усердия и прилежания. Времени у нас у всех будет не густо, народ мы с вами серьезный, занятой, — проговорил он ласково и грустно.
— Ага, покажите нам первую русскую букву, — живо попросил Тенел.
Ребята выводили на бумаге вслед за своим учителем палочки, кружочки, буковки… От старания они взмокли, но не отставали от него и друг от друга. Михайлову было и весело, и легко на душе…
2
Время мчится стремительно, год подгоняет-прогоняет год…
Умер старый хан.
Менялись времена года, облачалась в разные одежды природа — летнюю, осеннюю, зимнюю, весеннюю… И лишь жизнь каракалпаков оставалась все той же: нищей и беспросветной…
В один из весенних дней 1853 года Ерназар двинулся домой из Хивы. Весь день небо цвело, переливалось множеством красок и оттенков, но постепенно, постепенно возобладал черный цвет. Когда Ерназар удалился от города версты на две, небо над его головой превратилось в грандиозный черный шатер, кругом стало темно и мрачно. Ерназару не хотелось возвращаться в не любимый им, чужой город; каждая верста, отдалявшая его от Хивы и приближавшая к родному краю, была ему в радость, согревала как удача!
На этот раз он объявился в Хиве с опозданием. Хан готовился к войне с мервскими туркменами и поэтому увеличил налог с каждого дымохода на десять золотых. Такой налог был не по силам не то что для большинства аульчан, но даже для крепких и зажиточных домов был чересчур обременительным. Ерназару не удалось собрать деньги в срок и целиком, и он отправился в Хиву, ожидая грома и молний на свою голову. Однако ему повезло: хан уже выступил в поход, чиновники были по горло заняты обычной своей мелкой грызней. К тому же они опасались вступать с Ерназаром в споры, ссоры и пререкания — Алакоз есть Алакоз! Вернется хан, пусть сам с ним и разбирается, определяет меру и степень наказания за недособранный налог, за опоздание.
Больше всего Ерназара обрадовало, что ему удалось избежать участия в походе против туркмен. Те, кто прибыл в Хиву с налогом в срок, сдав его в казну, тут же должны были примкнуть к ханскому воинству.
Поскорее, поскорее и подальше от этого проклятого города!.. Даже начавшийся проливной дождь не был Ерназару помехой. Промокший до нитки, торопился он к Амударье, к переправе. На том берегу Амударьи дождя не было, меж облаками сияло осеннее солнце. Перебравшись через реку, Ерназар оглянулся назад: мрак, тучи и дождь остались позади. Он двинул коня вперед. Однако Ерназар не успел насладиться солнцем и душевным покоем: он увидел, как по дороге четыре хивинских нукера гонят связанных людей. Ерназар никак не мог привыкнуть к подобным зрелищам, хотя видел их часто! Не мог привыкнуть и примириться. «Бедный народ, доколе?..»-сжал он зубы. Не научился Алакоз таиться, скрывать свои чувства и мысли под маской. Хивинцы прочитали недобрые, гневные его мысли. Один из всадников поинтересовался:
— Алакоз, разве ты не отправился вместе с ханом?
— Уж не злоупотребляешь ли ты милостивым его отношением? — пробасил другой.
Ерназар ответил обоим презрительным взглядом. Он заметил среди связанных людей Жанибек-бия. Хотя бий и восседал на коне, руки его были заломлены назад. Ерназар догадался, что причиной тому — налог, не сумел Жанибек-бий собрать его…
Ерназар начал, как туча дождем, наливаться гневом.
— Ерназар, возьми себя в руки! — поспешил Жанибек-бий предотвратить беду. — Сила на их стороне, лучше подчиниться.
— Вместо того чтобы отправить собранные деньги в ханскую казну, этот хитроумный бий отправил их своему собрату — казахскому оборванцу Жангазы-ту-ре! — прорычал хивинец.
Жангазы-туре был знатным и богатым предводителем казахских родов, обитавших в низовьях Амударьи, в окрестностях города Кунграда. Он совершал набеги на хивинцев — не крупные, но стремительные и ощутимые. Ерназар уважал Жангазы-туре за отвагу и ненависть к хивинскому хану, подумывал даже вступить с ним в переговоры.
Если вы такие храбрые, почему бы вам не разделаться разом с этим «оборванцем»? — язвительно процедил Ерназар. — Зачем вы гоните этих несчастных бедняков, как скотину? Да еще со связанными руками?
— Это ваша забота и обязанность дать ему, разбойнику, отпор! Вы с ним соседи! И к тому же вы как-никак подданные Хивы! Или вы об этом забыли? — огрызнулся хивинец.
Чтобы отвлечь Ерназара и помешать ему натворить недозволенное, Жанибек поспешил обратиться к нему с вопросом:
Нет ли каких вестей от Каллибека и Тенела?
Ерназар отрицательно покачал головой. Один из хивинцев, тот, что находился поближе к Жанибеку, со злостью замахнулся на него плетью, но ударить не посмел. Какой-то старый дехканин обратил искаженное усталостью и болью лицо к Ерназару и прохрипел:
— Алакоз, когда же ты получишь помощь от русского царя? Когда приведешь к нам русских?
Хивинцы вытаращили глаза от такой наглости. Ерназар не проронил ни слова, опустил голову и угрюмо уставился на гриву своего коня. Старого дехканина огрели плетью. Группа двинулась дальше.
В сумерках Ерназар подъехал к аулу Фазыла и приметил там праздничное оживление. По дорожкам весело носилась галдящая мелюзга, отовсюду раздавался смех, оживленный говор. Ерназар вспомнил, что сегодня ведь у Фазыл-бия свадьба, он берет в дом четвертую жену. Ерназар хотел было проскользнуть незамеченным мимо, но потом подумал: «Пренебречь тоем, на который был зван, неудобно! Еще сочтут, что позавидовал чужому счастью или поскупился!..» Вблизи Фазыловой юрты пылал яркий костер, вокруг суетились люди, чуть поодаль, на поляне, кругом сидели гости; в середине круга стоял баксы[10] и, прижав дутар к груди, распевал песню.
«Как странно устроен мир! — вздохнул Ерназар. — У одних горе, у других радость! Десяток дехкан гонят под конвоем в Хиву, а здесь пируют довольные и радостные люди! Один бай, что невольник, со связанными руками, другой готовится изведать наслаждение с молоденькой женой!..»
Ерназар неторопливо приблизился к костру; его тотчас же приветили, указали на самое почетное место среди биев. Ерназар поздоровался за руку с теми, кто оказался рядом, остальным кивнул.
— Да-а-а, этот мир давит на плечи, как тяжелая глыба, давит не переставая… — отведав угощения, задумчиво сказал Ерназар. — Половина жизни уходит на то, чтобы угождать да приспосабливаться к другим…
— Вот где довелось опять свидеться, Ерназар-ага! — раздалось у него над головой.
Он вгляделся в человека, произнесшего эти слова, и признал в нем Бердаха.
— Ого, да тебя не узнать!
Бердах выглядел нынче нарядным. На нем была новенькая рубаха из бязи, голубой бешмет, на голове лихо завязан белый платок. Своим высоким приятным голосом он попросил тишины и вышел на середину круга. Постоял молча, сосредоточился, покачал плавно головкой дутара, и полилась его песня:
Наше время — тяжелое, злое время; Каждый год удваивает наши беды; Бедняк нищ и гол, но его не оставляют в покое: Гони, давай гони налог — десять звонких монет!..Глаза у богатеев и биев чуть из орбит не повылезали… А Бердах пел все звонче, все пламеннее — о том, что ханские сановники, подобно голодной саранче, обрушиваются на народ, несут ему страшное бедствие, что они жадны, алчны и продажны… Потом Бердах принялся перечислять поименно баев, биев и мулл, которых хан освободил от налога, перечислять не тех, кто находился где-то там, далеко, а восседающих здесь, на самых почетных местах… Они онемели от неожиданности и ярости. Слушатели из простого люда зашумели, обрадовались.
— Браво, молодец, певец! Язык твой не только сладок, но и остер!
Бердах играл на дутаре, и гости раскачивались в такт мелодии, повторяли за певцом его движения. Все были захвачены музыкой, ее ритмом, ее волшебством. Бердах вновь запел, на этот раз о Фазыл-бии, устроившем этот грандиозный пир. Но что это? Неужели они не ослышались? Неужели Бердах и в самом деле поет о том, что богатая, пышная эта свадьба оплачена слезами многих и многих несчастных и обездоленных?
Тысячу лет живи, певец! — неслось все громче, все мощнее. — Тысячу лет!
— Схватить и связать этого глупца! — распорядился Фазыл и, не дожидаясь слуг, сам выскочил на середину круга, вырвал дутар из рук Бердаха и швырнул его в костер.
Люди повскакивали со своих мест, джигиты Фазыл-бия заломили Бердаху назад руки, круг рассыпался, все смешалось, пошла потасовка.
— А ну прекратите! — Ерназар оказался рядом с Бердахом, разбросав в стороны тех, кто мешал ему на пути. — Освободите его немедленно! Освободите! — Ерназар снова заработал руками и локтями.
— Наш ага-бий решил вступиться за сородича, за легкомысленного поэтишку из рода колдаулы? — подскочил к нему, как петух, Фазыл. — Я не допущу, чтобы моя свадьба была испорчена этим неблагодарным! Не позволю! Держите его крепче! Вяжите ему не только руки — ноги тоже!
Однако толпа, воодушевленная заступничеством Ерназара, вмиг окружила грозной стеной прислужников Фазыла. Легкая потасовка грозила перейти в яростную рукопашную.
Ерназар растолкал, расшвырял по сторонам людей, державших Бердаха, и одним взмахом разрезал веревку на его руках.
— А ну, поэт, спой нам еще раз свою песню, а потом порадуй нас новой! — попросил он Бердаха.
Бердах не стал медлить. Сложив ладони лодочкой у рта, он повторил песню. Потом метнул взгляд на Ерназара.
— А теперь послушайте все, и вы тоже, Ерназар-ага, то, что я еще не успел спеть! — озорно, с вызовом прокричал он и начал новую песню.
Бердах пел о том, как притесняют и грабят свой народ каракалпакские баи, как из кожи вон лезут, чтобы угодить, выслужиться перед хивинским ханом. Среди тех, кого заклеймил Бердах, был и Ерназар, и его имя поэт назвал первым…
Слушатели реагировали на эту его песню со всей непосредственной, искренней отзывчивостью и согласием. Люди желали Бердаху долгих лет счастливой и безбедной жизни и гневно предупреждали байских прихвостней: «Не троньте нашего поэта!..»
— Бердах, почему ты среди притеснителей назвал и меня? Да еще и на первое место поставил? — полюбо пытствовал Ерназар. В вопросе его не звучало ни угрозы, ни обиды.
— Вы тоже бий!.. Наш народ видел в вас смелого, решительного человека, который мог бы поднять каракалпаков на борьбу, сумел бы горы свернуть, не то что освободить нас от хана! Вы покорились хану, стали его прислужником.
Алакоз слышал гул одобрения из толпы, видел, что бии оскорблены обличениями поэта. Он обратился к Бердаху вновь так же невозмутимо и спокойно:
— Ответь мне, какой представляется тебе нынешняя судьба каракалпаков?
— По-моему, наша страна — это маленький плот в открытом бурном море, и плывет он туда, куда его несет-гонит ветер… Но было бы клеветой, несправедливостью переложить за это вину на народ. Вина — на его вожаках, предводителях!.. Судьба народа? Она напоминает мне одинокий карагач, растущий среди каменных глыб. А предводители народа, баи и бии, — дровосеки, которые рубят это дерево.
— Видишь ли, поэт, мог бы я оспорить то, что ты тут говорил обо мне… Жизнь — она сложнее твоих сравнений и сопоставлений, это и тебе полезно знать. Но суть не в этом. Спасибо тебе, поэт! Ты свободен и отныне находишься под моей защитой и покровительством.
— Нет! Нет! Я возражаю! Он испортил мне той! Пусть сочинит песню в мою честь — достойную меня и моей славной свадьбы! Тогда я, может быть, и прощу его! — вопил Фазыл.
Кто-то через головы передал Бердаху новенький дутар. Он расправил плечи.
— Фазыл-бий, пусть мне лучше язык отрежут, но я не стану слагать песни в защиту лжи, нечестности
и подлости
— Эй, парень, уймись! — урезонил его Ерназар. — У поэта должны быть в запасе и добрые, мягкие слова для предводителей народа! Иначе как же они научатся справедливости и честности?
— Ерназар, вот-вот, сам теперь убедился, каков этот Бердах! — пожаловался один из биев. — Он только и знает, что возводить всяческую напраслину на нас! О налоге, видите ли, сочинил песню. Мои людишки выучили ее, подхватили и во весь голос распевают в ауле!
— Ерназар, если Бердах не попридержит свой язык и пыл свой не умерит, он весь народ с толку собьет, начнутся смуты и волнения! — взвизгнул другой бий. — Нам тогда голов не сносить — либо хан ее снимет, либо свои же работнички.
— Ну, поэт, что ты можешь ответить биям? — осведомился Ерназар.
— Без дыма не бывает огня, а без огня — дыма. Верно говорят бии, — громко объявил Бердах.
— Люди, успокойтесь и рассаживайтесь по своим местам, — обратился к толпе Ерназар. — Теперь настал черед выступать другим сказителям и певцам.
— А как же Бердах? Мы хотим его слушать! Пусть еще поет! — слышалось отовсюду.
— Он будет петь после них.
Вперед выступил пожилой сказитель с кобызом в руках, прокашлялся и запел:
Что плохо, во-первых? Невоспитанная дочь. Что плохо, во-вторых? Внезапно напавший враг. Что плохо, в-третьих? Шуба, сшитая без примерки. Что плохо в четвертых? Бий, не признающий правосудие…Все так увлеклись, что не заметили, как Ерназар потихоньку выбрался из круга и сел на коня.
Каждый раз, когда Ерназар возвращался из Хивы, он заворачивал к Гулзибе. У нее всегда находил душевное успокоение, любовь и ласку. На этот раз он свернул к Генжемурату и, к большому своему удовольствию, застал у него Зарлыка. Друзья обрадовались встрече с Ерназаром — они почувствовали, что нынче он пожаловал неспроста.
— У меня хорошие новости! — Ерназару не терпелось поделиться с Зарлыком и Генжемуратом чувствами, переполнявшими его. — Хорошие новости! — повторил он вместо традиционных приветствий. — У нас появилось знамя, понимаете, знамя для наших действий! — Он повесил свой бийский халат на кереге — деревянной решетке юрты, уселся на пышном новеньком одеяльце, которое расстелила для него жена Ген-жемурата. — Я всегда относился к поэтам как к пустым мечтателям, сладкоголосым птицам. Только что я убедился: поэт может стать знаменем, символом целого народного движения!.. Припоминаю теперь, когда он мне сообщил как-то, что Каракум-ишан его прогнал, я даже его отчитал: почему не захотел учиться? Да, видно, придется мне просить у него прощения. Вот только гордость моя бийская, не знаю, позволит ли склонить голову перед поэтом? — прищурился Ерназар хитро.
— Да о чем ты, Ерназар? Ничего не понимаю! — заволновался Зарлык.
— Ты не о Бердахе толкуешь? — осторожно спросил Генжемурат.
— О нем! Как ты догадался?
— Да уж догадался… Бердах давно говорит языком бедняков и обездоленных. Его песни и должны стать нашим знаменем.
Такой необыкновенный голос, такой музыкант рождается раз в столетие! — восторженно вскричал Зарлык. — Мне довелось как-то услышать его песню против Каракум-ишана. Он исполняет ее тайком! Он так разделал этого святошу!.. — Зарлык поцокал языком.
Ерназар расстегнул пуговицы на рубашке, глубоко и счастливо вздохнул и с наслаждением отведал чая.
— Ну, друг мой Генжемурат, давай выкладывай новости — ближние и дальние! Мы послушаем тебя с превеликим удовольствием! — сказал он. Друзья давно не видели Ерназара в таком прекраснейшем расположении Духа.
Генжемурат бросил на жену смущенный взгляд, помолчал, медленно расправил плечи.
— Самая удивительная новость — русский пароход. Мы видели его вместе с Зарлыком на Арале; он двигается без парусов, под действием пара.
— Да, русские не перестают удивлять нас своими открытиями, своей чудодейственной наукой! — Ерназар одним глотком опорожнил пиалу чая.
— Ерназар, по-моему, главное, что тебе следует знать, — это настроение народа. Он ждет от тебя действий, ждет, чтобы ты выступил наконец… — без обиняков заявил Зарлык.
— Даже среди биев появляется все больше таких, что готовы отойти от хана, — пояснил Генжемурат.
— Это действительно так! — продолжал Зарлык. — Утверждают даже, что Фазыл и тот зол на ханских чиновников. Они заставили его испрашивать разрешение на сегодняшний свадебный той.
— Чтоб он сгинул, этот Фазыл! — в сердцах воскликнул Ерназар. — Он выжимает из людей все, до последней таньга, для своего любимого хана! Самому, видно, мало остается, вот и скулит, жалуется на ханских мехремов! — Ерназар брезгливо сплюнул.
— Я думаю, очень важно связать наших биев письменной клятвой. Устного договора мало — уж очень они увертливые и скользкие, совсем как большие рыбы в руках! — возбужденно говорил Генжемурат.
— Михайлов когда-то советовал то же! — встрепенулся Ерназар. — Клятва эта должна быть проникнута верой в завтрашний день!
— Хорошо бы заставить каждого бия подписаться под ней и еще — приложить свою печать. Если кто-нибудь из них замыслит отказаться от общего дела, народ сунет такому под нос эту самую клятву. — Зарлыку понравилось собственное предложение. — В клятве обязательно должны быть слова насчет того, что каждого, кто нарушит слово, ждет жестокая кара.
— Возвратятся бии, которые сейчас в походе вместе с хивинцами, тогда соберемся все вместе и потолкуем! — решил Ерназар.
— Можно собраться в моем доме! — заявил Генжемурат.
— Нет, на этот раз соберемся у Ерназара-младшего. К нему близко расположены все основные аулы! — сказал Ерназар.
— Сколько мы всего перевидали, пережили, сколько раз обжигались! Я предлагаю составить клятву, тогда будет что обсуждать, — сверкнул глазами Зарлык.
Лицо Ерназара осветилось теплой улыбкой.
— Твой совет разумен! — похвалил он Зарлыка.
3
Ханский дворец величествен и красив, но только на неискушенный взгляд. Ибо нельзя говорить о величии и красоте, если они скрывают порок. Все, кто был близок к трону и хану, жил в постоянном страхе, в боязни за свое будущее, за свой завтрашний день. В любой момент мог созреть и перевернуть все заговор — прощай тогда почет, привилегии, блага и повиновение тех, кто ниже тебя!.. Здесь каждый обманывал, наушничал, клеветал, доносил, наговаривал, выслеживал, готов был на любую пакость, на любую мерзость. Лишь бы самому уцелеть, всплыть на поверхность, поближе, поближе к трону и взору ханскому… Если каким-то чудом сюда попадал человек с чистой душой и чистыми помыслами, он был вынужден уподобиться остальным; не дай бог стать бельмом на чужом глазу! Тот же, кто шел против течения, мгновенно выбрасывался вон.
…И все же хан — это хан, а дворец — это дворец! И власть их не скоро и не так просто рухнет! Гнилая, да цепкая… Каждый раз, когда хан умирал или его свергали, народ вздыхал с облегчением, надеясь, что новый будет справедливым и гуманным.
Людям свойственны стойкие заблуждения… Однако все оставалось в основе своей по-прежнему. Дворец и те, кто был туда теперь допущен, интриговали, завидовали, враждовали, чинили подлости…
Последний хивинский хан отличался от своих предшественников лишь одним: он никогда не приписывал себе того, что советовали ему или делали его приближенные. Если какой-нибудь сановник предлагал нечто разумное, что приносило ему, хану, пользу, он отмечал его, хвалил при всех, даже награждал. При неудачах и просчетах похвалы и награды заменялись поркой, а бывало, и виселицей… Поэтому-то приближенные не спешили вылезать с необдуманными советами да предложениями — стали остерегаться да помалкивать.
Хан был доволен тем, что утихомирил на время каракалпаков, — удалось распустить отряд соколов, готовых было в любой момент восстать против него и уйти под защиту русских!.. Откупился от зачинщиков чинами и должностями… Налоги поступают аккуратно, в срок, даже Алакоз в этом не исключение.
После мервского похода хан вызвал в Хиву Кара-кум-ишана и принял его вместе с другими сановниками.
— Я еще раз хочу отметить вашу мудрость и дальновидность, — обратился хан к ишану. — Благодаря вашему совету мы усмирили каракалпаков, обуздали самых непокорных…
— Вы очень милостивы к нам, недостойным!.. — Ишан склонился в нижайшем поклоне. — Когда на бахче созревает дыня, то об этом — по ее аромату — собака узнает раньше садовника. Мы, ничтожные, всего лишь собаки, верные псы великого Хорезма и ваши, о солнце священной Хивы!
— Каракум-ишан! Вы мудры, как философ, и красноречивы, как поэт! Наши предшественники не ошиблись, послав вас к северным границам священного нашего государства.
— Благодарю вас, ваше величество! — еще ниже склонился ишан. — Но хотел бы заметить, пользуясь вашим благоволением, что некоторые действия главного визиря вызывают у меня сомнения.
Главный визирь стал похож на ребенка, у которого вдруг отняли лакомство. Хан потребовал, чтобы ишан дал разъяснения.
— Когда при покойном хане в Хиву прибыл русский посол, главный визирь ввел хана в заблуждение! Да, да, в заблуждение! В результате был заключен договор, который вот этот человек скрепил печатью!
— Но ведь договор подписал хан, я всего лишь приложил печать! — поспешил откреститься главный визирь. — Когда же русский посол отбыл из Хивы, я, по вашему же наущению, изгнал из пределов государства того, кого он оставил вместо себя, то есть представителя России…
— У глупца сердце на языке, у умного язык в сердце, — изрек ишан внушительно, отчеканивая каждое слово. — Не горячитесь, не торопитесь, господин главный визирь, дайте мне высказаться. Я далек от мысли, чтобы вас бросили за это в адское пламя. Однако договор этот дает таким, как Алакоз, козыри в руки. К тому же, когда этот нечестивец и русский прихвостень был захвачен и посажен в зиндан, вы не смогли воспользоваться благоприятным моментом и от него избавиться.
— Но ведь вы сами умоляли нас сохранить ему жизнь! — взвизгнул главный визирь. — Вы сами!
— Меня обязывало положение, мое положение ишана каракалпаков, неужели вам не ясно?.. Язык, между прочим, можно сравнить с тигром: если держать его крепко — он вас охраняет, если распустить — он же вас и растерзает. Не перечьте каждому моему слову, господин главный визирь, не цепляйтесь попусту! Я всего-навсего хочу белое назвать белым, а черное — черным. Я не отрекаюсь от того, что просил за Алакоза! Но вы-то, вы-то должны были сообразить, почему я это делал?
— Я всегда докладываю нашему великому повелителю, что все разумные советы относительно черноша-почников исходят от вас, мой ишан! — счел необходимым пойти на мировую главный визирь.
— Наше великое солнце! Ханство, в котором нет единства, расползается, как истлевшая тряпка, вы сами нас этому учили! — обратился ишан к хану. — Прика жите, кому из нас продолжать говорить — мне или главному визирю?
— Вам! — Хан с тайным удовольствием наблюдал за этим диалогом — ничто не радовало его так, как грызня между его приближенными.
— Самая ужасная, самая непоправимая беда — разногласия во дворце! Ничего нет пагубнее этого, опаснее для власти и трона! — Голос ишана дрогнул. — Пусть о них никто никогда не узнает — ни друзья, ни враги… Но главная причина разногласий остается. Это договор с русскими!
— В интересах великого Хорезма — жить в мире и согласии с его соседями! — повысил хан голос.
— Наш мудрый повелитель! Ваш светлый ум обращен на благо и заботы о народе священной Хивы. На всем Востоке, после аллаха, одно солнце — это вы! Лучи, от вас исходящие, проникают во все уголки вселенной. И если они сольются, воссоединятся с лучиками турецкого султана, они дадут тепло и свет праведности всему миру! У нас есть могущественный друг — Великобритания. Союзница турецкого султана и всех мусульман. Если мы протянем друг другу руки, вселенная окажется нам всего лишь по подбородок! Будет взирать на вас смиренно снизу вверх.
Если бы пролетела муха, можно было бы услышать шорох ее крылышек — такая установилась тишина. Хан сосредоточенно думал и молчал.
…Перед тем как ишан отправился в Хиву, лазутчики донесли ему, что Ерназар вызывал всех биев на совет в дом младшего Ерназара; донесли ему и о вызывающем, непотребном поведении Бердаха на свадьбе у Фазыла. В пути Каракум-ишан размышлял, гадал, какая из этих новостей представит для хана наипервейший интерес.
— Мой ишан, я слышал, и не раз, что вы обладаете даром ясновидения, умеете предсказывать людям, что ждет их в будущем… — услышал ишан вкрадчивый голос хана.
Каракум-ишан внутренне содрогнулся: «Не иначе мои тайны стали известны главному визирю от Векторе! А визирь — будь он проклят! — донес обо всем хану!» Он поднял глаза на хана:
— О, я нижайше благодарю вас, ваше величество! Но способности у меня самые скромные. Просто хорошо знаю людей… Стоит мне взглянуть человеку в глаза, как я определяю, лжет он или говорит правду.
— Главный визирь просит для некоего Маулена должность; что вы скажете на это?
— Я считаю, будет куда больше пользы кормить Маулена постоянными обещаниями… В надежде на должность он сослужит Хиве добрую службу! Я даю этот совет, наше великое светило, исходя из натуры этого самого Маулена, уж его-то я знаю как облупленного!.. И еще, если позволите, один совет: хорошо бы в новый поход против туркмен послать и Алакоза. Он сильный, как бык! Если его понукать палкой, не жалея, он будет переть туда, куда вам надобно и выгодно.
Хан в душе подивился, как просто, безо всяких усилий достиг он того, ради чего, собственно, и вызывал к себе Каракум-ишана. Узкие глаза хана блеснули, словно их озарило молнией.
— Ваше величество! Я видел сон, который хотел бы поведать вам. Вы отправили, снилось мне, доверенного человека к турецкому султану…
— Я получил сведения, что разногласия между русским царем и турецким султаном усугубились.
— И в этом есть перст божий! — с придыханием и восторгом сказал ишан. — Много великих стран поддерживают турецкого султана. И если вы присоединитесь к ним, то солнце ислама будет торжествующе и победно сиять над всем Востоком!
С шумом открылась дверь, к главному визирю подскочил стражник и что-то зашептал на ухо. Главный визирь в смятении пал ниц перед ханом:
— Великий хан! В городе опять волнения и смута!
— Где мед, туда и слетаются пчелы, ваше величество! Я не исключаю, что это козни русских! — заверещал ишан.
— Эй, главный визирь, главный визирь! — с досадой и упреком произнес хан. — Радующая нас ложь лучше, чем правда, огорчающая нас! Испортить нам такую хорошую беседу!.. — Нельзя было понять, шутит хан или говорит серьезно; одно было видно: он не растерялся и не испугался. — Что же, выходит, и наши подданные — тоже враги наши? — вдруг вперил он свой взор в мехремов.
— Если не пресечь крамолу в корне, она может разрастись! Ребенка нужно утихомиривать и смирять, пока он в пеленках, ваше величество! — не унимался, продолжал поучать ишан.
— Ну что ж, с богом! — Хан стремительно поднялся. Кавалькада всадников во главе с ханом выехала из
дворца на площадь. Нукеры разгоняли там нагайками орущих, размахивающих руками возбужденных людей; военачальники, воодушевленные появления хана, отдали приказ пустить в ход пики. Толпа быстро рассыпалась, люди разбежались в разные стороны.
— О солнце великого Хорезма, стоит вам появиться, как все вокруг проясняется! Те, кто считал себя звездами, бесследно исчезают с горизонта! Смотрите, как опять стало светло и ясно! Но чтобы тучи вновь не заволокли наш небосклон, надо без пощады и жалости уничтожить зачинщиков! — с жаром увещевал ишан.
— Уничтожу всех до одного! — едва слышно отозвался хан. — Уничтожу — и снова в поход против Мерва!
К хану подскакал главный военачальник.
— Мой великий хан, бунтовщики разогнаны и усмирены! — доложил он. — Одному из главарей — Абдурахману — удалось скрыться!
— Куда он мог бежать?
— В Куня-Ургенч или к каракалпакам.
— Если он даже под землей скрылся, выволочешь его оттуда за волосы! Если на небо улетел, схватишь и опустишь его за ноги! Доставить его ко мне! Живого или мертвого. — Хан повернулся к главному визирю: — Немедленно вызывайте в Хиву Алакоза. Он отправится в поход против туркмен!
— Что касается вашего совета, — благосклонно обратился хан к ишану, — я предприму шаги, чтобы направить своего посланца к турецкому султану.
Как коршун слетел ишан со своего коня, обхватил руками передние ноги ханской лошади, дотронулся до подошвы ханских сапог, поцеловал — угодил прямо в золотые гвоздики.
— Я буду молиться аллаху за вас и вашу победу! — зарыдал он в экстазе. — Я верю в вашу победу!
4
Как приятно, как хорошо, как легко принимать гостей в начале осени! В огороде поспели овощи, в саду — фрукты. Вон сколько их — радуют глаз и сердце хозяина, предвкушающего, как он взгромоздит все это богат ство на праздничный дастархан! Гостей можно принять сколько угодно об эту пору, дом твой осенью никогда не тесен. Под любым деревом расстилай дастархан, украшай да нагружай его зеленью, овощами и фруктами!..
Ерназар-младший загодя со всем тщанием готовился к встрече именитых гостей — биев каракалпакской степи. Он приказал вычистить хауз, чуть не языком вылизать все вокруг своего большого дома и внутри его. Изо дня в день двор поливали, подметали, особенно в тенистых местах, где именитые гости будут восседать и вести важные беседы. Всюду, где только можно, расстелили-разложили узорчатые, многоцветные, как радуга, ковры, кошмы и мягкие маленькие одеяла… Одного своего работника Ерназар-младший даже сгонял в Хиву за грецкими орехами и виноградным соком. Но на этом не успокоился: собрал всех молодух аула и велел им выжать сок из пяти пудов моркови; людей же, которых назначил прислуживать на тое, предупредил, что на каждого гостя надо зарезать по овце, не менее того.
Гостей Ерназар-младший встречал самолично, у порога. Особый почет выказал Ерназар Алакозу: ему он подставил собственные плечи, когда тот слезал с коня, сам ввел его в дом.
Собрались все званые бии; были среди них и те, что принимали участие в походе хана против мервских туркмен. Каждого из прибывших волновали одни или почти одни и те же заботы и дела, но поначалу они вели неспешную беседу о том о сем и ни о чем. Зашла речь о мервском походе, и кто-то из биев, как бы между прочим, сообщил, что хан заметил отсутствие Ерназара. Тот вроде бы пропустил это сообщение мимо ушей: сидел спокойно, до поры отмалчивался. Заговорили бии и о трудностях, которые они — не приведи бог еще раз! — испытали при сборе последнего ханского налога… Кто-то мимоходом обронил, что в аулах даже сопливые ребятишки распевают песню Бердаха «Налог». Беседа вошла в нужное для Ерназара русло… Гости стали выявлять признаки нетерпения, стали чаще и требовательнее поглядывать на него. Ерназар включился наконец в общий разговор.
— Дорогие мои! — Он произнес два эти слова с особой интонацией — задушевно и многозначительно. — Дорогие мои! Мы не придаем значения поэтам и их песням, а вот народ — придает, и он прав… Кто первым открыто провозгласил, что жизнь становится из года в год тяжелее и беспросветнее? Бердах! В нашей маленькой стране около шестидесяти биев, а десятников и прочих начальников — не перечесть! Бердах поет, что мы сидим у народа на шее! Если хан приказывает взять у людей одно, мы сдираем с них вдвойне, а то и втройне. Прав поэт?.. Народ считает, что прав, вот и распевает его песни.
— У нас развелось слишком много голодных и нищих! Всяких оборванцев! Вот они и горланят непотребные песни! Когда мы были молодыми, такого не было! — вознегодовал один из биев. — Мальчишки!.. Разве дети в наше время позволяли себе насмехаться над почтенными людьми?
— Разделение людей в стране на голодных и на сытых — это разделение страны на две части! А нам бы надо не разъединяться, а объединяться! — страстно и строго поправил его Ерназар.
Хозяин дома был самым младшим среди биев и потому держался скромнее и тише всех. Однако слова Ерназара взволновали его.
— Ерназар-ага, когда мы вот так собираемся все вместе, мы становимся и умными, и дружными, и заботливыми отцами народа. И простые люди тогда уважают и ценят нас. Объединяться? Но ведь надо иметь цель — во имя чего, как? И против кого?
— Э-э-э, умников среди нас много, да ума нет! Горя много, да никто точно не ведает, из-за чего мы горюем! — откликнулся Рахманберды-бий.
— Дорогие мои, ваши слова — справедливый всем нам укор! — Алакоз вынул из кармана свиток. — Поэтому-то мы, чтобы не заниматься пустословием, вместе с Генжемуратом и Зарлыком составили одну бумагу! Это клятва. Если вы не возражаете, я вам ее зачитаю.
Ответом ему было молчание.
— Мы назвали ее «Клятва шестидесяти биев»… — Ерназар сглотнул от волнения слюну, выдержал паузу.
— Читайте, читайте, интересно! — загудели бии.
— «Клятва шестидесяти биев, — начал громко читать Ерназар. — В наши дни весь мир, вся вселенная лишились равновесия и покоя, будто закачались у людей под ногами. Отношения между странами, ханствами и царствами изо дня в день осложняются и ухудшаются: сильные поедают слабых, великие грызут малых. Если в такую смутную пору единство страны превратить в весенний лед, то над ее народом прольется дождь горя и скорби, а человеческая жизнь ничего не будет стоить…
Осознавая все это, мы, каракалпакские бии, клянемся в нижеследующем, в чем подписываемся и ставим свои печати:
Наше единство зависит от того, будет или не будет Каракалпакское ханство. Мы создадим его.
Каракалпакское ханство — самостоятельное ханство и как таковое отделяется от Хивинского ханства и становится единоличным хозяином земель и вод на территории, где проживают каракалпаки. Хан в нашем ханстве будет утверждаться но решению всех биев. Первым делом первого каракалпакского хана должно стать строительство большого канала с отведением вод из Амударьи.
Тому, кто будет верен ханству, по решению биев во главе с ханом будут пожалованы в аренду обширные пастбища и земли на берегах канала.
В ханстве не должно быть ни одной семьи, ни одного двора без земли и воды.
Обязуемся выполнять пункт договора между русским царством и Хивинским ханством о том, что запрещается иметь рабов, а также продавать и покупать невольников.
С соседними странами будем жить как с родственниками — в мире и согласии, вести торговлю. Будем хранить верность своей мусульманской вере, но не станем и враждовать с иноверцами.
Каракалпакское ханство постарается претворить в жизнь прекрасные мечты наших мудрых предков Ма-ман-бия и Айдос-бия о счастье народа. Чтобы дать знания нашим детям и обучить их наукам, в ханстве не будет делаться различий между науками русской, узбекской, казахской, турецкой или английской. Мы будем приглашать — при благоприятных обстоятельствах — ученых и образованных людей из разных стран; самые смышленые и одаренные дети будут иметь возможность получить образование в других странах мира. Каждый ребенок будет расти и воспитываться таким образом, чтобы он имел доступ и право пожинать плоды с тех самых саженцев, которые посадили наши предки. Каждый бий, каждый предводитель несет ответственность за судьбу молодого поколения…
Сила, охраняющая ханство, — его войско. Поэтому каждый бий, каждый глава рода является военачальни ком. Войско в Каракалпакском ханстве возглавляет хан, а каждый джигит является каракалпакским соколом… Если в том возникнет необходимость, каждый конь будет считаться общей собственностью. Если настанут дни испытаний для ханства, все рука об руку выступят на войну против врага, на защиту своей отчизны. Если не хватит своих собственных сил и над нами нависнет опасность порабощения, мы, согласно завету предков, обратимся за помощью прежде всего к России. Если же помощь не будет поспевать в урочный час, совет биев должен решить, к кому обратиться за помощью.
В Каракалпакском ханстве внутренними врагами будут считаться воры, а также взяточники, лжецы и лентяи. Тот, кто возьмет у другого в долг и не вернет его в срок, будет именоваться позорной кличкой — «должник».
Внутренние и внешние враги ханства будут подвергаться суду и наказаниям на одинаковых основаниях и условиях. Пощады им не будет…
Тот, кто нарушит данную клятву, будет предан казни, а все его имущество будет считаться собственностью ханства. Аминь!
Клятва составлена на берегу Казахдарьи, в месяце раджаб».
Стояла тишина, каждый собирался с мыслями, старался осознать значение документа, того, что он сулит.
— Ерназар-ага, все здесь, в бумаге, вроде бы продумано со всех сторон, — первым нарушил молчание хозяин дома. — Однако такое ханство, кажется мне, ну… невозможно его создать! Нет, нет! Оно возможно лишь в сказке… Если нам удастся когда-нибудь осуществить то, что здесь написано, о-о-о! За нами последует не только наш народ, но с нас захотят взять пример и другие народы. Вот было бы счастье! Всеобщее благоденствие!..
— Если народ создаст самостоятельное ханство и назовет его своим, доселе никому не известным именем — Каракалпакское, если его признают другие страны и народы, то это и будет, по-моему, самое большое счастье. Большего счастья нельзя себе вообразить! — заявил Генжемурат.
— Ого-го! Куда вас понесло! Ну и бахвалы же вы! — иронически протянул Джанибек-бий. Это был нескладный человек средних лет, с большой, как тандыр, головой. — Да разве возможно этакое для нас, каракалпаков! По божьему велению — так уж он создал нас! — наш трон — это земля, а корона наша — это небо! И все! И ничего больше нам не суждено!..
— А вдруг… а вдруг такое ханство возможно? — задохнулся от возбуждения и восторга молодой бий, перебив Джанибек-бия.
— Буду рад, подпишусь под клятвой и приложу печать! — отозвался Джанибек. — Ведь я пострадал от этих низких хивинцев больше других! Пожалел своих бедных да голодных — не стал драть с них налог, так что они, подлые ханские приспешники, учинили со мной?!.. Ради того чтобы избавиться от железной опеки Хивы, я готов пожертвовать собственной головой.
— А вот у меня имеется одно сомнение, — тонким голосом прогундел тощий-претощий Сырым-бий — не человек, а связка из кое-как подобранных костей. Все обратили к нему взгляды. В них были легкая усмешка и недоумение: и как, мол, такой тощий и хлипкий командует своими сородичами? Сырым-бий рубанул воздух рукой и продолжал:- Каждый бий — военачальник, так вы записали? А каждый джигит — воин! С этим я согласен, все это по справедливости и можно осуществить. Но вот… что каждый конь принадлежит войску… Это выполнить будет трудно…
— Ничего не трудно! — возразил Ерназар. — Каждый аул, каждый род находится под властью одного бия. Баи — тоже под его властью!
— Попробуйте заставить баев! Принудить их раскошелиться или пожертвовать своим достоянием! — воскликнул один из биев.
— К тому же, если будем заставлять да вынуждать баев, где же тогда свобода, где же справедливость? — прошептал Сырым-бий.
Подобное сомнение было на душе у многих, однако никто не отважился открыто поддержать Сырыма.
Кругленький, заплывший жиром Кадирмухамед-бий откашлялся, сдвинул на переносице свои широкие брови, поерзал, поерзал на месте.
Такого ханства быть не может, невозможно оно, разве только в сказках — правильно сказал Ерназар-младший. Зачем наваливать новые тяготы да бремя на нашу слабую мирную страну?.. Никто не отдаст своего коня, никто! По-моему, надо все оставить, как было всегда: отдавать Хиве в нукеры одного джигита от двенадцати домов! И жить себе поживать спокойно!
— Если большинство биев присоединится к клятве… Присоединишься ли ты? — спросил его без обиняков Генжемурат.
— Я должен пораскинуть умом… — не растерялся Кадирмухамед.
— Ерназар-ага, я готов подписаться первым под клятвой и приложить печать! — провозгласил громко Ерназар-младший.
Многие воззрились на него с изумлением, кое-кто завздыхал, закряхтел.
— Перо и чернила! — распорядился Алакоз. Перо, чернила и бумага были в ту пору диковинкой,
они имелись редко в какой семье. Ерназар-младший все заготовил заранее: он быстро принес и поставил в центре доску для теста — астахту, положил на нее белую бумагу, чернила и два пера, привязанных к тростниковым ручкам. Ерназар Алакоз склонился над астахтой, поставил подпись, приложил печать, затем уступил место Ерназару-младшему. Тот сдержал свое слово. Следующими были Генжемурат и Джанибек-бий. Джанибек долго возился со шнурком на мешочке, где хранилась его бийская печать. Все нетерпеливо, с замиранием сердца ждали — подпишется или нет. Вдруг передумает, увильнет, заупрямится: дело-то рисковое, новое! Он смущенно повертел-повертел печать и дрожащей рукой приложил ее к бумаге. Многие заулыбались, вздохнули с облегчением.
— Нельзя ли денек-другой повременить с решением? — осведомился Кадирмухамед, когда очередь дошла до него.
— Передайте дальше, — с осуждением взглянул на него Алакоз.
Один молодой бий, взяв клятву в руки, пылко произнес:
— Я рад, уважаемые бий, что мы совершаем дело, до которого не смогли додуматься наши предки.
— Э, не заносись и не похваляйся зря! Дорогой ты мой, и мы оставим множество дел следующему поколению! — охладил его пыл Алакоз.
— Ну уж! Что такого особенного числится за нашими так называемыми мудрыми предками? Такими, как Маман-бий или Айдос-бий? — выпалил вдруг Кадирмухамед, чувствовавший себя неловко оттого, что откололся от большинства.
— Чтобы правильно, по справедливости оценить прошлое, нужно иметь нормальную голову, хорошее соображение! А не такие птичьи мозги, как у некоторых! — подал реплику Генжемурат.
— Зачем же нам продолжать неправедные дела предателя Айдоса? — раздался откуда-то сзади недовольный голос.
— Айдос послал защищать родину двух своих сыновей! На смерть! Этого забывать не следует! Это для всех нас может служить примером! — начал закипать Ерназар.
Кадирмухамед не издал больше ни звука, поднялся и выбрался из юрты; вслед за ним свои спины показали и другие бии. Юрта опустела наполовину. Отступников проводили гробовым молчанием. Удалился, чуть помедлив, и Мамыт-бий, однако вскорости вернулся и попросил дать ему клятву. Он долго вчитывался в нее, потом расписался и скрепил свою подпись печатью.
— Нужно будет продолжить дело. Пусть нерешительные поразмыслят! Однако кого-нибудь следует не мешкая отправить к русским, поставить их в известность…
Зарлык и Генжемурат не дали договорить молодому бию и вызвались взять на себя эту миссию.
— Друзья, мы должны сохранить в тайне все, что произошло здесь ныне, — предупредил Ерназар.
— А как же те, кто ушел? Мы-то сохраним, а они?
— В каждом из них тлеет искорка любви к родной стране, поэтому, думаю, не донесет никто из них, — успокоил всех Алакоз.
— Однако как же все-таки заставить их присоединиться к клятве? — протянул Зарлык.
— Это, наверно, придется взять на себя Ерназару-ага! Ох, нелегкая перед ним задачка, нелегкая, — сочувственно вздохнул Ерназар-младший.
— А кого же мы сделаем ханом? — выступил вперед все тот же молодой нетерпеливый бий.
— Когда под клятвой будут все подписи, тогда и посоветуемся.
— А где же будет жить наш хан, ведь нам нужна столица! — не унимался молодой бий.
— Пока что наша столица для всех нас — седло коня! — Ответ Ерназара понравился всем, и молодому бию тоже. — Любое дело, кроме, конечно, смерти, лучше не откладывать! — пошутил Алакоз и добавил:-Теперь нам предстоит всем вместе составить письмо русскому царю.
— Давайте прямо сейчас и начнем!..
— Правильно, правильно! — заговорили-зашумели все разом.
Ерназар придвинул к себе астахту, остальные сгрудились вокруг доверчиво и охотно.
* * *
Самое доброе пожелание у каракалпаков: пусть в твоей жизни не будет зимы! Самое же плохое: пусть твоя жизнь пройдет как зима.
Зима на дворе не так уж страшна: можно потеплее одеться, пожарче разжечь огонь в очаге…
Куда страшней, когда зиме подобна жизнь, судьба народа. Зима, зима… Она никогда не прекращалась для каракалпаков. И самая лютая ее стужа, самые жгучие ее морозы — разногласия, распри, вражда среди каракалпаков. Они тушили-гасили любой разгоревшийся благой огонь, задували-дули холодными ветрами в любой дом.
…Будто помягчела, подобрела эта зима-судьба, повеяло вокруг теплом: объединились бии, подписали клятву. Пусть пока не все, но и немало их, тех, кто решил повернуть зиму на робкую весну… Произошло это через сто десять лет после того, как в 1743 году Маман-бий отвез в Петербург послание от каракалпаков. Произошло, началось в пригожий осенний незабываемый вечер, когда бии всю ночь трудились — сочиняли обращение к русскому царю, просили его о помощи. А спустя небольшой срок Зарлык и Генжемурат двинулись в Оренбург, чтобы доставить это письмо генерал-губернатору для передачи самому царю.
Пусть сопутствует им удача!
5
Каллибек и Тепел работали с утра и до захода солнца, уставали с непривычки. Но как же безмерно жаждали они знаний! Весь день ждали, когда сядут рядышком за стол, возьмут в руки перья, бумагу, будут постигать уроки Михайлова… Они научились читать и писать, чуть-чуть объясняться по-русски, но им было все мало! Они хотели знать как можно больше, понять как можно глубже — и науки, и жизнь, и историю стран и народов.
Каллибек проявил способности к рисованию и черчению, и Михайлов от души помогал ему… Поистине, если молодость имеет благородную цель, ради ее достижения она может горы сдвинуть, достать до небес, проникнуть в недра земные…
Михайлов не мог нарадоваться на своих подопечных, их трудолюбию и старательности, их сообразительности. Общение с юношами было для него самого отрадой и поддержкой, скрасило ему одинокую, нелегкую жизнь. Как бы ни был Михайлов расстроен или утомлен за день, вечером его ждали Каллибек и Тенел, исполненные доброго нетерпения и светлой благодарности. Наступали счастливые часы — Михайлов делился с юношами тем, что сам знал, делился щедро. Они впитывали в себя знания с завидным усердием. Бывало, все трое так увлекались, что не замечали, как взойдет солнце нового дня.
Они подружились, они сроднились; трудности не казались им непреодолимыми, а радость отныне стала тройной.
Парней перевели на поденную работу; они строили дома богатым людям — дома красивые, добротные, удобные, непохожие один на другой. Конечно, Калли-беку и Тенелу куда как интереснее было бы изучать тайны телеги, движущейся, как говаривал Ерназар-ага, от пара! Однако они быстро смекнули, что к этим тайнам не подпускали не только их, степняков-каракалпаков, но и русских ребят из бедных семей. Они поняли это сами, без объяснений Михайлова, и даже пытались его утешить:
— Дядя Григорий, каракалпаки говорят: страна, где много мастеров, — счастливая страна! Мы станем у вас мастерами!
Каллибек и Тенел отличались старательностью и на стройке, старшие не могли ими нахвалиться Михайлову-и почтительные, и шустрые, и понятливые, и работящие.
В трудах и заботах время неслось, как быстрый скакун. Однажды Михайлов принес своим подопечным радостное известие.
Генерал-губернатор наконец дал согласие!.. Дал! В помощь каракалпакам будет сформирован большой отряд! Возможно, генерал-губернатор сам его и возглавит! — торопился он поделиться с юношами. — Мне он наказал, чтобы я готовил вас получше да поусерднее, может быть, вас тоже возьмут как толмачей.
Ребята так возликовали, будто к ним в руки с неба свалилась луна. Всю ночь не могли уснуть, мечтали, строили планы, как они будут помогать генерал-губернатору и всему русскому отряду…
У Михайлова были добрые знакомые и друзья. Они нередко заглядывали к нему домой. Это были люди серьезные и образованные. Каллибек и Тенел прислушивались к беседам взрослых, извлекали из них множество сведений, неведомых им ранее, даже непонятных. Они впервые услышали здесь о декабристах. Получалось, что богачи выступили против царя за простой люд… В разных странах совершались революции, которые ограничивали власть царей, королей… Честные люди, где бы они ни жили, выходит, обязаны заботиться о родном народе, о процветании своей отчизны… Но вот в разговорах Михайлова с его друзьями все чаще стали повторяться, мелькать слова «Турция», «Англия», «Франция» и слово «война».
— И что этим царям неймется? — стал допытываться Каллибек у Михайлова. — Чего им не хватает?
— Э-э-э, браток! Нет такого богатства, которое бы их насытило! О чем свидетельствует история? Они, цари, воюют, чтобы захватить, сделать своими все новые и новые территории, покорить мелкие, слабые ханства и страны.
— Дядя Григорий, вот декабристы были против царя, но готовы были жизнь свою отдать за царство. Кого из них казнили за это, кого на каторгу отправили…
— Одно дело — царь! Совсем другое дело — царство, или, как я бы сказал, — отчизна! Родина! Декабристы любили свою родину! Кто по-настоящему любит родину, тот не унижает, не презирает, а, наоборот, уважает другие страны и другие народы. Если бы Россия была такой, какой хотели, мечтали видеть ее декабристы, я давно, други мои, отвез бы вас на учебу в Петербург или Москву.
Чем дальше, тем больше интересовали Каллибека и Тенела вопросы простые и сложные, житейские и возвышенные, бытовые и политические, особенно — отношения России с мусульманскими странами. Они перестали стесняться друзей Михайлова, стали смелее в общении с ними. От них ребята узнали, что царь Николай затевает войну с турками и что опасные события следуют одно за другим: русские войска вступили в княжества Молдавию и Валахию, находившиеся в сфере влияния Турции, эскадра англичан и французов уже вошла в Дарданеллы…
— Дядя Григорий, что же будет, если разразится война между турецким султаном и вашим царем! На чьей стороне правда? — допытывались у Михайлова ребята.
— Я бы сказал так: обе стороны не правы, обе преследуют цели несправедливые.
Однажды рано поутру за Михайловым пожаловал вестовой и срочно потребовал его к генерал-губернатору. Михайлов в мгновение ока оделся, ушел.
— Ура! Возвращение домой! — решили Каллибек и Тенел.
Они прождали Михайлова до самой ночи.
— Война! Началась война с турками! — грустно объявил Михайлов, едва переступив порог. — Так что, братцы, вам предстоит вернуться на родину одним. Передадите Ерназару, что обещанная помощь теперь последовать не может…
— Дядя Гриша, не можем мы, не должны возвращаться домой! Что о нас скажут, что подумают ваши друзья и знакомые! Сочтут нас трусами, мол, смерти испугались наши каракалпакские палваны! — запротестовал Тенел.
— Потом — мы хотим увидеть настоящее сражение! — Каллибек умоляюще взглянул на Михайлова.
— Кстати, Каллибек, ты в последнее время забросил черчение и рисование. Я недоволен этим. Теперь вам для обратного пути очень пригодилась бы карта!
— Не беспокойтесь, дядя Григорий! У меня есть рисунок, вернее, схема, по ней не составит труда добраться до дома. Я при первой же встрече передам эту схему Ерназару-ага! Только нам лучше быть с вами, — убеждал Каллибек Михайлова.
— Дядя Гриша, мы не хотим сейчас отделяться от русских! Не хотим! — сердито и упрямо заявил Тенел.
— Наши предки считали, что смерть, принятая человеком в сражении за русских, — это богоугодная смерть! Человеку уготован за это рай… — добавил Каллибек.
— Подальше вам надо быть от войны, подальше! Молоды еще очень, зелены! Вон под носами еще мокро! — Михайлов обнял юношей. — Попробовать-то я попробую, замолвлю за вас словечко, но в успехе не уверен! — заключил он.
— Попытка — не пытка, вы же сами не раз нас этому учили! — расхохотался Тенел…
Происходило это осенью 1853 года.
6
— Человек, который держит свои двери на запоре, всегда желает, чтобы двери у других были открыты… Человек, который споткнулся, жаждет быть свидетелем падения других… — бурчал под нос Маулен-желтый, ворочаясь с боку на бок у себя в юрте. Он не помнил, слышал ли он эти умные изречения от кого-нибудь или только что сам придумал их.
Маулен опасался, как бы кто-нибудь не прознал о его поступках и ухищрениях, направленных против Ерназара, как бы не донес на него Алакозу. Пойдут гулять разговоры да толки по свету — беды не оберешься!
Маулен-желтый оделся и выбрался на улицу; его конь мотал головой, пытаясь сбросить с себя пустую торбу. «Жаль, нет Рустема, некому приглядеть за хозяйством! Как бы сейчас был кстати братец — дурной, да родной…»-вздохнул Маулен, снял с коня торбу и после этого направился к Гулзибе. Вышагивал он неслышно, крадучись; у ее двери остановился, прислушался.
— О боже, за что ты караешь, казнишь меня так жестоко, неужели же мои прегрешения так непростительны и тяжки? — причитала в юрте Гулзиба. — Бедный мой сынок, ему уже шестой годок идет, а он не знает, не ведает, кто его родной отец! Стесняется играть-резвиться со сверстниками — у тех-то есть отцы! Я и сама боюсь на шаг отпустить его от себя! Не дай ему, боже, услышать слово «безотцовщина». Убереги его от злых сердец и колючих языков! Боже! Зарони хотя бы искорку жалости в сердце Кумар-аналык! Сделай так, чтобы она не гнала меня из своего дома, от себя! — заплакала Гулзиба.
«Ага, так вот почему Гулзиба до сих пор прячет от всех сына! Мажет ему лицо сажей, будто от сглаза оберегает!..»- пронеслось вихрем в голове Маулена…
— О боже, я понимаю, понимаю, что ей дорог ее единственный сын, мне ли это не понять! Она боится, что я накличу на него беду, запятнаю доброе его имя! 0- о-о, разве я, я, которая любит его больше жизни, способна на это? Пусть все его горести-болести, все его страдания перейдут ко мне! Я готова, о боже, принять их на себя, лишь бы ему жилось хорошо! Лишь бы знал одни только радости, был спокоен!
Маулен-желтый не сдержался и громко чихнул. Гулзиба, увидев его, быстро накинула на голову большой платок, вытерла кончиком мокрые от слез глаза.
— Входи, племянник, — проговорила она ровным голосом, будто не она только что горько сетовала, изливала богу душу.
Маулен огляделся вокруг. В углу спал ребенок. Ма-улену страсть как хотелось взглянуть на лицо мальчика, но он так и не решился на это. Гулзиба расстелила дастархан, налила в чашку из глиняного кувшина кислое молоко, протянула гостю.
— Живем в одном ауле, а друг друга не навещаем совсем… — рассеянно обронил Маулен.
— У всех своих забот хватает!
— Что верно, то верно! Все чем-то озабочены, удручены… Ну, как здоровье? Как растет единственное копытце — наследник моего дядюшки?
— Слава богу, хорошо растет!
— Позволь мне взглянуть на него, небось похож на дядюшку моего любимого как две капли воды!..
— Ребенок только что уснул. Не надо его тревожить. Маулен не стал скрывать раздражения.
— Эх, Гулзиба, не доверяешь ты мне! Если бы хоть намекнула: позаботься-де о сироте!.. Да я сам бы на тебе женился, не оставил бы в таком униженном положении.
— Вы что, считаете, что женщина обязательно должна быть при муже? При любом муже? — рассердилась Гулзиба. — А как же любовь? Голос любимого и тот слух ласкает…
— Ну ладно, ладно! В любви я ничего не смыслю, оставим этот разговор! — все больше раздражался Маулен. — Скажи-ка лучше, не известно ли тебе чего-нибудь о Рустеме? — проскрипел он.
— Вы что ж это, только спустя шесть лет спохватились о своем единственном брате! — Гулзиба покосилась с подозрением на Маулена, — Твой старый дядя ревновал меня к Рустему и убил его. Убил, а всем раззвонил, что Рустем ушел в Хиву и там пропал, сгинул…
Маулен отпрянул от Гулзибы, будто она его ударила. Он долго сидел, неподвижный, угрюмый, погруженный в тяжелые мысли, потом потребовал:
— Коли так, порешим вот на чем: ты молчишь о том, как погиб Рустем, а я сохраняю твою тайну! Я слышал твои причитания! — Маулен не выдержал скорбного взгляда прекрасных глаз Гулзибы, потупился.
Невыносимое, тягостное их молчание было нарушено сотником Мухамедкаримом. Он вошел в юрту, поздоровался сдержанно у самого порога. Красивое, правильное лицо Мухамедкарима портили чересчур широкие ноздри. Гулзиба проворно поднялась навстречу новому гостю, взяла у него плетку и шапку, повесила их на кереге и вышла за хворостом. Маулен прищурился и с наигранным лукавством воскликнул:
— Да ты здесь, я смотрю, свой человек! Вон как тебя привечают!
Мухамедкарим самодовольно хохотнул.
— Ну что, угадал я? — приставал к нему Маулен. — Признавайся! Откроешь мне истину — ни одна собака о твоем секрете не пронюхает!
— Вы совсем не знаете, оказывается, вашей родственницы. Она женщина скромная и строго себя блюдет… Мадреим-бий подлаживался к ней, хотел взять в жены, да ушел несолоно хлебавши… Теперь я решил попытать счастья. Я здесь впервые.
Показалась Гулзиба, и он поспешил переменить тему.
— Маулен, вы, ей-богу, напоминаете мне курицу! Курица целыми днями ходит по улицам, знай себе — клюв, клюв! — и ничегошеньки не видит вокруг! — с ехидцей произнес сотник. — Алакоз затеял прекрасное дело, а вы небось проморгали?.. Если бог поможет, скоро и я стану военачальником, близким соратником Ерназара.
— Что же это за дело такое? — опешил Маулен.
— Это пока тайна! Тайна от Хивы! Но вам, конечно, ее доверить можно. Ерназар с друзьями сочинил «Клятву шестидесяти биев», сейчас он собирает под ней подписи…
— Уж не выдумка ли это? — всполошилась Гулзиба. — Не женские ли бредни-сплетни?
— Бию не пристало заниматься бабьими сплетнями! — обиженно возразил ей Мухамедкарим. — Еще письмо русскому царю составлено, его повезли в Оренбург Зарлык-туре и Генжемурат. Но учтите, это строжайшая тайна! Вы еще убедитесь в том, что я осведомлен о важнейших секретах нашей страны! Сплетни… И зачем мне выдумывать из головы невесть что!
— Вы, оказывается, хвастун, сотник, — слегка поморщилась Гулзиба.
Теперь захохотал Маулен. Он потянул Мухамедка-рима за полу халата и сказал:
— Вставай, пойдем-ка отсюда вместе! Нечего тебе здесь делать!
На улице Маулен поспешил распрощаться с Муха-медкаримом и потрусил домой. «Вот она, удача! Вот он, повод, настоящий повод добиться тебе почета и славы, Маке! Вот оно, твое счастье, привалило наконец, Маке! — Маулен не чуял под собой ног. — Постой, постой, Маке, а не рано ли ты радуешься? Вдруг сотник прихвастнул, решил покрасоваться перед бабой. — Маулен с досады плюнул. — Надо разузнать все у Саипназара!»
Он полетел к Саипназару, но, к своему огорчению, обнаружил у его дома лошадь Шонкы.
— Саипназар-бий, выйди, есть разговор! — позвал Маулен.
Вообще-то Саипназар терпеть не мог панибратского обращения, он усматривал в этом урон своему бийскому авторитету. Но Маулена-желтого он слегка побаивался. «Как ни тощ верблюд, а все же его шкура — груз для осла… — думал Саипназар. — От этого дуралея пользы не дождешься, а вот неприятностей мелких он наделать может. Начнет врать да нести всякую околесицу в Хиве, хлопот потом не оберешься!..»
Саипназар накинул на плечи бийский халат — он надевал его лишь в исключительных случаях, когда хотел продемонстрировать свою власть или оказать уважение посланцам из Хивы, — и предстал перед Мауленом.
— Ха, Маулен, чего шумишь, что стряслось?
— Ты тоже подписался под «Клятвой»? — выпалил Маулен.
Саипназар вспыхнул от негодования и решил сразу же дать отпор этому наглецу:
— Да, я вижу, ты самый что ни на есть доносчик и шпион! Или, как говорят в народе, — белая кобыла!
Маулен побагровел от ярости; Саипназар уже жалел, что связался с этим недоумком.
— Заходи, Маулен, выпьем чаю! — пригласил он его, сбавив тон.
— Я не пойду в дом, в который ты пустил осла! — набычился Маулен.
Озираясь по сторонам, Саипназар отвел Маулена подальше от дома и спросил:
Какой у тебя разговор ко мне?
— Генжемурат и Зарлык повезли «Клятву шестидесяти биев» к русскому царю!
— Неужели? — Саипназар притворился несведущим.
— Ну да! У Ерназара умная, хитрая мать, это она придумала, я уверен! Ну и дела! Ну и чудеса! — повторил Маулен несколько раз.
— Как бы ни подорожало масло для лампы, слепому все равно! Мне нечего их опасаться!
— Э-э, не скажи! Если бросишь камень в грязную лужу, брызги и твою одежду испачкают… Будь осторожен с Шонкы! Он лазутчик Алакоза, все доносит ему!
— А то я не знаю!.. Ерназар, чего доброго, учудит и запишет в этой своей клятве: дескать, все женщины в стране каракалпаков обязательно должны рожать детей! И заставит — хе-хе-хе! — всех мужчин подписываться! Вот охотников-то набежит, тьма-тьмущая! — начал паясничать Саипназар.
— От него и не такое можно ожидать! — серьезно поддакнул Маулен и тут заметил, что из юрты за ними наблюдает Шонкы. Он сразу же стал прощаться.
— Перед тем как будешь спать ложиться, поразмысли о том, как будешь вставать! — загадочно сказал ему на прощание Саипназар.
Маулен ушел, раздосадованный на себя, разозленный на Саипназара: ничего так и не выведал. А выведать надо! «Прежде чем являться к главному визирю, я должен получить точные сведения! Подкачусь-ка я к кому-нибудь, кто уже подписался под клятвой!» Ему пришел на ум Мамыт-бий, но он тут же отказался от этой мысли — уж очень переменчивый у Мамыта характер, что день облачный… А вот Мадреим, решил он, пожалуй, подойдет…
В ауле Мадреима Маулен застал большой скандал. На площади толпились и дрались люди — пыль столбом стояла! Мадреим валялся на земле, его вовсю мутузили аульчане. Кто-то пытался оттащить, разнять их, кто-то, наоборот, засучивал рукава… Маулен заколебался — подъезжать, обнаруживать свое присутствие или нет? Какие бы разногласия и ссоры ни возникали в роду, считалось постыдным посвящать в них посторонних; проведает чужак и разнесет по всему свету об их размолвках — весь род унизит… Маулен сообразил, что ему уже поздновато поворачивать обратно. Он издали рявкнул громогласно: «Ассалам!»-и тем привлек к себе внимание толпы. Завидев Маулена, известного своей болтливостью, все, кто участвовал в драке, разошлись, как по команде; кто-то помог Мадреиму подняться с земли.
Мадреим как ни в чем не бывало обнажил в улыбке свои крупные желтые зубы, поздоровался с Мауленом за руку и пригласил его к себе в дом.
Ты стал свидетелем скандала, Маулен! Прошу тебя, приятель, не срами меня перед людьми, никому — ни слова, ни полслова… Утром нагрянул ко мне Алакоз, разложил передо мной свою «Клятву»-чтоб ей сгореть! — и потребовал: «Подпиши и приложи печать!» — пустился в объяснения Мадреим. — Я не согласился. Я не дурак, чтоб самому лезть в петлю. Потом — как же так? Бийство я от хана получил, могу ли я идти против него?.. Алакоз не стал применять ко мне силу, но, уезжая, предупредил: «На обратном пути вернусь, а ты посоветуйся со своими джигитами, авось они умнее тебя, вразумят, что к чему… Увернуться тебе все равно не удастся!» С этим и отбыл. Я собрал аульчан и сообщил им про клятву эту, не утаил, что думаю о ней. То есть крепко выругал и ее, и Алакоза. Да народ-то тупой, ох тупой! Не понимает он, кто истинно любит его, кто о нем заботится, печется о его же интересе!.. Набросились людишки на меня, как стервятники, сбросили с коня, — разглагольствовал Мадреим без передышки. — Благо, рядом оказались близкие мне люди, иначе измолотили бы меня, душу из меня вытрясли бы!.. Да еще, веришь ли, разорялись: «Не смей хулить нашего Ерназара! Мы им гордимся, он действует правильно! Если велит ставить подпись, — значит, ставь! Все за ним пойдем, все станем соколами!»
— Ну и дела, прямо светопреставление! — изумился Маулен, нервно поглаживая свою рыжую бороденку. Потом сдернул с головы папаху, начал теребить ее. — Что же ты собираешься делать? Ведь Алакоз, хочешь не хочешь, с ножом к горлу подступит!
— По правде говоря, если бы я предвидел, что род мой настроен так, а не иначе, я бы сразу приложил печать!.. Хан далеко, а народ — рядом…
Маулен-желтый резко вскочил с места, будто увидел перед собой змею с поднятой головой.
— Какой же ты трус!
— Хорошо тебе петь, а мне каково?.. — огрызнулся Мадреим.
Маулен не стал больше у него задерживаться. Чтобы люди не догадались, куда он держит путь, Маулен взял сначала направление на север. Отъехав на порядочное расстояние от аула, он, как голодный волк, воровато скользнул в заросли тростника и тамариска, здесь огляделся, отдышался, потом изменил направление — на Хиву.
Вновь и вновь Маулен предавался мечтам о бийстве: «Уж теперь-то я наверняка смогу приставить к своему имени заветное словечко «бий»!.. Если этого, не дай бог, и на этот раз не произойдет, я первый скажу себе: «Маулен, тьфу на тебя! Ничего, кроме плевка, ты не стоишь!»
Конь шел бодро, подгоняемый прохладным ветерком; только сучья под его копытами потрескивали да шелестела сухая опавшая листва. Вдалеке показались величественные минареты Хивы. Маулен умерил бег коня, ему хотелось въехать в священный город чинно и скромно. Он нагнал вскоре человека, который сердито понукал своего осла. «Кого он мне напоминает? — подумал Маулен и вгляделся в него повнимательнее. — Ба, да никак это мулла Шарип?»- растерялся он. Желтая, как цветок тыквы, чалма опущена до самых бровей, глаз не поднимает: мулла явно не хотел, чтобы кто-нибудь его видел и признал… «Верно говорится: собака кусает несчастливого, если он даже на верблюда заберется!.. — подавил горестный вздох Маулен. — И зачем мне только повстречался этот дьявол!..»
Маулен стиснул от злости кулаки, но прокричал весело:
— Здравствуй, мулла Шарип!
Мулла вздрогнул и ничего не ответил, лишь энергичнее стал понукать осла. Это рассмешило Маулена, он захохотал во все горло. Не обращая на него внимания, мулла Шарип гнал и гнал своего осла вперед.
— Эй, мулла! Что это ты такой хмурый? Зубы болят или, может, живот беспокоит? А может, кто-нибудь умирает от нетерпения, ждет тебя в Хиве? — пристал к Шарипу как репей Маулен. — Айдос еще сказывал: в родной сторонушке каждый из нас — орел, а залетим в священную Хиву, сразу в воробьев превращаемся… У нас-то ты знаменитый мулла, но здесь… здесь даже ученик медресе и то важнее и выше тебя! Так что не очень-то заносись и отвечай: зачем несешься в Хиву как оголтелый?
Мулла Шарип не собирался, однако, докладывать этому пройдохе, этому сплетнику, зачем он спешит в Хиву. Не хватало еще, чтобы он пронюхал, что мулле срочно понадобился Каракум-ишан, который сам выехал сюда дня два-три назад.
— Небось донести хочешь, сквалыга, прощелыга недобитый, что аульчане избили своего бия Мадреима?
— Маулен, почему оскорбляешь меня, возводишь на меня напраслину? Да я и слыхом не слыхивал об этом! Я просто на базаре хочу побывать!
— На осле твоем что-то никакого груза не видно. Или, может, твои карманы набиты деньгами и ты желаешь скупить весь базар, а? — не отставал Маулен. — Пожалуй, ты вряд ли успел бы проделать такой путь… Потасовка-то в ауле Мадреима случилась вчера, — размышлял вслух Маулен. — Разве только осел твой с крыльями?
Мулла Шарип ухмыльнулся, потрепал осла по холке.
— Э, Маулен, бывают ослы получше любого коня!..
— Ну, с ослом твоим мне все ясно! А вот какие люди тебе больше всего нравятся?
— Хе-хе-хе, Маулен, до чего же ты умен! Нет человека умнее тебя!.. Мне нравятся люди, похожие на моего осла! — неожиданно заявил мулла.
«Не на меня ли он намекает? — чертыхнулся про себя Маулен и с тревогой подумал:- Наверняка он едет в Хиву с той же целью, что и я. Теперь я, кажется, начинаю догадываться, кто первым приносит сюда на хвосте все наши новости! Нет, вдвоем нам здесь показываться нельзя!»
— А ну, мулла, давай поворачивай разлюбезного своего осла назад! — грубо приказал он Шарипу.
— Почему это? — заартачился мулла.
— Потому что так надо! Негоже мулле разрушать единство своей страны! Да еще такому знаменитому мулле! — добавил Маулен со злобой.
Ссориться, скандалить с Мауленом, смекнул мулла, сейчас не время и не место. К тому же он такого потом наплетет в аулах, что лучше домой не возвращаться!.. А здесь, в Хиве, в результате не очень-то будет нужен со своими услугами!.. Да, осрамит, ославит его Маулен. Надо решить с ним спор полюбовно.
— Разве двоим не хватит того, чем можно удовлетворить одного, а, Маулен? — вкрадчиво спросил мулла.
Маулен совсем разгневался. «Хочет, недоносок, урвать себе мою долю, мою! Отнять то, что принадлежит мне, мне одному! До чего же у этих мулл ненасытная утроба! Если из ста частей отрываешь им от себя девяносто девять, они и от одной частички норовят отщипнуть себе побольше! Ни за что не отступятся!»
— Взгляни-ка, никак это Шонкы нас догоняет? — вскричал вдруг мулла Шарип.
— Вот теперь пойдет дележ на троих! — насмешливо передразнил его Маулен.
— Какой дележ? — пролепетал мулла.
— Тише ты… — зашикал Маулен.
Шонкы чуть из седла не вылетел, оказавшись лицом к лицу с муллой Шарином и Мауленом.
— Ха, Шонкы, куда путь держишь?
— Ха, Маулен, а тебе какое дело? — ответил Шонкы вопросом на вопрос. — И вообще, ты это или, может, чучело твое? Уж больно быстро ты достиг Хивы!
— Он еще унижает меня! Это ты чучело, а не человек! Всем известно, что в нашем ауле первая белая кобыла — Саипназар, а второй сплетник и ябедник — это ты! Я разгадал твой замысел и потому решил перехватить тебя! Сейчас же поворачивай назад, негодяй! Не смей нарушать единства народа!.. — Маулена распирала досада и злость: опять рухнула его надежда на бийст-во. — Все вместе возвращаемся! Если твою курицу слопает собака из чужого аула, все равно будет виновата собственная собака… Если вы меня ослушаетесь, я всему свету раструблю, кто пошел против единства каракалпаков! — Маулен побагровел от- гнева.
— Человек на осле не может быть попутчиком тому, кто едет на коне. Вы отправляйтесь, а я уж потихоньку потрушу вслед за вами…
— Младенец, которого ты пытаешься обмануть, еще не родился! Так что не усердствуй зря! — Маулен выхватил из рук муллы поводья и завопил:- А ну, Шонкы, огрей осла как следует!
Понурые, злые на судьбу и друг на друга, все трое потащились назад. Останавливаясь на ночлег и отдых в аулах, в дороге они пробыли четыре дня, но так и не признались, не открыли друг другу, зачем торопились в Хиву… Когда им оставалось полдня пути, их нагнал Каракум-ишан. Мулла лишь улыбнулся ему жалко, однако от своих спутников оторваться не посмел. Ишан но глазам Шарипа понял, что у него есть какие-то новости. Но решил молча миновать троицу, чтобы не вызывать лишних пересудов о своих связях с муллой. Зато троица рассудила, кажется, иначе — не отставала от ишана, трусила за ним…
В голой степи издали Каракум-ишан заметил двух женщин и всадника. Женщины наблюдали за тем, как всадник носится взад и вперед, на скаку срезая саблей кончики палок и колов, вбитых в землю. Действовал он ловко.
— Кто такие? — осведомился ишан брюзгливым тоном.
— Старший сын Алакоза — Хожаназар, — поспешил разъяснить мулла Шарип. — Та, в белом покрывале, Кумар-аналык. Когда Алакоз бывает занят, она сама следит за военными упражнениями внука… Возле нее, наверно, невестка…
— Чего болтаешь зря? Невестка ее не приходит на эти скачки, — оборвал его Шонкы.
— Ну и ну! Окаянная старуха совсем спятила! Взялась за мужские дела! — Ишан повернул коня к женщинам.
Рядом с Кумар-аналык стояла Гулзиба… Она все-таки решилась и подстерегла однажды Кумар-аналык, излила ей истомленное одиночеством сердце. Мать смилостивилась: на этот раз ее тронули горе и слезы Гул-зибы, — видно, вспомнила, что сама испытала горькую вдовью участь. С тех пор Гулзиба приходила на учения Хожаназара со своим сыном. «Пусть и он растет воином, пусть и он будет таким же сильным и проворным, как Ерназар!»- думала Гулзиба.
— А ты чего торчишь здесь? Чего не видала? — упрекнул Маулен Гулзибу. — Мой ишан, эта молодая женщина — вдова покойного Сержанбая.
— А чей это ребенок рядом с ней? — с подковыркой вопросил мулла.
— Единственный потомок Сержанбая, — решительно отрезал Маулен.
Между тем ишан приблизился к Кумар-аналык почти вплотную.
— Ты, видно, решила действовать по пословице: поросенок учится хрюкать у своей матери-свиньи? — грозно насупился он. — Мужчине — сабля, а женщине — посуда, запомни!
— Наш дорогой ишан! У всего рода человеческого есть конь, на которого в конце концов усядется каждый. Это гроб. Никто не избежит смерти. В наши дни в любой момент над головами людей может нависнуть беда. Я говорю о войне. Необходимо поэтому научиться хотя бы защищаться, — с достоинством произнесла Кумар-аналык.
— Когда я вступался за твоего сына, я считал, что спасаю орла. Но что же предстает перед моим взором? Вместо орла летают воробушки, а вместо слона за военными упражнениями наблюдают обезьяны! — Каракум-ишан совсем потерял над собой власть.
— Душа матери подобна широкой полноводной реке, ишан! Не пытайся загрязнить ее мусором своей душонки! И не рассчитывай, что она все стерпит, все примет! Коли она переполнится, затопит всех вас!
— Если дуре скажешь, что она красавица, она начинает кривляться! — отрубил ишан и огрел коня плеткой. Его спутники заискивающе захихикали.
— По виду вы — дворец, а внутри у вас — курятник! — бросила ему в спину Кумар-аналык.
Желая сгладить неприятное впечатление от встречи с непокорной, неуемной женщиной, мулла Шарип заговорил:
— Наш ишан, когда корова жиреет, молока у нее становится много-много! Если же жиреет змея, у нее становится много-много яда. Кумар — самая ядовитая змея, змеюка из змеюк!
— Ничего! В каждом ауле бывает своя собачка, которая на всех лает! — презрительно сплюнул ишан.
— Эта женщина жиреет за счет сына, его славы, — негодовал, подстрекал мулла. — Удивляюсь, как он до сих пор разгуливает на свободе, да еще в почете и славе! Все бессильны против него, все! Никто не может его угомонить да укоротить!
Ишан повернулся к нему всем корпусом:
— Мышке и кот кажется львом — слышал ты такое? Пораскинь мозгами, кто мышь, а кто кот!..
Мулла Шарип прикрыл ладонью свой беззубый, какой-то старушечий рот и беззвучно угодливо засмеялся.
— Мой ишан, — Маулен решил переключить внимание ишана на себя, — я счастлив, что мне выпала удача оказаться у вас в попутчиках… Есть один тугой узел, который я не в силах развязать самостоятельно. Помогите мне!
— Что за узел?
— Кого из каракалпаков вы считаете самым умным? Таким… таким, что способен возглавить народ?
— Забавный ты джигит, — скривил губы ишан. — Разве ты незнаком с Фазыл-бием?
— Знаком, конечно, знаком! Но… как же Ерназар Алакоз?
— Ум его еще не созрел. А незрелый ум — что весенний лед или нож — тупой и короткий.
— Мой ишан, а как вы относитесь к поэтам? — Шонкы не желал отставать от Маулена.
— Кто воспевает ислам, тот и поэт! — пожал плечами ишан. — Почему об этом спрашиваешь?
— Есть у нас в ауле бедняк; когда-то он за невесту заплатил калым дынными семечками, хе-хе! А ныне, ныне его отродье — Бердах — корчит из себя поэта!
— Бердах — парень с придурью! Я его выгнал за это из мектеба. К тому же он вредный! Он опять учудил что-нибудь?
— А как же! Все аулы только и делают, что распевают его песню «Налог»! — поспешил сообщить мулла Шарип.
Ишан почувствовал облегчение: «Слава аллаху, песня против меня не дошла еще до людских ушей!» Он решил больше не продолжать разговор об этом поганце поэте и о его порочащих добрых людей песнях.
* * *
Когда все расстались и Маулен оказался один, он спрыгнул с коня, повалился на землю. Он катался по земле в ярости, его душила ненависть к счастливчику Фазылу, которого ишан ценит превыше всех. «О, безумный, обманчивый мир! Все свои блага ты отдаешь другим — не мне! А я… Я, как оса, только и выжидаю, кого бы ужалить! Кого же кусать, куда лететь и во имя чего — не знаю! Я все же человек, а в чьей тени таюсь-прячусь, для кого сам стал тенью? Если в ступню попадает заноза, занозу вынимают иголкой! Ну а что, если сама иголка станет занозой?.. Я, я превратился в занозу-иголку, всем боль причиняю… Свой народ обвиняю, черню! Не способен, мол, он ни на что, даже на единство! А сам я кто? Доносчик и холуй… Мне дела нет до народа, до людей! Бий… Какой из меня бий, когда я о собственном брате вспомнил спустя шесть лет! Не удосужился справить по нем поминки!.. Где уж мне заботиться о целом ауле или роде?.. Проклятье мне, проклятье!»
Впервые за долгие годы Маулен заплакал настоящими, человеческими слезами, слезами раскаяния и горя…
* * *
Кумар-аналык едва уняла дрожь ярости, которую вызвал у нее Каракум-ишан. Она не хотела, чтобы внук видел ее расстроенной, овладела собой и нежно ему улыбнулась.
— Продолжай, продолжай! Теперь скачи к реке! Три раза на полном ходу соскочи с коня и вскочи на него опять.
Гулзиба, затаив дыхание, следила за упражнениями Хожаназара. А Кумар-аналык, случайно взглянув на ребенка, не могла оторваться от его личика. Кумар-аналык тяжело вздохнула и произнесла укоризненно:
— Знаешь, Гулзиба, почему ишан и подобные ему считают женщин глупыми? Потому что некоторые из нас весь свой разум употребляют на то лишь, чтобы скрыть от других свою заветную тайну. По мне, самая дурная на свете женщина та, у которой много тайн… Самая опасная…
Гулзиба не промолвила в ответ ни слова; слегка пришпорила коня и двинулась потихоньку прочь.
7
…На рассвете повалил густой пушистый снег, но к полудню весело засияло солнышко и снег растаял. Ерназар все-таки решил не отменять охоту на зайцев. Проезжая мимо юрты Гулзибы, он подал ей условный сигнал, означавший, что сегодня они встретятся в шалаше у «русской стены».
Гулзиба так и не дождалась его, Ерназар почему-то не приехал. Гулзиба направилась в сумерках домой. Недалеко от аула, из камышовых зарослей, до нее донеслись громкие сердитые голоса. Она прислушалась и узнала в спорящих Ерназара и Каракум-ишана.
— Я не желаю цепляться за ноги тех, кто стоит выше меня, и пятки им лизать! Я не лицемер и не холуй!
— Почему же ты возишь тогда в Хиву налог?.. Руки ханского слуги могут быть и черными, но дела и помыслы его должны быть чистыми! Берегись, гнев хана ужасен! Как морской вал, все сметает на своем пути! И тебя сметет, и весь народ каракалпакский! И учти еще, Ала-коз, вот что! Хан недаром просил передать тебе: «Пусть он не забывает, что счастье, свалившееся на глупца, может обернуться дырявым мешком!..» Мой тебе совет, запомни его: ласковый теленок двух маток сосет. Почему бы тебе не иметь молоко и от каракалпаков, и от хивинцев?
— Ишан, я уже сказал: в мервский поход я не пойду! Это мое последнее слово!
— Значит, все мои старания и хлопоты ты хочешь развеять по ветру, да? Я уговорил покойного хана освободить тебя из зиндана, я! «Лучше освободить десять виновных, чем держать в заточении одного невиновного!»- это я ему внушил, я!.. Теперь вы, каракалпаки, получили все, благодаря мне получили! Власть, должности, чины! — Ишан возвысил голос до крика.
— Лучше бы вы этого не делали, лучше бы не вмешивались! Вы помешали мне!
— Ах как он запел! Теперь-то, когда вы столько получили от хана, можно петь! Поистине — кто никогда не видел мечети, тот ее купола принимает за грибы!
— Я никогда не просил вас помогать мне! Хлопотать за меня!
— За тебя страна твоя просила! Не забывай: кто любит только себя, того не любит народ! А ты, похоже, стал любить одного себя! И запомни: человек не может убежать от собственной тени!
Свистнула плеть, раздался топот копыт. Гулзиба догадалась, что Ерназар остался один в зарослях. Она осторожно подала ему о себе знак.
— Гулзиба, умница ты моя! Ты всегда чувствуешь, когда мне бывает трудно! — обрадовался Ерназар. — Появляешься рядом, как ангел!
— Я слышала весь ваш разговор!
— Ну и хорошо! Не надо будет пересказывать все сызнова! Поедем скорей к тебе!
— Сейчас нельзя! Нурназар еще не спит. Приезжай попозже!
Ерназар наклонился к Гулзибе, обнял и стал целовать ее в глаза.
Самым большим праздником для Гулзибы были часы, проведенные с Ерназаром. Это был ее праздник. Праздник ее любви, ее счастья, равного которому ни у кого на свете не могло быть…
Гулзиба накормила сына, уложила его в постель, но мальчик просто так не засыпал: он привык перед сном разговаривать с матерью, расспрашивать ее.
Нурназар рос шустрым и любознательным: все, что его окружало, что он видел, вызывало у него интерес. Он любил тормошить мать, заливался смехом, когда она шутила. Гулзибе никогда не наскучивали вопросы сына. Она отвечала ему охотно и весело, испытывала гордость оттого, что сынок у нее такой смышленый.
Сегодня Нурназар неожиданно спросил:
— А мой отец, кто он и где?
Твой отец умер, сынок! — спокойно и мягко ответила Гулзиба.
Она знала: рано или поздно мальчик узнает правду. Но пусть — поздно. Когда он подрастет и познает радость и горечь жизни, тогда она сама все ему откроет, такова ее святая материнская обязанность. Пока же святой своей обязанностью Гулзиба считала хранить тайну.
— Какой он был? Расскажите мне об отце! — потянул Нурназар мать за руку. — Расскажите! Я похож на него?
— Сынок, очень, очень похож! Он был умный человек, и ты будешь умным! Отец твой был высокий, широкоплечий, сильный как лев! Твои плечи тоже станут широкими и мощными, вот только подрастешь еще немножко! Усы — длинные-предлинные, а глаза!.. Глаза у него были огромные, как у теленка. Взгляд — острый-острый, зоркий-зоркий. Если кто-нибудь бывал виноват, не выдерживал его взгляда… Станешь ты мужчиной — и у тебя появятся усы, а глаза твои станут такими же проницательными!
— А какой длины были у него усы? — полюбопытствовал мальчик.
Гулзиба приложила свой палец к верхней губе:
— Вот такой! Отец закручивал усы даже за уши, вот такие они были огромные!
— Не усы, а усищи! — Ребенок рассмеялся вслед за матерью. Он начал мерить маленькими своими пальчиками расстояние от носа до ушей. — Мама, значит, мой отец похож на отца Хожеке! — вдруг заявил он.
— Отец Хожаназара молодой, твой был старше! — похолодела Гулзиба.
Мальчик притих, задумался. Ерназар часто возился с ним, играл, надвигая ему на глаза тюбетейку, тормошил, подбрасывал в воздух. Портрет, нарисованный матерью, в точности соответствовал внешнему виду Ерназара, вот только не было у него таких длиннющих усищ… Нурназар забрался под одеяло и вскоре сладко засопел.
Во сне он увидел отца — большого-большого, сильного-сильного, и был он белым-белым лебедем, и конь под ним был белый-белый с белыми-белыми крыльями. Отец шептал мальчику: «Садись, сынок, держись за меня, мы сейчас полетим с тобой в небеса!..» Как он обрадовался, как возликовал! То-то удивятся все его друзья-мальчишки, то-то будут завидовать!.. Он уцепился руками за спину отца, и они вознеслись вверх. Аул остался внизу — вон кто-то машет платком, кто-то подбрасывает шапку, кто-то задрал голову… Он еще крепче уцепился за отца, а тот пощекотал его пальцем; он залился громким радостным смехом — и проснулся.
— Мама, — позвал Нурназар. — Мама! — Ему не терпелось поделиться с ней своим счастьем.
Мать не отозвалась.
Луна, показалось мальчику, стояла над самой его головой. Это ему она посылала через верхний купол юрты бледный, тусклый свет. Нурназар приподнялся — матери рядом не было. Он огляделся вокруг… Что это — неужели его сон продолжается? Возле матери лежал усатый мужчина, очень похожий на отца, он только что видел его во сне! Но он человек, а не белый лебедь. Когда же отец успел сбросить с себя белые перья, опуститься с небес, сойти с белокрылого коня, раздеться и заснуть рядом с мамой?.. Мальчик потряс головой, пытаясь сбросить с себя дрему, понять, где он, что с ним, спит он или уже проснулся?.. В небесах он парит или находится в юрте?
Нурназар тихонько вылез из-под одеяла, подкрался… Это не его отец, это не его отец! Он признал в мужчине отца Хожеке — Ерназара! Почему тогда голова его мамы покоится на плече чужого человека? А рука притулилась на груди ага?
Мальчику сразу пришло на ум, что у некоторых детей после смерти отцов появляются отчимы, из-за которых они плачут и мучаются.
Нурназар задрожал от ярости, от неосознанной, острой ревности. Он бросился на Ерназара, вцепился в его лицо маленькими руками, налившимися вдруг силой.
Ерназар со сна решил, что его подстерег у Гулзибы коварный враг. Инстинктивно, еще не придя в себя, он сбросил с себя кого-то ударом кулака. Раздался глухой звук, затем треск — тело упало и в падении раскрыло дверь юрты. Гулзиба, вскочив на ноги, бросилась к постели сына. Первой ее мыслью было, что над ними нависла опасность и надо спасать ребенка.
— О, горе, Нурназара украли! Похитили Нурназа-ра! — закричала она пронзительно, отчаянно. Крик, казалось, вырвался у нее из души.
— Ерназар все понял; молнией метнулся он к мальчику, поднял, прижал к себе и начал дуть ему в рот. Мальчик не подавал признаков жизни. Увидев на руках у Ерназара сына, Гулзиба бессильно, как подкошенная, рухнула на пол; она била по земле кулаками и едва-едва лепетала: «Ой, головушка моя бедная, ох судьбина моя горькая…»
Ерназар оделся, помог одеться Гулзибе — движения его были лихорадочно быстрыми и на диво точными… Собственное тело не повиновалось Гулзибе, оно было почти неживое, но мысль работала четко.
— Уходи! Уходи немедля, пока никто не пришел, Ерназар!.. Мальчику моему это на роду было написано! Настигло его проклятье твоей матери!.. Беги! Ты не должен страдать из-за меня! Не должен принимать позор.
Что это была за неведомая сила — страх или чувство самосохранения, безумие или же дальновидность и мудрость, — Ерназар так никогда и не разобрался!.. Неудержимая мощная сила вытолкнула, выбросила его из юрты Гулзибы.
Ерназар лег рядом с Рабийби. В ушах его звенел, в сердце его отдавался голос Гулзибы. Голос отчаяния и горя, голос смертельно раненной матери, потерявшей своего детеныша. «Единственный мой, ненаглядный, опора моя, зеница ока моего!»
Ерназар слушал причитания Гулзибы и ясно представлял себе ее черное лицо: вот она царапает его. Ее черные распущенные волосы: вот она рвет их на себе… Тяготы, испытанные им когда-то в сыром зиндане, показались Ерназару лишь взмахом легких крыльев летящей птицы. Что они такое по сравнению с горем, которое обрушилось на Гулзибу и на него!.. Сердце его, всего его, он чувствовал, опустили в медленный огонь; вот он разгорается все ярче, все сильнее, еще подложили дров в огонь, еще! Ерназар заткнул уши, укрыл голову подушкой… Но огонь не унимался, полыхал, жег все яростнее…
Кумар-аналык проснулась, разбудила Рабийби, и они вдвоем побежали узнать, что случилось у Гулзибы.
Ерназару казалось, что его навечно заковали в железные цепи. Он не мог сдвинуться с места… Хотел бежать к любимой, единственной своей, утешить ее — и не мог! Не мог! Оставил ее одну в таком горе! Предал!.. Ерназар дотянулся до сабли, поднес ее к горлу — уж лучше разом покончить с этой мукой! Избавиться от стыда, очистить совесть!.. Кто-то вырвал у него саблю. Он открыл, поднял глаза. Глаза человека, уже увидавшего свой конец. Перед ним возвышалась разгневанная мать.
— Дурак, безумец! Кошка, нагулявшая котенка, сама его и убивает! Запомни, глупец, сердце неверного мужа должно превратиться в тайник!
Ерназар закрыл глаза, из них одна за другой вытекали, катились по щекам слезы; он ощутил их соленый вкус. Второй раз в жизни Ерназар заплакал.
Трус! — обрушилась на него мать. — Знаешь, почему ты теперь слезы льешь? Потому что измена, неверность обязательно приводят человека к беде! Я только раз взглянула на лицо ребенка — и сразу же мне все стало ясно… Предки недаром оставили нам завет: «Не клади в глаза мужа или жены палочку», не изменяй то есть! — Ерназар был совсем убит горем, безучастен… Кумар-аналык пронзила такая острая, такая щемящая жалость к сыну, какую способна испытывать лишь мать к ребенку. — Послушай, я расскажу тебе, откуда пошла эта поговорка. В давние времена, когда изменяли друг другу жена или муж и об этом становилось всем известно, палочкой выкалывали глаз изменнику или изменнице; если же он или она не унимались — продолжали грешить, выкалывали и второй глаз… — Мать сделала паузу. — На этот раз я тебе прощаю. Но вдруг люди дознаются? Пойдет ли тогда за тобой народ? Поверит ли он твоей «Клятве»? Удастся ли тебе осуществить все, что ты там наобещал? Взгляни-ка на очаг? Что там? Зола! Огонь пылал, давал людям тепло, да отпылал. Теперь только зола осталась, и годна она лишь на то, чтобы ее выбросить. А ты? Ты еще не разгорелся огнем, а уже собираешься превратиться в золу! Не отпылав, никого не согрев!.. Как ты можешь отказываться от своей мечты, от борьбы за счастье народа! Где же мужество, с которым ты вынес ханскую тюрьму! — Кумар-аналык скривилась, как от боли. — Ты подумал о людях, которые поверили в тебя, за тобой последовали? Ты хочешь легкой смерти? Только у трусов смерть бывает легкая!.. — Кумар-аналык перевела дыхание. — Когда волк попадает в западню, по нему прыгают, резвятся зайцы! Подумай об этом хорошенько! И еще одно уразумей: медведь склоняет голову перед котом, если по ошибке принимает его за тигра!.. А теперь на, держи свою саблю! — Кумар-аналык, прямая и статная, удалилась гордо, хотя сердце ее разрывалось от горя и жалости.
Ерназар опять убедился, как он слаб, как он недальновиден и слеп по сравнению со своей матерью. «Что я натворил!»- растянулся он на полу, как сраженный немочью одногорбый верблюд. Он теперь не мог толком разобраться, за что ему следует больше казнить себя? Из-за Гулзибы и своего бегства от нее в страшную минуту? Из-за того, в чем упрекала его мать? Он знал одно: что в беде, которая к нему пришла, виноват он, один лишь он…
Долго или нет отсутствовала мать, Ерназар не понял. Она склонилась над ним:
— Встань, приведи себя в божеский вид!.. Я сделала все, что нужно в таких случаях… с мальчиком… Бедная Гулзиба, у нее мужества и выдержки больше, чем у тебя. Она даже мне не призналась… Хорошему человеку бывает стыдно даже за проделки его собаки… Отправляйся к ней! Помоги вместе с другими аульчанами произвести погребение ребенка! — У Кумар-аналык помимо воли вырвались рыдания. — Своего ребенка!
8
Шонкы бил себя кулаками по голове и приговаривал:
«Вот, получай, несчастный, неудачливый, получай! — Он не знал, как еще выместить досаду, выразить разочарование, которое пришлось ему испить горькой чашей. Ведь был у заветной цели, у самых ворот Хивы! И вынужден, вынужден все-таки был вернуться домой ни с чем, вслед за Мауленом. — Пусть я ослепну, если еще когда-нибудь в чем-нибудь послушаюсь этого негодяя! Пусть отнимутся у меня ноги, пусть меня разобьет паралич!»- укорял-казнил он себя день и ночь.
Шонкы потерял покой, его все чаще тянуло скрыться подальше с глаз людских, остаться наедине с собой, со своими разбитыми надеждами, со своим страхом перед возможным возмездием… Он стал очень пуглив. Однажды в зарослях турангиля ему повстречался Бер-дах. Шонкы так вздрогнул, что его конь шарахнулся в сторону.
— Вах, чтоб ей сгинуть! Это ворона вспугнула моего коня, — смешался, заюлил он.
— Да что ты говоришь! А я-то, грешным делом, думал, что ворона — племянница коню и потому она его не пугает, а только с ним шутит-забавляется!
«Ого, ты хочешь, ехидна, сказать, что ворона — моя племянница!»-смекнул Шонкы, но решил притвориться недогадливым. С этим острословом связываться не стоит.
— Откуда едешь, Бердах?
— Из Бозатау, на свадьбе развлекался.
— Стало быть, тебе неизвестно, что этой ночью у Гулзибы умер сын.
Что, что? Отчего же он умер?
— Поговаривают, что его нечаянно убил любовник Гулзибы, но это только разговоры… Хотя ребенка этого приписывали Сержанбаю, лишь собаке ведомо, от кого он был на самом деле. Может, 'от Рузмата, а может, от Маулена-желтого, то-то он с ней все заигрывал, увивался около нее: «Тетя, тетя!..»
— Ну что ж, поспрошай, дознайся об этом у своей племянницы, вон она… никак на тебя не налюбуется, таращится с кривого дерева, сплетник ты эдакий! — гневно отчитал его Бердах.
Шонкы поплелся следом за ним.
— Бердах, почему ты расстроился? В ауле каждый день умирает чей-нибудь ребенок! Разве хватит слез оплакивать всех детей?
— О человеке нужно говорить по-человечески, взрослый он или маленький.
— Можно подумать, что Ерназар Алакоз и поэт Бердах стали глазами нашего рода! Этого только нам недоставало! — фыркнул Шонкы.
— Езжай своей дорогой! Ты все равно меня не поймешь, а я — тебя! Ты-то чем недоволен?
— Обидно все-таки!
— Власти захотел? Тогда отправляйся к хану и бросайся ему в ноги!
— А ты почему сам не отправляешься? — наскочил на Бердаха Шонкы.
— Вот она, моя власть! — Бердах поднял над головой дутар.
— Это всего-навсего дрова! — отмахнулся Шонкы.
— Зря, Шонкы, насмехаешься! Дутар любого пал-вана может свалить! Хотя он сделан всего лишь из кусочка дерева! Он не копье, но пронзить может насмерть, убить любого врага!
Шонкы ухватился рукой за нос: когда он бывал в растерянности, всегда хватался за нос.
— Бердах, ответь мне по-честному! На кого я, по-твоему, похож?
— На лампу с коротким фитилем! На дерево с обгоревшими ветками! Знаешь почему? Потому что ты оторвался от каракалпаков! Стараешься напакостить Ала-козу, навредить его делу! Не понимаешь своей пользы, хотя очень о ней печешься! В единстве со своим народом она! А ты около хана увиваешься, около его прихвостней!
…Шонкы увидел Ерназара на поминках в доме Гулзибы и даже не узнал его сразу: лицо Алакоза почернело, глаза запали, как от смертельной болезни или раны. Весь вечер Шонкы наблюдал за ним издалека, потом, улучив удобный момент, подошел.
— Располагайте мной, Ерназар-ага, как собственной нагайкой! Забудьте мои ошибки и грехи! — всхлипнул Шонкы.
— Если твой конь больше не будет спотыкаться!.. Если не будет спотыкаться! Наведайся ко мне как-нибудь! — сурово вымолвил Ерназар.
— Не нужно ли чего-нибудь для вас сделать? — чуть не заплакал Шонкы.
— Нужно. Будет свободное время, съезди в Хиву! Как там и что… Город тебе хорошо знаком!
— Будет сделано! — отчеканил окрыленный Шонкы и лишь минуту спустя спохватился: нет ли в словах Ерназара какого-нибудь намека?
9
Ерназар переживал, томился из-за того, что дело двигалось медленно, никак не удавалось ему завершить его. Не порадовали его и Зарлык с Генжемуратом: они возвратились назад с полпути. Им повстречался казах Илекей Султан Касымов, который был на службе у русского царя, и сообщил, что между Россией и Турцией началась война.
— Илекей Султан уверял нас, что поездка наша сейчас не принесет пользы, не даст результата, — пытался оправдаться Генжемурат. Он видел, что Ерназар ими недоволен, хмурится. — Нужные нам люди — все до одного — отправились на войну, в Оренбурге заняты только приготовлениями к войне с турками… — объяснял он.
— Ох, зачем вы вернулись с полпути, зачем? — горестно повторил Ерназар. — Зачем? Добрались бы до Оренбурга, повидались бы с Михайловым, разузнали о Тенеле и Каллибеке.
— Так Илекей хорошо всех их знает! Он сказал нам, что оба парня вместе с Михайловым пошли на войну! Михайлов взял их, потому что они очень настаивали! — вскричал Зарлык. — Илекей Султан врать не будет, он казах надежный!..
Лицо Ерназара слегка прояснилось.
— Вот молодцы! Вот и нам бы с нашими соколами подсобить русским! Хорошо было бы!
— Мы толковали об этом с Илекеем, — вздохнул наконец свободнее Зарлык. — Но он сказал, что это невозможно! Очень велико расстояние, отделяющее нас от места военных действий. И еще он нас уведомил, что отряд, который формировался нам в помощь, также бросили на войну с турками. Русские победят, сказал он, и тогда готовьтесь встречать своих освободителей!
Ерназар верил, хотел в это верить и все-таки был очень расстроен: надежда опять не оправдалась. Случилось совсем как в пословице — палка, на которую опирался, упала в бездонное море…
— Как ни утешайтесь, друзья, как ни успокаивайте себя и меня, а ветер удачи никак не дует в нашу сторону! — поник головой Ерназар.
Что пользы вздыхать попусту? — подавил вздох Зарлык. — Сам знаешь, рукой без плеча не шевельнешь!.. Нам надо плечи укреплять, плечи! Вот когда все бии дадут свое согласие на «Клятву», одобрят…
То же самое говорил и Илекей! — поддержал Генжемурат Зарлыка.
* * *
Миновала зима, пролетели весна и лето, подкралась осень, а Ерназар так и не смог еще убедить всех биев скрепить подписью и печатью «Клятву»…
Выдался ясный солнечный день; небо было чистое, без единого облачка, воздух прозрачный и свежий, — все радовало в такой день и глаз, и сердце. Алакоз решил добраться до аулов, которые раскинулись на берегу моря. К нему в попутчики напросился Бердах. Поэт трясся на своем неизменном ишаке; за спиной, как обычно, прилажен дутар.
— Бердах, ты носишь дутар, как ружье! — усмехнулся Ерназар и добавил:- Ответь мне: что лучше — долина или возвышенность? Кем быть лучше — бием или ханом?
Бердах обнажил в широкой улыбке ровные, белые как жемчуг зубы:
— Народ уже ответил на эти вопросы, Ерназар-ага, в своей песне.
В долине травы лучше, В горах воздух лучше; Бий хорош, если чинит правый суд, Хан хорош, если справедлив…Теперь спрашивай ты! — предложил Ерназар.
— Имеются ли весы без гирь? Такие, которым безразлично, с гирями они или без?.. — уточнил Бердах.
— Имеются! Весы, которым безразлично, сколько и чего бы на них ни положили, — это язык человека. А теперь ответь мне — где спрятаны ключи к человеческому счастью? — Ерназар замялся, потом продолжил:- В чем суть человеческого счастья?
— В правде, только в ней, — решительно мотнул головой Бердах. — Но я хотел бы продолжить мысль о языке. Случилась история с покойным отцом Фазыл-бия… Как-то на чужом пиру он сильно опьянел от настоя из мака и наприглашал к себе в гости множество людей — из тех, которые пировали с ним вместе. Гости нагрянули на следующий же день. Фазыл — он в ту пору был еще юношей, — завидя столько гостей, начал быстро вбивать в землю колья, чтобы было за что привязать их коней. Отец ему и сказал тогда: «Эй, сынок, не трудись зря! Пусть гости привязывают своих коней за мой язык!»
— Фазыл становится похожим на своего отца, — вымолвил Ерназар, после того как от души посмеялся над этой историей. — Но не будем сейчас его вспоминать! Лучше скажи-ка мне: что это за сундук, который не открывается?
Бердах подумал, подумал и ответил:
— Это, по-моему, душа человеческая, Ерназар-ага.
— Когда человек тяжко раскаивается, сильно мучается?
— Он раскаивается и мучается, когда причинил зло другому человеку. Ровно столько, сколько причинил зла, столько и страдает.
— Когда душа человека чернеет?
— Когда в ней нет правды!.. Однако… всегда ли можно сказать правду?
— Если правда похожа на ложь, лучше о ней не говорить, дорогой мой!.. — после некоторого колебания произнес Ерназар. — А какое дело неправое, вернее — безнадежное?
— Дело, которое замешено на хитрости и обмане! Оно, по-моему, безнадежное и уязвимое!.. — Бердах помолчал, помолчал, потом решительно хмыкнул и сказал:- Недавно я был на свадебном тое в одном ауле и встретил там поэта Ажинияза. Мы с ним немного поспорили. Рассудите, кто из нас был прав, а кто ошибался…
— О чем же вы поспорили?
— О поэзии. Я даже толком не разобрал, почему Ажинияз-ага начал при всех меня поучать-отчитывать: «Бердах, я давно слушаю твои песни и должен тебе заметить — язык твоих песен не благозвучен! Их трудно перелагать на музыку! Нужно заимствовать опыт Навои, Физули, Махтумкули, подражать им…» Я не стал ему возражать — он человек ученый, закончил медресе в Хиве, может, язык моих песен и впрямь груб. Я лишь попросил его спеть одну из его песен. Он запел… Но что это была за песня, что за язык?! Почти сплошь — арабские и персидские слова! Образы уже давно в зубах навязли: стан — как кипарис, лицо — луна, зубы — жемчуг, губы — мед… У него в строчке всего два-три каракалпакских слова. Разве понятен такой язык? Великий Низами говорил: «Человек подобен светильнику, до конца своих дней он должен гореть для других»… Поэт тоже человек! И он должен гореть для народа, петь о его судьбе! Петь так, чтобы люди его понимали!
— Видишь ли, я всего один раз встречал Ажинияза, мне трудно быть судьей, но стихи его не затрагивают мое сердце…
— Конечно, я должен бы, как более молодой, проявить скромность и не связываться с ним, не вступать в спор, но… Ажинияз заявил, что-де чем поэт непонятнее, тем больше народ его уважает, тем больше преклоняется перед ним!.. Тут я вскипел: «Не кичитесь перед народом знаниями, которые вы получили в хивинском медресе!» Он рассердился и опять стал на Навои ссылаться, на других великих… Я ему возразил: учиться у великих — не значит слепо воспроизводить то, что они создали, их язык, сравнения. Или, того хуже, искажать народный язык, засоряя непонятными, чужими словами. По-моему, учеба у великих — это совсем другое… Главное для поэта — уразуметь, как и о чем писать, как лучше пользоваться языком твоего народа! Смысл — главное! Обязательно доходчивый и близкий людям, среди которых ты родился и вырос…
Ерназар и Бердах в разговорах и спорах незаметно добрались к полудню до рыбачьего аула. Рыбаки жгли на берегу моря костры, коптили рыбу; около юрт хлопотали и женщины — готовили обед. Люди узнавали Бердаха, оживленно его приветствовали, наперебой приглашали разделить их дастархан.
— Иди, иди, брат мой, — отпустил Бердаха Ерназар. Он обвел взглядом россыпь юрт и лагуч; среди них выделялась богатая белая юрта Саипназара. Ерназар уже трижды наезжал к нему и трижды не заставал дома. Возле юрты сейчас был привязан конь бия. Ерназар бесшумно приблизился, соскользнул с седла.
Застигнутый врасплох Саипназар-бий не подал вида, что недоволен появлением нежданного и незваного гостя, вежливо пригласил выпить пиалушку чая. Ерназар без обиняков заговорил о деле, которое привело его сюда. Саипназара перекосило, будто он проглотил что-то кислое.
— Неужто правда, в «Клятве» этой есть строчки, что каждый джигит — это сокол, а каждый конь отдается войску?
— А тебе это что, не по нутру? — Ерназар понял: никакие уговоры здесь не помогут. — Ладно, не буду терять с тобой время! Проводи-ка меня к аулу Артык-бия.
— Отказать гостю в просьбе было бы невежливо! — с облегчением вздохнув, согласился Саипназар.
Они выбрались на извилистую тропу, вьющуюся среди зарослей тамариска и турангиля, словно веревка. Ерназар попридержал коня и внезапно схватил Саипназара за шею своими твердыми, как ногти орла, пальцами. Саипназар насмерть перепугался.
Что ты делаешь, Ерназар? В чем я провинился? — прохрипел он.
— Отвечай, пока я не свернул тебе шею! Ты за «Клятву» или против?
— Я — за, за!
Так что же ты ломаешься?
— Подпишу, подпишу! Если ты меня не прикончишь, подпишу!
— Отдай мне поводья коня, а сам слезай! — Ерназар поднял над головой бия плеть. — Сначала дай торжественную клятву, что никому, даже намеком, не обмолвишься, что я принудил тебя присоединиться к нашему святому делу!
Саипназар забормотал:
— Никому не намекну, никому не скажу.
Под его бормотание Ерназар развязал свой хурджун, вынул чернила и перо, положил на колено Саипназара свиток. Боязливо озираясь по сторонам, он выполнил все, что положено… Ерназар ускакал, даже не попрощавшись с бием.
Артык-бий был человек немногословный, сдержанный, всегда держал сторону сильных. Он посидел-посидел над «Клятвой» с задумчивым видом, потом промолвил:
— Ну что ж, рискну!
— Что значит «рискну»? — сердито передернул плечами Ерназар.
Артык-бий ничего не ответил и подписался…
Теперь все подписи были! Все, кроме одной — Фазыловой. Ерназар решил оставить Фазыла напоследок. Знал: Фазыл присоединится к ним лишь в случае, если убедится, своими глазами увидит, что все бии, все до единого, связали себя «Клятвой». Фазыл-бий — упрямый, гордый, самонадеянный человек; в его мысли не так-то легко проникнуть, а душа его — потемки, воистину потемки…
Ерназар остановился на перекрестке дорог, одна из которых вела в аул Фазыла. Его поразил своей зловещей красотой солнечный закат: небо, горизонт пылали ярким кроваво-оранжевым пламенем.
…Фазыл-бий накануне принимал у себя Каракум-ишана; всю ночь потчевал он дорогого гостя, самолично прислуживал ему, а на рассвете, взяв под уздцы коня высокого гостя, проводил за пределы аула… Фазыл отдыхал, развалившись в постели. По его знаку жёны положили на нее два-три лишних мягких, мягчайших одеяла. Фазыл блаженствовал: две жены массировали ему ноги; он теребил нежные пальчики младшей жены, робко притулившейся с ним рядом. Бий наслаждался и разглагольствовал:
— До сей поры Каракум-ишан не открывал еще в нашей степи ни одной двери! Кроме моей! И это большая честь, великий почет! Счастье, которое надо понять и оценить! — Радость, гордость распирала Фазыла. — Для тебя я стараюсь! Тебе я готов отдать все! — Фазыл взял в руки толстые косы молодой жены и, слегка поиграв ими, положил себе на грудь. — Вы, мои красавицы, не дуйтесь, не обижайтесь, я и вас не оставлю без внимания! Если, конечно, будете жить в мире и согласии, слышите вы меня? — Фазыл-бий зашевелил ногами, прервал массаж. — Каракум-ишан обещал воспользоваться как-нибудь благоприятным моментом и пригласить самого хана в мой дом, в мой с вами дом! Хан будет моим гостем! Вот тогда ваш муж, ваш властелин, каждую из вас одарит, каждую! Если сумеете встретить хана так, чтобы все каракалпаки от зависти поумирали!.. — Фазыл погладил косы младшей жены. — Да, счастье, счастье привалило-выпало вам, вашим родителям и родственникам, что я ваш муж, что…
До слуха Фазыла донеслись голоса. На улице его старшая жена разговаривала с кем-то, Ерназар!..
— Расходитесь по своим юртам и отдыхайте, прислуживать будет байбише, — распорядился он деловито и громко позвал:- Эй, Ерназар, я дома, привяжи коня и заходи!
Ерназар не стал дожидаться, когда навстречу выйдет хозяин, и спешился. Тут из юрты показался Фазыл-бий и все-таки сам привязал коня.
— К несчастью, Фазыл, началась война между Россией и Турцией! Скоро она не закончится, а не то русские прислали бы нам помощь! — начал Ерназар без лишних слов.
— Русские победят! — вскричал Фазыл.
— А если нет?
— Победят, Ерназар, победят! Да и без них обойдемся! У нас уже своих сил достаточно. Вот это меня радует! Огорчает другое… Знаешь, что меня огорчает? Что ты явился ко мне позже, чем к другим! Или ты так поступил потому, что был уверен: Фазыл всегда готов, в любое время, когда к нему ни постучусь!.. Ну, давай сюда свое сокровище!
— Недаром я назначил тебя судьей в нашем «ага-бии»! — растаял Ерназар и протянул Фазылу свиток.
Не успел он ахнуть, как «Клятва» пылала в ярком, веселом огне… Ерназару удалось вытащить из очага обуглившуюся бумагу, которая в одно мгновение начала разлетаться-рассыпаться черными хлопьями. Не помня себя, Ерназар хватил Фазыла кулаком по голове, отбросил его в угол, как пень с прогнившими корнями. Фазыл потянулся за ружьем, висевшим на кереге, однако Ерназар опередил его. Одной рукой он схватил ружье, другой ударил бия еще раз… Ерназар пристрелил бы Фазыла на месте, если бы не старшая жена. Она повисла у него на руке. Ерназар связал Фазыла — перепеленал его веревкой, как младенца, — и вынес во двор.
С лица Фазыла капала кровь; он еле-еле шевелил языком, но сказал:
— Оставь меня, Алакоз, оставь! Иначе пожалеешь! Горько пожалеешь!
Под вопли жен, детей и родственников бия Ерназар бросил его поперек седла и кинулся со своей жертвой, как голодный волк, прочь от людей.
— Ну и дурак ты, Алакоз, ну и дурак! — Слова и стоны Фазыла перемежались. — Прежде чем связывать мне руки и ноги, тебе стоило бы подумать о собственных руках и ногах.
Ерназар скакал молча, сжав в ярости зубы. Он остановился у юрты Генжемурата, сообщил ему о случившемся и приказал:
— Собери всех биев к «русской стене»! О причине — никому ни словечка! — И опять тронулся в путь.
— Для человека, любящего свою страну и свой народ, смерть не страшна, — хрипел Фазыл. — Ты, Алакоз, недоумок! Стараешься заглянуть в день завтрашний, да только неясен он, во тьме он скрывается. Надо думать о народе сегодня! Люди живут один раз, живут сегодняшним днем! — хрипел-надрывался пленник Ерназара.
— Если ты умный и храбрый, да еще так обожаешь свой народ, может, откроешь мне, кто тебя толкнул на такую подлость?
— Ты глупец, Ерназар! Ведь в «ага-бии» я был кадием! Я, а не ты!.. — У Фазыла от боли искры из глаз сыпались. — Ты не меня, ты себя пожалей, Алакоз! Не говори потом, что я тебя не предупреждал!
Неподалеку от «русской стены» Ерназар привязал Фазыла к одинокому турангилю и, не удержавшись, влепил ему пару увесистых пощечин.
10
Если народ покидает свою землю — земля теряет свое счастье, если народ лишается земли, то счастье теряет народ…
Вии торопились к «русской стене». Приказ Ерназара встревожил их своей внезапностью. Они недоумевали-гадали, отчего да почему…
Заброшенный шалаш с появлением людей ожил. Самые быстрые и ловкие притащили в шалаш с берега мягкой травы — устойчивая к осенним холодам, она не потеряла шелковистости и красок, — набросали ее на пол, и пол вмиг превратился в ковер, сотканный самой природой. Бии располагались основательно, с удобствами, кое-кто подпихивал под себя конские попоны.
Когда почти все собрались, Ерназар велел Генжемурату расстелить дастархан. Дождавшись, когда бии утихнут, Ерназар сказал:
— Уважаемые бии! Мы сделали с вами поистине великое дело! Все вы одобрили и подписали «Клятву шестидесяти биев». Теперь нас ждет дело не менее важное. Считаю, что его будет лучше всего провести здесь, подальше от лишних глаз и ушей. Настало время выбрать хана!
Когда нужно было принять важное решение — и еще неизвестно, кому оно принесет пользу, а кому вред! — всегда наступала тишина. Но обычно она и быстро нарушалась. Находился какой-нибудь нетерпеливый и высказывался… загорались и остальные, начинали обсуждать, спорить, а то и ссориться… Сейчас такого нетерпеливого человека не находилось. Казалось, не только бии окаменели, лишились дара речи, но и сама жизнь на земле остановилась.
Каждый ждал-выжидал, внутренне трепеща от волнения и надежды: вдруг кто-нибудь назовет его, его славное и достойное имя!.. Ерназар тоже хранил молчание.
Те, кто прибывал с опозданием, загипнотизированные мертвой тишиной и молчанием, повисшим в воздухе напряжением, робко усаживались и замирали.
Снаружи доносилось пение птиц; оно казалось оглушительным в этой тишине, в этом безмолвии; над дастарханом кружились, порхали бабочки; осмелев, они садились на головы неподвижных окаменевших людей.
Ерназар зорко наблюдал за лицами биев; на них отражались потрясение и растерянность, ожидание и надежда, призыв, мольба: «Вот он я — готовый хан!» Ему становилось ясно: ни один из них не назовет имени другого, даже самого близкого человека, ни один!.. Зависть, ревность, тщеславие воспламенялись, разгорались в их душах все сильнее, все неодолимее… Кого же назвать, кого среди них выбрать — достойного быть первым ханом в первом Каракалпакском ханстве? Кого? События заставляют спешить, подгоняют! Ерназар еще не успел пропустить через сито собственного разума каждого из шестидесяти… Аскар-бий, Саипназар, Ерназар-младший, Генжемурат, Артык, Мамыт, Рахманбер-ды… У каждого свои недостатки и слабости. Один чересчур стар, другой чересчур молод; третий — слабоволен, четвертый — непостоянен… Этот умен, но не рассудителен, слишком горяч и упрям; тот волевой и решительный, но очень тороплив, неспелые плоды норовит выдать за созревшие. Этот — разиня, этот — ненадежен… Никто из них не справится с такой ношей, не поднимет ее к этой проклятой богом стране!.. Вон, уже готовы грести золу к себе, готовы испечь на ней лепешку для себя!.. Хан обязан заботиться прежде всего о других. «Конечно, я бы справился, но себя предлагать неудобно. Как же быть? Кого предложить?» Ерназар пытался вспомнить тех, кого здесь не было, — и знатных, и безвестных, но достойных… Может быть, Бер-дах? Многие ханы и шахи были поэтами, но эти люди Бердаха не одобрят!.. Тенел? Он из семьи бедняков, он бы завоевал расположение многих людей, его народ поддержал бы хотя бы потому, что он потомок бедняков… Он далеко-далече! И слишком молод… Эти ни за что не согласятся!.. Взгляд Ерназара остановился на Зарлыке… Зарлык-туре! Да, он самый подходящий! Вот он, кто годится и достоин! Умный, все схватывает на лету; намерения наши, замыслы не расходятся; мои приказы выполняет с быстротой пули, мои слова доносит до людей так, что зажигает их!.. Но справедливо ли предлагать Зарлыка потому только, что он думает, как я? Нет, нет, не потому только! Зарлык сам по себе достойный человек… Дело может упереться в то, что он казах, а не каракалпак! Не разбредутся люди, не разъединятся, не рассеются оттого, что первым ханом Каракалпакского ханства станет человек другой национальности? Другого рода-племени! Хотя постой, постой, Ерназар, ведь в этом есть и благо — он ко всем нашим родам будет относиться одинаково, никто из каракалпаков в случае чего не сможет упрекнуть его в пристрастиях к своему роду… Еще один плюс — казахи из рода самого Зарлыка станут нашими друзьями, нашими союзниками… К тому же издревле повелось — ханами становятся люди знатного рода, а Зарлык потомок Чингисхана, недаром же он — туре! «Если я все это изложу, может, на этом и сойдутся, остановятся?..»
Уважаемые, дорогие мои, все вы сливки нашего народа, и все вы сейчас раздумываете о прошлом, настоящем и будущем своего народа, — обратился Ерназар к биям. — Все вы мечтаете о человеке умном, справедливом и гуманном, достойном любви и преданности каракалпаков… Я нашел такого человека!
Многие опасались, что кто-нибудь выкрикнет, предложит: «Пусть ханом будет Ерназар Алакоз!» Такие почувствовали облегчение. Однако все насторожились: ведь Ерназар назовет только одного-единственного!..
Алакоз медленно поднялся и провозгласил, приложив руки к груди:
— Предлагаю Зарлыка-туре! Пусть он первый удостоится звания великого хана каракалпакской земли!
— Мы взрослые люди, зачем нам играть в детские игры? — раздался в тишине недовольный голос Ерназара-младшего.
— Игры-шутки сейчас не к месту! — промямлил Са-ипназар.
— Почему вам самому не стать ханом? — сверкнул глазами Мадреим.
Все разом задвигались, начали изъявлять желание высказаться.
— Не теряйте терпения, сливки нашей земли! — снова повел речь Ерназар. — Не торопитесь! Ханский трон не может принадлежать ни вам, ни мне. Ханом положено быть лишь потомку ханского рода, а такового среди нас нет! Зарлык принадлежит к роду туре!.. По-моему, все ясно как день и потому не стоит долгих разъяснений.
Вновь воцарилась мертвая тишина, но на этот раз она могла взорваться в любую минуту, взорваться непоправимо. Ерназар поспешил подойти к Зарлыку.
— Мудрые отцы страны! Я объявляю Зарлыка-туре великим ханом каракалпаков и преклоняю перед ним свою голову. — Он согнулся как тетива, взял подол черного халата Зарлыка и, приложившись к нему лбом, поцеловал.
Вслед за ним поднялся Генжемурат и повторил все точь-в-точь, как Ерназар.
— А теперь прошу тебя, брат мой! — Ерназар боялся, что процедура может в любой миг сорваться, и обра- тился к Ерназару-младшему.
Тот лениво поднялся, демонстрируя своим видом несогласие, однако преклонил перед Зарлыком голову.
— А ну, Мадреим, твоя очередь! — потребовал Алакоз.
Мадреим все проделал по правилам, но, возвращаясь на свое место, скорчил гримасу.
Ерназар вызывал биев одного за другим; они подчинялись — кто послушно, кто с трудом пересиливая себя. Саипназар не отважился ослушаться Ерназара, но поцеловал подол халата так, будто осушил чашу с отравой… Какая бы ядовитая змея ни извивалась, ни шипела в сердце каждого, Ерназар был доволен: он добился своего, Зарлык провозглашен ханом! Это главное, самое главное теперь, а с биями он управится! Кто попривыкнет, кто смирится, кто поймет…
— Великое, праведное дело свершилось, дорогие мои! Настала пора пожинать плоды, посеянные когда-то нашими предками! — торжественно возгласил Ерназар.
Слова его не доходили, не могли дойти сейчас до сознания биев! Все они чувствовали себя голодными, жаждавшими пищи, которую на их глазах получил лишь один…
— У нас в стране много петухов, и поэтому восход для всех нас наступал в разное время! — Генжемурат чутко уловил настроение биев. — Мы и правда совершили великое дело! Если бы наши славные предки могли об этом проведать, они из гроба благословили бы нас!
— Хе-хе-хе, наш Генжеке, видно, сквозь землю проникать умеет! — с издевкой, себе под нос, буркнул Ерназар-младший.
— От чахлого растения, выросшего в тени, не только плодов, даже зеленых листочков ждать нечего! — откликнулся Кадирмухамед и часто-часто, то ли от смеха, то ли от нервного тика, затряс своей маленькой воробьиной головкой.
Ерназара оскорбило, резануло, что бии так бесцеремонно ведут себя в присутствии хана. Он взял с дастар-хана лепешку.
— Дорогие мои, если я когда-нибудь выступлю против великого хана каракалпакской земли, предам Зарлык-хана, пусть я буду проклят хлебом! На хлебе святом клянусь ему в верности! — Ерназар приложил хлеб ко лбу, потом, спохватившись, протянул хлеб Зарлыку:- Не знаю, может быть, в других странах поступают и иначе, но пусть у нас первым произнесет свою клятву наш великий хан!
— Родные мои, уважаемые бии! — громко произнес Зарлык. Уважая свой ханский сан, он с места не поднялся. — Если двое говорят, что ты дурак, — поверь им, не возражай. Если же двое нарекут тебя ханом, подчинись, займи место хана и действуй как хан! Так говорят в нашем народе. Я подчиняюсь и готов действовать… — Зарлык чеканил слова уверенно и солидно. — Когда птица летит, опорой ей служат крылья; когда она приземляется, опора для нее — хвост. В ваших, только в ваших силах поднять меня на высоту, к небу, или опустить на землю. Я надломленная ветка большого дерева; вы же, вы станете садовниками! Вы посадите ветку в землю, чтобы она пустила корни и разрослась… Если я когда-нибудь совершу что-либо, противное воле вашей, идущее во вред народу, если я начну править без вашего совета и согласия, если я хоть чем-нибудь нанесу урон чести Каракалпакского ханства, пусть меня покарает священный хлеб! — Зарлык трижды приложил хлеб ко лбу, отщипнул крошку, положил в рот.
Словно свежий ветер ворвался в шалаш. Бии расправили плечи, приободрились, повеселели. Алакоз опять поднялся с места, отвесил глубокий поклон Зарлыку:
— Великий хан, простите нас, что мы не смогли водрузить на вашу голову корону из золота! Однако каракалпакский народ превратится в стальной шлем и щит для вашей золотой головы!
— Уважение ваше для меня дороже, чем золотая корона, почтенные бии! — промолвил Зарлык и в знак признательности слегка склонил голову.
Бии один за другим повторили, передавая из рук в руки хлеб, священную клятву верности. Некоторые произносили ее неуверенно и невнятно, будто насилуя себя. Но никто не отважился увильнуть от присяги.
— Наш великий хан, — возвысил голос Ерназар-младший, приняв почтительную позу, — народ наш и кроткий, и бессильный, и упрямый, и измученный, и несчастный, и разрозненный… Но он сорок раз поклонится тому дому, где однажды отведал хлеб-соль, а тому, кто оказал ему хоть капельку, хоть с кончик иглы уважения, благодарен бывает всю жизнь… Быть может, и вы объявите нам, подданным своим, что вы предпримете в первую очередь?
Зарлык повернул величественно голову направо и налево — к Ерназару-младшему и Ерназар Алакозу: к тому, кто спрашивал, и к тому, кто должен был подсказать ему верный ответ.
Алакоз пришел ему на выручку:
— Наш великий хан, в «Клятве» есть слова о том, что наши дети будут собирать плоды с тех саженцев, что посадили наши мудрые предки… Один из этих саженцев, как вам известно, — саженец дружбы и согласия с русским царством, с русским народом.
— Сколько помню себя, существует такой обычай, — вступил в разговор Мадреим. — Если в Хиве на трон восходит новый хан, глашатаи оповещают всю страну. «Чье сейчас время? Сейчас время такого-то хана!» Нам тоже, по-моему, следует послать гонцов во все аулы. Пусть глашатаи и провозгласят: «Чье сейчас время? Сейчас время хана Зарлыка!»…
Зарлык-туре ответил быстро и решительно:
— Уважаемые бии, девушка, которая торопится выйти замуж, не будет счастлива, — это народ сказал! Хан, который гонится за славой, теряет свой авторитет, — это тоже народная мудрость! Так что спешить с глашатаями не стоит. Хан должен сначала достойно себя проявить, тогда народ сам о нем заговорит… С чего я начну?.. В нашей с вами «Клятве» есть слова насчет канала, большого многоводного канала, с этого и начнем. Не будем, однако, забывать, что в одни ножны две сабли не вмещаются. Вряд ли в Хиве нам спустят, что в Хорезме появилось еще одно самостоятельное ханство. Поэтому в первую очередь необходимо посадить наших джигитов на коней! Собрать всех их в единое крепкое войско!
— Зарлык-хан, где вы намереваетесь построить ханский дворец? — полюбопытствовал Саипназар.
— Пока что наш дворец — это седла наших коней, — строго поправил его хан.
— Наш великий хан, можете меня казнить! Долг обязывает меня рассказать об одном прискорбном случае! — взволнованно сказал Ерназар. — Я собрал под «Клятвой» все подписи, выполнил то, что было мне поручено биями. Однако… однако, когда я приехал к Фазыл-бию… Принял он меня радушно, приветливо, а потом… «Клятву» нашу он выбросил в огонь и сжег!
— Как — в огонь?..
— Сжег?! Не может быть!
— Неужели правда? — воздух содрогнулся от возмущенных, яростных криков.
— Где он сам? — грозно осведомился Зарлык.
— Здесь, рядом, я привязал его к дереву! Идемте, я покажу вам предателя!
Зарлык и бии последовали за Ерназаром.
Фазыл находился в полуобморочном состоянии. Ерназар слегка ослабил веревку. Фазыл уперся ногами в землю, попытался выпрямиться. Вдалеке раздался стук копыт; ближе, ближе, совсем близко.
Из зарослей высунул голову Маулен-желтый; опасаясь, как бы ему не намяли бока, он стал оправдываться, лепетать, что оказался здесь случайно, ищет корову, которая отбилась от стада. Люди отвернулись от него.
Среди биев Фазыл обнаружил своих сторонников; его запекшиеся губы задвигались, он пытался улыбнуться, но вместо улыбки на лице его появилась болезненная гримаса.
— Отвечай, Фазыл, где «Клятва шестидесяти биев»? — выступил вперед Зарлык.
— А тебе какое дело? — с вызовом, гордо поднял голову Фазыл.
— Не смей обращаться на «ты» к великому хану Каракалпакского ханства! — оборвал его Ерназар.
Фазыл заскрежетал зубами:
— Тьфу на тебя, проклятый Алакоз! Недаром говорят, что твоя мать произвела тебя на свет от изменника Айдоса! Ты в него пошел! Бии, не ослышался ли я? Неужели правда, что вы отдали судьбу народа в руки этому чужаку? Брат мой, Ерназар-кенегес, — обратился он с мольбой к Ерназару-младшему, — весь народ видел в тебе источник разума и своего будущего благополучия! Как же так, что толкнуло…
— Хватит разглагольствовать, отвечай, где «Клятва»? — напустился на него Ерназар-младший.
— Бросил в огонь! Сгорела ваша бумажка! — язвительно ответил Фазыл. — Нечего обманывать народ! В Хорезме должен быть один хан, лишь один! Вы толкаете наш народ к гибели!
Сзади стал проталкиваться Маулен. Он наконец понял, что здесь происходит.
— Люди, это очень плохой человек! — Он ткнул пальцем в Фазыла. — Когда мы собрали средства, чтобы вызволить Ерназара из зиндана, он отдал деньги главному визирю со словами: «Эти деньги народ посылает вам, чтобы вы освободили его от Алакоза… Убейте его!»
— Ничтожество — вот кто ты есть, Маулен! Я чуял, что ты навозный жук! Который любит играть мячиками из навоза!.. Которые сам скатывает из дерьма! — Фазыл скрипел зубами, дергался. — Теперь убедился — ты не один такой! Все каракалпакские бии зарылись в навоз! Ничего не видят…
— Не смей оскорблять отцов народа! — разгорячился Генжемурат и сделал шаг к дереву.
— Мамыт, Саипназар, где вы, почему молчите! — шарил глазами Фазыл по толпе.
— Маулен сказал правду! — раздался из задних рядов голос Мамыта.
Зарлык обратился к биям:
— Мне очень тяжело, что первый мой приказ вы-нужден быть таким жестоким! Иного выхода нет. Я приговариваю Фазыл-бия к смертной казни. За предательство интересов народа и страны, за осквернение наших высоких целей. Повесить его! Ерназар, Генжемурат, Ерназар-младший — выполняйте!
Саипназар, смертельно напуганный тем, что Фазыл перед казнью выдаст его, зашептал на ухо Ерназару:
— Негодяй заслуживает кары немедленно! Алакоз и Ерназар-младший обменялись взглядами,
приблизились к Фазылу.
— Приговор хана — это приговор бога! — воскликнул Алакоз. Он развязал веревку и на одном ее конце сделал петлю. — Говори свое последнее слово!
— Меня не устрашишь смертью! А ты, Алакоз, прежде чем накидывать петлю на мою шею, подумай о своей! Бии, вы допускаете насилие и беззаконие! Казнь над любым из каракалпакских биев дозволяется только с ведома, только по приказу великого хивинского хана! Освободите меня, хватит играть моей головой! Моей жизнью! — Откуда только брались у Фазыла силы…
Младший Ерназар и Генжемурат ухватились за конец веревки, переброшенной через кривую ветку туран-гиля, потянули. Фазыл пытался ослабить руками петлю:
— Дураки, глупцы безмозглые, хивинский хан всех вас из-за меня перевеша-ша-шае…
Вернулись в шалаш, сели, помолчали.
— Наш великий хан, нужно ли заново писать «Клятву»? — тихо спросил Ерназар.
Зарлык подумал, подумал и ответил:
— Я верю уважаемым биям! Слушайте все еще один приказ. Повторим трижды — прямо сейчас! — слова «Клятвы» о том, что все наши джигиты — это каракалпакские соколы, а каждый конь — конь для воина! Ерназар, начинай ты!
— Все джигиты в стране — соколы! Каждый конь в стране — конь для сокола! Все джигиты в стране — соколы!.. — повторяли бии за Ерназаром.
— Уважаемые бии, — продолжил Зарлык, когда отзвучала присяга, — хивинский хан не смирится с тем, что лишился каракалпакских владений и каракалпакских денег. Налог мы ему платили исправно, ощутимо пополняли его казну… Мы должны собрать войско. За один месяц! Командовать им будет Ерназар Алакоз, я объявляю его главнокомандующим… Главным своим советником назначаю Ерназара-младшего. Все же остальные возглавят джигитов своего рода. Должности и чины мы распределим позже.
— Нашему ханству нужен какой-то герб, который отличал бы его от других ханств, — предложил один из биев.
— Конечно, — согласился Алакоз. — Когда народу в нужный срок будет объявлено об образовании ханства, тогда все вместе и герб придумаем. — Алакоз высмотрел на дастархане самое большое и красивое яблоко. — Наш великий хан, сейчас в знак нашего объединения, в знак нашего согласия разрешите мне поделить это яблоко на шестьдесят частей — поровну!
— Делите!
Уважаемые бии! Пока мы не соберем всех соколов, не будем снимать предателя с дерева! Не станем предавать земле! — объявил Зарлык-хан.
Правильно! — поддержал Ерназар-младший. — Прежде чем победить врага, нужно победить самих себя!
Ерназар искусно разделил яблоко на множество частей; каждый бий получил свой кусочек и съел его. Уже собрались прощаться, когда в шалаш ввалился запыхавшийся Шонкы.
— Люди! Люди! Новость! В мервском походе погиб хивинский хан! — Шонкы пробрался к Ерназару. — По вашему приказанию я побывал в Хиве. Хан умер… Вся Хива кипит, волнуется!..
— Ты принес счастливую весть, Шонкы! А теперь поклонись первому хану нашей страны — Зарлыку!
Шонкы решил, что Алакоз шутит. Он обвел взглядом биев.
— Ерназар-ага, первым нашим ханом, если когда-нибудь будет у нас свое ханство, станете вы!.. — растерянно, вяло промямлил Шонкы.
— Ты сначала поклонись, а потом рассуждай! — ткнул его бий, находившийся по соседству. — И во-о-он туда взгляни, на тот турангиль.
Шонкы высунулся наружу, вздрогнул. Не мешкая подбежал к Зарлыку.
— Уважаемые бии! Не исключено, что новый хан захочет избрать путь согласия и примирения с нами, — сказал Зарлык. — Пусть ваши джигиты вместе с оружием прихватят и лопаты, кирки, топоры. Начнем рыть от Амударьи канал. Пусть он станет каналом счастья для нашего народа!
— Замечательно! — обрадовался Ерназар Алакоз. — По берегам канала будем выделять земли биям. Пусть сады разводят, обживают землю!
— Землю будем распределять строго. В точном соответствии с долей, которую каждый бий внесет в дело! — заключил Зарлык.
* * *
Оба Ерназара, возглавляемые Зарлыком, много дней подряд не слезали с коней. Они изъездили вдоль и поперек берег Амударьи, выбирая место, которое стало бы великим началом — нового русла нового канала. Они прикидывали и так и эдак, взвешивали, соображали и в конце концов порешили: русло будет чуть выше Ход-жейли, напротив Таслака; потом канал проляжет через аул Нукус, где течет маленькая речушка Кызкеткен, и дойдет до самой Казахдарьи. Справиться со всеми работами за год трудно. Зато если уж справиться, канал превратится в артерию жизни, свяжет разбросанные тут и там аулы.
Этот маршрут одобрили все каракалпаки — и бии, и баи, и простой люд. Все роды, все аулы.
Было слякотно, приближалась зима, но народ все шел и шел к назначенному месту. Джигитов возглавляли бии. Хан самолично встречал их, встречал сердечно, приветливо, заводил с ними откровенные беседы о самых простых, каждому интересных вещах и лишь потом направлял к Алакозу и Ерназару-младшему. Два Ерназара держались так, словно братья родные, были в полном ладу и согласии. Каждый подтверждал и одобрял то, что сказал или решил другой. Оба проявляли ко всем одинаковое внимание, расспрашивали, вникали, интересовались, кто, где желал бы получить землю под посевы и жилье. Землю они распределяли с особой тщательностью, по справедливости, чтобы никто не мог обидеться и упрекнуть их. Работу на канале — тоже…
Маулен-желтый приобрел осанку и повадки настоящего бия, был преисполнен важности и значительности. Он даже стал говорить меньше… Однажды он подъехал к Ерназару с группой джигитов, поздоровался по всем правилам и задумчиво, будто сам себе, сказал:
— Отродясь не видывал, чтобы люди радовались общей радостью. Не только о себе думали — и о других людях… Увидел — и окончательно уверовал, что вы затеяли важное дело.
Мадреим попросил Ерназара:
— У нашего рода сил маловато, может, Маулен и его джигиты к нам присоединятся?..
— Нет, Мадреим, у меня на Маулена другие виды, — улыбнулся в усы Ерназар. — Он будет главным плеточ-ником. Пусть следит, чтобы все добросовестно работали, а кто будет отлынивать или лениться, тех он будет наказывать.
— Ерназар, я буду самой преданной твоей плетью! — вскричал Маулен.
— Чтобы достичь не то что единства — даже согласия в мелочах, надо, придется быть строгим! К самим себе в первую голову! — обратился Ерназар к окружившим его джигитам.
— Верно, верно! — закивали они в ответ.
Вдали заклубилась пыль — показался Бердах, и Ерназар встрепенулся, повеселел.
— А вот к народу шествует его знамя, его вдохновение!
Когда поэт оказался рядом, Алакоз любовно посмотрел на него, коснулся пальцами его дутара:
— Дорогой мой, ты будешь помогать нам своими песнями! Мы тебя научим!..
— Поэта не нужно учить песням, он сам их создает! На то он и поэт, — с достоинством возразил Бердах.
Вдруг все пришли в движение, зашушукались, по-вытягивали шеи в одном направлении.
— Вот это красавица!.. Какой щедрый бог создал ее!..
К ним приближалась Гулзиба, ведя за собой двух коней. Она остановилась прямо перед Ерназаром.
— Бии, отнеситесь со спокойствием к тому, что среди вас — женщина! Я пожаловала сюда, потому что вы допустили оплошность… — Гулзиба улыбнулась задорно. — Вы забыли потребовать коня с моего хозяйства! Наверно, подумали — зачем наносить ущерб вдове бая, так ведь?.. Я решила иначе. Если у женщины нет мужа, заменить его в таком большом общем деле должна она сама… Я буду помогать вам по мере сил. Не смогу рыть канал, так стряпать буду, кормить буду землекопов… Наступят, не приведи бог, тяжелые дни, так я за ранеными смогу ухаживать, раны перевязывать, стирать белье! — Гулзиба произнесла это убежденно, естественно и просто. Никто из мужчин не посмел перебить ее или ей перечить. Гулзиба, воспользовавшись их замешательством и растерянностью, обратилась к Берда-ху:- Эй, поэт, тебе в такие-то великие дни следует иметь доброго коня! Выбирай себе лучшего!
— Желаем тебе благополучия и счастья, Гулзиба, — тихо откликнулся Ерназар. — Поэт, не стесняйся, выбирай коня, вдова права!
— Спасибо, Гулзиба, пусть будет благословенна наша земля!
— Пусть в сердцах всех людей воцарится доброта! — пропел Бердах дрожащим от волнения голосом…
…К вечеру со стороны Кунграда показалась группа всадников.
— Жангазы-туре, казахский Жангазы-туре! — заметались люди из окружения Зарлыка и Ерназара. — Надо быть ко всему готовыми!..
Зарлык и Ерназар хранили спокойствие, и оно передавалось остальным. Бии приняли чинный вид и ждали, когда всадники приблизятся. Шагах в пятидесяти Жангазы-туре спешился и пошел вперед пешком. Все удивились. Ерназар что-то шепнул Зарлыку, и хан двинулся навстречу Жангазы-туре.
— Великий бахадур Зарлык-хан, мудрый визирь Алакоз, — почтительно обратился он, — у нас, казахов, как и у каракалпаков, много родов и племен. Нас и много, и мало! Потому что там, где нет единства, народ слаб. Я услышал о том, что вы объединились, избрали хана, и поспешил поздравить вас, поздравить от всего сердца. Вы теперь стали намного сильнее, чем прежде! Мне захотелось приехать к вам с открытой душой.
Ожидаемая беда обратилась нечаянной радостью. Ерназар-младший распорядился, чтобы у гостей приняли коней и оказали им почетный прием. Зарлык и Ерназар повели казахов в юрту.
— Да пусть бог благословит ваши добрые начинания! — провозгласил Жангазы-туре, заняв почетное место. — Когда-то мы, каюсь, причиняли вред вашим аулам… Просим за это прощение.
— Повинную голову меч не сечет! — ответил Алакоз.
— Мы с радостью принимаем тех, кто приходит к нам с миром! — произнес Зарлык. — И сами мы прежде всего начали мирное дело — строим канал. Он принесет благо нашему народу! Мы не хотим столкновений и распрей — ни с кем. Не хотелось бы нам воевать и с хивинским ханом.
— Умные слова, достойные поступки! — Жангазы-туре в знак одобрения склонил голову, на которой высился большой тюрбан. — Мои джигиты изъявляли волю стать вашими нукерами, поступить к вам на военную службу. У меня же есть к вам еще одно предложение, передаю его на ваш суд.
— Широкая одежда не скоро изнашивается… Наш хан готов выслушать и обсудить любые предложения и советы, — пояснил Алакоз.
— Начинать любое дело в одиночку на территории Хорезма — все равно что подставлять голову под саблю хивинского хана. Чтобы добиться успеха, необходимо быть сильными. Союз с соседями — вот что для этого нужно. По-моему, стоит для начала обратиться, например, к Илекею Султану. Ваши границы в низовьях Сырдарьи окажутся в безопасности и спокойствии.
— Добрый совет мы в потемках не затеряем, Жан-газы-туре, — согласился Зарлык.
— Наш великий хан рассудил мудро, ваше предложение — предложение друга, — подтвердил Ерназар.
— И еще одно: мои джигиты хотят помочь вам на канале. В мирной работе.
— Значит, будем вместе и в мирном труде, и в ратном трУде! — Ерназар был счастлив.
11
— Не может быть! — в гневе закричал Каракум-ишан, когда до него дошло известие о гибели Фазыла и провозглашении Зарлыка каракалпакским ханом. — Не может быть! Не может быть! — твердил он. Совсем потеряв над собой власть, он обнаружил перед суфиями свое бессилие и ярость. Однако привычка владеть собой, носить маску всегда уверенного в себе, могущественного и мудрого ишана заставила его быстро опомниться. — Ничего, ничего, коли муха коснулась меда, значит, он испорчен, значит, он непригоден для употребления.
— Зарлык и Алакоз — мухи, они уже нагадили, значит, ханство их мертворожденное! — принялись поддакивать, согласно кивать суфи.
Ишана выбило из колеи не то, что в Хорезме образовалось еще одно ханство, — пусть себе, пусть хоть тысяча ханств плодится! Его взбесило, что каракалпаки подтвердили твердую и бесповоротную решимость стать подданными России. Если допустить это, в скором будущем весь Хорезм окажется под русской короной! Что предпринять? Когда же вернется от турецкого султана посланец хивинского хана? Наверное, он задерживается из-за войны, которую ведут турки против русских. Это конечно же не помешает султану обвинить его, ишана, во всех смертных грехах. Медлил, ожидал чего-то, тянул, вместо того чтобы действовать!.. Как же ему теперь быть?..
Каракум-ишану суждено было в тот день получить еще одну страшную весть. Из Хивы прискакал на взмыленном коне гонец с сообщением о гибели хивинского хана. Ишан опять воскликнул: «Не может быть!»- но всего один раз и тут же добавил со скорбной миной:
— Ненаглядный наш хан мудрый был, великий человек!
От чтения поминальной молитвы по усопшему хану ишан, сославшись на нездоровье, решил за благо уклониться. Он не мог предугадать, как новый владыка отнесется к его стенаниям и скорби. А вдруг неодобрительно?
Каракум-ишан снарядил двух суфи к Ерназару и Зарлыку с наказом вынюхать, как и что происходит у них на самом деле, отпустил всех остальных. «Как бы рассорить каракалпакских биев, половчее подлить масла в очаг их неутихающих, постоянно воспламеняющихся разногласий, — размышлял он. — Как?..» За этим занятием и застал ишана Касым-вор. Вид его был ужасен: одичалый, грязный, обросший волосами, — не волосы, а сухая, пыльная трава, выросшая на бросовом поле.
— У тебя было оперенье орла! Где оно?.. Впрочем, ясно — полет твой напоминает полет ворона! — напустился на Касыма ишан.
— Почему, мой ишан?! — растерялся Касым.
— В мире тысячи людей, которые могли бы тебе позавидовать! Ты полный хозяин большого караванного пути! Твои грехи, ты это знаешь, не страшны для тебя: их простит бог и прощу я! Руки у тебя развязаны для любых действий, угодных мне! Однако Зарлык и Геи-жемурат благополучно добрались до дома! Это может вскорости лишить тебя, драгоценный мой, не только твоего «царства», твоих владений, но и головы. Осознаешь ли ты это?
— Виноват, мой ишан! Но, но… я находился в тот момент среди казахских биев! Тех, которые настроены к русским враждебно. Вы же сами велели крепить с ними отношения… Они сообщили мне, что война между русскими и турками продолжается и конца ей вроде не видно.
У Касыма кончик носа побелел, а сам он покрылся холодной испариной: ему было и страшно, и неловко…
— Ладно, не трясись, я тебя прощаю. Ворон, хоть четырежды облетит мир, все равно останется вороном… Чем удалось разжиться?
— У двух торговых караванов я отбил золото, мой ишан. Хурджун наберется! — похвастался Касым.
— Вот это хорошо!
— Есть еще одна новость: я повстречал в лесу одного дровосека. С перепугу он болтал что-то насчет Зарлыка. Дескать, они объявили его ханом! Наверно, сбрехнул со страху!
— Когда собираются много слепых, то принимают за хана одного кривого!
— Ох, рассмешили вы меня, мой дражайший ишан! Слепые… кривого! — Касым согнулся, схватившись за живот.
— Смеяться будешь, когда не останется в живых Зарлыка и Алакоза!
— Может, мне самому разделаться с ними? Темной ночкой, а?
— Погоди! Они сами себе шеи сломают! А ты лучше бди хорошенько на своей тропе!
— Прощайте, мой ишан! До новых, радостных встреч! — Пятясь, Касым удалился.
Ишан вынул из хурджуна горсть золота, полюбовался его блеском. Он почувствовал себя легко и привольно, как птица. На следующий же день он поспешил в Хиву.
Во дворце уже хозяйничал новый хан — брат хана покойного. Во дворце царили тревога и ожидание.
Главный визирь, позабыв о своих обидах, тотчас же начал изливаться ишану:
— Ох, боюсь я! Боюсь остаться не у дел… Раньше как бывало? Древесина у дерева горькая, но плоды дерево давало сладкие! У нового хана, по всему заметно, и сердцевина горькая, и плоды будут горькие!
— Разве дерево нельзя срубить?
— Моих сил на это не хватит!
— Для начала представьте меня новому хану! — многозначительно подмигнул ишан главному визирю.
Хан встретил ишана холодно, с первых же слов предупредив его, что докладывать, излагать следует лишь самую суть. Ишан был обескуражен подобным приемом, но произнес спокойно:
— Обожаемый наш владыка! Вам известно: на одном лице имеется два глаза, однако им не суждено друг друга видеть. В Хорезме объявилось второе ханство. А едином неделимом Хорезме — два ханства!..
Нельзя примириться с этим. Обычно бывает так: кого-нибудь пригреешь, насытишь, так он становится верным псом, преданным защитником твоим. Хива только что насытила, облагодетельствовала каракалпаков!..
Они проявили черную неблагодарность. Мало того — решили проложить большой канал, собираются осваивать новые земли! Видите ли, сами себя хотят насытить, прокормить!
— Вы повторяете то, что мне известно!
— О наш великий хан! Перья не могут быть обременительны для птицы. Вот — птица Семург, каракалпаки же ваши перья! Если они оторвутся и перелетят в русское царство, вы не только останетесь с полупустой казной — вы не сможете летать!
— Без загадок, без присказок! Говорите проще, изъясняйтесь прямее!
— Дорогой наш хан! Необходимо уничтожить новоявленное самозваное ханство каракалпаков! — без обиняков заявил ишан. — Они посылали людей в русское царство! С прошением! Русские закончат войну и обезглавят вас, владыку великой мусульманской державы! Вас, светоча ислама на Востоке!
— Мой ишан, по мне так: тысяча обжор лучше, чем один болтун, — процедил сквозь зубы хан.
Каракум-ишан вскочил как ужаленный. Забыв об этикете, он закричал непочтительно:
— Вам, конечно, самому выбирать — жизнь или смерть! Но неужели вам не ясно, что Зарлык и Алакоз приведут сюда своих соколов и они учинят здесь расправу над хивинцами? Вроде той, что учинили над Фазылом — бедным, верным слугой Хивы?
— Ишан, возьмите себя в руки. И подумайте… На огромном верблюде ездит всего-навсего человек! Один человек, человечек! Зачем же нам гнать наших нукеров из Хивы против Алакоза? Не резоннее ли каким-нибудь образом превратить этого выскочку в верблюда и преспокойно оседлать его?
— Он очень хитер, этот выскочка! Он не верблюд — он лисица, уже отведавшая, что такое капкан!
— На поход нужны деньги. После мервского похода казна наша опустела.
— Великий хан! На то мы и слуги ваши верные, чтобы угождать вам! Я… у меня имеется золото для вашей казны!
Хан, словно подсолнух за солнцем, следовал взглядом за каждым жестом, каждым движением ишана. От этого человека будто исходил блеск золота.
12
В армии Михайлов получил чин сотника и взял к себе Тенела и Каллибека денщиками.
После боев сотня Михайлова заняла выгодную позицию в горном ущелье и стала готовиться к отражению новых атак неприятеля. Турки затаились, выжидали…
В сотню Михайлова влились ополченцы из местного населения. Это были представители малых кавказских народностей. Так как наступила небольшая передышка, солдаты почувствовали себя свободнее, повеселели, принялись ближе знакомиться друг с другом. Не отставали от всех и Тенел с Каллибеком.
Однажды юноши забрались на большой выступ горы и наблюдали оттуда за лошадьми, мирно пасущимися на полянке в долине.
— Я познакомился, Тенел, с одним калмыком, разговорился с ним, сказал, что в наших дастанах почему-то главные враги всегда калмыки. Поинтересовался: а как, мол, у них? Может, каракалпаки самые главные злодеи? Знаешь, что он мне ответил? «Что ты! У нас даже никому не известно, что такой народ существует… А в дастанах тем более — ни словечка о каракалпаках не упоминается!..» Мне стало так стыдно, так неловко! Чуть сквозь землю не провалился!..
— Народ прославляют герои и мудрецы. Значит, у нас еще не было героев и мудрецов, достойных громкой славы!.. А меня, Каллибек, другое удивило. Балкары и карачаевцы говорят почти как мы. Их еще меньше, чем нас, каракалпаков.
— Калмыков тоже не больше нас… Тенел, я беседовал с одним осетином. Он мусульманин. Осетины тоже, оказывается, просили в давние времена помощи у русского царя. Он заставил их поклясться, что они примут православную веру, если Россия примет их в свое подданство. Поэтому-то половина осетин — мусульмане, половина — христиане.
— Значит, русский царь не сдержал свое обещание, потому что Маман-бий не вступил в русскую веру?
У подножия горы запылал костер, вокруг него собирались солдаты. Слышался смех, веселые голоса. Каллибек и Тенел вмиг спустились с горы и очутились в людской гуще… К солдатам присоединился Михайлов с офицерами; один из них попросил солдат: «А ну, братцы, покажите-ка нам свое искусство, спойте, спляшите!..» Зазвучали песни, в отблеске костра замелькали фигуры танцоров. Музыка, язык, танцы были непохожи один на другой, но солдаты, собравшись в круг, сияли, хлопали в такт ладошами, подбадривали товарищей возгласами, даже пробовали подпевать… Когда очередь дошла до Тенела и Каллибека, они не стали долго себя упрашивать. Каллибек спел песню о страданиях и муках, которые уготавливает для человека судьба. Звонкий голос Тенела славил радость и красоту мира.
К заходу солнца веселье и пение стихли; солдаты заняли свои позиции, дозорные посты. Михайлов отдал необходимые распоряжения и отправился на свой пост — на вершину холма. Каллибек и Тенел снова забрались на выступ горы.
— На этой войне… что тебя больше всего на ней поразило? — тихонько спросил Каялибек у Тенела.
— Богатырское единство русских, их храбрость. Они не щадят жизни ради России. А тебя?
— Здесь, среди русских, тоже много несправедливости… Русские никак не могут одолеть турок. В Крыму много земли захвачено турками…
— Что ты хочешь этим сказать? — насторожился Тенел.
Каллибек замялся.
— Враг превосходит русских. Турецкие ружья стреляют лучше и дальше, флот у турок сильнее. Мы с тобой принадлежим к маленькому народу. Если бы в руках у джигитов наших были ружья, как у турок, мы тоже, наверное, могли бы одолеть любую армию… — Каллибек замолчал, почувствовав отчуждение Тенела. — Когда Ерназар-ага посылал нас с Михайловым, что он имел в виду? Силу русских! Он нам, помнишь, на прощание советовал: «Обучайтесь самым передовым наукам и возвращайтесь домой!..» Я думаю, учиться-то нам следует не у русских! А у турок…
— И ружья у турок, и флот — английские да французские! — строго поправил его Тенел.
— Служат-то они туркам! — запротестовал Кал-либек.
— Как же можно учиться у тех, против кого воюешь? У врагов?
— Какие они враги?.. И зачем нам воевать против мусульман? Не лучше ли перебраться к ним? — Калли-бек метнул на Тенела острый, проницательный взгляд.
— Ты что, разума лишился? — рассердился Тенел.
— Нет, наоборот! Я поумнел! Пусть хоть один из нас получит настоящие знания, самые новинки постигнет! Это принесет настоящую пользу для нашего слабого и несчастного народа, о котором даже калмыки никогда не слыхали! Славу народу создают мудрецы…
— Если ты перебежишь к врагу, то мы знаешь как прославимся? «Каракалпаки — народ продажный, склонный к предательству!»- вот как!
— Голодная собака всегда ворует! Мы с тобой, Тенел, голодные собаки, и страна наша голодная.
— Мы голодны, мы голы и босы — это верно! Однако, если бедному и босому надели на ноги сапоги, он не должен оставлять на земле следы босых ног! Нельзя это забывать. Мы уже начинаем ходить в сапогах, которые нам дали, понимаешь, подарили от щедрости души бескорыстные люди! Такие, как Михайлов!.. Нас здесь двое земляков, и мы должны держаться вместе, хранить дружбу и согласие! Должны…
— Без силы и без просвещения ничего не может быть! Ни дружбы, ни согласия, ни единства у нашего народа! Я хочу уйти отсюда ради будущего! Будущего нашего народа, пойми это! Если у тебя в руках золотой ключ, перед тобой откроются все двери! Наука — вот настоящий золотой ключ! Я отправляюсь за ним…
— Если ты уйдешь, ты опозоришь перед русскими Ерназара-ага, его будут считать вожаком предателей! Предупреждаю: если ты только попытаешься… я, я… пристрелю тебя!
— Не будь смешным, наивным! Вспомни, ходила молва, что Каракум-ишан из турок. Его почитают во всем Хорезме, сам хивинский хан прислушивается к его советам.
— Не тщись найти для себя оправдание, Каллибек! Предательство — оно и есть предательство! Человеку, вступившему на кривую дорожку, не суждено видеть далеко!
* * *
Тенел проснулся с первыми лучами солнца. Калли-бека рядом не было.
Тенел в отчаянии бил себя кулаками по голове, плакал от стыда и обиды. Он распластался на земле, уткнулся лицом в траву, чтобы никого не видеть, чтобы никому глаз не казать.
— Что с тобой, Тенел? Где Каллибек? — окликнул его Михайлов.
— Каллибек перебежал к туркам! — в отчаянии прорыдал Тенел.
— Щенок!.. — Михайлов побледнел. — Сволочь! Дерево с гнилым корнем само гниет!..
«Позор хуже смерти, — думал Тенел. — Лучше умереть, чем терпеть стыд за чужую подлость, подлость, пятнающую весь народ… Хоть бы в меня попала шальная пуля!»
Михайлов отдал приказ незамедлительно перебраться на новые позиции. Неприятель заметил передвижение сотни и начал обстрел. Михайлов был ранен.
13
Люди работали, забыв об отдыхе, днем и ночью. Свое счастье, свое будущее связывали они с этим каналом; верили, что он принесет им благоденствие. Будут у них обильные всходы на новых землях, встанут новые, красивые юрты на благословенной, преображенной их руками земле! Они терпеливо выносили все тяготы, мирились с холодом, грязью, изнурительным, от зари до зари, трудом! Лишь бы сделать побольше, лишь бы успеть, лишь бы приблизить долгожданное счастье!..
Пришла, прошествовала по степи весна. Солнце с каждым днем поднималось все выше, припекало все жарче. Приближалась пора сева. Бии безжалостно подгоняли людей — скорей, скорей! Зарлык-хан не знал устали, был неутомим. В сопровождении Алакоза и Ерназара-младшего он разъезжал вдоль берега канала, поспевая всюду. Для истощенных, измученных землеконов наезды эти были поддержкой, но и постоянной угрозой — вдруг чем-нибудь не угодишь!.. Люди встречали хана и биев по-разному. Одни не скрывали радости, доверия к ним, вестникам добра. Другие же не скрывали своей неприязни к ним, считая их виновниками непосильного своего труда.
По берегу тут и там возвышались бии на сытых, откормленных конях; они подгоняли бранью, подбадривали добрым словом подвластных им землекопов.
Повсюду Зарлык-хан видел испачканных, разгоряченных людей с лопатами и кирками. Как молнии сверкали они в их руках: вниз-вверх, вниз-вверх…
— Молодцы, молодцы, джигиты! — подбадривал, нахваливал он их. — Ой, молодцы!
Встречая биев, Зарлык интересовался: какое настроение у джигитов, бодры ли, здоровы? На сколько шагов продвинулись?
— Наш хан, — ответил ему однажды Мадреим, — нам помогает плетка Маулена и его люди. Если к пресному телу вовсе не дотрагиваться горькой плетью, оно двигается еле-еле… Маулен — мастер управляться с нерадивыми! Его плеть творит чудеса!..
Хан и оба Ерназара захохотали. Маулен-желтый, преисполненный гордости, пояснил:
— Землекопы притомились — что правда, то правда… Каждый день моей плетке находится работа.
В один из дней на канал прибыла большая группа всадников, их было не менее ста. Возглавляли их Анна-мурат и Абдурахман. Зарлык двинулся им навстречу — он еще не свыкся со своим ханским положением.
— А мы к вам на помощь, друзья! — объявил Анна-мурат.
— Не уставать вам! — с улыбкой добавил Абдурахман. — Земля слухом полнится… Прослышали, что соседи затеяли великое дело, и не вытерпели — приехали без приглашения! Отведите и нашим джигитам участок, они не отстанут от ваших!
Не успели закончить разговор с туркменами, как на горизонте показался отряд казахских сарбазов.
— Кто здесь будет Ерназар Алакоз? — спросил казах в высоком меховом треухе. — Меня зовут Азберген-бий. Мы посланцы Илекея Султана.
— Вот, Алакоз, и первые плоды нашего письма! Первые ласточки! — оживленно вскричал Жангазы-туре.
Генжемурат, который шуровал лопатой вместе со своими джигитами, поднял ее, как знамя.
— Ассалом алейкум, Азберген-бий! Добро пожаловать!
Хан приказал всех оповестить, что подоспела подмога.
— Джигиты, к нам пришла помощь! Очень большая помощь! — Ерназар находился в радостном возбуждении. — Генжемурат, работу твоих джигитов мы поставим в пример другим! Вы обогнали остальных, вот-вот закончите свой участок! Молодцы! Хвала вам!
Зарлык угрюмо покосился на Ерназара: ему не понравилось, что Алакоз вместо него воздает похвалы… Однако от замечания воздержался, не хотел обнаруживать перед гостями хотя и пустяковые, но разногласия. Чутко уловив его недовольство, Ерназар решил поправиться:
— Наш хан, каким образом вы намерены отблагодарить людей Генжемурата за их усердие?
— Пусть Генжемурат нам подскажет! Ему виднее! — Складки на лбу Зарлыка разгладились.
Генжемурат, вытерев пот со лба, блеснул в улыбке зубами.
— Наш хан, пожалуйте всем землекопам — всем, не только моим! — полдня отдыха.
— Согласен! Быть по-твоему! — охотно поддержал просьбу хан.
— Наш хан, может быть, нам, когда будет готов еще один участок, устроить в честь наших гостей и наших землекопов праздник? Поэт Бердах споет свои песни! — осторожно предложил Ерназар.
Зарлык слегка кивнул.
В погожий, пронизанный солнцем день, — казалось, что солнце поджаривает не только землю, но и небо, — Зарлык-хан объявил о полдневном отдыхе. Гонцы вихрем помчались вверх и вниз по берегу канала, будто подгоняемые доброй вестью. Все давно уже позабыли о веселье и праздниках. Люди обрадовались тому, что хан сдержал слово, позаботился о них и теперь они отдохнут, услышат песни Бердаха.
Землекопы стекались к назначенному месту, быстро и дружно рассаживались на земле. Бердах взял в руки дутар. Он стосковался по таким вот огромным сборищам, но жадному вниманию людей — даже солнце и полуденный зной ему были нипочем. Его охватило вдохновение. Пока землекопы с дальних участков подъезжали, собирались, Бердах пел песни-наставления, нравоучительные четверостишия. Когда же все были в сборе, ввысь, в небо, полетела новая песня Бердаха:
…И все же залитая потом лепешка, Ей-богу же, лучше и слаще дарового меда!..Песня взбудоражила слушателей, подняла их дух; они стали громкими возгласами выражать свой восторг и одобрение певцу. Восхищение их возрастало, энтузиазм увеличивался, захватил он и гостей. «Ах, сладок твой язык, поэт!» — слова, которыми каракалпаки привыкли выражать свою радость от песни, подхватили и повторяли и туркмены, и казахи, и узбеки — всяк на свой лад, на свой манер.
Бердах умолк, однако его песня не смолкала: люди сразу же стали повторять ее — петь все вместе. И раз, и другой…
Потом внезапно наступила тишина, и к поэту подошла Гулзиба. Она сняла с головы белое шелковое покрывало и завязала его поэту, как пояс. Женщина при таком скопище народа не постеснялась выйти в круг! Оказалась перед всеми с непокрытой головой! Начал возникать, подниматься, разрастаться грозный ропот, посыпались проклятия и грубая ругань.
Во весь рост вдруг поднялся пожилой дехканин и закричал что было мочи:
— Люди, не смейте оскорблять Гулзибу! Не проклинайте ее! За такую песню любых почестей, любых наград Бердаху — мало! Эй, Гулзиба, желаю тебе долгой жизни, ты за всех нас отблагодарила Бердаха! Люди! Для джигита и сама женщина — пояс, и ее похвала — пояс, и ее платок — тоже пояс!
Смелая речь дехканина, искренность его утихомирили крикунов, смирили фанатиков. Бердах, словно поддерживая его, начал импровизацию в честь Гулзибы. Он сравнивал ее с душистым и прекрасным цветком… Сын Ерназара снял со своей головы платок, с четырех сторон завязанный узелками, развязал их и, подойдя к Гулзибе, покрыл ей голову. Все молча наблюдали за ними, не зная, как реагировать на происходящее.
— Нукеры! Враги!.. Хивинские нукеры!.. Опасность!.. — пронесся громкий тревожный клич.
Все сразу же повскакивали со своих мест; кое-кто, не дожидаясь команды, бросился к коням. Зарлык растерялся и молчал в смятении.
— Бии! Наступил час испытания! — воззвал Ерназар. — Если петух закукарекал в неурочный час, ему надо свернуть шею! Не пустим врага на нашу родную землю! Не дадим ему посягнуть за наше ханство! Бии, на коней! Собирайте ваших джигитов!
Зарлык уже справился со своей растерянностью:
— Алакоз, принимай командование! Распорядись, что должны делать джигиты наших друзей!
Алакоз отдавал команды четко и спокойно:
— Аннамурат, твои джигиты хорошо обучены, кони у вас быстроногие, занимайте правый фланг! Жангазы-туре, вы будете действовать вместе!.. Абдурахман, ты и Генжемурат заходите в тыл к врагу! Окружите его! Молодцы Азбергена и Ерназара-младшего будут охранять хана и его шатер! Потерять хана в бою — это все равно что потерять голову в сражении! Мадреим, Ар-тык, Рахманберды, Асан занимают левый фланг! Держите ухо востро, сохраняйте бдительность!
Спокойствие и выдержка Ерназара передались окружающим. В мгновение ока каждый бий превратился в военачальника, а каждый землекоп — в воина. Все бросились занимать позиции, указанные Ерназаром, выполнять его приказы.
К Ерназару подлетел Маулен:
— Можно мне присоединиться к Генжемурату?
— Его участок очень опасен! — предупредил Ерназар.
— Разве трус достоин называться джигитом! — обиделся Маулен.
— Спасибо, Маулен! Побольше бы нам таких храбрецов, как ты!
Алакоз подозвал к себе сына.
— Джигит мой, Хожаназар, ты сын Ерназар Алако-за! Помни об этом! Уклониться от боя с врагом — хуже смерти! Если, не дай бог, попадешь в руки неприятеля, не жалей себя… Дай я тебя поцелую!.. А теперь — вперед! Сынок, да поможет тебе бог!
— Ерназар-ага, я никогда не держал в руках оружия! — Бердах в досаде даже стукнул ладонью по своему дутару.
— Это и есть твое оружие, Бердах! Береги его! Иди к воинам! Спой им песню «Для народа».
Бердах смешался с соколами, и вскоре над землей полетела-полилась его песня.
…Джигит, рожденный с львиною душою, Всю жизнь свою ты посвятил народу!..Ерназар заметил, что Гулзиба подтягивает подпругу у своего коня. Он оказался рядом с ней.
— Что ты собираешься делать?
— Разве женщина не может в трудный час стать соколом?
Ерназар помчался дальше. Отовсюду раздавались отдельные беспорядочные выстрелы — это отстреливались ханские нукеры. Они не ожидали, что соколов окажется так много, и стали отходить, ретироваться, чтобы не угодить под пули.
— Джигиты, вперед! — закричал Алакоз, и, послушные его призыву, соколы двинулись, покатились вперед, как волна…
Мухамедкарим, Асан, Артью, Рахманберды хлынули вслед за врагом, словно черные беркуты, преследующие улепетывающих зайцев, хлынули, забыв об опасности, презирая смерть… Сотник Бекжан, обычно неприметный и тихий, вырвался вперед с саблей наголо; его натиск был яростным, его атака была неудержима. Среди врагов началась паника.
— Родные мои! Родные! Так их, так! Пусть больше к нам не лезут! Еще немного — и мы сомнем врага! — Алакоз носился как вихрь; ему открывались героизм, смелость, верность людей, которые всегда держались в сторонке, избегали лишний раз попасться ему на глаза…
Враг бежал без оглядки. Алакоз отдал приказ не растягиваться, не отрываться друг от друга. Соколы стали теперь продвигаться медленно — скорее для устрашения противника.
Гулзиба перевязывала раненых, помогала им взбираться на подоспевшие телеги.
— Ой, молодец, Гулзиба! — благодарили они ее от всего сердца. — Спасибо тебе! Благослови тебя бог!
К Алакозу подогнали пленного, которого захватил Генжемурат.
— Передайте Генжемурату похвалу от меня и от хана! — произнес он и коротко бросил пленному:- Кто ты такой?
Судя по одежде, пленный был из людей состоятельных: в дорогом халате, шапке, отороченной бобровым мехом. Он вперился в носок своего красного сапога и упорно не поднимал глаз. По щекам его вдруг покатились крупные слезы.
Тут пули свистят, смерть витает рядом, так что слезы твои нас не разжалобят! Кто ты такой? — повторил вопрос Ерназар.
Продолжая разглядывать кончик сапога, он пробубнил:
— А ваше наказание… какое оно будет?
— Наказание у нас выносит хан!
— Сохраните мне жизнь — и я скажу правду!
— Говори! Тебе приказывает Ерназар Алакоз!
— Новый хивинский хан приказал уничтожить Каракалпакское ханство. За вашу голову он обещал две тысячи таньга.
— Мою голову он, стало быть, оценивает на золото! Неплохо! Аи да хан, молодой, да ранний!..
— Нет, я о другом хане говорю! Тот, который сменил погибшего в мервском походе, убит! Его убили! Во дворце был заговор…
Ерназар теперь понял, почему Хива так долго терпела, не покушалась на Каракалпакское ханство. Да, им бы там самим разобраться со своими бедами, враждой да заговорами…
— Я бий… из аула… неподалеку от Хивы, — осмелел немного пленный. — Я давно вступил в ханское войско.
— Ну и что, тебе очень хотелось получить мою голову? Вырвался вперед, обогнал соперников?
— Кому ж не охота разбогатеть да подняться вверх по лестнице, которая к власти ведет!
— Ну что ж! За откровенность жалую тебе свободу! Хотя таким, как ты, свобода не нужна! Не на то ее тратишь! — Алакоз презрительно фыркнул и велел своим соколам отпустить хивинца…
Враг отступал. Соколы, скопившись на берегу Аму-дарьи, улюлюканьем провожали неприятеля.
Во время передышки Ерназар спросил Бердаха:
— Ответь мне, дорогой мой, какой воин хорош?
— Воин, говорящий «убью», лучше говорящего — «умру»! Умный враг лучше глупого сокола!
Ерназар увидел, что к ним приближается Зарлык, и направился к нему навстречу. Он доложил хану обстановку, сообщил новости из Хивы.
— Ни одно важное дело не должно осуществляться без моего ведома, джигиты! — Зарлык нахмурился. — Почему помилован пленный?
— Нет, наш хан! Сейчас военная пора. Если согласовывать все свои действия с вами, то так и время драгоценное можно упустить! — возразил Ерназар.
— Если бы я освободил пленного сам, ничего страшного бы не произошло и время не было бы упущено!..
— Я рассудил так, наш хан: пусть он вернется в Хиву и расскажет, что каракалпакские бии не жестоки, а мужественны и не боятся своих врагов. За правду мы не караем, не то что хивинцы!
Ерназар-младший, который сопровождал Зарлыка, счел за благо не вмешиваться в спор Зарлыка и Алако-за. Каждый из них, казалось ему, прав и не прав по-своему. Ерназар же, отгоняя от себя мысль о том, что хан становится чересчур тщеславным, подумал: «Наверно, он просто заботится о нашем единстве и считает, что будет правильнее, если все приказы-указы будут исходить от него!»
Чтобы уладить разногласия, Зарлык как ни в чем не бывало переменил тему:
— Будем ли мы переправляться на тот берег? Как ты считаешь?
— Амударья в этом месте бурная, много опасных воронок, без больших потерь переправиться не удастся! — ответил Алакоз. — Я думаю…
Ему не дал закончить Шонкы; он подскакал, бледный как полотно.
— Генжемурат попал в плен… — Голос Шонкы дрожал. — Не один попал, а со своими джигитами. Среди них, среди них… — голос его сорвался, — Хожеке…
Зарлык побелел; ледяная рука сжала сердце Ерназара-младшего, но он все-таки взглянул на Алакоза: как он перенесет страшное известие? Лицо Ерназара исказила гримаса отчаяния, но голова оставалась высоко поднятой.
— Где Абдурахман? — были его первые слова.
— Попытаюсь освободить их! — только и сказал Абдурахман.
— Пусть тебе сопутствует удача!
Абдурахман не стал медлить.
Алакоз обратился к соколам:
— Ночью мы во что бы то ни стало должны переправиться через реку! Ерназар-младший останется по-прежнему при хане, будет охранять его. Вместе с людьми Жангазы-туре вы переправитесь на тот берег чуть выше по течению. Мы с Аннамуратом возглавим джигитов Мадреима и Рахманберды и будем перебираться здесь, как раз против места, где расположился враг. Остальные — ниже. Общую атаку начнем, как только прозвучит призыв муэдзина к утреннему намазу.
Переправа оказалась опасной. Мешало сильное течение. Не все соколы умели плавать, таким приходилось цепляться за хвосты и гривы своих коней. Молодых робких лошадей брали под уздцы джигиты, которые были покрепче и повыносливее, и, успокаивая их, вводили в реку…
Когда Алакоз удостоверился, что на берегу никого не осталось, и собрался пустить своего коня вплавь, из-за маленького холмика показался всадник. Ерназар от неожиданности вздрогнул.
— Это я…
— Гулзиба?! Зачем ты здесь?
— Потому что ты не на свадебный той собрался! В аул я не вернусь…
— Отпусти своего коня! Будешь держаться за хвост моего — он сильный.
— А ты как же? — голос Гулзибы выражал нежность и беспокойство.
— Я? Поплыву сам! Небось не забыла, какой я пловец!
— Нет, нет, здесь течение очень бурное, с ним нелегко справиться!
Чтобы прекратить спор, Алакоз связал крепким узлом поводья обоих коней и пустил их в воду. За хвост одного коня ухватился сам, за хвост другого — Гулзиба.
Кони плыли медленно, но уверенно. Ерназар опасливо следил за Гулбизой — как бы ее не унесло течением. Он заметил, что она устает, выбивается из сил, и, обхватив ее рукой, чуть-чуть приподнял. В середине реки была небольшая мель, Ерназар дал Гулзибе немножко передохнуть. Он прижал ее к груди и прошептал:
— Какая ты отважная, Гулзиба!
— Ты всегда хвалишь меня, расточаешь нежности в воде или около воды! — Она улыбнулась печально.
Он молча погладил ее косички, с них тонкими струйками стекала вода.
— Оставь, Ерназар!
— Гулзиба, Гулзиба, многое понимаешь именно в такие вот минуты. Я люблю тебя, по-настоящему люблю!
— Настоящая любовь бывает только у настоящих людей! — Гулзиба бросилась в воду, поплыла.
— А я, по-твоему, не настоящий, что ли? — спросил Ерназар, когда они оказались на берегу.
— Я о себе говорю! Я проклята богом! Мне суждена горькая судьбина, потому что я посягнула на счастье другой женщины.
— Но такой, как ты, нет больше! Скажу тебе истинную правду. Мой сын для меня всегда был первая опора, а ты вторая. А теперь я убедился: ты первая моя опора и радость! Ты, Гулзиба! Я об одном мечтаю: чтобы ты любила Хожеке, как своего родного сына, — голос Ерназара дрогнул.
— Что с тобой, Ерназар? — почуяла неладное Гулзиба, но он не ответил, двинул коня к соколам, смутно вырисовывавшимся в ночной тьме…
Прозвучал призыв к утреннему намазу. Ерназар приказал оставить коней в укромном месте — в низине, а соколам бесшумно двигаться к расположению ханских нукеров.
Хивинцы были застигнуты врасплох. Поднялась паника — одни хватались за оружие, другие метались в поисках укрытия, третьи отбивались кувшинами для омовения, четвертые сдавались… Потом постепенно опамятовались, собрались с силами и схватились с соколами в рукопашной. Дрались пиками, палками, камнями — всем, что попадалось под руку. Бой продолжался до полудня. Трусов не было: одна сторона сражалась за собственную жизнь, другая — за свободу и жизнь, за родину и независимость.
Ерназар наблюдал за боем с невысокого холма. Вон кто-то из соколов мчится на выручку к товарищу и натыкается на хивинскую саблю, вон кто-то с размаху рубит ненавистного врага! Откуда-то с тыла к хивинцам подлетел на своем вороном сотник Мухамедкарим, погнался за всадником на сером коне, вонзил пику, вынул, поскакал дальше… Во вражеском кольце дерутся Мадреим и Рахманберды, рубятся саблями, под их взмахами нукеры падают, валятся направо и налево. Однако храбрецам все равно никак не удается вырваться из кольца, оно становится все плотнее! Сзади разбрасывает, снимает противника Джанибек-бий со своими воинами. Мадреим, Рахманберды вырвались, уже вырвались!.. «Молодцы, молодцы, храбрецы!»-громко похвалил их Ерназар, будто они его могли услышать.
Ожесточенная, упорная битва продолжалась… Заметив, что враги обходят Маулена и Абдурахмана, Ерназар бросился им на подмогу. Маулен догнал хивинца, вонзил копье в его лопатку, свалил с коня. Абдурахман управлялся с тремя нукерами — он рубился обеими руками одновременно. К нему и поспешил Ерназар на помощь — одного рубанул сзади саблей, остальные бросились прочь.
— Как Генжемурат, нашли? — Алакоз стер со лба пот.
— Нашли, отбили, он ранен.
Алакоз не решился задать вопрос, который застрял у него в горле: о сыне. Снова врезался в гущу противников. Хивинцы стали отходить, не в силах противостоять натиску каракалпаков. Окрыленный этим, Алакоз приказал соколам:
— Дальше Майлы-шенгель не ступать! Там граница.
Однако возбужденные, разгоряченные боем и победой соколы стали протестовать:
— До Майлы-шенгеля еще далеко!..
— Потому и не следует терять головы! Вы и ваши кони притомились! — Ерназар пытался своим спокойствием охладить их пыл. — Ну, Мадреим, всех своих врагов раскидал?
— Всех! С божьей помощью победим! Прославим наш народ на весь Хорезм! — гордо отозвался Мадреим.
— Не знал, что ты такой хвастун! И как язык у тебя поворачивается произносить этакие слова: «Прославим наш народ!» Сам только что, будто заяц, давал стрекача от хивинца. И хивинец-то хилый, тощий, как рукоятка плети! А туда же, в герои, в палваны метит! — поддел его Маулен.
— Маке, а ты сам? Сам-то убил хоть одного врага? Подложил, как говаривали наши предки, под свою голову подушку? — поддержал шутливый разговор Ерназар-младший.
— Вы что, сомневаетесь, что я в состоянии добыть себе подушку? Да я столько положил-разметал нукеров ханских, что на целую подстилку наберется, не то что на единственную подушку!
— Я свидетель! Маулен дрался, как палван! — подбодрил его Ерназар. — А ты, что это ты хихикаешь, лежебока ты этакий! Нарушили хивинцы твой сладкий сон, потревожили, а? — погрозил он пальцем Шонкы.
— Я не соня, Ерназар-ага, не лежебока! Я сокол что надо!
Шутливо перебраниваясь и подтрунивая друг над другом, гордые одержанной победой, соколы дожидались, когда к ним подоспеет Зарлык-хан.
— Джигиты, хвала вам, слава! Того, кто любит свой народ, любит весь мир! — издалека закричал своим воинам Зарлык. — Соколы, друзья, оказавшие нам помощь в труде мирном и ратном, военачальники! Враг отступил! Позорно бежал!.. Три дня отдыха! — Хан ликовал вместе со всеми.
— Стоит ли давать врагу такую большую передышку? Хивинцы укрепятся в Ходжейли! — усомнился Алакоз.
— Ничего, ничего! Наши доблестные соколы устали! Им нужно передохнуть! Мы тем временем подумаем, как с наименьшими потерями захватить Ходжейли! — откликнулся Зарлык.
Ерназар в душе не одобрил решения хана, но оспаривать его не стал, лишь приказал биям без промедления собраться на совет.
Совет заседал всю ночь. Бии и сотники спорили, пререкались, не удержались даже от взаимных оскорблений и обид. План выработали такой: самые опытные, верные, закаленные военачальники и соколы переоденутся в одежду дехкан и горожан и по двое, по трое проникнут в город. Там они сначала хорошенько высмотрят, разведают, как Ходжейли охраняется, как укреплен, а потом постараются переманить на свою сторону его жителей…
Когда совет закончился, Ерназар подсел к раненому Генжемурату.
— Твой Хожеке смелый, отважный парень, Ерназар! Ничего не боится! Погнался за врагом, увлекся, оторвался от своих и… — Генжемурат был полон сочувствия.
— Живой, как думаешь? — с надеждой и страхом вымолвил, пересилив себя, Ерназар.
— Надеюсь! Эх, хотел, да не успел броситься ему на помощь! Нас окружили!
— Забудь об этом, не мучай себя! — Ерназар положил руку на перевязанное плечо Генжемурата. — Как думаешь, кому возглавить тех, кто будет просачиваться в Ходжейли?
— Мне! — первым вызвался Ераназар-младший.
— И мне! — присоединился к нему Абдурахман.
— Хорошо, готовьтесь! — согласился Ерназар. …Прошло несколько дней. Соколы атаковали Ходжейли в темную, безлунную ночь. Они действовали быстро и бесшумно одновременно с джигитами, которыми командовали в самом городе Ерназар-младший и Абдурахман. Горожане поддержали отряды Алакоза, и хивинцы бежали без оглядки. Самым выносливым и проворным соколам Алакоз приказал гнать врага до границы — до местечка Майлы-шенгель, а в городе объявить, что война на каракалпакской земле окончена.
Пока глашатаи разносили по городу весть о мире, Ерназар созвал лучших мастеров Ходжейли и велел им возвести для хана шатер в северной части города.
Вскоре шатер был сооружен, и Ерназар явился к Зарлык-хану вместе с мастерами.
— Наш великий хан, объясните этим мастерам: на каком троне желали бы вы восседать?
— Каракалпакский трон должен отличаться от тронов других владык, — не раздумывая сказал Зарлык. — Пусть по форме он будет похож на конское седло. В знак того, что и хан, и весь наш народ не должен успокаиваться. На таком троне не понежишься, о своих обязанностях на нем не забудешь. Седло — это седло, а не мягкая подушка. Мне, всем нам негоже забывать о своем происхождении… О том, что вчерашний всадник, табунщик стал ханом!
14
Есть люди, для которых собственное горе — это пуля, пронзающая их насквозь; чужое же горе — камень, брошенный в воду. Бывает и так: свое счастье люди не только ищут в несчастьях других, но и строят его на этих несчастьях…
Ханский дворец кишмя кишел именно такими людьми. И зло порождало зло, зависть вызывала зависть.
Меньше чем за год в Хиве сменились два хана, и в кровавой этой череде новый хан оказался самым худшим — и в глазах народа, и во мнении приближенных. Кутежи, разврат, гарем — этому, только этому безраздельно отдавался хан… Казна стремительно опустошалась: расточительство и легкомыслие властелина Хивы не имели границ и меры, разоряли страну больше, чем расходы на походы и войны… «Опора престола и власти»- сановники, придворные, мехремы правили, управляли, расправлялись с людьми и страной по своему усмотрению и хотению. Каждый тащил что мог, тянул в свою сторону, себе, себе, только себе. Каркас ханства гнил, разрушался все неудержимее и стремительнее и вскоре — через два месяца после восшествия на престол нового хана — крыша ханства едва-едва держалась. Она готова была в любую минуту рухнуть, от любого, даже маленького толчка.
Каракум-ишан был в страшном беспокойстве. Он раздумывал, как укрепить, сохранить, поддержать, восстановить былое величие Хивинского ханства. Ишан пришел к выводу: единственный способ не дать угаснуть Хорезму, светочу ислама, — избавиться от развратного, глупого, пустого хана-расточителя. Но как? Чьими руками?
В Хиве Каракум-ишан напросился в гости к Сеид-мухамеду — сыну покойного хана Мухаммеда Амина…
«Сеидмухамед — сильный, умный, крутой человек, во всех отношениях достойный того, чтобы занять трон, — прикидывал в уме ишан. — Ему года тридцать три — тридцать четыре, он энергичен и деятелен, давно и безуспешно рвется к власти, очень честолюбив. После смерти Мухаммеда Амина соперники все время обходили его…»
Ишан повел речь прямо, без обиняков:
— С незапамятных времен никому не удавалось сломать Хиве рога, нанести ханству поражение. Сейчас же я не поручусь ни за что! Творится в нашем государстве нечто страшное, невообразимое! Еще немного — и положение поправить будет нельзя!
Сеидмухамед не уступал ишану ни в хитрости, ни в коварстве. Он взглянул в упор на гостя и криво усмехнулся:
— Что же вы хотите предложить?
— Сейчас, по-моему, нам может сослужить службу поражение хивинских нукеров в Ходжейли. Хан совершил глупость, приказав жестоко расправиться с военачальниками за это поражение. Нукеры, все войско и дворец клокочут от ненависти и возмущения. Сейчас самый подходящий момент избавиться от хана! Убрать это исчадие греха! Неужели же так трудно перерезать ему горло, когда он спит!
Каракум-ишан ничего больше не добавил и не стал дожидаться, что скажет ему в ответ Сеидмухамед.
А через несколько дней, утром, в Хиве было всенародно объявлено, что новым хивинским ханом стал Сеидмухамед — сын Мухаммед Амина.
Сеидмухамед, как оно и положено новому хану, вызвал во дворец всех знатных людей, всех военачальников, всех высокопоставленных духовных лиц. И в числе их — Каракум-ишана.
15
Настал день, когда должна была состояться церемония торжественного восшествия на трон Зарлык-хана.
Возле новенького ханского шатра Алакоз поставил стражу из двух джигитов. Одному Ерназар всунул в руки копье и саблю, другому положил на ладони черную шапку, а поверх нее — две лепешки. Все с жадным любопытством разглядывали джигита с лепешками, другого будто бы не замечали — копье и сабля в руках воина дело привычное.
— Наш великий хан, уважаемые бии, мужественные военачальники и соколы! — громогласно обратился к народу Ерназар. — Обычно владык охраняют воины, стражи с оружием в руках, поэтому вам не надо объяснять, почему вот этот джигит держит копье и саблю. Но вот тот, посмотрите на него внимательно, — Ерназар повернул голову в сторону второго стража, — он, я догадываюсь, всем вам в новинку. Почему у него — видавшая виды шапка, да еще с лепешками сверху?
— Любая загадка нуждается в отгадке! — крикнул Мухамедкарим.
— Наш великий хан, уважаемые бии, отважные военачальники! Помните, как мы мечтали у «русской стены» о том дне, когда у нашего ханства появится свой символ, свой герб. Я долго думал и вот что придумал. Вот оно — мое предложение!
— По-моему, я отгадал загадку Алакоза! — произнес Зарлык-хан. — Каракалпакский народ будет встречать гостя хлебом, а черную шапку будет класть перед ним как дастархан… шапку, которую носили предки.
— Вы действительно отгадали, наш великий хан! Именно так я и думал. Хорошо бы еще, чтобы на всех воротах нашей будущей столицы стояли соколы, вот так вот положив на ладони свои шапки, а на них — хлеб! Все народы гостеприимны, каждый по-своему. Мы же провозгласим о своем гостеприимстве и мирных намерениях с помощью этого знака! В аулах тоже нужно бы поставить джигитов!..
— Э-э-э-ка размахнулся! Так джигитов не хватит, и лепешек не напасешься!
— Герб хороший, но во всех аулах, при всех воротах держать воинов — больно накладно будет!..
Выслушав мнение соколов, Ерназар сказал:
— Будет достаточно, если мы просто будем так встречать гостей, согласен!
— Наш великий хан, у русских каждый город имеет свой герб — из металла или дерева. Может, нам обратиться к ишану? Пусть поищет в Коране подходящую суру! Ну, которая разрешала бы и нам отлить из металла человеческую руку с шапкой. Мастера бы постарались, сделали как надо, а хлеб… хлеб можно каждый день класть свежий! — предложил Генжемурат.
— Нашел у кого просить содействия! Будет тебе ишан искать-стараться для нас! — захохотал какой-то сокол.
— А я слышал, что во многих царствах на гербах — хищные птицы или звери, — подал голос сотник Муха-медкарим. — Может, нам выбрать себе фазана? Чтобы все знали, что каракалпаки — народ мирный.
— Здорово придумал! — поддержал его Мамыт-бий. — Черная шапка — символ бедствий и горя, я против него! А у нас радость! Фазан — символ не только кротости и миролюбия, но и хлебосольства. Дескать, мы готовы встречать гостей фазаньим мясом!
— Если на то пошло, так пусть уж воин барана держит на руках! Подумаешь, фазан!.. — фыркнул Маулен-желтый.
Все так и покатились со смеху. Хан потребовал тишины. Он коснулся ладонью плеча Алакоза, она казалась совсем маленькой на этом широком, могучем плече.
— Почтенные, аксакалы, уважаемые военачальники, наши подданные! Успокойтесь, здесь не о чем спорить! По-моему, Ерназар предложил нам очень хороший герб. Вдумайтесь хорошенько — две ладони, мозолистые, привычные к труду, подняли головной убор — символ человеческого достоинства! — и хлеб. Две дорогие для каждого человека вещи — его достоинство и его хлеб насущный! Давайте примем эти символы для нашего герба! Для нашей страны!
— Принимаем, принимаем! — раздалось отовсюду и было повторено эхом. — Принимаем, принимаем!
Ерназар воспрянул духом. Он вышел вперед вместе с Ерназаром-младшим, они взялись оба за разные края ковра и расстелили его прямо на земле. Скрестив руки на груди и низко-низко кланяясь Зарлыку, они торжественно пригласили хана пройти на огромный яркий, радужный ковер. Зарлык-хан расправил плечи, распрямил стан и, прошествовав к ковру, величаво на нем уселся. Люди бросились к своему хану, подхватили ковер на руки и понесли, понесли к трону! Трон был изготовлен мастерами в точности по заказу Зарлыка. Хана осторожно на него водрузили, и после этого все стали по очереди подходить и отбивать ему поклоны.
Алакоз взобрался на небольшое возвышение и закричал по весь голос:
— Э-ге-гей! Глашатаи! Вестники! Подойдите поближе ко мне!.. Бейте в свои барабаны, трубите в свои трубы! В великом Хорезме появилось новое ханство — Каракалпакское ханство! — Глаза Ерназара сияли от радости. — Глашатаи, на коней! Скачите во весь1 опор, подгоняйте плетками своих скакунов, несите на каракалпакскую землю новость! «Чье наступило время? Время Зарлык-хана! Чья сейчас власть? Власть Зарлык-хана!»
Ветер разносил голос Алакоза далеко-далеко, ему отовсюду вторили голоса: «Да здравствуют каракалпаки!», «Пусть здравствует Зарлык-хан!», «Слава Ерназару Алакозу!»
— Дорогие бии, пусть праздник и ликование будут на всей нашей земле! Пусть в каждом ауле гонцы объявляют народу: у нас отныне не должно быть ни одного дома без земли и воды! Мы отпустили на свободу рабов! Каракалпакское ханство да будет образцом для других стран и народов! Каракалпаки наконец будут жить в достатке, богатстве и покое!
…Ерназар Алакоз был счастлив, как может быть счастлив человек, который увидел свою мечту осуществленной.
Он весь был в хлопотах — необременительных, приятных: распределял, устраивал гостей в шатрах, раскинутых тут же, неподалеку от ханского шатра; выделял людей для обслуживания гостей… Когда с хлопотами было покончено, Ерназар собрал биев, и они торжественной и пышной процессией направились к ханскому шатру. Ерназар обратился к обоим стражам сразу с просьбой доложить хану, что верноподданные бии просят у него аудиенции.
Зарлык-хан показался у входа в шатер и милостиво пригласил их:
— Входите, досточтимые отцы народа и старейшины страны!
В ханском шатре все начали занимать места соответственно своему возрасту и чину. Ерназар склонился перед Зарлыком:
— Наш великий хан, ваши бии и военачальники предстали перед вами с единственной целью — узнать, каковы будут ваши распоряжения и советы относительно их будущей деятельности!
Зарлык держался с ханским достоинством и солидностью. Он не стал торопиться с ответом, обвел всех до единого взглядом и лишь потом заговорил — не громко, но весомо, так, что каждый его слышал:
— Достопочтенные старейшины страны, отцы народа! Каждый, кого я сейчас вижу перед собой, внес свою лепту в наше великое дело: объединение наше и образование самостоятельного Каракалпакского ханства. Пусть на ваши головы прольется божья благодать! Бог не оставит вас без своей милости и своего покровительства!.. Пусть страна наша будет процветающей и счастливой! Аминь!
— Аминь! — дружно ответили все.
— Нам нужно одно, только одно: следовать неуклонно и последовательно «Клятве шестидесяти биев»! Не отступать, не нарушать пунктов, содержащихся в ней! Это мой единственный завет и совет на будущее и настоящее! Я хотел бы послушать вас! Выскажитесь, вы! Ведь вы — мой язык, мой голос, вы — мои руки, вы — мой посох!
Воцарилась тишина; казалось, все собирались с мыслями, все находились под впечатлением речи, достойной хана!
— Ерназар-бий, начните вы! — распорядился хан.
— Повинуюсь, наш хан! В «Клятве шестидесяти биев» мы дали обещание продолжать и преумножать завещанное нам Маман-бием и дедом Айдосом. Наши славные предки мечтали о счастье и процветании нашего народа… — Алакоз расправил свою мощную грудь и продолжал:- Маман-бий, напомню вам, в свое время издал указ, обязывающий всех наших женщин рожать детей. Он сделал это неспроста: наш народ быстро убывал, истощенный набегами, сражениями, болезнями. Наш великий хан, отдаю на ваше ханское рассмотрение предложение ввести в этот указ дополнение о том, что мужчины обязаны жениться до тридцати лет, а женщины — выходить замуж до двадцати. Пусть бии составят списки всех холостых мужчин и женщин, укажут, в достатке они живут или в бедности, и — самое главное — позаботятся о тех, кто нуждается: ведь в бедности детям расти нелегко…
— Уважаемые старейшины страны, что вы думаете по этому поводу? — обратился Зарлык-хан будто в пустоту.
Никто не издал ни звука.
— Наш великий хан! Возможно, все это поначалу кажется и странным, и сложным. — Алакоз взывал теперь уже не столько к хану, сколько к замкнувшимся в непроницаемом молчании биям. — Назначьте мудрого, справедливого визиря и поручите ему заняться этим! Вопрос о потомстве для нашего народа, убежден, очень важный вопрос. Нас ждут и великие испытания, и великие дела, а кто же будет осуществлять их?
Один из биев, которому претило предложение Ала-коза, не смог сдержать злобы.
— Какие же подвиги числятся за Айдосом? — повысил он голос.
Ерназар предвидел, что имя Айдоса может и на этот раз вызвать у биев ярость и бешенство. Он спокойно пояснил:
— Наш великий хан, всем известно, что Айдос мечтал ввести День благоденствия. Как замечательно было бы осуществить этот замысел в нашем ханстве! В День благоденствия среди каракалпаков должны царить мир и согласие. Ни один человек не должен садиться на коня! Каждый обязан навестить одиноких и сирых, больных и увечных стариков своего аула! Приласкать детей — своих и чужих, особенно сирот! Все должники в День благоденствия будут возвращать свои долги, все обитатели ханства — сами приносить и отдавать в ханскую казну налог! Без лишних напоминаний — сами! В шатре прошел шумок одобрения.
— Хорошо бы каждый месяц начинать День благоденствия — тогда и весь месяц покажется нам краше! — восторженно воскликнул Ерназар-младший.
— Уважаемые бии, отцы народа! По-моему, предложения Ерназара заслуживают нашего одобрения и похвалы! — без спешки, но и без промедления заявил Зарлык-хан.
— Если вы одобряете, то и мы согласны! — раздались голоса.
— Коли так, позаботимся, чтобы все холостые стали семейными, соединим их по любви и согласию! Поможем наладить дом и хозяйство тем, у кого нет достатка! Это дело я поручаю Ерназару-младшему. Он человек и умный, и мудрый, и сам еще молодой… Такой тут и нужен.
— Слушаюсь и повинуюсь! — отозвался Ерназар-младший.
— Если никто не возражает, введем День благоденствия. Назначим его на первый день каждого месяца. Ерназар-бий, позаботьтесь, чтобы вся страна была оповещена о наших начинаниях.
— Наш великий хан, у нас есть еще одна обязанность… ее надо выполнять сразу же, без промедления… очень важно… — Ерназар-младший волновался и глотал слова: видно, хотел поскорее довести до всех заветную свою мысль. — Ребятишек от десяти до пятнадцати лет, всех до одного, надо проверить… то есть их способности! Чтобы выбрать лучших и послать на учение в другие страны.
— Тысячу раз согласен! Правильно! — подхватил хан. — Каждый бий устроит в своем ауле проверку, самых одаренных пришлет к нам. Потом мы сообща решим их судьбу!
— Наш великий хан! — Саипназар будто только очнулся ото сна. — Народ наш непривычен ко всем этим благам, поэтому нужно назначить визиря, который контролировал бы народ, смотрел в оба: не надо ли кого подгонять да подхлестывать!..
— Справедливейшие отцы страны! Думаю, нам необязательно назначать визиря, да еще специально для такого светлого дня… Я, хан, сам берусь отвечать за День благоденствия! Так оно будет лучше. В этот день я не буду рассиживаться на троне, сам буду разъезжать по стране, навещать престарелых и сирот! Им будет приятно услышать ласковое слово от своего хана! И мне приятно послужить своему народу, узнать о его нуждах!
— Наш великий хан! Не всем каракалпакам удобно и сподручно, что базары наши расположены так далеко, в Ходжейли и Кунграде, — поднялся Мухамедкарим. — Как тут быть? Торговлю надо оживлять… Где бы устроить еще один базар? Может, в новой столице?
— Ограничимся пока тем, что объявим торговыми аулами Шахаман и Чимбай. Столицу… ее, мне кажется, лучше всего основать около водного пути. Однако строить ее, так же как и ханский дворец, мы начнем после того, как полностью закончим канал! — заявил Зарлык-хан.
— Сколько же нам предстоит всего обдумать и сделать! Сколько всяких сложностей впереди! — тяжело вздохнул Мухамедкарим.
— Казна наша совсем пуста, в ней нет ни одной монетки! Даже на помощь нуждающимся! — добавил Мадреим.
— Дорогие мои братья, не горюйте! Нельзя нам опускать руки! Мы сделали самый важный шаг! — заговорил Ерназар. — Наполнить ханскую казну будет не так уж и сложно: многие из нас успели собрать налог для хивинского хана! Теперь у нас свой хан и своя казна…
Зарлык с благодарностью подумал, что опять Ала-коз — как всегда! — первым находит верное решение, приходит ему на выручку.
— Дорогие мои, — продолжал тем временем Ала-коз. — Мы выиграли великую битву, мы отстояли право называться каракалпаками! Чтобы закрепить наш первый успех, нам предстоит сделать еще одно важное дело. Наш великий хан, всем сидящим перед вашими очами отцам народа ясно: наше ханство — это вновь возведенная юрта, на нее многие и многие сторонние наблюдатели будут взирать с недоумением, любопытством, а кто и со злобой. Нам необходимо послать в разные страны послов. Пусть они объявят о том, что появилось новое ханство, которое хочет жить в мире со всеми! Пусть другие народы протянут нам руку дружбы и помощи! Прежде всего, я полагаю, надо снестись с русским царством!
— Самый опасный наш враг — Хивинское ханство! — сурово заметил Ерназар-младший.
— Да, это так! Поэтому-то и надо в первую очередь направить посла в Хиву! — сказал Зарлык. — Готовьтесь в путь вы, Ерназар-младший! Опасность может нагрянуть также со стороны Бухарского эмирата. — Хан задержался взглядом на Саипназаре. — Посольскую миссию в Бухару возглавит Саипназар-бий.
— Наш великий хан, — быстро отреагировал Ала-коз, — вы выбрали весьма достойных людей! Однако в Бухару полезно послать также Генжемурата, он знает город, понимает фарси. В Бухаре много людей, говорящих на фарси…
— Генжемурат-бий, я опасался за ваше здоровье… — Зарлык понял свой промах. — Если вы сможете осилить дорогу…
— Доберусь как-нибудь, наш великий хан! Постараюсь!
— Следует нам подумать относительно казахов. Может быть, сотник Мухамедкарим, отважный наш военачальник, согласится?..
— Ханский приказ — отцовский приказ! Мухамедкарим отлично справится. Он обратит ханский приказ в стрелу, попадающую точно в цель! — поддержал хана Алакоз.
— Справедливейшие старейшины страны! — продолжал хан. — Пусть вместе с Мухамедкаримом поедет наш друг Жангазы-туре. Он близко знает Султана… — Зарлык сделал длинную паузу. — Вопрос же о том, кто поедет к русскому царю, надо решать особенно вдумчиво. Расстояние огромное, можно сказать — без конца и края, тут нужны крепкие, выносливые джигиты. Переговоры следует вести не в Оренбурге, а в столице, во дворце русского царя, там, где побывал когда-то Маман-бий. Конечно, для этакой миссии трудно назвать кого-либо лучше, чем Генжемурата. Да он еще очень слаб после ранения!..
Генжемурат попробовал шевельнуть плечом и тут же поморщился от боли; он горестно, с досадой помотал головой.
Биям казалось, что хан и Алакоз действуют по заранее продуманному плану и договоренности: так дружно принимали они решения, поддерживали друг друга, с полуслова понимали! Одних единодушие, согласие это радовало, у других вызывало зависть, будило опасение, настораживало — не будут ли они сами обойдены, отодвинуты в тень… Догадаться об этих чувствах и мыслях было нетрудно, они были написаны на лицах… Однако Зарлык и Алакоз сочли за благо не обнаруживать этого, не вступать в конфликт с затаившимися недоброжелателями — сейчас было важно двинуть вперед начатое… Помыслы, устремления Ерназара и Зарлыка совпадали, оба они были захвачены благородной целью, и потому-то они понимали друг друга без лишних слов и объяснений… Если между ними и пробегала порой черная кошка ревности, неудовольствия, болезненного самолюбия — они гнали от себя прочь!..
Ерназар считал, что хан допустил ошибку, порешив отправить Ерназара-младшего с посольством в Хиву; по его мнению, Ерназар-младший был бы незаменим для миссии в России; умный, красноречивый, осторожный, хитрый, да и молодой, полный сил. С другой стороны, и Зарлыка понять можно: Хива очень опасный, самый опасный сосед!.. Ерназар мечтал отправиться в русскую столицу сам. Сам! И попроси он об этом, его, возможно, и поддержали бы! Но с какой целью поддержали бы — вот в чем вопрос… Не для того ли, чтобы без него начать тут же междоусобицы, раздоры, борьбу…
— Что слышно о войне между русскими и турками? — полюбопытствовал Маулен-желтый.
— Ничего пока! Ясно одно: русские победят! — ответил Алакоз. — К тому времени, когда наше прошение, скрепленное подписью хана, дойдет до русского царя, они победят! Государь примет нас, возьмет под свое покровительство! Пришлет войско нам в поддержку!
— Наш великий хан! — встрепенулся Генжемурат. — А может быть, учитывая силу и могущество русского царя, вам самому к нему отправиться?
…Ерназару слова Генжемурата пришлись по душе, он собрался было сказать об этом, но передумал: Зарлык сам все взвесит, в том числе и настроение биев, сам поступит правильно.
Зарлык задумался; одна мысль, одно решение сменяли, прогоняли другие. Все, кроме одной: «Оставь я трон на время, никогда больше мне на него не подняться!..»
— Справедливейшие отцы народа! Вы были свидетелями — я долго размышлял. Вспоминал прошлое, о нем нельзя забывать… Никогда в прошлом хан не брал на себя миссию посла. Никогда! Посол говорит от имени хана — его устами, его словами!.. К тому же наш предок Маман-бий, кстати, он ведь не был ханом, уехал из страны, покинул ее надолго, и на каракалпаков напал, разграбил их Абулхаир-хан. Страна не должна ни на день оставаться без своего главы. В нашей «Клятве» говорится еще, что силой, охраняющей страну, является войско каракалпакских соколов. Хивинцы потеряли из-за нас почти половину своей территории, они не смирятся с этим, не будут сидеть сложа руки. Нельзя поэтому посылать в Россию и Ерназара — нашего главного военачальника.
— Надо послать человека, знающего русский язык, — предложил Мадреим. — Иначе царь не поймет его…
— Нашел о чем тужить! В великом государстве все продумано — и большое, и малое! — хмыкнул Генжему-рат. — С какого бы уголка земли ни пожаловали к царю послы, он всех их принимает, со всеми калякает. У него для этого толмачей целая сотня!
— Если так, могу я поехать! — вызвался Мадреим. Игнорируя бийские перешептывания и перемигивания, он вперил взгляд в Зарлык-хана.
— Ваша просьба, Мадреим, удовлетворяется! — обрадовался Зарлык-хан.
Ерназар почувствовал: Мадреим сделал предложение от чистого сердца. Этот не подведет.
Маулен-желтый не усидел на месте: такой же простой смертный, как он сам, едет посланцем к наивеличайшему владыке в мире, едет с благословения хана, а он, Маулен, опять в стороне, опять ни с чем!
— Великий Зарлык-хан, Ерназар-ага, разрешите мне поехать вместе с Мадреимом! — Зарлык-хан слегка улыбнулся, Ерназан насупился. — Великий главный полководец Ерназар, с возрастом человек мудреет, становится умнее, опыта набирается! Чем дольше он живет, тем яснее понимает, в чем они, настоящие ценности жизни, тем дороже ему его родина! Вы это лучше меня знаете!.. Ради счастья и славы своего народа я готов отправиться хоть на край земли, хоть за тридевять земель! Если же я изменю или причиню вред своей родине и народу, — Маулен всхлипнул, — то это… это для меня будет все равно что… матери изменить!.. Предать…
— По-моему, Маке не просто высокие слова произносит, а дает нам клятву! — Ерназара-младшего растрогал порыв Маулена.
— Признайся, ты лгал нам когда-нибудь? Изворачивался, хитрил, был с нами неискренен? — строго обратился к Маулену Алакоз.
— Было такое, было! Я тогда как считал? Если правду не приправить слегка ложью, то цена правды падает! — сознался Маулен.
— Молодец, что сейчас выложил правду! Не приправил ее щепоткой лжи! Хвалю!.. — Теперь и Ерназар улыбнулся. — Я видел, ты смело сражался с врагом!.. Если в Оренбурге или еще где вам повстречаются Тенел и Каллибек, возьмите их с собой в Петербург. Они пригодятся вам, они прошли русскую науку, да и русский язык небось для них теперь как родной…
— Обязательно, Ерназар-ага!
— Справедливейшие старейшины страны! Должности и чины, еще не занятые в нашем ханстве, мы распределим после того, как из разных стран вернутся наши послы, — объявил Зарлык-хан. — Теперь же наша задача — составить для них грамоты, письма и прошения.
— Верно! Правильно! — закивали Ерназар и остальные бии.
В это время хану доложили, что прибыл Аннамурат и просит тотчас же его принять. Биям показалось странным, что Аннамурат, не дождавшись специального приглашения, неожиданно явился сам. Все почитали его за верного друга ханства, уж не плохие ли вести заставили его поспешить?.. Нет, оказалось — добрые…
— Великий каракалпакский хан! Мы наслышаны о славных делах и свершениях, которыми вы намерены начать свое правление! Стоустая молва о них разносится по степным просторам! — Аннамурат кашлянул, повысил голос. — Мои соплеменники послали меня к вам с просьбой. Отберите у Хивы Куня-Ургенч и присоедините к своему ханству! Мы же будем вам покорными слугами и верными друзьями, будем делить с вами и сладость, и горечь жизни! Вместе с вами мы оказались бы под крылом России, осуществилась бы вековая мечта туркмен.
Просьба эта была столь неожиданна и необычна, что бии не знали, как на нее реагировать, и лишь взирали друг на друга.
— Хорошо, Аннамуратджан, твое прошение принимается! — вымолвил Зарлык-хан в тишине, вымолвил серьезно, прочувствовав ответственность момента. — В помощь вам выделяю Ерназара.
— Чтобы помочь другу, каждый каракалпак готов пожертвовать своей головой! — присовокупил Ерназар.
— Разрешите мне отправиться обратно в Куня-Ургенч! Пока подоспеют ваши соколы, я своих джигитов подготовлю!
— Действуй, Аннамурат! Люди не верят пустым обещаниям! Боевые сабли и копья лучше любых красивых слов и обещаний! Ерназар, пошлешь к туркменам пятьдесят соколов! — Зарлык-хан не скрывал радости от подобного оборота дел. — Хорошо бы в помощь соплеменникам Аннамурата захватить с собой еще и Аб-дурахмана с его джигитами.
— У нас с ним на этот счет есть договоренность! — откликнулся Аннамурат. — Они отправятся вместе с нами, если вы, конечно, разрешите!
— Разрешаю! А как насчет Азберген-бия? Как он?..
— С ним необходимо посоветоваться, — отозвался Алакоз.
…Зарлык-хан и его приближенные принялись наконец составлять письма и грамоты в чужеземные страны. Однако вскоре занятие это было прервано появлением Азберген-бия.
— Проходите, будьте почетным гостем! — пригласил его хан.
— Мы не согласны с вами! Недовольны! Протестуем! — запальчиво крикнул Азберген-бий с порога.
— Для каракалпаков нет большей неприятности, чем недовольство гостя! — произнес Зарлык. — Чем оно вызвано?
— Вы собираетесь просить у русских покровительство, так? — Не заставил Азберген-бий томиться неизвестностью хозяев.
— Да, истинно так! Собираемся! И никогда этого не скрывали!
— Если так, мы уходим! Те, кто набивается в друзья к русским господам, для нас враги! — резко и зло бросил Азбер еч- ий. Он повернулся ко всем спиной, собираясь удалиться.
Зарлык заметил, что его соратники разгневаны. Он поднял вверх правую руку и рубанул ею воздух так, словно держал саблю.
— Мнимые друзья нам не нужны! Пусть Азберген уходит! Кто не понимает и не разделяет наши цели, не друзья нам! Пусть их у нас будет меньше, зато истинных, на которых можно положиться! И все, с этим покончено! — Зарлык пытался успокоить не только биев и военачальников, но и самого себя. — Итак, за дела! Между государствами официальные отношения скрепляются не только письмами, бумагами, документами, но и взаимными подношениями, подарками. У наших послов не только подарков — денег на дорогу нет! Как нам быть?
Наш великий хан! Я уже собрал налог для хивинского хана, я готов сдать его в вашу казну! — предложил Ерназар-младший. — Спасибо!
Ерназар назвал поименно десять биев и распорядился, чтобы они срочно ехали в свои аулы собирать средства на нужды посольств…
Слуга поставил в середине шатра астахту, на нее положил бумаги, гусиные перья и чернила. Взбудораженные новизной, необычайностью того, что им предстояло сделать, что было уже сделано, каракалпакские бии и военачальники придвинулись поближе к астахте. Должны были родиться слова обращения к России, к соседним ханствам…
16
Захватив престол, Сеидмухамед незамедлительно созвал большой совет. Он вызвал на него сановников, советников, придворных, высшее духовенство, мехре-мов…
Совет длился долго. Пользуясь благосклонным, поощрительным вниманием хана, высказывались «отцы» Хивы. И почти все они настойчиво повторяли одно и то же: против любого нового — опасного — дела или ядовитого, молодого ростка надо предпринимать неотложные и решительные действия, пока росток этот не пустил в почву глубокие корни. Упустишь — потом вырывать его будет трудно. Сейчас, по общему мнению, самым опасным для Хивы, самым ядовитым ростком — является новое Каракалпакское ханство!
Хан слушал и взвешивал каждое слово.
Опасность исходила действительно от каракалпаков. Но от них ли только? Однако… Сеидмухамед знал: жизнь человеческая, в том числе ханская, — что жизнь комара: сегодня ты летаешь, а завтра тебя ухлопают. На его памяти была судьба его предшественников — трех последних ханов. Они гибелью своей расплатились за то, что не учитывали всю сложность дворцовых интриг и хитросплетений, всю глубину и разветвленность заговоров, всю подлость и неверность приближенных, окружавших их… Во дворце — во дворце! — таилась пока что главная опасность, в этих вот льстивых и угодливых людишках, готовых целовать тебе пятки сегодня, сейчас, а завтра — перерезать тебе горло! Родственники и самые, казалось бы, близкие и верные сановники подогревали смуту и недовольство в стране, клеветали и доносили друг на друга, сводили собственные счеты — все ради выгоды, корысти, привилегии! Они держали, чудилось хану, зажженную свечу в руках, чтобы поднести ее к хлопку: воспользовавшись отсутствием войска и надлежащей охраны в Хиве, захватить власть, поставить своего, нового ставленника… Спалить, уничтожить его, Сеидмухамеда… Нет, с походом против каракалпаков следует подождать! Тот враг далеко, а дворец и его обитатели — рядом, под боком!..
Сеидмухамед взял за правило выслушивать всех, но поступать по-своему. Этому учил его отец. Как и многому другому. Хан установил за самыми большими чинами ханства слежку. Взял он на вооружение опыт своего отца и в другом — по всем самым важным государственным делам советоваться с главным визирем, сановниками и мехремами-чиновниками, однако непременно с глазу на глаз! Наиболее щекотливые и ответственные поручения давать им только наедине, не посвящая в них лишних людей. Тогда каждый из них проникается особой верой в то, что хан ценит его больше всех остальных… К тому же его подданные начинают испытывать друг к другу недоверие, зависть. А он, хан, остается для каждого из них вершиной, недосягаемой вершиной, которая именно к нему милостиво склоняет свою главу! А кому же не нравится, кому не льстит ханская милость, особое ханское расположение!.. Раздоры же, разногласия целиком переходят в среду тех, кто должен ползать у ножек его трона! А их вражда, соперничество, зависть, взаимная ненависть и подозрительность — испытанные веками основа и опора любого ханства, залог его существования!..
Ханский же совет Сеидмухамед собирал изредка и не по самым серьезным поводам…
Однажды, когда шел один такой совет, хану доложили:
— Великий хан, прибыл посол из Каракалпакского ханства!
— Посол? Из Каракалпакского ханства? — спокойно переспросил Сеидмухамед, будто не совсем понимая, о чем идет речь.
Так точно, великий хан, человек так и представился!
— Его имя?
— Ерназар, наш великий хан!
— А что его сын? Еще жив? — встревожился хан.
— Пленник жив, но прибыл не его отец, а Ерназар-кенегес, наш великий хан. Каракалпаки называют его Ерназаром-младшим.
И хан, и сановники вздохнули свободнее. Да, велик, велик был их страх перед Алакозом; его сила и мужество, его авторитет среди простого народа всего Хорезма вызывали у них ужас. Хан движением руки отпустил всех.
Сеидмухамед решил прибегнуть к излюбленному своему приему — заставить сидеть и ждать в приемной просителя, любого просителя, знатного, именитого, посланца самого высокого ранга… Пусть ждет! От долгого ожидания уважение к хану возрастает, уверенность в себе убывает, испаряется!
Хан вызвал к себе одного из придворных. Что хочет передать мне этот каракалпак?
— Он прибыл по поручению своего хана Зарлыка! С его посланием. В нем есть вроде бы слова, что они-де желают высказать вашему величеству свое уважение давнего соседа, хотят предложить, чтобы в Хорезме два хана. жили в дружбе, как близнецы!.. О себе же посол сказал, что учился вместе с вами в медресе! И что он безгранично счастлив, что на хивинском престоле теперь находитесь вы, наш великий хан!
— Прикажи страже, чтобы его бросили в одиночную камеру. Пусть всыпят ему как следует! Только аккуратненько, без следов! Оставить его без ужина и завтрака, утром привести ко мне!
Сеидмухамед вспоминал, но никак не мог вспомнить, что же это за черношапочник, который обучался с ним в медресе? Он приказал доставить к нему муллу, который с незапамятных времен обретался в медресе и помнил всех, кто там когда-то учился…
На следующее утро Ерназар-младший предстал перед ханом. По мере того как Сеидмухамед оглядывал младшего Ерназара с ног до головы и с головы до ног, лицо его постепенно прояснялось, светлело, вот совсем просияло… Хан даже сошел с трона и двинулся навстречу Ерназару-младшему.
— А я-то посчитал, что явился Ерназар Алакоз, а это же ты — наш Ерназар-кенегес! Каким ветром тебя принесло ко мне? Долгонько же собирался навестить старого друга! Катился-катился, словно перекати-поле, и вот наконец ты здесь!
Младший Ерназар, приготовивший гневную речь по поводу жестокого с собой обращения, о ней забыл.
— Сколько же лет прошло с той поры, как мы вместе с тобой постигали науки, а, мой кенегес? Ты изменился, очень возмужал! Очень! В юношеские годы был ты щенком, задиристым и драчливым, а теперь? Теперь — палван!
По знаку хана в дверях показался слуга с полным лакомств и яств дастарханом, с большим серебряным чайником.
— Лицо человека — зеркало его души! По-моему, ты голоден, а? Не стесняйся! Ты всю ночь был в пути и тебе недосуг было поужинать? Или ты убежал от Ала-коза, от этого злодея? Я бы этому не удивился: говорят, он жесток и беспощаден, а?
Ерназару-младшему никогда еще не доводилось слышать, чтобы хан кого-либо удостаивал угощением в своей приемной, и он не без тщеславия подумал, что так, наверно, принято встречать послов. Вот и его…
— Великий хан Хивы, я прибыл в качестве посла от моего хана.
— Ха-ха-ха! — раскатистый смех Сеидмухамеда покатился-разнесся как гром.
Хан налил себе чаю из серебряного чайника изящной тонкой работы, сделал большой глоток. Ерназар-младший последовал его примеру и тоже налил себе чаю, тут же потянулся за испеченной на масле лепешкой из слоеного теста.
Хан не отрывал от него взгляда.
— Ераназар-кенегес, мы с вами, каракалпаками, жили как два сына одного отца!.. Когда мы росли-подрастали, Амударья служила нам позвоночником. Была нам мягкой подушкой, когда мы спали. Была нашей родной матерью, когда мы хотели утолить жажду! Но среди нас, сдается мне, затесался сам дьявол! Сам сатана проник к нам! — Хан с нарастающим отвращением и брезгливостью наблюдал, как жадно глотает куски младший Ерназар. — Если ты уже насытился, может быть, объяснишь, зачем пожаловал?
Ерназар вытащил из-за пазухи свиток-грамоту и с поклоном протянул хану:
— Послание от нашего великого хана! Сеидмухамед развернул бумагу, скользнул по ней
взглядом и тут же разорвал на мелкие клочья. Он встал из-за дастархана, подошел к трону, помедлил недолго, потом сел.
— Запомни, кенегес: тысяча лисиц не в силах ничего сделать, навредить одному льву! — сбросил с себя маску притворства хан.
Сохраняя внешнее спокойствие и уверенность, Ерназар-младший проговорил с достоинством:
— Великий хан Хивы! Новое Каракалпакское ханство родилось по божьему благословению. По велению времени. По воле нашего народа, пролившего немало слез на пути к независимости и самостоятельности. Я прибыл в Хиву, чтобы мы решили вместе с вами важные дела — как нам жить в мире и согласии, в добрососедстве и взаимоуважении… Ваши условия и соображения я изложу нашему хану. Он просил заверить — мы хотим мира!
— Ишь чего захотели — мира, согласия! Не будет этого! Не позволю, чтобы в стране, где обитает мирный народ, обитает в спокойствии, следуя первозданным законам порядка, хозяйничали, правили предатели! Их надо казнить! Алакоза надо обезглавить первым, вторым — тебя!.. Ты не посол хана — ты жалкая тень Алакоза! — метал громы и молнии хан. — Если не будет в живых Алакоза, — внезапно, совершенно спокойно и холодно произнес он, — не исключаю, ты опять станешь человеком! Может быть, тебя пощадить?.. Когда человек падает — исчезает и его тень, в тот же миг исчезает!
— Великий хан, вы ошибаетесь! Я не тень Алакоза, я просто его младший друг.
— Дружба эта — что шов, соединяющий две разные ткани. Его легко обнаружить и легко распороть! Не больно-то заносись, кенегес! Божье благословение!.. Потребность времени!.. Слезы народа! От всего этого не рождаются ханства! Каракалпаки — что табун лошадей, выросших в бескрайней степи, а твой Алакоз загоняет их силой, нагайкой в загон, сломают его загородки и вырвутся на волю, разбредутся кто куда! И ты обязан это понимать, если у тебя, разумеется, голова на плечах, а не пустой горшок!
— Мы дали клятву, великий хан Хивы! Мы приняли «Клятву шестидесяти биев»!
— Когда твои бии получали бийство, они давали клятву Хиве! Это была первая их клятва! — Хан сверлил младшего Ерназара гневным, тяжелым взглядом. — «Клятва», под которой вы подписались, давным-давно сожжена, от нее даже пепла не осталось! Глупый кенегес! Я тебе друг, поэтому трачу на тебя и свое время, и свои слова! Я не теряю надежду, что ты снова вступишь на правильный путь! — Хан сошел с трона и, взбудораженный, зашагал по приемной. — Ты веришь и служишь преданно Алакозу, а кто он такой? Изменник, человек, одержимый жаждой власти, честолюбием!.. Мы с вами, как близнецы, кормимся грудью одной матери — Амударьи, а он продается казахам! Поднимает на трон какого-то Зарлыка! И этого ему мало — он собирается и дальше торговать своей родиной! Повыгоднее запродать ее русским! Чем быть тенью этакого честолюбца, лучше быть обыкновенным конюхом у любого бая!.. Поразмысли, обмозгуй, взвесь то, что я тебе сказал!.. — опять обрушился хан на Ерназара-младшего. — У стариков есть мудрость — по кривой дорожке прямо не пройдешь! Если ты способен еще мыслить и понимать, учти: Каракалпакское ханство — это дорожка, похожая на извилистый змеиный след.
— Однако, великий хан!.. — попытался вставить слово Ерназар-младший.
— Глупец, какой глупец!.. Дорога Хивинского ханства — проторенная веками, широкая и просторная, по ней можно идти прямо! А ну, взгляни направо! — неожиданно прорычал Сеидмухамед.
Открылась дверь, и Ерназар-младший увидел двух палачей с саблями наголо. Его будто ледяной водой окатили.
— А теперь — налево, — скомандовал хан. Бесшумно распахнулись двери — за ними стояли
палачи, одетые в черное, в руках они держали веревки с петлями на концах. Ераназар-младший содрогнулся.
— Каракалпаки говорят: пока твои сверстники не будут счастливы, и на твоем лице не появится улыбка! Мы же с тобой сверстники!.. Говори, о чем думаешь? Уразумел ли хоть что-нибудь?
— Если, если… — Ерназара-младшего начала бить нервная дрожь. — Если вы помилуете меня, я сяду на коня, которого вы мне дадите, возьму плеть, которую вы мне протянете…
— Не лжешь?
У нас говорят: судья приглашает свидетелей, потому что сам не может убедить другую сторону. Что я должен сделать, чтобы вы поверили?
— Хе-хе-хе! Ты выиграл, кенегес! — Хан задумался. — Я собирался издать фирман о новой должности, должности аталыка. Сам знаешь — это высокая должность, она дает власть над всеми биями! Пусть у каракалпаков будет свой аталык — свой глава отцов народа! Не исключаю, что первым аталыком станешь ты!.. Непосредственным твоим начальником будет главный визирь! Ты сейчас к нему прямо и отправляйся! — Хан отвернулся.
Ерназара-младшего, всего в холодной испарине страха и слабости, подхватили под мышки дюжие стражники, потащили и куда-то втолкнули. Младший Ерназар чуть не налетел на Азберген-бия. Перед бием стояло большое блюдо с мясом, и он уплетал его за обе щеки. Азберген-бий не пригласил Ерназара-младшего к дастархану, лишь погладил усы и пророкотал насмешливо:
— Ерназар-кенегес, что-то глазоньки ваши затуманились? Или, может, покрылись жиром удачи? — Аз-берген вцепился руками в огромную кость и принялся грызть ее. Ерназар отвернулся, сглотнул слюну. — Русские господа куда как ниже мусульманских, хуже! Алакоз и Зарлык вас обманывают! Обводят вокруг пальца, как младенцев несмышленых! Сказки всякие плетут о России.
— Чтобы обманывать, плести сказки, надо знать, чего городить! Они же ни разу не были в русском царстве, так что…
— Э-э! Глупцы привыкли верить, хе-хе, ушам, а не глазам! Им чего ни нагороди, все примут на веру!
— Нет, наш народ верит своим предкам!
— Разве среди предков мало было дураков! Ерназар-младший решил не продолжать дальше спор с этим грубияном.
…К главному визирю Ерназара-младшего вызвали после полудня.
Наш великий хан следует золотому правилу: старый друг лучше новых двух! — этими словами встретил его главный визирь. — Он высоко о вас отзывался, милостиво заявил даже, что между вами есть сходство не только в летах, но и в натуре: сначала вы оба горячитесь, а поостынув, принимаете разумные решения… Поздравляю вас с умным, дальновидным шагом!.. — Главный визирь выдержал выразительную паузу. — Итак, жду от вас советов!
Ерназар-младший произнес скромно и сдержанно:
— Великий хан предупреждал меня, чтобы я вас слушался во всем, исполнял задания, исходящие от вашей милости.
— Ну что ж, коли так — слушайте и слушайтесь, — тонко усмехнулся главный визирь. — У нас к вам будет только одно задание… Уничтожить Ерназар Алакоза! Обезглавить его!..
Главный визирь молча поманил за собой Ерназара-младшего. Он привел его к дому, который прятался в обширном тенистом саду. Они вошли в дом. Главный визирь шел первый и открывал одну дверь за другой, словно демонстрируя младшему Ерназару убранство комнат. Они были застланы богатыми коврами — такими красивыми, что на них жаль было ступить ногой.
— Здесь вы найдете вашего стремянного и еще одного знакомого вам человека! — Главный визирь остановился у двери, резко толкнул ее.
Здесь сидели, расположившись удобно на почетном месте, стремянный Ерназар-младшего и Саипназар. Они с удовольствием попивали чай.
— И вы здесь? — опешил младший Ерназар.
— Чему удивляешься! — с вызовом сказал Саипназар. — Слова Азбергена хоть кого заставят призадуматься! Уж он-то на себе испытал жестокость русских!..
— Ну и оправданье отыскали вы для себя! — поморщился Ерназар-младший.
Главный визирь предупредил:
— Саипназар-бий прибыл на рассвете, пусть себе отдыхает! Не будем ему мешать!
— Разве он один был?
— Нет! Генжемурата ему удалось связать, благо тот не успел оправиться после ранения. Теперь этот упрямый осел в зиндане! Там быстро залечивают раны.
Ерназар-младший побледнел, пошатнулся.
— Да и вы, я вижу, тоже переутомились! — Главный визирь не скрывал насмешки. — С устатку очень хороша баня! Она вон за той дверью! После бани взгляните в комнату, где вы видели Саипназара, а потом вам предоставят отдельную спальню!
В жизни своей Ерназар-младший не видывал подобного рая, не испытывал подобного наслаждения! «Да, люди выходят из бани, — вздохнул он про себя, — не только смыв грязь с тела, но и очистив от скверны душу, обновленными, чистыми, настоящими мусульманами, сынами священной Хивы!»
Перед Саипназаром дымилось блюдо с пловом, источавшим соблазнительные ароматы.
Такого плова еще никто во всей Каракалпакии не едал! Ни один каракалпак не притрагивался к такому кушанью! Воистину это блюдо ханов и царей! — Приговаривая, Саипназар разделывал жадными руками мясо фазана. — Ерназар, нам с вами улыбнулось счастье!.. Даже за пловом довелось встретиться, вкуснее которого в жизни своей я не пробовал!
— Где Генжемурат? — коротко и повелительно спросил Ерназар-младший.
— Я был уверен, что ты поступишь точно так же, как я… И Генжемурату я пробовал внушить, да он твердил, дурень этакий, одно и то же: «Оба Ерназара люди стойкие и непоколебимые!» Ох и измучился же я с ним! Еле-еле удалось связать да сюда приволочь! — Саипназар, сопя и чавкая, съел пару горстей плова. — Мы — подумать только! — уже и забывать начали, к какому роду принадлежит каждый из нас! Мы потеряли право передавать бийство нашим сыновьям по наследству!.. Да ты ешь, ешь!
— Ешьте сами…
— Зарлык-хан… какая за ним сила? Ответь-ка мне! Никакой! Служить надо сильным! Мы-то уж это должны понимать. А как те послы, интересно, которые отправились к русским и казахам? — по простоте душевной спросил Ерназаров аткосшы.
В блюдо с пловом словно молния угодила: Ерназара-младшего всего перевернуло, а Саипназар замер с открытым ртом, набитым пловом, не смея проглотить его. Слуга понял свою промашку; лицо его приобрело цвет старого, застиранного одеяла. К счастью, открылась дверь и в комнату вошли военачальник и два нукера.
— Ерназар-кенегес, вы, очевидно, не знаете меня. Я Махмуднияз. — Военачальник подчеркнуто обращался лишь к Ерназару-младшему, будто никого другого больше здесь и не было. — Следующей ночью мы ударим по Ходжейли, по этому собачьему логову — вашему ханству!
Ерназар-младший, сжав кулаки, потупился.
— Ха, кенегес, вам предстоит еще и не такое испытать. Не такое хлебнуть! Счастье легким не бывает! Кто легко его получает да еще при этом нос задирает — быстро его лишается!
— Махмуднияз, проходите, присаживайтесь! — вмешался Саипназар. — Отведайте с нами плова!
После еды Махмуднияз тщательно вымыл руки и опять обратился к Ерназару-младшему:
— Я только что виделся с Каракум-ишаном. С ним был человек по имени Мухамедкарим.
— Мухамедкарим? — вырвалось у Саипназара. — Он же вместе с Жангазы-туре поехал к казахскому хану.
— А приехал к нам! — резко оборвал его Махмуднияз. — Он пристрелил Жангазы-туре, тот был давним врагом Хивы, это всем известно!
— А где сейчас Мухамедкарим? — осведомился осторожно Саипназар.
— Вы что, не верите мне, сомневаетесь? — неожиданно рассердившись, набросился на него Махмуднияз. — Он вместе с Каракум-ишаном у главного визиря.
На Ерназара-младшего навалилась жуткая тяжесть: она, казалось, сейчас вдавит его в землю. Навсегда, навсегда!..
— Я готов, конечно, повести вас на Ходжейли! Но, по-моему, будет полезнее, коли я отправлюсь раньше и уговорю своих джигитов перейти на сторону Хивы, — донеслось до Ерназара-младшего.
Это говорил Саипназар.
— Можно ли тебе доверять — вот что меня смущает… — прямо в глаза ему выпалил Махмуднияз.
— Разве вы не слышали, что вместо Бухары я прибыл в Хиву? — с укоризной произнес Саипназар. — Да и шрамы на моей спине… они от плети Алакоза остались! Навсегда остались — навсегда запомнились!
— Ну а вы, Ерназар-кенегес, что вы скажете? — Ерназар-младший молчал, будто ему язык отрезали. — Вы не верите, что ваш Мухамедкарим тоже здесь, у нас?..
Он собирается нынче же ночью выступить против туркмен. Они восстали в Куня-Ургенче. Впрочем, вы с ним свидитесь! Обязательно свидитесь! — военачальник повернулся к Саипназару:- Решено! Готовьтесь!
— Немного бы вздремнуть!
— Это пожалуйста! Силы вам понадобятся! Вам, кенегес, — тоже!
17
Бывает у человека день, в котором, кажется, слилась вся прожитая им жизнь. День — как целая жизнь. И придает он человеку силы необыкновенные. После такого дня радость гонит от него сон, не дает сомкнуть глаза, а на другое утро он бодр и весел, будто заново родился!
Для Ерназар Алакоза таким стал день, когда Зарлык-хан был возведен на престол, а глашатаи отправились во все концы страны возвестить, что образовалось новое Каракалпакское ханство…
Счастливый Ерназар поспешил ночью к Гулзибе и пробыл с нею до утра.
Поутру он явился к Зарлык-хану.
— Ерназар-бий, сегодня ты какой-то особенный! Весь сияешь! — заметил ему Зарлык.
Спасибо на добром слове, мой милосердный хан! Мне кажется, что весь мир преобразился! Наконец-то солнце заглянуло к нам, каракалпакам, согрело нас! Я счастлив!
— Я тебя понимаю, брат мой, и разделяю твою радость. Но, может, у тебя есть и свое солнце, а? — лукаво подмигнул Зарлык-хан. — Не взять ли тебе вторую жену! Гулзиба достойна этого!
— Нет, наш хан! Это невозможно! Я дал обет матери. Обет не заводить другую жену. А Гулзиба — она для меня самое прекрасное солнце в жизни! Самое дорогое и прекрасное!
— Хорошо, хорошо, Ерназар-бий!.. — Хан переменил тему. — Не следует ли поторопиться в Куня-Ургенч?
— Мой уважаемый хан! Куня-Ургенч — это что, наша помощь друзьям или же…
— Дружеская помощь, и только! Зачем нам воевать с Хивой?
— Но не следует ли дождаться возвращения из Хивы посольства Ерназара-младшего?
— Хорошо, подождем!.. Знаешь, Ерназар, по-моему, беда наших великих предков заключалась в том, что они не до конца понимали устремления и желания народа, а народ не понимал их! Они любили народ, но не понимали!
— Любить свой народ и понимать свой народ, я думаю, — это не одно и то же! Самое главное — слить воедино любовь и понимание! — Под густыми черными усами Ерназара блеснула белозубая улыбка.
Слуги внесли в шатер лепешки, два чайника с чаем, расстелили дастархан.
— Ерназар-бий, у нас впереди целое море дел — больших и малых. Вот о чем я думаю: мы не должны уподобляться кукушке, которая не имеет своего гнезда. Нам нужно гнездо — большой город, о котором потомки наши говорили бы: «Этот город был заложен во время первого каракалпакского хана!»
— Необходимо прежде всего выбрать для нашего гнезда подходящее место! Но где?
— На водном пути, обязательно близ водного пути! На берегу Амударьи есть аул Нукус. Один берег связывает Нукус с Ходжейли, другой — с Хивой! Водный путь очень удобен.
— Когда-то Грушин мечтал построить новый прекрасный город из мрамора! Он нашел мрамор в Каратау.
— Как же эти глыбы доставить в Нукус? Может, город построить прямо у подножия Каратау?
Ерназар, а как же быть с водой? Как снабжать город водой?
— Если русские примут нас под свое крыло, то их ученые помогут нам! Придумают что-нибудь! Изобрели же они паровоз и пароход! Ну, а в крайнем случае будем качать воду чигирями!
Зарлык опустил в раздумье голову и, не найдя ответа на предложение Ерназара, направил разговор в другое русло:
— Эх, Ерназар! Поверь мне, я душой болею за твоего сына, беспокоюсь о его судьбе. Думаешь, я не понимаю твоих страданий? Я специально поручил Ерназару-младшему разузнать о Хожеке и уговорить хана отпустить его.
Много соколов полегло в бою с хивинцами, много жизней положили и стар и млад для победы!.. Ерназар глубоко в сердце запрятал свое горе — он боялся своими слезами и скорбью умалить, оскорбить горе других отцов и матерей… Ерназар горестно молчал, постаревший, несчастный.
Снаружи раздался сварливый женский голос. Зарлык и Ерназар с чувством облегчения взглянули на дверь. Бедно одетые старик и старуха умоляли стражу пропустить их к хану.
— Уважаемые, что вас привело сюда? — спросил Алакоз.
— Нам нужен Ерназар Алакоз или же Зарлык-хан!
— Ерназар Алакоз — это я!
— Чтоб тебе провалиться сквозь землю! — выкрикнула старуха.
Старик потянул ее назад за подол ветхого изношенного платья, сам просеменил к Ерназару и тихонько зашептал:
— Имею жалобу, сынок!
Ерназар ввел обоих в шатер.
— Наша беда, наша жалоба ох тяжела, ах тяжела, сынок! — запричитал старик. — Наши сын и невестка умерли, оставили нам внучку.
— Что ты тянешь, ты суть, суть излагай! — напустилась на него старуха.
— Потерпи, жена, потерпи! Нашей внучке исполнилось недавно шестнадцать лет. Мы позаботились, подобрали ей жениха, он тоже сирота, не сегодня завтра должна была состояться свадьба, так… небольшой свадебный той — скромный, конечно, люди мы бедные, но все-таки… внучка-то у нас одна, любимая… — Старик горько заплакал. — На нашу беду и позор, к нам в дом ворвались два ваших сокола и… и… нашу внучку… — Старик громко зарыдал.
— Хан, каково будет ваше решение? — строго спросил Алакоз.
Зарлыка резануло это сухое, даже непочтительное «хан»! Но он решил обуздать свое самолюбие: перед ним было настоящее человеческое горе.
— Прикажи немедленно, чтобы соорудили виселицу! Повесить этих мерзавцев!
Алакоз узнал у стариков, где находится их дом, и направил туда пятерых всадников.
— Дорогой, только, ради всего святого, не объявляйте людям, за что их!.. — слезно умолял Алакоза старик. — Пусть никто ничего… У внучки нашей жених…
К виселице пригнали двух соколов; они, не подозревая, какая кара ждет их, еще улыбались, шушукались, полные воспоминаний… Один из них даже пожаловался Алакозу:
— Ерназар-ага, эти пятеро завистников оторвали нас от сладкого плода!
Другой захихикал похотливо и добавил:
— Мы нашли свеженькую красавицу. Сопротивлялась она, как те хивинцы, да разве устоит перед нами женщина!
Ерназар гневно ткнул пальцем в сторону виселицы:
— Вот вам за победу над женщиной!
— Почему? — Только сейчас расчухали они, что их ждет. — Сколько трудностей и тягот мы терпим-выносим, себя не щадим! И за какую-то девчонку смерть принимать! — вопили они в два голоса.
К Ерназару откуда-то как стрела подлетела Гулзиба.
— Ерназар, освободи джигитов! — потребовала она властно.
— Не вмешивайся! — отрезал он.
— Спаси нас, спаси нас, тетенька! — совсем распустили нюни парни.
Гулзиба вцепилась в одежду Ерназара и пробовала оттащить его в сторону. Ерназар резко оттолкнул ее от себя.
— Ерназар, остановись! — взывала к нему Гулзиба. — Не делай этого!
— В каждой стране — один хан, поэтому приговор хана нельзя отменять! — скрипнул зубами Алакоз.
— Ерназар, если победители не будут вольны в своих поступках после сражений, не бывать победам! Освободи их! — кричала Гулзиба.
Ерназар грозно произнес:
Так будет наказан каждый, кто посягнет на честь девушки!
Зарлык отступил назад, скрылся в шатре. Рыдая, бросилась Гулзиба в ноги Алакозу:
— Ты совершаешь ошибку, Ерназа-а-ар! Ерназар не удостоил ее взглядом. Он весь подался
вперед, навстречу сотнику Бекжану. Тот сломя голову несся спасать своих соколов. Бекжан изрыгал угрозы и ругательства. Ерназар приказал стражникам хана схватить сотника и подозвал к себе Адил-бия.
— Раздеть сотника Бекжана догола! Пусть его жрут комары! Ты будешь охранять его!
Весть о казни воинов-насильников понеслась по городу, как огонь, попавший на хлопок.
Со всех сторон к ханскому шатру потянулись горожане. У каждого была обида и жалоба на каракалпакских соколов…
* * *
Саипназар пробрался в город ночью тайком, словно гиена. Он услышал разговоры о том, как круто обошелся Алакоз с соколами и сотником Бекжаном. Первым делом Саипназар решил разыскать сотника. Он прокрался к Бекжану, распухшему от комариных укусов, и тихонько спросил, где Зарлык и Ерназар.
— Чтоб их обоих земля поглотила! — взвизгнул Бекжан.,
То, что Саипназар искал на небе, валялось прямо под ногами… Чтобы запугать Бекжана и переманить его на свою сторону, он рассказал об измене младшего Ерназара и о готовящемся сегодняшней ночью ударе по городу.
г Брось, враки все это! Ты лучше расскажи, какие новости везешь из Бухары?
— Клянусь тебе чем хочешь! Вот хлебом тебе клянусь! — Саипназар поспешно достал лепешку и приложил ее ко лбу.
— А клятва? Как же та клятва? А яблоко, которое Ерназар разделил между всеми биями?
— Он принудил нас, заставил дать клятву, вырвал ее угрозами!
— Ах ты падаль, ах ты изменник! — разъярился Бекжан. — Эй, Адил! Проснись, Адил, измена!
Саипназар ударил Бекжана ножом прямо в сердце, трепещущее гневом сердце. Бекжан скончался мгновенно. На шум вышел заспанный Адил. Саипназар налетел на него сзади, заломил ему руки, поднес нож к глазам. Быстро, захлебываясь, повторил он Адилу свой рассказ. Видя безвыходность положения, Адил-бий начал лихорадочно соображать: «Многие соколы злы на Алакоза… Не сегодня завтра начнутся разногласия между Зарлыком и Ерназаром… Лучше быть подальше от огня, который вот-вот вспыхнет…»
— Отвечай, отвечай скорей! — тряс его Саипназар.
— Когда нападут нукеры?
— Скоро! Совсем скоро! Они на подходе!
— Что я должен делать?
Поджечь по сигналу шатер Зарлык-хана!..
* * *
Зарлык и Ерназар до глубокой ночи принимали горожан, пострадавших от соколов. Не всегда они приходили к согласию, определяя степень вины и меру наказания соколам, по-разному расценивали они тот или иной поступок. Но не это печалило их, не это беспокоило. Соколы грабили, насиловали, бесчинствовали — вот что было самым большим злом. Вот что заставляло их сообща решать, как же быть, как же действовать дальше, чтобы свой не грабил, не обижал своего. Чтобы воин был защитником народа и в битвах, и в мирные дни…
Заснули оба крепко за полночь и не сразу смогли очнуться от шума, выстрелов, ржания лошадей. И лишь истошный крик: «Враг, враг! Неприятель!»-окончательно пробудил Зарлыка и Ерназара… Оба вскочили на коней и бросились на крики и шум. Ночь была темная, непроглядная, сразу нельзя было разобраться, где свои, где враг. Кругом рубились, вопили, ругались, кругом раздавался звон металла и человеческие стоны. Алакоз оказался в гуще сражения, соколы увидели его и воспряли духом. Ерназар поддерживал их возгласами одобрения и своей неутомимой саблей, которая сверкала тут и там… Конь под Ерназаром был умнее и опытнее, чем иной неумелый воин, он носился змеиным ходом: бросался в нужный момент то вправо, то влево… Ряды врагов начали редеть, дрогнули, отступили.
— Ерназар-ага, Ерназар-ага! — настойчиво звал чей-то голос. — Вчера поздно вечером… я видел… Саипназа-ра… Это, наверно, его рук дело, — воин хрипел, задыхался.
Рядом с Ерназаром как призрак возник Шонкы.
— Ерназар-ага, Бекжана убили! Всадили в него нож! Адил-бий исчез!
Что-о-о? — завопил Ерназар и резко осадил коня. Сзади к нему подкрался нукер и взмахнул саблей, но Шонкы успел метнуть копье. Неприятель свалился с коня, так и не выпустив из руки саблю.
С подкреплением подоспел Зарлык-хан. Неприятель бежал. Алакоз пустился в преследование, но его остановили крики: «Пожар! Пожар! Ханский шатер горит!..»
Когда Ерназар вместе с джигитами подскакал к шатру, шатер уже догорал; дымились и тлели ковры и кошмы; Гулзиба и несколько воинов носились с ведрами, пытаясь спасти хоть что-нибудь.
В суматохе не заметили, как наступил рассвет. Тут и там лежали убитые и раненые. Алакоз приказал убитых похоронить, раненым оказать помощь, а военачальникам как можно быстрее собраться на совет. Многих военачальников недоставало, а те, что прибыли, не порадовали Алакоза: потери, сообщили они, большие.
Артык привел с собой раненого хивинца. Алакоз стал его допрашивать. Пленный сообщил об измене Саипназара и Ерназара-младшего.
— Проклятые псы! — Голос у Зарлыка срывался, губы тряслись. — Изменники! Предатели! Позор им! Погибель!
Военачальники и бии почернели как тучи. В грозном безмолвии ожидали они приказов хана и Ерназара.
Алакоз был страшен; он метался, словно раненый зверь. Ярость его была безгранична, отчаяние безмерно.
— О-о-о, безумный, непонятный мир! Непонятные люди! Как вас распознать?! Как проникнуть в ваши мысли?! — Ерназар бродил среди людей, как сумасшедший, и заглядывал по очереди им в глаза. — Кто еще таит в душе измену?
Ответом ему была мертвая тишина.
— Отвечайте, отвечайте прямо! Уходите, разбегайтесь по домам, но честно, открыто! Не предавайте! Сознайтесь лучше в трусости, что боитесь… только, только не надо измены! Для чести страны ничего нет страшнее измены! Изменить своему народу равносильно тому, что надругаться над собственной матерью! — Ерназар, рыдая, выкрикивал эти слова, они рвали ему сердце. Вот-вот, казалось ему, оно не выдержит, разорвется, перестанет стучать… — Наш великий хан! — остановился Ерназар перед Зарлыком. — Сердца подсказывает мне беду, предчувствует недоброе… Предатели могут повести хивинское войско в наши степи, напасть на наши аулы! Чует, чует мое сердце беду!
— Такого поворота событий ожидать можно, согласен! Однако мы и сами готовились к столкновению с Хивой. — Зарлык-хан хотел утешить, успокоить, привести в чувство Ерназара. — Надо оповестить всех, собрать воинов!
— Наш уважаемый хан! — продолжал Алакоз. — Надо послать в аулы гонцов. Пусть те, кто с нами… кто готов помочь нам… кто верен… пусть спешат на берег Казахдарьи. Будем строить там крепость!..
— Гонцы, в путь!..
Затих перестук копыт, и Ерназар как будто немного успокоился.
— Дорогие мои! — Его лицо исказилось от боли и гнева. — Кто из вас схватит и доставит клятвопреступника и предателя Ерназара-кенегеса? — Ерназар невольно присовокупил к имени человека название его рода, никто на это не обратил внимания.
Никто не выступил вперед, не вызвался: «Я!»
— Дорогие мои! — Сколько может выразить голос человека! В голосе Ерназара были и тревога, и ярость, и растерянность, и слабость. — Только человек с черным сердцем способен нарушить клятву. Окажись кенегес у меня в руках, я не стал бы убивать его сразу! Я придумал бы для него самую лютую смерть, ибо предатель заслуживает лютой смерти. Он опозорил наш народ! Он навлек на него горе и несчастье! — Вдруг Ерназара осенило: напрасно он взывает открыто к людям, напрасно ищет сейчас добровольца, который бы схватил изменника. Нет, нет! Это надо сделать иначе! Имя человека, который должен будет взять на себя эту миссию, должно храниться в строжайшей тайне. — Не горюйте, не унывайте, други мои, соратники! Если одна дверь заперта, то тысячи других открыты! В народе объявился один предатель, а тех, кто любит свой народ и кто любим народом, — тысячи! И среди них — вы! Мы будем стоять до конца ради нашей свободы! Скоро вернутся другие наши послы, нам надо продержаться! Продержаться, выстоять до их возвращения! — Ерназар заметил, что лица людей посветлели, озарились надеждой…
Когда Алакоз остался один, к нему подкрался Шонкы:
— Ерназар-ага, кенегеса словлю и приведу к вам я!
— Что это ты надумал? — недоверчиво повел бровью Ерназар.
— Хочу прославить род колдаулы, постараться ради памяти нашего знаменитого предка деда Аидоса и ради вас, Ерназар-ага!
— Эх, Шонкы! Сейчас нанесена рана всему народу!
— Ерназар-ага, любой поступок — и добрый, и дурной — народ связывает с чьим-то именем, с каким-то человеком. А ведь человек всегда принадлежит к какому-нибудь роду, ведь так?
Ты по-своему прав, Шонкы! Кого же ты собираешься взять себе в помощники?
— Лучше всего на такое дело мне отправиться одному!
— Человек с подлыми намерениями оставляет ядовитый след, поэтому будь начеку, будь осторожен с ке-негесом! Однако смотри не оскверни родину своим ядом и ты!..
— Недоверие оскорбляет человека! — Шонкы возмутился до глубины души.
— Доверчивость нам дорого обошлась!.. — Ерназар снова помрачнел. — Я верю тебе! Верю, что ты словишь и приведешь предателя на суд народный! Если ты настоящий колдаулы, — неожиданно улыбнулся Ерназар, — то гляди не опозорься!
— Да я, коли вы велите: «Умри за честь рода колдаулы!»- я… я готов умереть! — горячо заверил Ерназара Шонкы.
— Отправляйся! Пусть удача сопутствует тебе, Шонкы! Буду ждать тебя! Обязательно с кенегесом — поперек седла.
Ерназар простился с Шонкы и пошел к Зарлыку. Он рассказал ему обо всем и спросил:
— Уж и не знаю, правильно ли я поступил? Не зря ли поверил Шонкы?
— Если схватит и доставит сюда негодяя, то — правильно! — ответил Зарлык-хан. — А что поверил — хорошо!
* * *
Раненых погрузили на телеги, быстро свернули лагерь и направились к Амударье, чтобы переправиться к месту, где решили строить укрепления. Вдали поднялось и росло облако пыли. Ерназар решил задержаться и прикрыть тех, кто должен был уйти в глубь степи. Но пыль подняли не враги, а друзья. Это были люди Абдурахмана. За ними следом мчались казахские сарбазы и туркменские джигиты. Все они были усталые, пропыленные насквозь.
— Ерназар, нас предали! — издалека кричал Абдурахман. — Предали!
Как? Кто?
В Куня-Ургенч прибыл Каракум-ишан с целой свитой. Он вызвал к себе, будто для переговоров, Анна-мурата… Они убили его! Убили! Ишан переманил на свою сторону многих старейшин… и когда мы попытались вмешаться, напасть…
— Ну, ну!.. Скорее говори!
Наши старейшины выставили впереди против нас стену из женщин и детей! Прикрылись ими! Мы оказались хоть и с оружием в руках, да безоружными…
18
Подобно тому как голодный человек исступленно думает о пище, которая насытила бы его, так Махмуднияз только и думал о том, чтобы стать главным военачальником Хивинского ханства. После боя в Ходжейли его мечты, кажется, начали обретать плоть…
Махмуднияза вызвал к себе хан:
Теперь наиглавнейшая твоя задача — поймать и обезглавить Алакоза, усмирить взбунтовавшихся черношапочников. Выполнишь — сделаем тебя главным военачальником нашего великого и непобедимого ханства.
Махмуднияз вышел от хана, не чуя под собой ног от радости. Главный визирь самолично повел его в хранилище, где лежали-содержались ханские богатства и сокровища. Он выдал Махмудниязу три дорогих шелковых халата.
— Эти халаты, Махмуднияз, ты подаришь тому из каракалпаков, кто окажет тебе помощь и поддержку.
Махмуднияз никогда не удостаивался подобной чести — получать из ханской казны такие роскошные вещи! Да еще для того, чтобы собственноручно, по своему усмотрению, накинуть их кому-то на плечи. Он всегда полагал, что казной могут распоряжаться лишь два человека — сам хан и главный визирь.
— Может быть, вы сами подарите их достойным?
— Нет, нет. Только ты, — главный визирь хлопнул его по плечу и опять повел его за собой — на этот раз к дому, где хивинцы расположили и других перебежчиков.
Завидя главного визиря и Махмуднияза, Ерназар-младший вскочил и согнулся, как тетива лука, в низком поклоне. Махмуднияз бросил ему на спину халаты.
— Это подарки хана и главного визиря! Распределите их по собственному усмотрению.
Ерназар-младший подхватил руками халаты. Тщательно осмотрев их — будто искал в них какие-то изъяны, — он бросил один халат Саипназару, другой Адил-бию, а третий протянул своему слуге: «Возьми, этот еще пригодится нам…» Саипназар и Адил рассыпались в подобострастных благодарностях главному визирю и Махмудниязу.
— У нас, Ерназар-младший, радостное известие, — осклабился главный визирь. — В Куня-Ургенче мятежники разгромлены! Аннамурат убит!
— Не может быть! — вырвалось против воли у Адила.
— Скоро вы будете иметь возможность приветствовать храбреца, который уничтожил этого туркменского шакала.
Ерназар-младший попытался отвлечь внимание главного визиря и военачальника от сородичей, которые слишком явно обнаруживали свой страх и волнение.
— Когда мы увидим Генжемурата? — спросил он первое, что пришло ему в голову.
— Скоро, очень скоро! — пообещал главный визирь. — Все свои просьбы и пожелания вы будете излагать впредь Махмудниязу, он — мне, а я, в свою очередь, — хану. Однако есть один вопрос… этот вопрос очень интересует нашего великого хана, поэтому ответ я хочу услышать сам… — Главный визирь помолчал, потом произнес внятно, со скрытой угрозой:- Что вас заставило перейти на нашу сторону?
Первым ответил Саипназар, хотя главный визирь рассчитывал, что вначале даст объяснение Ерназар-младший.
— В нашей стране испортилась погода, и испортил ее Алакоз. Как?.. Если мы оказывались внизу — нас затапливало водой, если мы находились наверху — нас пронизывал ветер. Поэтому я решил, решил добровольно, оставаться подданным хивинского хана. Я привык к хивинскому климату, он мне очень подходит.
— Голод и медведя заставит плясать да дуть в дудку! — сразу же пустился в объяснения и Адил. — Сам не успел заметить, когда и как, но в руках Алакоза я превратился в голодного медведя. Слава аллаху, вовремя опомнился! Вспомнил, хвала аллаху, пословицу: «Хоть тони в глубокой воде, да не переходи через мост, построенный глупцом!» Очухался я от воплей о «судьбе народа» и «Каракалпакском ханстве», смекнул, что оказался на мосту, возведенном безумцем Алакозом вместе с самозванцем Зарлыком… Не пожелал переходить по этому шаткому мосту, не пожелал! И вот я здесь!
— Из ружья всякий сумеет выстрелить, да не каждому суждено попасть в цель! — веско вымолвил Ерназар-младший. — Зарлык держит в руках ружье, да он не из тех, кто попадет в цель… Самые меткие стрелки, по-моему, находятся в Хиве… Не нужно нам двух ханств!..
Главный визирь пригласил всех в помещение по соседству. Там содержались соколы, вместе со своими би-ями перебежавшие на сторону неприятеля. Главный визирь и им тоже задал свой каверзный вопрос. Соколы потупились, засмущались, неловко переминались с ноги на ногу.
— Джигиты, главному визирю некогда, отвечайте быстрее! — прикрикнул на них Ерназар-младший. — Кто тут самый смелый, а?
Вперед выступил худой высокий джигит:
— Великий главный визирь, даже самому господу богу не под силу восстановить разрушенный дом с помощью лжи и обмана. Хана, которого обманом, запугав народ, возвели на престол, не удержит на нем сам господь бог. Мы поняли, что Зарлык-хан недостоин трона, поэтому и решили бежать в Хиву.
— Как тебя зовут?
— Расули!
— Ерназар-кенегес, потом приведете ко мне Расули! — распорядился Махмуднияз.
Младший Ерназар мигнул слуге, и тот сразу же протянул ему халат. Кенегес накинул его на плечи Расули.
В углу комнаты к стенке жался молодой сокол маленького росточка, но крепкого сложения. Главный визирь обратился к нему:
— Эй, коротышка, а что ты скажешь?
Того, кто проглотил кота, боится даже лев! — туманно ответил тот.
Главный визирь не стал ломать голову над этим ответом.
— Джигиты, надо придумать способ изловить Алакоза! — бросил он и спешно удалился вместе с Махмудниязом.
Едва за ними закрылась дверь, как на пороге выросли высокие плечистые стражники. Они быстро подошли к коротышке и, не говоря ни слова, выволокли его из комнаты.
Опять отворилась дверь.
— Кто желает свидеться с Генжемуратом? — спросил нукер.
Хотели все, но Ерназар-младший выделил двух би-ев — Саипназара, Адила и одного сокола — Расули.
Когда Генжемурат увидал в камере Саипназара, он подумал, что тот прибыл, чтобы освободить его. Бледное, изможденное лицо Генжемурата порозовело, карие глаза заблестели, губы раздвинулись в радостной улыбке.
— Генжемурат, ну как? Небось здесь-то ты понял, что Зарлык-хан — это луна, всего-навсего луна… Когда есть солнце, надобность в луне исчезает! — процедил сквозь зубы Саипназар.
Генжемурат повернулся к Саипназару спиной.
— Солнце — это великий хан Хивы, — устало пояснил Ерназар-младший. — Готовая конюшня в Хиве, сдается мне, предпочтительнее, чем дворец, который собирается возвести у нас предатель Алакоз.
— Вы что, все с ума посходили? — рванулся к Ерназару-младшему Генжемурат.
— Нет, мы в здравом уме! Два хана — это два волка! Зачем нам быть растерзанными ими с двух-то сторон, зачем? — пробовал втолковать ему Адил.
— Вы всерьез?.. Вы это все всерьез говорите?
— Человек, который сам лжет, — другим не верит! — с вызовом рявкнул Расули.
Генжемурат понял: перед ним — изменники, отступники. Глаза его готовы были пронзить, испепелить их на месте. Он нашел в себе силы сдержаться и произнести, не срываясь:
— Ерназар-кенегес, ты же посол от нашего родного ханства, нашего первого хана…
— Успокойся и не сердись на меня! — отозвался Ерназар-младший. — Я долго, очень долго прикидывал и так и эдак, и вот к чему я пришел: мы сильно рискуем! Мы повели наш несчастный, измученный народ потернистому, нехоженому пути! Путь этот опасен, чреват погибелью!
— Ерназар-кенегес! Не пытайся оправдывать свою измену! Как ты можешь — с твоим-то умом! — забывать: человек, посадивший пустую косточку в землю, будет потом жестоко раскаиваться!
— Это Алакоз сажает пустую косточку в почву, Алакоз! — взвизгнул Саипназар.
Адил пытался уговорить Генжемурата:
У тебя один-единственный сын, Генжемурат, один! Подумай о нем! Кто его воспитает без тебя, кто вырастит?
— Память обо мне! Память об отце, погибшем за правое дело, куда лучше для воспитания сына, чем живой отец, предавший отчизну! — строго пояснил Адилу Генжемурат. — А вас, предатели, проклянут все ваши родные, даже кровные ваши дети!
Ерназара-младшего начала бить нервная дрожь.
— Маленькая лампа, зажженная во тьме, может показаться солнцем… Пойми ты, Зарлык — это лампа, а вот Алакоз выдает нам его за солнце! Он всех обманывает, всех! Вот почему я так злюсь на тебя! Ты обманут, ты терпишь несчастья из-за Алакоза!
Генжемурат готов был вступить с ними врукопашную, но цепи держали его надежно. Свой гнев и презрение вложил он в слова:
— Предатели! Я бы плюнул вам в рожи ваши бесстыжие, да для вас это все одно что капля росы — так низко вы пали! Вы только утретесь… И все равно я плюю на вас! На ваши черные подлые морды! — Генжемурат плюнул.
Никто не ожидал, что Генжемурат осуществит свою угрозу; все стояли как оглушенные. Ерназару-младше-му показалось, что в глаза ему бросили горсть земли, он в стыде и в ужасе руками схватился за лицо, прикрыл его.
— Не хочу видеть ваши продажные рыла! Лучше зиндан, чем подлостью добытая свобода! Убирайтесь! Пошли прочь!
— Э-э-э, правду говорят, курица даже перед смертью не может оторвать глаз от дерьма! — съязвил Саипназар. — Наш Генжемурат похож на курицу!
Никто не поддержал Саипназара ни словом, ни взглядом. Ему стало неловко; больше всего он боялся, как бы Ерназар-младший не изменил свое решение, опять не прилепился душой к Алакозу.
— Ерназар, не кручинься, брат! — обратился к нему Саипназар, как только они выбрались из зиндана. — Рот — это тебе не мешок, его не завяжешь! Потом… слова человека, натерпевшегося в тюрьме, — стоит ли принимать их близко к сердцу?.. Ну, погорячился! Глядишь, и одумается! Избави нас бог вызвать гнев вон там! — он показал пальцем на ханский дворец. — Покарают! Расправятся так, что мокрого места не останется!
Бии и соколы загалдели, заговорили наперебой:
— Верно, верно!.. Это кара всего страшней!.. Не приведи аллах!..
— Что я могу с собой поделать? Иногда я, кажется, крепче камня, иногда — мягок и слаб, как цветок! Слова Генжемурата пронзили меня!
— Отец, он все от своих детей стерпит! — увещевал Саипназар. — Ты молодой, но для всех каракалпаков ты — отец! Да, да, ты наш отец!
Ты мой благожелатель, ты друг мне, потому и стараешься меня утешить! — сглотнул слезу Ерназар-младший.
Ты человек с чистым сердцем, да, да, с чистым сердцем! Поэтому народ наш тебя любит, весь наш народ! — Саипназар изо всех сил старался умаслить Ерназара-младшего на всякий случай…
— Это так, брат Ерназар! Он правду говорит! — произнес кто-то мягким, льстивым тоном. Их догнал Мухамедкарим.
— О-о-о! Это ты! — возликовал Саипназар. — Как ты оказался здесь? Откуда ты?.. Рассказывай!
— Что же тут рассказывать? Когда у тебя на всем белом свете есть один лишь старый дед, да и тот ревностный суфи и почитатель Каракум-ишана… Ишан наложил запрет на мою поездку с Жангазы-туре, заявил, что это дело, противное богу! И пригрозил, что мой дед никогда не попадет в рай, если я отправлюсь с посланием Зарлык-хана к казахам… Вот я здесь и оказался!
— А где Каракум-ишан? — полюбопытствовал тут же Саипназар.
— Отправился к сыну Алакоза.
— Нельзя ли и нам повидаться с Хожаназаром? — заволновался Расули.
— Нет! — отозвался Мухамедкарим. — Его от всех прячут! Ишан хочет склонить его к тому, чтобы он выступил против отца! Отрекся от него!
— Принял ли вас хан? — вполголоса осведомился Ерназар-младший у Мухамедкарима.
— Да!
— Ну и что он? В чем ядро его замыслов?
— Он сказал так: страна каракалпаков сейчас похожа на человека, который схватил простуду! Я заставлю ее проглотить еду, сдобренную горьким перцем, и она выздоровеет. Мне это не совсем понятно, по совести говоря, оттого и страшновато.
Около дома, где устроили перебежчиков, стоял взмыленный конь: похоже, он проделал длительный и тяжелый путь.
— Хе, да это конь Шонкы! — Расули признал коня. Мухамедкарим сразу взволновался.
— Может быть, его послал на разведку Алакоз? Узнать, пронюхать, как мы тут?..
Все почувствовали себя неуютно, неуверенно, лишь Ерназар-младший не потерял хладнокровия. Шонкы поджидал их у самого входа. Он приветствовал всех, согнувшись, как полегший от ветра тростник. Ерназар-младший молча прошел мимо него и приказал одному из соколов:
— Всыпьте этому пройдохе девять раз по девять плетей! На ночь оставьте его голенького, пусть комары его пощекочут!..
Шонкы рванулся было к Ерназару-младшему, но его схватили.
Утром, после намаза, Ерназар-младший вызвал к себе Шонкы.
— Говори! — только и вымолвил он. Искусанный комарами, измученный страхом, Шонкы горько зарыдал:
— Я приехал сюда в поисках правды! Я хотел сам, своими глазами увидеть, убедиться сам!.. А не по наущенью других!.. И что же получается…
— Каждый переход через узкий мостик имеет свои трудности, свои опа-а-асности, Шонкы-ы-ы! — с нарочитой кротостью протянул Ерназар-младший.
Неожиданная благожелательность и кротость кене-геса сбили Шонкы с толку — он ничего не понимал! Чтобы окончательно не запутаться, он сразу выпалил:
— Не для всех людей из рода колдаулы Алакоз — весна! Однако он выбрал меня из всех и послал сюда лазутчиком!
— Случается иногда: лазутчик и правду вроде открыл, и тайной своей поделился, а все равно остается лазутчиком, — вкрадчиво заметил Ерназар-младший. — Чем ты можешь доказать свою искренность?
— Поставь передо мной хлеб, я поклянусь!
— Не-е-ет! Ты ведь голоден сейчас. И чтобы досыта поесть, дашь любую клятву! Клятву верности мне и хивинскому хану!.. Вот тебе моя нога, поцелуй-ка лучше мою ступню!
Глаза у Шонкы чуть не вылезли из орбит. Однако он смирил свой гнев и отвращение. Осторожно приблизив лицо к ноге младшего Ерназара, он поцеловал, будто клюнул носом, его ступню. Это наполнило Ерназара-младшего злорадным торжеством, но длилось его торжество недолго: в дверях он заметил Саипназара. Кене-гее смутился, отослал Шонкы прочь.
«Эге-ге! — промелькнуло в голове Саипназара. — Когда-то этот молокосос по приказу Алакоза отсыпал мне плетей за то, что я сунул для приветствия своему батраку вместо руки ногу… А сегодня вон что он вытворяет! Аи да жук, аи да хитрец, аи да лицемер!» Однако в его замыслы не входило, чтобы Ерназар-младший распознавал его мысли или держал на него обиду.
— Ну и нахал, ну и трус этот Шонкы! Пятки готов лизать, лишь бы искупить все свои провинности! Как тебе, наверно, неприятно это, противно! Вот подлец! — заюлил Саипназар.
— Подлости, увы, не занимать любому человеку!.. Наш век так устроен, что врага легче всего одолеть подлостью. Когда тухлое протухнет еще больше, а в чистое добавить грязи, тогда и жди победы… Люди это поняли, потому-то подлость и процветает. Чистых да честных ныне не больно-то уважают и жалуют. А вот мерзостные и грязные — в почете!..
Спустя час Шонкы снова втолкнули в комнату, где находился Ерназар-младший. На этот раз Шонкы сиял: его накормили-напоили до отвала. Ерназар-младший тоже сиял словно вышедший из-за туч месяц. Он ласково пригласил Шонкы сесть возле него на мягкое одеяло.
— Ерназар, у меня есть мечта — лицезреть великого хана Хивы!
— Ох и плут же ты! И прощелыга же! — расхохотался Ерназар-младший. — Да и живучий ты, двужильный, братец ты мой! — Он не стал скрывать удивления: накануне избит, комарами искусан, только что был голоден как волк, а теперь вот — как с гуся вода. Вон о чем возмечтал — хана хивинского увидеть!
— Э-э-э, братец мой! Человек силен своей силой и слаб своей слабостью! Жить надо! Надо жить! — ответил Шонкы.
— Ну а коли хочешь жить, так пойдем потолкуем! Там, где нас никто не услышит.
Ерназар-младший и Шонкы оказались в саду. Кене-гее огляделся кругом.
— Я как облупленного знаю тебя, проклятущий Шонкы! — проговорил он тихо. — Ты раб своего рода колдаулы! Ты за него готов душу продать дьяволу! Не тешь себя надеждой, что обвел меня вокруг пальца!., Однако убить тебя так, сразу, было бы не по-мусульмански. Но предупреждаю: сегодня ночью мы отправим тебя в ад к дьяволу! Такого лазутчика, как ты, мало застрелить, зарубить или повесить! Я прикажу, чтобы тебя в землю живьем закопали! А теперь я, так уж и быть, разрешаю тебе проститься с твоими близкими, если таковые у тебя в Хиве имеются… В ханском зиндане, кстати, находится Генжемурат-муйтен. Когда будешь с ним прощаться — ты ведь захочешь с ним проститься! — можешь сказать ему, одному ему, истинную цель своего появления в Хиве! Ему доверить можно…
Шонкы похолодел. Он никак не мог уразуметь, чего хочет, чего добивается от него Ерназар-младший. То, что тайная цель у него есть, — это Шонкы чуял всем своим нутром.
— Оглянись вокруг! — продолжал между тем Ерназар-младший. — Видел ли ты или любой другой человек город великолепнее, чем Хива? Если каракалпаки все с себя снимут, продадут все до нитки, если они даже семьи свои заложат — им… никогда не удастся возвести такой город, как этот! Если кто-нибудь будет клясться, уверять меня, что у русских или инглисов — да у кого угодно в мире! — есть такой же город, как Хива, такое же великолепие, блеск, я любому отвечу: «Сказки это, бредни!»- Ерназар-младший говорил вновь:- Если ты желаешь, чтобы душа твоя обрела хоть капельку покоя на том свете, поторопись — простись со священной Хивой — центром всего мира! Это тебе моя милость! А будешь прощаться, прикинь слабым своим умишком: сколько в городе этом домов — тысячи! Сколько в нем людей! Сколько всяких богатств!.. Кто мы, каракалпаки, кто мы такие перед этим могуществом и силой?.. Мы живем в степи — пустой и голой! Где придется, маленькими кучками! Наши предки заслуживают наших проклятий: они только тем и занимались, что хапали, хватали огромные пространства земли. Вот уж поистине — руки загребущие, глаза завидущие! А ни одного, ни единого города не удосужились построить!
— Ох, Ерназар, не бери грех на душу, проклиная предков! Среди них были и святые, и мудрые люди!
— Вот, вот, ты лишь доказываешь то, что о тебе я думаю! На уме у тебя и на языке тот же «святой» дед Айдос, предатель из рода колдаулы! Теперь власть переходит к моему роду! Теперь мы, кенегесы, будем главенствовать среди каракалпаков! Запомни это — мой род! В моих руках теперь будет — казнить и миловать, одаривать и разорять!.. Так что поразмысли хорошенько! Ты человек сметливый… Как купить себе жизнь? Вдруг я надумаю тебя пощадить? А?..
— Если ты сохранишь мне жизнь, то вместо моей головы получишь голову Алакоза! Она дорогого стоит! — вырвалось у Шонкы.
Ерназар-младший добился того, к чему стремился, — человек из рода колдаулы убьет вожака рода колдаулы! Он был полон торжества, будто свадьбу сладил, о которой долго мечтал!
— Я должен подумать! Сам подумать, взвесить и с главным визирем посоветоваться! — сурово заявил он Шонкы.
— А как… что с сыном Алакоза?
— Передай своему Алакозу: Хожаназар выступит против него, в рядах его врагов!
19
Дух направлявшихся к великому царю великой России посланцев парил высоко-высоко, в самых небесах. Далекая даль, которую им предстояло одолеть, не казалась им такой уж устрашающе далекой,»
Маулен и Мадреим строили воздушные замки — для себя и своего народа, говорили без умолку, шутили. Однако чем больше удалялись они от родных каракалпакских аулов, чем ближе продвигались к Устюрту, тем ощутимее стали чувствовать они свое одиночество, заброшенность, беспомощность в бескрайней, безлюдной, мертвой степи. Они осиротели, как ягнята, которых оставили на погибель: они словно уже видят жадный блеск волчьих глаз, слышат совсем близко от себя его хищное дыхание.
Маулен и Мадреим не признавались друг другу в своих страхах и тревогах; не помышляли они и о том, чтобы спасовать, повернуть назад. Всеми силами души они были устремлены вперед, вперед. По Устюрту они ехали молча, словно боясь нарушить безмолвие, тишину. Куда ни кинешь взгляд — ни души, ни жилья, ни укрытия, лишь голая, безжизненная пугающая степь…
Мадреим вздрагивал всем телом при каждом шорохе, при каждом взлете птицы. Хотя глаза его были обращены вперед, слухом он был весь там, позади. Мадреиму чудилось, что сейчас, сию минуту, раздастся стук копыт, шум погони, посланной за ними вслед хивинским ханом. И ему начинала мерещиться виселица, на которой лениво болтается тугая, крепкая веревка… Это видение целиком поглощало его, лишало сил, подтачивало волю, рассеивало мысли, расшатывало нервы. «Нет на свете такого хана, который позволил бы вырвать у себя из-под носа такую огромную, обширную территорию, как наша! Который согласился бы отдать ее русскому царю! Хан привык к нашему послушанию, смирению и к деньгам нашим тоже привык!.. Он обязательно пошлет погоню за нами! Уже послал… Обязательно! И как только нас настигнут, меня повесят первым!»
Мадреим осторожно, с опаской коснулся своего внутреннего кармана. Там было спрятано послание. «Вот она, моя смерть, вот она! Маулен хитрый, он знает, чем грозит эта бумага! Ему что, едет себе спокойно!.. Как бы всучить послание ему! Из-за этой бумажки плакала моя головушка! Пусть лучше его башка плачет, катится с плеч!.. Мне моя дорога!.. Как бы околпачить Маулена? Подольститься, а потом и подсунуть!»
Маулен-желтый тоже начал нервничать: ему будто передались тревожные, недобрые мысли Мадреима. «Положил себе в карман послание великому царю — послание от такой огромной страны, как наша, и воображает!.. Вот уж поистине — мулла может быть новым, а учение его остается старым… — негодовал Маулен. — Страна наша вступила на новый путь, а Мадреим каким был, таким и остался — у него на уме собственная слава да благополучие!.. Доберемся до Петербурга, он небось тут же выдаст себя за господина, а меня — за слугу, на порог дворца не пустит!.. Почему, по какому праву документ у Мадреима, а не у меня?.. Уж я-то не стал бы корчить из себя господина, не послал бы его на конюшню сторожить наших коней. Я не он! Может, прямо в глаза выложить ему все, что я о нем думаю?.. Может, отнять — так-то оно еще лучше! — документ и удрать, оставить с носом?.. Ох-хо-хо, Маулен! — вознегодовал он на себя. — Ты, выходит, как был, так и остался мелким спесивцем! Тебе поручили важное, громадное дело, вручили, доверили, можно сказать, судьбу народа, а ты все суетишься-мельтешишь! Завидуешь, тщеславие тебя заедает! Стыдно должно тебе быть, стыдно!.. Кругом безлюдная, бескрайняя степь, мы здесь одни, и задание у нас одно на двоих!..»
— Маулен! — вдруг неуверенно заговорил Мадреим. — Мы с тобой посланцы маленькой страны, едем к царю, в страну, известную всему свету! От послов много, ох как много зависит! Помирить страны или посеять между ними вражду!.. Мы с тобой самые счастливые из всех каракалпаков: нам оказали такую честь, такое доверие! — Мадреим воодушевлялся все больше. — В истории нашего народа, да и в летописях русского государства останутся наши с тобой имена, Маулен! Представь на минутку: наши потомки будут слагать о нас легенды, будут восхвалять нас за смелость и мудрость!.. Вот только в сомнении я — достоин ли я этакого почета… Вот ты — да, достоин! Ты и даровитый, и башковитый, и красноречивый, и в разговоре находчив! Я преклоняюсь перед твоими достоинствами, готов признать твое первенство!.. По-моему, ты куда лучше, чем я, справишься с миссией посла, и потому я готов уступить тебе и послание хана, и… и главную речь перед царем!..
Маулен почесал в затылке: «Не-е-ет! Чего-то он хитрит-юлит! Чтобы Мадреим своими руками отдал мне такое сокровище!.. Тут что-то не так, что-то за этим кроется… Но что? А вдруг он просто трусит?»
— Мадреим-бий, спасибо за честь, но ведь послание тебе доверено!
— Но ты, Маулен, куда умнее и красноречивее меня! — Мадреим почувствовал, что его спутник ему не верит — ни его льстивым словам, ни его добрым намерениям.
Они проехали в молчании сотню шагов, другую…
— Давай, Мадреим, поговорим начистоту. Человеку, который держится прямо, нечего опасаться, что у него тень кривая… Не скрою от тебя: я, как и ты, сейчас мучился и колебался. Меня одолевали подлые мысли и зависть! Но я их уничтожил, подавил в себе, и мне сразу стало легче! Легко стало!.. И тебя, думаю, снедают сейчас мысли нечестные, грязные мысли! А ведь дело у нас с тобой общее, святое, чистое из чистых!..
Ты прав! — широко, искренне улыбнулся Мадреим. — Ты прав!
— Ну, а коли так, и мы теперь поняли друг друга, мы вроде как стали настоящими мужчинами, людьми достойными!.. Давай-ка думать о своем народе, о его пользе!.. Если мы станем причинять зло друг другу — оно обязательно обернется злом для народа. Я так считаю!
— Согласен! Но… но как ты догадался?
— А я узнал в тебе себя! Я когда-то много подлостей натворил, злость держал на Алакоза, но он простил и поверил мне!
— И ты теперь доволен своей судьбой, своим выбором?
— Доволен! И горд, что меня послали за счастливой долей для каракалпаков!
— И я тоже!
И опять их длинный-длинный путь не стал казаться им таким уж длинным; опять приободрились, воскресли духом Маулен и Мадреим, опять мечты и надежды вознесли их высоко-высоко… Даже их кони, почуяв, что хозяева их повеселели, точно поладили между собой и побежали, понеслись бодрее, быстрее, голова в голову, не обгоняя один другого, но и не отставая.
Позади осталось Аральское море. Всадники оказались на перекрестке дорог. Их путь пролегал теперь прямо на север. Внезапно разразился сильный ливень. Неизвестно откуда набежавшие тучи все прибывали и прибывали, все гуще и плотнее заволакивая небо. Чтобы не промокнуть, Маулен и Мадреим укрылись в степных турангилях — они чернели поблизости обширной мохнатой шапкой.
Небо разрывали всполохи молний, воздух сотрясали раскаты грома, дождь лил как из ведра… Летние дожди недолги; скоро гроза утихла, и только с листьев турангиля не торопясь, словно в задумчивости, падали капли воды. Путники выбрались из укрытия.
— Посмотри вон туда… Всадники! — испугался Мадреим.
Маулен сосчитал всадников — их было шесть. — Первым едет Касым, ворюга Касым! Они, по-моему, идут по нашим следам! Что будем делать?
— Кони у нас отдохнули, нас не догонят! — успокоил Мадреим себя и Маулена.
Тогда по коням!
И они поскакали прямо на север, настегивая коней. Кони взяли с ходу быстрый темп, они рвались, неслись вперед, словно дикие горные козлы. Когда преследователи заметили Маулена и Мадреима, те были уже далеко. Однако у Касыма и его головорезов кони были тоже ходкие, к тому же преследователи хорошо знали местность. Они бросились каракалпакам наперерез. Два всадника стали настигать их.
— Мадреим, — крикнул Маулен, не спуская глаз с всадников, — четверо остались далеко, отстали! Надо остановиться и избавиться от этих двух!
— Ладно! Подпустим их ближе, помотаем, авось они подустанут!
Между тем преследователи начали прилаживать веревки к шеям своих коней, а на другом конце мастерить петли: они готовили петли для Маулена и Мадреима. Однако каракалпаки поняли замысел своих врагов и, подав друг другу знаки, сжали в руках кинжалы… Расстояние все сокращалось и сокращалось. Один всадник метнул веревку в сторону Маулена. Маулен поймал ее, стал наматывать на руку. Когда между ним и его противником оставалось расстояние не больше чем длина вытянутого копья, Маулен сам стремительно набросил на него петлю. Тот в панике схватился руками за петлю и выронил при этом копье. Касым заметил это и помчался к нему на выручку. Маулен сделал резкий рывок-поворот. От толчка его преследователь свалился с коня на землю. Теперь Маулен выпустил веревку, и конь, увлекая, волоча за собой хозяина с петлей на шее, понесся в степь.
Касым и его люди начали обходить, окружать Маулена. Касым бросился коршуном на Маулена, сдавил ему руку с кинжалом. Однако Маулен тоже успел схватить Касыма за руку, в которой тот сжимал кинжал.
Сцепившись намертво, слетели оба с коней и покатились по земле.
— Мадреим! Беги! Беги! Заруби коня этого ворюги! Беги! — кричал из последних сил, надрывался Маулен. — Беги, слышишь, скорее!
— Да сохранит тебя бог, Маулен! Понял! Все сделаю! — отозвался Мадреим и заплакал. — Все-о-о-о! Сделаю-у-у-у! За нас обо-и-и-и-х!
Маулен, разжимая железные пальцы Касыма, которые впились ему в горло, шептал вслед исчезавшему из виду Мадреиму хрипло, теряя сознание:
— Не поминай лихом! О-о-о-о! Пусть тебе сопутствует русский ветер! Пусть тебе поможет бо-о-о…
20
Лето в низовьях Амударьи светлое и солнечное, однако раздоры, взаимные обиды, вражда между людьми способны превратить и лето в зиму. И тогда сами они не замечают ни жарких дней, ни яркого солнца, ни разноголосого пения птиц… Вся эта красота земная проходит мимо.
Измена Ерназара-младшего была подобна воде, вылитой в пламя судьбы народной, пламя народных надежд. Измена на время отодвинула, заставила забыть мелочные обиды, междоусобицы и вызвала у каракалпаков общую тревогу за их общую судьбу.
Со всех сторон степи стали стекаться люди на берег Казахдарьи, к крепости, чтобы укрыться в ней от врага. Ерназар и Зарлык собирали вокруг себя, объединяли преданных им биев и военачальников, день и ночь руководили строительными работами. Рядом с каракалпакскими соколами находились туркменские и казахские сарбазы. Возглавлял их Абдурахман. Все трудились без устали, забыв о сне и отдыхе.
В знойный полдень, когда люди расположились на обед, Алакозу доложили, что из Хивы прискакал Шонкы.
— Пусть разразит гром негодяя кенегеса! — завопил Шонкы прямо с порога. — Он мне говорит: «Ты сородич Алакоза и прибыл сюда как шпион и лазутчик!» По его приказу мне всыпали девять раз по девять плетей! Голым на всю ночь оставили, чтобы кровушки моей попили комары! Унижал меня… — Шонкы прослезился.
Алакоз сдвинул брови; его насупленный, угрюмый вид всполошил Шонкы.
— Послушай, что потом было! Я очернил тебя, Алакоз, специально чернил, чтобы вызвать доверие кенегеса и проникнуть в его замыслы!.. Он мне поверил и предложил служить ему. Ему и хивинскому хану. Потом отпустил.
Так, так! Ну, а как же самое главное?..
— Убить его я не смог! Он никогда не остается один, его все время окружают люди, много людей!.. — Шонкы шмыгнул носом. — Но о самом важном я пронюхал: через две недели, в понедельник, три тысячи нукеров выступят против нас… И еще одно: я встретил в Хиве Му-хамедкарима. Он тоже переметнулся на вражескую сторону… Объясняет это тем, что дед, мол, его принудил… и Каракум-ишан. Вот его проклятущего деда, старого хрыча, потерявшего разум, я уж точно прикончу!.. Сбить с толку такого джигита…
Приближение беды сплотило всех, кто строил укрепления, готовился дать отпор врагу, еще больше. В крепости на Казахдарье была оставлена сотня во главе с Зарлык-ханом. Все же остальные основные силы сосредоточились теперь в новой крепости, которая спешно возводилась на пути врага. Люди уже дали ей название: «Кыркала» — «Город в степи». Население близлежащих аулов работало здесь денно и нощно; теперь к ним на помощь прибыли воины.
Однажды в Кыркалу прилетел на взмыленном коне Шонкы и возвестил:
— Я убил этого занюханного суфия, деда Мухамед-карима!
Никто ему не ответил, и, озадаченный молчаливым осуждением, Шонкы поспешил скрыться подальше от глаз людских. Он нашел укромное местечко на небольшом холме. Здесь он почувствовал себя в безопасности… «Никогда не угодишь людям, никогда!.. Неужели они мне не верят, а? Ведь я открыл всем и каждому правду, чистую правду! Кенегесу я признался, что я лазутчик Алакоза. От Алакоза тоже не скрыл, что кенегес отпустил меня только при условии, что я перейду на его сторону… Верно и то, что скоро здесь объявятся хивинские нукеры — целых три тысячи!.. Что же остается мне?.. Взять сторону тех, кто победит? Это тоже правда! Но ее пока надо скрывать, скрывать от всех!»
— Эй, джигит, что это ты здесь прохлаждаешься, когда все надрываются на работе?
Шонкы увидел Гулзибу с большим медным кувшином на плече. Он как кошка спрыгнул с холма, взял у Гулзибы кувшин и прильнул ртом к его носику. Пил он жадно, долго.
— Спасибо, красавица! — пробормотал он и передал ей кувшин.
Не скрывая неприязни, Гулзиба сверкнула глазами и пошла своей дорогой. По нескольку раз на день она приносила джигитам холодную воду.
Когда она всех напоила, отыскала Ерназара и шепнула ему:
— Алакоз, не верь Шонкы! У него сорочий нрав, нельзя ему доверять!..
Ты напоила людей? — раздраженно перебил ее Ерназар.
— Собака, виляющая хвостом, опаснее пса, который лает… — не унималась Гулзиба.
— Хватит болтать, — отмахнулся Алакоз. Гулзиба вздохнула и, подняв пустой кувшин на плечо, ушла.
* * *
Понедельник, злосчастный понедельник, приближался неотвратимо. Люди работали в Кыркале до изнеможения, но все-таки не успели. В окрестностях Кыр-калы появились первые хивинские нукеры.
Началась суматоха. Обе стороны не были осведомлены точно, какими силами располагает противник. Поэтому никто не решался начать действия первыми. Затишье это таило большую опасность: расслабишься — тут враг и нападет неминуемо… Алакоз знал это и неутомимо подбадривал соколов:
— Соколы, друзья! Человек, боящийся опасности и несчастья, никогда не узнает счастья! Держитесь смело и мужественно! Враг не должен ступить на нашу землю, осквернить её. Она священна для каждого из нас! — Откуда только брались у него силы? Он не спал, не ел — все время на коне, среди людей…
К Алакозу приблизились два джигита, которых он посылал на разведку.
— Ерназар-ага, вражеское войско разделилось на две части, — отрапортовал один из них, — одна во главе с кенегесом и Саипназаром, взяла направление на Казахдарью! К нашей крепости!
— Абди-бий, — обратился Ерназар к военачальнику, — возьми с собой Шонкы и Рахманберды и вместе с ними поспеши к Зарлык-хану. Передай ему: враг направляется к ним. Пусть готовятся принять бой! Надо выставить против хивинцев всех мужчин — не только соколов.
Абди-бий, Шонкы и Рахманберды выехали из северных ворот Кыркалы, и почти одновременно с этим хивинцы начали атаку с южной стороны.
Поднялась стрельба, поначалу беспорядочная: она набирала силу. Тишина сменилась сражением, грохотом. Сеча шла жестокая. Стонали раненые — их некогда и некому было выносить с поля боя, — жалобно звали: «Мама! Мама!», взывали: «Помогите, помогите, братья!»… Вскоре под каждым кустом тамариска, на каждом шагу лежали настигнутые смертью люди.
Джигиты под водительством Абдурахмана, который носился на коне как ураган, теснили, громили врага; под их бешеным натиском нукеры ретировались, бежали, крича-причитая: «О аллах, спаси наши души!» Соколы рубили их без пощады и жалости… Среди хивинцев вдруг пробежал-прошелестел шумок: «Наши! Наши подоспели!» Снова завязался ожесточенный бой. Гром выстрелов, звон сабель, глухой стук копьев… Лязг, скрежет, стоны, крики… И не было этому конца.
Алакоз и Абдурахман летали как орлы среди своих соколов, воодушевляли их, рубили неприятеля направо и налево. На подмогу хивинцам двинулась туча пеших нукеров — их было не меньше пятисот.
— Друзья, родные, смелее! Это последний резерв врага! Держитесь, не поддавайтесь страху! Без паники! Еще немного — и мы победим! Вперед!
Абдурахман оказался в окружении. Алакоз бросился к вражескому кольцу. С саблями наголо навстречу ему ринулись хивинцы. Конь спасал Ерназара от сабельных ударов своим змеиным ходом. Ерназар разил противника без промаха. Вот упал один, другой… Однако спасти Абдурахмана Ерназар не успел: Абдурахман повис безжизненно, мертво, ноги его оставались в стременах. Не желая оставлять врагам тело друга, Ерназар взвалил его на своего коня и взял направление на Кыркалу. Соколы помчались за ним вслед: кто-то решил, что бой проигран, кто-то — что окончен… Они двигались к Кыркале быстрее ветра. Враг их не преследовал; нукеры тоже не разобрались — окончен бой, выигран или проигран. В этом месиве людей и коней и правда невозможно было определить, кто победитель, а кто побежденный…
Наступил закат. Похоронили с почестями Абдурах-мана. Ерназар видел — соколы взбудоражены, обеспокоены результатами сражения: много, слишком много людей погибло… Он счел необходимым — другого выхода не было — отступить к Казахдарье; там, рассудил он, воссоединятся они с джигитами Зарлык-хана, а стало быть, станут сильнее. Однако этот приказ породил среди военачальников и соколов разногласия. Раздались голоса, что отступление равносильно полному поражению… Ерназар воспринял ропот и недоверие как предательство, как попытку подорвать единство и согласие в минуту опасности. Разъярившись, он принялся охаживать плетью тех, кто пытался оспаривать его приказ.
Однако ярость — плохой помощник. Несколько военачальников вместе со своими соколами тайком покинули это дьявольское, это зловещее место. Население крепости стало волноваться…
К рассвету Кыркала опустела. На месте недавнего сражения царили мертвая тишина и тишина мертвых…
По пути к Казахдарье к Алакозу подъехала Гулзиба:
— Отец страны, чует мое сердце беду! Надо что-то предпринять!
— Что? Что именно?
— Возьми с собой самых верных соколов и отправляйся сейчас, немедленно, к русским! Они окажут нам помощь! Должны оказать, иначе…
— Эх, Гулзиба, Гулзиба! Правду говорят: у женщины волос длинный, а ум — короткий… Неужели ты не понимаешь?.. Если я покину вас сейчас, враги поработят страну. Не оставят вас в живых — перебьют всех до единого…
— Чувствуешь ли, видишь ли, мой единственный, что в нашем войске начался разброд?
Гулзиба задела самое больное место — бросила горсть соли на кровоточащую его рану. Он в сердцах огрел ее плетью. Еще, еще… Гулзиба закрыла лицо и под свист плети умоляла его слезно:
— Послушайся меня!.. Моего совета! Дорогой мой, любимый! Послушайся!
Алакоз отпрянул от нее и помчался прочь. К нему наперерез несся всадник. Он размахивал руками и кричал что-то отрывисто, бессвязно. Ерназар с трудом разобрал, что в сторону Бухары через горы Борши направляется караван русских купцов.
— Спросил ты у них — окончилась Крымская война? — нетерпеливо задал вопрос Ерназар.
— Да, да!
— За кем победа?
— Не знаю… — запыхавшийся сокол смутился.
— Эх, растяпа, как же ты не догадался спросить? — Ерназар поискал кого-то глазами, не нашел и помчался во весь опор сам к горе Борши. Но каравана он там уже не застал, повернул обратно.
Неподалеку от Казахдарьи к нему присоседился Шонкы.
— Ой, пропали мы, пропали наши головушки, погибли мы! — горько причитал он.
— Ты что разнюнился, как баба? — вознегодовал Ерназар и ткнул концом пики Шонкы в грудь.
— Пропали мы, Ерназар-ага, все пропали! — ревел Шонкы, размазывая слезы по грязным щекам. — Зарлык-хан попал в плен! Его захватил и увез сотник Му-хамедкарим!
— Что? Что ты несешь?
— Я передал твои слова Зарлык-хану, но он ослушался, не утерпел и вместе с Абди-бием вступил в бой… В это время кто-то пустил слух, что Ерназар Алакоз сбежал, спасая свою голову, к русским! Началась паника! Вот тут-то Мухамедкарим изловчился и…
Алакозу показалось, что над ним разверзлись небеса.
— Соколы! — врезался он в гущу джигитов. — Братья! Вперед! Русские победили! Они выиграли войну! Крымская война закончилась! Теперь к нам придет помощь! — Он размахивал над головой саблей и носился-метался на своем боевом коне среди понурых всадников.
Они подняли головы и последовали за Алакозом.
У Казахдарьи на ногах были все — соколы и мирное население окрестных аулов. Все взяли в руки оружие или то, что могло его заменить. Все до единого. Все, кто мог держать ружья, копья, сабли или палки, мотыги, кирки. Ерназар был до слез растроган единодушием и мужеством людей.
— Народ! Дорогие мои! Удачи вашим делам! Хвала вашему мужеству! Враг пожелал разрушить нашу землю — дадим ему отпор! Так велит нам наша священная родина, к этому призывает нас дух наших предков, наших дедов и отцов! Люди ответили ему:
— Мы слышим тебя, Алакоз! Мы с тобой, Алакоз! Мы с тобо-о-ой!
Атака хивинцев была отбита. Черная вражеская туча разметена народом. На новую атаку нукеры не решились и кольцом окружили Казахдарью. Крепость оказалась в осаде…
Миновал день, два, десять, пятнадцать дней миновали. Враг осаду не снимал.
21
Все, все было против каракалпаков… Русские проиграли Крымскую войну. Внешнее и внутреннее положение России осложнилось. России не до того было, чтобы разбираться в чужих делах, — впору бы в своих разобраться, со своими управиться… Напряженные отношения с западноевропейскими государствами и Турцией; восстание Шамиля; волнения в деревнях…
Погиб сраженный вражеской пулей Михайлов — погиб печальник за судьбу каракалпаков… Тенел остался совсем один — без старшего друга, наставника и защитника. Новый сотник воспротивился, не пожелал оставить Тенела своим денщиком. Он считал его одним из виновников гибели Михайлова. Поначалу он вообще чуть было не расстрелял парня. Спасло Тенела заступничество солдат. Однако из армии его выгнали, тут уже никто не мог Тенелу помочь…
Он очутился один на один с горами, в чужой стороне, в полном безлюдье…
Каллибек, претерпев множество трудностей и злоключений, все-таки пробрался к туркам. Его схватили дозорные на одной из застав и отвели к командиру. Се-догривый, напыщенный офицер с густыми белыми усами и мясистым багровым носом осведомился у солдата:
— Дагестанец? Из мюридов Шамиля?
— Я каракалпак! — вместо солдата выпалил Каллибек.
— Кто, кто?.. Не морочь мне голову! Ты русский шпион! Признавайся! — завопил офицер, вдруг впав в ярость.
— Нет, нет, я сам, я по своей воле! Я перебежчик! Перебежчик я! — заволновался Каллибек.
Он знал, что в военное время не очень-то церемонятся с лазутчиками, и поспешил все, все о себе рассказать… И о своей родине, и о намерении учиться наукам у великого турецкого брата…
Однако он видел: ему не поверили. У офицера побагровело лицо, глаза налились кровью.
— И кого пытаются обхитрить! Нам эти штучки известны!.. А ну, — зыркнул он на солдата, — теперь ты поведай ему о том, кто мы такие и откуда!..
Солдат повалил Каллибека навзничь. Его тяжелый сапог навис над лицом Каллибека.
— А ну, признавайся, зачем тебя подослали? — устрашающе прошипел он.
— Я не лазутчик! Я сам, добровольно!..
— Делай с ним что хочешь! — скомандовал офицер и поднялся навстречу англичанину, незаметно подошедшему к ним.
Солдат поставил сапог на лицо Каллибека и провел им от подбородка ко лбу. Орлиный нос Каллибека пополз вверх, лицо окрасилось кровью. Он завопил от боли. Англичанин наклонился над Каллибеком и умелым, привычными движениями вправил ему нос. Потом достал из кармана бутылочку с какой-то жидкостью и дал Каллибеку понюхать.
— Нос — важная деталь человеческого лица. Он делает человека красивым или безобразным, неузнаваемо меняет его… — объявил англичанин. — Вот, посмотрите внимательно — перебежчик теперь на себя непохож, не правда ли? Его теперь никто не сможет узнать! — Англичанин поднялся с колен, приблизился к офицеру. — Я возьму его себе. Он сгодится как носильщик или слуга! Я могу вам за него заплатить! — Он полез в карман, вынул две золотые монеты и швырнул их на землю, солдату под ноги.
Каллибек понял, что торг идет за его голову. Это доставило ему не меньшее страдание, чем обжигающая боль в сломанном носу. Он клял себя за глупость, проклинал свою судьбу…
22
Каракалпаки привыкли к тяготам существования: притерпелись и к скудной пище, и к убогому жилью, и к нехитрой одежонке. Лишь просторы степей, напоенных ароматами трав, были у них обширны и бескрайни. Привольная степь была единственным их богатством и радостью, к ней они были привязаны всей душой, всем сердцем, точно к матери родимой. А еще каракалпаки привыкли к мутной, но прохладной, самой сладкой и вкусной для них воде Амударьи.
Осада крепости на Казахдарье оторвала их, изолировала от степных просторов и от сладких вод Амударьи. И каракалпаки ощутили себя затворниками, почувствовали себя как в зиндане.
Солнце с каждым днем набирало свою летнюю, беспощадно палящую силу. Оно пылало над крепостью жарким костром, сводя людей с ума, лишая их последних сил и воли к сопротивлению. Загоны для скота, циновки на юртах, травы — все высыхало, засыхало под всепроникающими солнечными лучами… Попади сюда хоть искорка — вся крепость мгновенно превратилась бы в гигантское пепелище.
Осада продолжалась…
Люди и скот бродили по крепости, томимые жаждой, — хоть бы глоточек, один глоточек холодной воды! Хоть бы крошечное местечко в тени… Начался падеж скота. Потом пришла новая страшная беда — брюшной тиф, он косил людей как косой.
Осада продолжалось…
Сердце у Ерназара разрывалось на части, но он был бессилен против нестерпимого зноя, отсутствия чистой воды, против тифа… Он истощал, почернел, будто солнце выжало из него все жизненные соки. Но он жил и помогал жить другим. Жить и надеяться. Он ждал и своим примером заражал других, ждал помощи от русских. Ждал чуда. Люди видели его в разных уголках крепости, он был всегда среди них, всегда с ними. Ерназар не уставал говорить им о светлом будущем, о светлом завтрашнем дне…
Однако наступил момент, когда они устали ему верить… Народ все таял и таял, люди теряли близких, и вместе с ними таяли их надежды, уходили последние силы…
Осада продолжалась…
Кончился корм для скота, весь — вплоть до циновок… Люди гонялись за скотиной, чтобы успеть забить ее, не лишиться хотя бы пропитания. Началась охота живых за живыми!.. Военачальники и бии стали открыто роптать, выражать недовольство Ерназаром, требовать, чтобы ворота крепости были наконец открыты…
Больных и умерших все прибавлялось и прибавлялось с каждым днем; мертвых не успевали хоронить.
Осада продолжалась…
Вражеские нукеры каждый день, методически, предпринимали по две коротких вылазки. Постреляют-постреляют и отступают. Ерназар все надеялся, что терпение хивинцев иссякнет и они отойдут, снимут осаду…
Однажды к Ерназару прибежали соколы, стоявшие н-а карауле у крепостных ворот, и доложили: к воротам подъехали два всадника в черных одеждах, с черными флажками на пиках.
Ерназар решил: вести переговоры с бирючами,[11] которые пожаловали с траурными флажками — символами несчастья, он не будет. Он приказал, чтобы самые меткие стрелки взяли их на мушку и застрелили. Вскоре к нему стремглав примчался еще один стражник. «Господи, уж не Хожаназар ли один из этих черных всадников?»- ослепила Ерназара ужасная мысль.
— Ерназар-ага, это… это… Маулен и Мадреим! — выдавил он наконец из себя. — Мы сняли их с коней выстрелами, но… они убиты давно. Их привязали к седлам уже мертвыми!
Эта весть была хуже, страшнее той, что он ожидал… Последняя надежда на спасение страны, народа, ханства рухнула.
За крепостными стенами кругами как бешеный носился на коне Саипназар и вопил, вопил:
— Люди! Открывайте ворота, рушьте крепостные стены! Выходите! Алакоз погубит вас всех до единого! Никого не пожалеет! Он не пощадил даже своих сподвижников! По его приказу только что застрелили Маулена и Мадреима!.. Лю-у-у-ди-и-и! — надрывался Саипназар.
Толпы людей ринулись к воротам.
— Люди, люди! Разве можно верить изменникам! — остановил их повелительный голос Ерназара. — Он лжет! Это враги убили наших послов, убили уже давно и мертвых привязали к седлам! Враг жесток! С ним надо сражаться, нельзя сдаваться ему на милость! Милости не будет!.. Люди!
Однако толпу остановить было уже невозможно. Ерназар кличем созвал верных ему соколов, и они сами стали пробиваться к воротам.
— Дорогие мои! Давайте откроем ворота, но… чтобы сразиться! С врагом сразиться! Не сдадимся живыми в руки врагов и предателей!..
— Не сдадимся врагу! — дружно поддержали Ерназара его соколы. — Не сдадимся! К бою!..
К немногочисленному хору голосов прибавлялись все новые и новые голоса, и вот уже по крепости и за ее пределами понеслось: «Не сдадимся! Не сдади-и-имся-а-а! На врага!»
Главный хивинский военачальник отдал команду Ерназару-младшему и Саипназару:
— Возглавьте каракалпакских воинов — и вперед! Да сбудутся ваши мечты и надежды! Вперед!
Два людских потока, две людские лавины, устремились навстречу друг другу, смешались, закрутились в страшном, смертельном водовороте сражения. Каракалпаки бились с каракалпаками: брат шел против брата. Ерназар Алакоз грудью встал против Ерназара-младшего, против предателя…
Гулзиба не отставала от соколов, храбро отражала натиск врагов. Однако все время держала в поле зрения Шонкы, глаз с него старалась не спускать. Словно тень, неотступно следовал он за Ерназаром, и это вызывало у нее самые худшие подозрения, сосущее чувство тревоги… Она догнала Шонкы и властно потребовала:
— Эй ты, поворачивай за мной! Гони коня следом!
— Женщина, не стой на дороге! — огрызнулся Шонкы и увязался снова за Алакозом…
Два Ерназара оказались лицом к лицу.
— Предатель! Я обучил тебя ратному делу! Не думал я, не предполагал, что ты посмеешь поднять оружие против меня! Против своего народа!.. — грозно крикнул Алакоз.
Ты еще не уверился в своей глупости, Алакоз, в своих ошибках? — перебил его Ерназар-младший. — Брось оружие! Вспомни, твой сын в плену! Люди никогда не станут верить человеку, у которого нет жалости к собственному сыну! Не поверят, что такой человек может быть милосерден к чужим детям! Смирись, сдайся! Может, мне удастся спасти тебя! Испросить у хана жизнь для тебя! Пойми, Алакоз, ты проиграл!..
Алакоз покраснел от гнева, ринулся на своего врага. Все остальные прекратили бой, остановились и в одно мгновение превратились из воинов в зрителей. Два вожака страны, разделившие ее и ее народ надвое, встретились в единоборстве.
Два Ерназара, съезжаясь на конях, ударяли, цеплялись саблями, как бараны рогами; наскакивали друг на друга, словно петухи; вступали, спешившись, врукопашную; снова оказывались верхом и продолжали биться копьями и саблями… Их кони и те затеяли меж собой схватку — грызлись, ударяли один другого копытами, лягались… Сабли скрещивались в поединке, звенели, блестели на солнце, ослепляли людей; они неотрывно, точно загипнотизированные, следили за битвой двух палванов, двух каракалпаков, из которых один был отцом народа, другой мог стать им.
Алакоз начал одолевать своего противника, уже занес над его головой саблю. Кенегес вдруг резко отпрянул и сломя голову поскакал прочь. Не успев разобраться, в чем дело, Алакоз увидел, что мимо него вихрем пронеслась Гулзиба. Она гнала, гнала, гнала — на виду у всех! — вожака-предателя… Конь Ерназара-младшего мчался как дикая лань. Гулзиба не могла нагнать его, но обратить изменника в паническое бегство — это ей удалось!
Хивинские нукеры, чертыхаясь и проклиная трусливого черношапочника, по приказу главного военачальника устремились вперед. Какой-то всадник, хохоча, приблизился к Гулзибе; он изготовился было схватить ее в охапку — Гулзиба саблей отсекла ему голову, голова покатилась с плеч в пыль.
Гулзиба не осознавала до конца, что она делает, как действует, — она просто сражалась с ненавистными врагами. Ее сабля снесла голову еще одному хивинцу; Гулзиба подцепила ее на кончик сабли, высоко-высоко подняла и помчалась к своим, радостная и напуганная. — Молодец, Гулзиба! Молодчина! — громко, во весь голос похвалил ее Алакоз.
Он еще не закрыл рот, как погнавшиеся за Гулзибой три всадника почти одновременно выстрелили ей в спину. Как подрубленное дерево, на полном скаку Гулзиба повалилась на землю. Замерли, замолкли все — и враги, и свои. Забыв обо всем на свете, Ерназар оказался возле нее. Гулзиба была в крови. Он наклонился над ней, поднял ее голову.
— Гулзиба, моя Гулзиба!.. — шептал он непослушными, помертвевшими губами.
Гулзиба услышала его, узнала, широко раскрыла глаза.
— Это ты, мой Алакоз? Ты? Дай я обниму тебя! Не таясь! В первый и последний раз, перед всеми людьми! — Она не могла даже пальцем пошевельнуть — жизнь покидала ее, уходила. — Ох, душа моя, что-то руки не слушаются меня, прости!..
Алакоз поднял Гулзибу на руки, бережно притронулся к ее нежным губам.
— Меня прости, Гулзиба! Меня! Я не смог сделать тебя счастливой!
— Нет, нет, я счастлива! Век бы лежала вот так, на твоих могучих руках… Да, да, что-то еще… не оставь Тенела, а он тебя никогда не оставит! Все покинут, а он будет рядом…
— Не говори больше! — Алакоз еще раз бережно, любовно прикоснулся к ее губам.
— Дай мне слово, любимый… признай меня своей женой!
— Душа моя, любовь моя, ты самая любимая моя жена! Самая дорогая… Самая драгоценная…
Глаза Гулзибы озарились радостью — в последний раз! Потом начали гаснуть, меркнуть, затухать — так гаснет, меркнет, затухает лампа, когда в ней кончается масло… Глаза Гулзибы закрылись, скрылись за веками, точно две луны за облаками, но на губах замерла, осталась улыбка облегчения и счастья.
По белым как мел щекам Алакоза текли-струились слезы, он прижимал, все прижимал к груди безжизненное тело Гулзибы… Точно величайшее сокровище, Ерназар трепетно положил Гулзибу на вершину маленького холмика…
Сражение разгорелось снова. К вечеру хивинцы начали одолевать каракалпаков. Соколы покатились назад. Старейшины родов стали требовать, чтобы Алакоз прекратил бессмысленную бойню… У него на глазах двое самых преданных ему военачальников перешли со своими соколами к противнику — с белыми флагами!.. По крепости метался Бердах и взывал к людям:
— Народ! Можно жить даже без глаз, но нельзя жить без родины! Не выпускайте из рук оружие!
— Народ мой, люди! Прислушайтесь к словам своего певца! — увещевал Алакоз. — Он наш язык, наш разум, наша честь!
— Сын мой, Ерназарджан! Не теряй мужества! Веди вперед своих черноглазых сыновей! Они все — твои дети! — подбадривал его Кумар-аналык. — Забудь о своих печалях и помни о твоих детях!
Каракалпаки с ружьями, лопатами, топорами, вилами, палками снова двинулись вслед за Алакозом. Нукеры брали их на прицел и снимали одного за другим. Люди падали, будто камыш под серпом. Защитники крепости стали отступать назад, за ворота. Однако женщины и дети бросились на поле боя: они хотели отыскать своих родимых, своих кормильцев, полегших здесь… Поднялся стон и плач.
Ерназару удалось все-таки собрать соколов и опять ринуться в сечу. Но сеча теперь напоминала свалку, беспорядочное месиво из людей, копьев, сабель, коней…
Заметив вдали кенегеса, Алакоз повернул коня к нему. Шонкы не отставал. Вот он уже совсем близко.
— Ерназар-ага, осторожно! Справа… сзади опасность, справа! — Шонкы находился от Алакоза слева, он взял ружье на изготовку. Ерназар оглянулся вправо. Шонкы нажал на курок.
Ерназар перелетел через голову коня. Шонкы помчался к младшему Ерназару.
— Застрелил, застрелил его! Я!.. Я!.. — гордо возгласил он. — Я тебя спасал!.. Спас!.. Он мертв!.. Ура!
Младший Ерназар сорвал с головы черную шапку и начал размахивать ею:
— Джигиты! Люди! Народ! Алакоза нет больше! Нет! Он мертв!
Два слова-«Алакоз мертв!»-пронеслись над головами людей как раскат грома, как разбушевавшаяся буря, как ураганный смерч. Все вмиг остановились, затихли, замолчали. И только два глашатая кидали в это безмолвие, в это вымершее царство слова:
— Люди! Люди! Безбожник Алакоз убит! Безбожник Алакоз мертв! Конец войне! Войне конец!..
Появился Каракум-ишан. Он держал в руке свою белую чалму, держал, как знамя.
— Народ! Алакоз убит! Он натравливал мусульман на мусульман! Его покарал за это аллах! Мир! Ми-и-ир! Расходитесь по домам!..
Вместе с хивинским войском Каракум-ишан двинулся в глубь страны. Первым делом они направились к аулу, к дому Алакоза.
Главный военачальник опередил их! По его приказу юрта Ерназара была подожжена и теперь догорала… С младшими сыновьями Алакоза хивинцы зверски расправились — головы мальчиков валялись в пыли, перепачканные кровью. Рабийби и две ее дочери находились в беспамятстве. Их связали одной веревкой и бросили рядом с пепелищем. Кумар-аналык сидела, привалившись спиной к опрокинутому котлу, окаменев от горя.
Младший Ерназар содрогнулся от этой жути. Но и оторваться не было сил, его что-то притягивало, притягивало: «Смотри и запоминай на всю жизнь!» Саип-назар не мог заставить себя взглянуть на семью Алакоза и его дом — на то, что было когда-то его семьей и его домом. Закусив до крови губу, он опуетил голову на самую грудь.
Главный военачальник заметил, какое впечатление произвела учиненная им расправа на каракалпакских биев. Это вызвало у него презрение и злобу. С исказившимся лицом ткнул он саблей в сторону пепелища и отчеканил:
— Ерназар, Саипназар, за дело, быстро!
В сопровождении других каракалпакских биев они подошли к пепелищу. Откуда-то взялись лопаты. Все принялись разбрасывать золу, копать землю в том месте, где раньше находился очаг. Очаг, который служил роду Алакоза поколение за поколением.
Главный военачальник поднял и опустил голову; нукеры тотчас же вытянулись в ряд цепочкой из взрыхленного, перепаханного круга — сметенной с лица земли юрты Алакоза — и до самой Казахдарьи. Нукеры начали рыть узкий — в полшага — арык; мутная вода Казахдарьи заспешила-побежала по арыку и вскоре затопила круг… Грязная, с ошметками обгоревших кошм, вода покрыла, затопила жилище вожака каракалпаков.
Каракалпаки стояли в похоронном молчании; до многих, кажется, лишь сейчас стал доходить смысл происшедшего.
Чтобы нарушить эту погребальную тишину и отвлечь своих добрых мусульман от грешных мыслей, Каракум-ишан громко и уверенно обратился к ним:
— Мусульмане, вам выпали божья милость и милосердие! С вашим, с нашим извергом Алакозом покончено! Навсегда!.. Довожу до вас еще одну счастливую весть: русские потерпели поражение от турок! От мусульман! Главный военачальник священной Хивы, соблаговолите послать своих храбрых воинов к «русской стене»! Пусть они уничтожат ее! Пусть от неверных и следа и духу не останется на нашей земле!
Главный военачальник собрался отдать распоряжение, но нечаянно встретился взглядом с Кумар-аналык. Ее глаза, как два хауза, из которых постепенно, медленно текла-утекала вода, лихорадочно блестели. Блестели, чтобы раз и навсегда высохнуть… Он вздрогнул всем телом и подал знак есаулу. Тот вынул из торбы окровавленную голову Ерназара.
— Ну, убедилась теперь, ведьма?.. — прорычал хивинец.
Кумар-аналык рванулась к сыну.
— Сыночек мой! — прошелестел, как весенний вдте-рок, ее голос. Она поднялась, выпрямилась, взглянула пронзительно на главного военачальника, пошатнулась, опять выпрямилась. — Голове Ерназар Алакоза предстоит пройти через многие испытания!.. Сделай последнюю милость — дай мне ее на минутку!
Главный военачальник, пораженный, еле выдавил из себя: «Дайте!»
Кумар-аналык приняла в свои руки голову сына, как хрупкий, бесценный дар. Направилась к вырытому арыку. Нагнулась. Неторопливо, тщательно обмыла ее, очистив от грязи и крови. Пригладила волосы, подкрутила усы. Сняла с себя белое шелковое покрывало. Завернула в него голову сына, завязала накрепко. Прошествовала к главному военачальнику и протянула:
— Возьми!
Никто — ни один ханский военачальник или нукер, ни один каракалпакский бий или сокол, ни один сражавшийся против Алакоза или вместе с ним, — никто не смел оторвать от земли глаз, поднять их на Кумар-аналык. Какой-то хивинец выхватил у Кумар-аналык дорогую ее ношу.
— Гоните пленных! — просипел главный военачальник будто в удушье. Все продолжали стоять неподвижно. — Гоните же! — повторил он, почти теряя сознание…
Нукеры зашевелились вяло, натыкаясь друг на друга, как слепые.
Через ряды людей пробился Мамыт-бий. Склонившись в три погибели, он чуть ли не подполз к главному военачальнику.
— Прошу вас, отдайте мне вдову Алакоза! — взмолился он.
Тот брезгливо прервал его:
— Когда в пути подыхает верблюд, караван печалит не его смерть, а груз, который он тащил…
— Отдайте, отдайте, великий военачальник! — вмешался Саипназар. — В молодости они были влюблены друг в друга!
Кумар-аналык заскрежетала зубами:
— Опомнись, пес бессовестный!
— Старуха, брехать, не подумавши, все равно что стрелять вхолостую! — вдруг взвизгнул и истерически захохотал Саипназар. Его безумный хохот слышался долго: нукеры оттаскивали его прочь, подальше от людей.
Кумар-аналык повернулась к невестке и внучкам. Рабийби, покорная и печальная, казалось, не понимала, где она, что с ней, что ее ждет. Кумар-аналык вынести не могла этого — покорности, отчаяния, полной отрешенности от жизни. Она поникла, ноги ее подогнулись, она опустилась на землю…
От толпы отделился Бердах.
— Люди! Мужайтесь! Жизнь Ерназара была как весна! А весна наступает опять и опять! Уничтожить ее нельзя! Он указал нам, каракалпакам, новый путь, он открыл следующим поколениям светлую дорогу! Поэтам он завещал жить в думах и заботах о народе. Слушайте меня, слушайте мою песню!
Погиб Айдос-бий! На его место встал Ерназар! Встал, чтобы возглавить народ! Чтобы поднять его на борьбу!Главный военачальник рассвирепел:
— Вяжите его! Гоните вместе с пленными!
23
Есть люди, которым солнце кажется особенно лучезарным, неотразимо сияющим после бури и ливня. Есть люди, для которых собственная слава особенно желанна и приятна, если достигается она ценою гибели врага.
Алакоза больше не было, и солнце на хивинском небосводе засветило, засияло, заиграло — торжествующе, победоносно.
Хан объявил о празднике — празднике победы священной Хивы над черношапочниками.
Настроение у хивинцев было приподнятое: казалось, у каждого в душе зажглось свое ликующее солнце.
Били барабаны. Трубные звуки сурнаев и карнаев разносились призывно и протяжно по всем улицам, улочкам и переулочкам города. Неутомимые глашатаи носились повсюду, объявляя радостными, зычными голосами:
— Народ, слушай! Сегодня великий хан будет чинить справедливый суд над каракалпакскими бунтовщиками! Сегодня они будут наказаны! Спешите, спешите!
Заполняя улицы, люди двигались праздничным пестрым потоком. Вели их разные побуждения: кого любопытство, кого страх, кого желание увидеть вблизи нового хана. Давно, очень давно Хива не развлекалась и не праздновала… Страдания и смерть одних бывают притягательными для других…
Хивинцы стекались к большому саду. Пышно разряженный хан восседал на высоком помосте. Его окружали военачальники, придворные, ближайшие его сановники и бии.
Хан окинул взглядом сад и, желая продемонстрировать свою скромность, а также милость к народу, сошел по ступенькам вниз. Его подданные вскакивали поспешно и суетливо, низко кланялись, приветствуя своего повелителя. Хан кивал, все время кивал головой, чуть-чуть улыбаясь. Он обошел весь сад и водрузился на свое возвышающееся над всеми смертными громоздкое кресло.
— Мой народ, еще и еще раз поздравляю с победой! — провозгласил хан.
Люди — все в белоснежных чалмах, — как по команде, опустились на колени. Их будто сразил, повалил на землю порыв ветра. В тон, на едином дыхании они затянули:
— Аминь, аминь, аминь!..
— Да пошлет бог тем, кто еще выше поднял славу Хорезма, славу нашего известного всему миру ханства, долгую и счастливую жизнь! Да благословит их! Аллах, пошли силу и мощь всем мусульманам! — продолжал хан.
В ответ ему неслось:
— Аминь! Аминь! Аминь!..
Хан хлопнул в ладоши. В сад впустили людей, которые находились за его стенами, впустили столько, сколько сад мог вместить, не потеряв при этом праздничного обличья. Остальные же вставали друг другу на плечи, залезали на дувалы.
— Начинайте! — повелел хан и всем туловищем повернулся вправо.
Все, кто сидел на супах и подстилках, кто стоял на ногах и висел на стенах, повернулись вслед за ним. И увидели виселицу с веревкой, металлические колы в ряд…
В глубине сада, в гущине листвы, пряталась потайная дверь. Из нее показались палачи, за ними — пленные. Их подвели к виселице, один громко заплакал; на него с упреками накинулись остальные:
Трус! Не позорь честь наших богатырей! Ты один, а их тысячи!..
Засвистела плетка, все умолкли.
Хан не произносил больше ни слова, он лишь жестами отдавал приказы.
В сад втолкнули обшарпанного, грязного осла; на нем сидел человек в разорванной в клочья одежде, с шутовской короной на голове; корона была сделана из перьев черного ворона. По бокам шествовали два палача. Все решили, что это обрядили на потеху всем шута; откуда-то выбежали мальчишки, забросали его камнями.
На губах хана зазмеилась улыбка. Тут же заулыбались, оскалились его приближенные. Палачи подогнали осла к самой виселице, разогнали ребятишек, поставили осла к публике задом. Всадник в короне оказался теперь лицом к хану; но лицо его было так обезображено, что разглядеть, кто это, да и вообще понять, живой или мертвый человек на осле, было невозможно.
Хан засмеялся. Хохот покатился по всему саду: все хватались за животы, раскачивались в изнеможении — никак не могли совладать со своим верноподданническим смехом.
— Великий хан священной Хивы, высокочтимые сановники, люди! — обратился ко всем палач. — На осле восседает человек, присвоивший себе звание каракалпакского хана! Самозванец! Зарлык получил достойный его трон! — палач невозмутимо кивнул на осла. — Мошенник и предатель не повинился, не раскаялся! Он все время твердил: «Нам поможет самое мощное государство в мире — русское царство!.. Мы образовали Каракалпакское ханство по воле народа, по велению времени!»- Палач сделал выразительную паузу. — Чтобы он никогда больше не изрыгал глупости и не богохульствовал, мы отрезали ему язык.
Хан шевельнул рукой, и палач сдернул Зарлыка с осла. Два нукера разожгли костер рядом с виселицей. Палачи раздели Зарлыка догола и посадили его на огонь… Сами, отряхивая слегка занявшуюся на них одежду, отбежали в сторонку… Зарлык тихо стонал, будто стыдясь не наготы, а этих стонов. Будто не пламя ощущал на своем теле, а неловкость из-за того, что обнаруживает всенародно свою слабость.
Хан потемнел как туча, насупился. По саду мгновенно разлилась тишина.
Зарлык еще не испустил дух, как палачи волоком подтащили к виселице сына Ерназара — Хожаназара. Они силком поставили его на колени — лицом к хану.
— Эй, парень! — крикнул ему хан. — Тебя привели на место смерти! Мне жаль тебя и твою молодость! Если ты всенародно отречешься от отца-смутьяна, я помилую тебя!
Хожаназар тщился встать с колен, но палачи, положив свои лапищи ему на плечи, давили, давили вниз.
— Я отрекаюсь от бога, который дал нам такого изверга хана, как ты! От отца своего Ерназар Алакоза не отрекусь никогда! Слышите, люди! Никогда! Пусть твои сыновья отрекаются от тебя — кровожадного злодея!
Хан почернел, побагровел, побелел…
Палачи подхватили Хожаиазара, потащили, посадили на кол. Хожаназар извивался от нестерпимой, нечеловеческой боли, но не издавал ни единого звука.
Из потайной двери снова показались палачи. Между ними — Генжемурат, исхудавший, осунувшийся. Он был в кандалах, еле держался на ногах. Когда его подвели к виселице, он неотрывно, долго всматривался в уже неузнаваемого Зарлыка, в еще живого Хожаназара. Неожиданно сильным, звонким голосом Генжемурат прокричал:
— Люди, хивинский хан достоин казни! Он затоптал страну каракалпаков, он поработил и нас, и вас! Он унизил послов, прибывших к нему! Русские придут к нам на помощь, все равно придут! Мы уничтожим этого нелюдя!.. Жди-и-те!..
Палачи воткнули ему в рот кляп, накинули на шею петлю.
Хан покосился на главного военачальника и главного визиря, поняв его безмолвный вопрос, они тихо ответили:
— Еще много…
Перед ханом поставили закованного в цепи Бердаха.
— Пой перед смертью, если, конечно, можешь! — произнес главный визирь.
— Конечно, могу! — Бердах был слаб и измучен, но держался гордо. — Когда над землей нависает беда, воды уходят в глубину… Когда над мужчиной нависает беда, он и его судьба оказываются в руках глухонемого… Сейчас и над моей землей, и над народом моим спустились мрак и горе! Об этом я и спою песню! Слушайте все!
Вьюга нас мучила, вьюга слепила, Ветхую юрту мою повалила, Черными тучами небо закрыла, Кто мне ответит, лето придет ли?Хан вытер платком лицо и руки, с ненавистью посмотрел на Бердаха, потом обратился к главному визирю:
— Завтра! Этого будем наказывать завтра, вместе с другими! Завтра он всем нам, при всем народе, объяснит, какого лета он ждет!.. Убрать его!.. Теперь объявляйте, кому последуют наши милость и награды!
Главный визирь сделал шаг вперед, в руку ему сунули бумагу. Он начал читать с выражением, громко.
— «…По велению щедрейшего и справедливейшего из всех ханов мира — великого Сеидмухамеда — самым преданным и верным военачальникам и биям, которые подавили бунт, поднятый богоотступником Алакозом, которые подняли славу Хорезма на недосягаемую высоту, восстановили мир и спокойствие, из ханской казны выделяется для награды тысяча девятьсот двадцать два тилля… Из них выдать: Ерназару-кенегесу и Саипназару-мангыту — по пятьдесят тилля каждому! Сотнику Мухамедкариму — тридцать тилля, Адил-бию из рода ктай — двадцать пять тилля…»
Когда он добрался до имен тех, кому хан жаловал по десять золотых монет и менее, хан остановил его:
— Хватит! Остальных будем награждать завтра! Здесь, на этом же месте, до обеда! После обеда будут наказаны остальные смутьяны и предатели!
Ерназар-младший и Саипназар приблизились к хану и пали перед ним ниц. Их примеру последовали и те, чьи имена уже успели прочесть по ханскому фирману и чьи не успели. Длинной унылой чередой тянулись они к хану и касались лбами ковра у его ног.
Хан рассеянно наблюдал за ними и вдруг встрепенулся, будто вспомнил о чем-то важном, но нечаянно забытом.
— Где мать Алакоза?
Палачи засуетились и вскоре перед ханом предстала Кумар-аналык. Он прищурился, силясь лучше разглядеть ее.
— Да она ли это? — выразил хан сомнение.
— Она, наш великий хан, она! — подтвердил главный военачальник.
Кумар-аналык посмотрела хану прямо в глаза, и тут он понял: она!
— Какое имеешь ко мне дело, хан? Может, хочешь просить о чем-нибудь? Если так, сойди ко мне, спустись со своих высот! — Кумар-аналык поправила выбившуюся прядь волос. — И прикажи убрать от меня эти костыли! — она повела взглядом на палачей, которые держали ее.
Палачей как ветром сдуло. Кумар-аналык была едва жива, и все-таки она сделала два шага вперед. Все замерли от леденящего душу ужаса и любопытства.
— Ерназар-кенегес, — с особым ударением промолвил хан, — подойди ко мне!
Ерназар-младший, пошатываясь, приблизился к хану. Поступь у него была как у глубокого старика, которому уже не подвластны его руки и ноги.
— Освежи-ка в памяти, напомни матери преступника, где ее внуки…
— Старший внук посажен на кол… Младшие обезглавлены у нее на глазах!.. Внучки проданы, а полученная за них выручка пошла на нужды нукеров, наш великий хан!
— Где жена Алакоза? — безмятежно продолжал хан.
— Отдана в собственность Мамыт-бию, наш великий хан!
— Да, этот Мамыт-бий своего не упустит! Скажи ему — рога у коровы из меди, он и ее возьмет в жены! — изволил пошутить хан. Окружающие согласно закивали.
— Где юрта Алакоза? — допрашивал хан кенегеса.
— Сожжена дотла, наш великий хан! Место, где она находилась, сровняли с землей и залили водой!
— Что, старуха, скажешь на это?
— От гнилой головы — гнилые семена! Что посеял, то и пожнешь, безумец!
— Она, наверно, изголодалась, потому и несет чушь. Сошла с ума! Кто посмел оставить женщину голодной? Накормить ее. Пусть досыта наестся, прямо чтоб у меня на глазах!.. — Голос хана сорвался на визг, он потерял свое ханское величие.
Кумар-аналык была похожа на одинокое степное дерево, уцелевшее, выжившее вопреки всему и оттого особенно сильное и крепкое. Ее кипенно-белые седые волосы слегка трепал ветерок. Кумар-аналык выпрямила стан, высоко подняла голову в ожидании нового испытания, новой муки. Она подхватила подол своего длинного платья — видно, не хотела, чтобы ей что-то мешало идти навстречу опасности, навстречу беде.
— Эй, старуха, пока тебе приготовят еду на золотом блюде, я покажу тебе главного твоего ворога! Ты сама определишь ему кару!
Словно собаку на поводке, палач подтащил Шонкы и повалил перед нею на колени. У Шонкы на шее была петля.
— Он застрелил твоего сына!
— Ты? — вырвалось у Кумар-аналык.
— Пощади меня! Не вели казнить! — Шонкы пополз к ней на коленях.
— Ядовитую змею нужно убивать, иначе бед не оберешься! — Кумар-аналык набрала в легкие воздух и продолжала:- Если бы мне подбросили такую же ядовитую тварь, какой ты, хан, являешься, я не пощадила бы тебя! Вырвала у тебя жало и размозжила бы голову! Этому жалкому трусу я даже плевать в лицо не стану! Сгинь долой, прочь с моих глаз!
— Я буду умирать теперь каждый день, мать! От твоего презрения! Я уже умер, я уже погиб, Кумар-анылык! — бился Шонкы головой о землю.
— Вот и подыхай каждый день и каждый час!
— Старуха сошла с ума! — перебил ее хан. — А этот подлец… он одним глазом косил в одну сторону, а другим — поглядывал в другую… Пусть ему выколют глаа!
Шонкы начал лихорадочно шарить руками по земле. Нашел какую-то палочку, бросил, нащупал другую — и ударил ею себе в глаз; глаз вытек, лицо обагрилось кровью. Палачи стремительно бросились к нему, выволокли его из сада…
Толстый, внушительного вида повар принес на вытянутых руках блюдо. Оно было покрыто белым шелком… Повар отбил хану три поклона. Сеидмухамед показал глазами на Кумар-аналык. Повар, приблизившись к ней, протянул ей блюдо, стянув с него при этом зубами покрывало.
На золотом блюде покоилась голова Алакоза.
Все ахнули — будто из единой груди вырвался то ли вздох, то ли стон. Кумар-аналык едва не потеряла сознание; глаза ее, казалось, вот-вот закроются навеки… Она медленно, величавым и плавным движением сняла с платья украшение из серебряных монет и бросила на золотое блюдо. Монеты зазвенели звонко и холодно… Кумар-аналык развязала, расправила свой голубой широкий пояс и укрыла им голову Ерназара.
— Сын мой, мне больше нечего тебе подарить. Это все, что я смогла принести… Этим поясом повяжи свой стан; эти серебряные монеты потрать как хочешь, на разные удовольствия. Ты у меня красавец, палван! На тебя заглядится любая женщина! Даже самая молодая и прекрасная жена хана способна потерять от тебя голову…
Кумар-аналык отступила назад, замерла, не отрывая взгляда от золотого блюда.
Хан не смог — хотел, но не смог — заставить себя поднять глаза на эту женщину, обладавшую сверхъестественной силой и властью над собой и над людьми.
— Расходитесь, расходитесь все! — приказал он шепотом. — Конец! Расходитесь! Все, все!..
Третья часть, служащая эпилогом
1
К полудню солнце превратило Хиву в адское пекло. Из ворот города вышел молодой путник в большой меховой шапке. Пот густо струился по его лицу, заливал глаза, но он, похоже, ничего этого не ощущал: быстро, упрямо шагал вперед, словно торопился уйти подальше, подальше отсюда, от этого города, где одним достаются богатства и слава, а другим — лишь нищета и горе… Пот, слезы, а еще кровь…
Он шагал, гонимый яростью, гневом и болью. Мимо него проезжали арбы, скакали всадники — его с ног до головы обдавало пылью, в нос шибало конским потом. Он ничего не замечал, шагал и шагал посередке дороги, весь во власти своих мыслей и чувств… У границы, которая отделяла земли каракалпаков от Хивы, отделяла лишь условно, — у Майлы-шенгеля — путника нагнали три всадника. Это были Каракум-ишан и два его суфия. Каракум-ишан попридержал коня, усмехнулся:
— Ба, да это наш поэт!
Бердах не удостоил его взглядом, едва поздоровался.
— Да, повезло тебе, поэт, прямо скажем, повезло! — с издевкой заметил ишан. — Ты у нас счастливчик! Редкостный счастливчик!
— Еще бы, ведь я поэт! — в тон ему ответил Бердах>
— Подумаешь, поэт! Разве в этом счастье? Алакоз и его бандиты наказаны! Им воздано по справедливости!.. А вот ты жив! Я, я об этом позаботился, я хлопотал перед ханом за тебя! Это раз. Далее — страну нашу очистили от смутьянов, от заразы, скверны, от всяческих бредовых идей и начинаний! Это два… Так что тебя можно считать счастливым по праву — будешь славить великого хана Хивы! Священный, единый, мусульманский светоч — Хорезм!.. — Ишан поднял вверх палец. — Надеюсь, что ты не забудешь моих благодеяний! Забыть добро — это значит принять на душу грех! Бердах сдвинул назад шапку — на его лбу резко обозначилась красная полоска. Ишан рассмеялся неожиданно безмятежным, добродушным смехом.
— Когда шапка сжимает твою голову, это значит — тебя сжимает само небо; когда сапоги жмут твои ноги, это значит — тебя сжимает сама земля!.. Ты небось такую бы песню сочинил, если бы захотел воспеть узкую шапку и узкие сапоги!.. Отныне, братец ты наш, будешь воспевать наших каракалпакских биев! Они орлы. Они помогли хану сохранить единство Хивы!
— Давным-давно какой-то мудрец спросил у воробья: «Ты так похож на соловья, почему же ты не поешь, как он?» А воробей ему в ответ: «Я опасаюсь, как бы соловей у меня петь не научился»! — дерзко сказал Бердах. — По-моему, и вы и ваши бии — те же воробьи…
Ишан огрел коня нагайкой, оставив Бердаха в туче пыли. Поэт продолжал свой путь в одиночестве. Он останавливался на ночлег и отдых в полуразрушенных аулах. Чем ближе Бердах подъезжал к родным местам Алакоза, тем большее запустение и разруху он видел… Крепость Казахдарья была снесена и залита водой — на ее месте, куда ни глянь, вода, вода, вода… Летали, кричали чайки над трупами людей, останками лошадей…
— Эх, глупые, глупые людишки! Непонятливые, слепые! Разве можно уничтожить, вырвать у народа его мечту, его стремление к свободе и счастью? Разве можно водою затопить их? — произнес вслух Бердах.
* * *
Наступил год 1873-й…
Этот год не был похож ни на один из предыдущих. Начинался он в тишине и мире: так море утихает вдруг, успокаивается после долгого-долгого шторма… И весна была спокойной и ровной… И лето — лето тоже началось в обыденных, мирных заботах о хлебе насущном.
В один из таких вот обычных летних дней в каракалпакской степи показалась вереница людей. Это было русское войско. Возглавлял его генерал Константин Петрович Кауфман…
Весть о том, что появились те, кого из века в век, из десятилетия в десятилетие, из года в год ждали, стала разноситься среди каракалпаков как ветер.
— Спасение! Избавление! Радость, радость! Русские идут! Русские пришли!
Народ ликовал — сбылось, сбылось наконец! Каракалпаки встречали русских хлебом-солью. Бии вели себя словно воробьи, раньше других учуявшие, что зерно созрело. Они и нахохлились, и насторожились, и спасовали, вынужденные присоединиться к народу… Бии выходили с распростертыми объятиями навстречу русским, изъявляя тоже готовность помочь, пособить, вместе отправиться в Хиву. Их волновало одно: сохранятся за ними их привилегии или не сохранятся… Сумеют ли они еще удобнее и прочнее усесться на шею простого люда или, избави бог, вытеснят, погонят их с мускулистых этих, крепких шей…
Одно было ясно почти для всех каракалпаков: русские станут для них той высокой, несокрушимой скалой, которая их укроет и от бурь, и от холодных ветров, надежно их защитит в непогоду…
В аулах, расположенных между Жанадарьей и Аму-дарьей, в небо, как весенние птицы, взлетали-летели шапки, много-много шапок, и оживленные возгласы, дружные возгласы радости… Каракалпаки снова и снова вспоминали своих мудрых сынов — Маман-бия и Айдо-са, снова и снова возвращались в мыслях к Ерназару Алакозу… Снова и снова заговаривали о Тенеле и Кал-либеке, жадно высматривая их среди русских нукеров… Нашлись такие, кто клялся-божился, что уже видел их — конечно же, видел! — среди русских палванов… Другие этот слух опровергали — как же, жди их через двадцать лет, небось давно пропали, сгинули!.. Слухи, один невероятнее другого, разносились из одного аула в другой, кочевали по домам, витали в воздухе.
А Тенел и Каллибек… Их не было среди солдат Кауфмана; однако они и не пропали, и не погибли…
Вот что произошло с ними.
2
Тенела на произвол судьбы бросил в горах преемник Михайлова. Как ни упрашивали солдаты сотника — он так и не позволил Тенелу остаться в сотне.
От верной гибели Тенела спасла извечная жажда жизни. Она помогла ему одолеть и снега, и горы, и голод, и невероятную, нечеловеческую, усталость… Он шел, ориентируясь по солнцу, шел туда, где, по его предположениям, находился Оренбург.
Русская земля была безгранична — ни конца ей, казалось, нет, ни края… «Почему такая огромная, обширная страна не может одолеть Турцию, — с горечью вздыхал Тенел. — И все-таки правы, правы были наши предки! Под крылом России каракалпаки найдут и защиту, и благоденствие! Сейчас не победят, так потом все равно русские одолеют турок! Обязательно!»
Когда ему показалось: больше он не выдержит, свалится, затеряется в чужой стороне, погибнет в снегах, далеко-далеко от родных жарких степей, он вдруг набрел на селение. Он еле-еле дополз до избы на окраине и постучал в окошко.
Дверь отворила молодая изможденная женщина. Тенел пытался что-то объяснить ей, растолковать, поблагодарить заранее, но упал без чувств. Очнулся он в доме. Он обнаружил, что его прислонили спиной к теплой печке. Как сквозь туман увидел он молодую женщину, она наливала из горшка в миску похлебку, резала хлеб толстыми ломтями. Потом она чуть не волоком довела Тенела до стола, усадила.
Тенел забыл, когда он ел в последний раз. Он чувствовал себя так, будто перед ним положили золотой ключ, отмыкающий все земные богатства и сокровища, а не миску поставили с немудреной крестьянской похлебкой. Он ел с жадностью, давясь, захлебываясь, словно у него сейчас отнимут, вырвут самое необходимое, самое дорогое…
Его одолевал сон, он клевал носом. Хозяйка молча указала ему на медвежью шкуру, расстеленную возле двери, недалеко от печки.
— Как тебя зовут? — сквозь сон пробормотал Тенел. — У кого раз отведал хлеб-соль, тому сорок раз поклонись… — Язык у него заплетался.
— Лукерья! — издалека-издалека донеслось до него.
— Тысячу раз спасибо тебе, Лукерья! — пошевелил губами Тенел. Он тут же как сквозь землю провалился в сон.
Проснулся, не веря своему счастью: он в доме с людьми… Среди живых людей! Вон хозяйка, она кого-то кормит, примостившись на печке. Ах, там лежит кто-то… старушка… кажется, слепая… Он поежился: в избе было холодно. Надо вставать и разжигать очаг!.. Тенел наколол дров, печка запылала приветливым, добрым огнем. Лукерья накормила гостя завтраком. Тенел поблагодарил ее и стал собираться в путь.
— Куда же вы в этакую стужу и снег? В такой одежонке? — промолвила она вполголоса. — Так и замерзнуть недолго! Погибнуть!
— Морозы, сынок, морозы! Лютые, с метелями! Остерегись! Пережди! — ласково повторила старушка.
Тенел остался с великой радостью. Он тут же принялся хлопотать по хозяйству… Хозяйство было сильно запущено — чувствовалось отсутствие мужчины. Тенел трудился не покладая рук до самого вечера, тронутый добротой и вниманием женщин.
Вечером за ужином он рассказал им о себе, а женщины — о себе. Старушка оказалась свекровью Лукерьи; ослепла она вот уже как год; сын ее был на войне с турками.
— Не пришлось ли тебе встретить сына моего, Терентия Терентьевича Смирнова, уважаемый гость? — спросила старушка, когда они уже легли спать.
— Нет, мать, не приходилось! — ответил Тенел, чувствуя себя виноватым и смущенным оттого, что должен огорчить мать солдата.
Старушка опустила голову на подушку и, вздохнув, затихла.
На следующее утро Лукерья доверила Тенелу тайну: она получила извещение о гибели мужа, давно получила, да вот жалеет свекровь — скрывает от нее!
— Мы, русские женщины, привыкли оставаться вдовами! — всхлипнула Лукерья. — Привыкли! — повторила она горько.
Лукерья ни минуты не сидела на месте: убирала, стряпала, шила, штопала, ухаживала за беспомощной свекровью… Он не хотел быть им в тягость, нахлебником, лишним ртом и все раздумывал, чем бы помочь.
Как-то старушка тихонько, жалобно попросила его остаться у них до весны — помочь по хозяйству, а там авось и Терентий, их кормилец, вернется. Тенел видел, как бедно и скудно им живется: изношенное белье, плохонькая одежда, ветхая утварь, съестных припасов — в обрез. Он выведал у Лукерьи имена зажиточных хозяев и, прихватив с собой топор, пошел узнать, не нужен ли им работник — постолярничать, поплотничать, наколоть дров… Вот когда сгодилось ему то, чему научился он в Оренбурге, возводя хоромы купцам.
Тенел сговорился с первым же хозяином, к которому наведался; тот, к счастью, оказался человеком не скупым, понимающим чужую беду… Всю зиму снабжал он Тенела дровами и провизией — за работу на совесть. Лукерья и старушка жили теперь в тепле и сытости… Потом нагрянула беда: в один из вьюжных зимних дней свекровь Лукерьи скончалась. Как оно и положено добрым людям, Лукерья долго носила траур по свекрови.
По весне Тенел собрался в путь, в родимые края, но Лукерья загрустила, расплакалась вдруг, и он остался. Лукерья заботилась о нем — стирала, готовила, и все как-то легко, просто, неприметно; она была не особенно разговорчива, но и без ее слов Тенел понимал, что Лукерья питает к нему те же чувства, что и он… Они еще не открыли их друг другу, лишь стали вместе ходить на работу к местному богатею, вместе возвращаться… Вместе отправлялись они и на гулянья. Летними вечерами молодежь собиралась в центре деревни, развлекалась, как умела. Далеко за полночь Лукерья и Тенел брели домой… И однажды он взял ее руку в свою.
Вскоре Лукерья и Тенел решили соединить свои судьбы. Так Тенел остался в русской деревне.
У Тенела и Лукерьи родился сын, а спустя два года — дочь. Они назвали их Палваном и Марией. Тенел и Лукерья считали себя самыми счастливыми людьми на свете, хотя никогда об этом не говорили вслух, лишь каждый — наедине с собой… Они много работали: Лукерья слыла в деревне лучшей прачкой, а Тенел — мастером на все руки; односельчане уважали их и за добрый, приветливый нрав, и за скромность…
Молодые родители не могли нарадоваться на сына и дочку — такие они росли пригожие и сообразительные… Дети и Лукерья упросили Тенела научить их говорить по-каракалпакски. Он взялся за дело, и всерьез. Тенел помянул хорошим словом Михайлова, ведь своих-то он учил по его методу: повторял вслед за русскими словами каракалпакские…
Человеку хочется еще чего-то, всегда влечет мечта. В Тенеле она теплилась тоже. Мечта о родине. Степь снилась ему, мерещилась наяву, она влекла его с каждым годом все более властно и неотступно.
— Птица должна возвращаться в свое гнездо, а мужчина — на свою родину, — сказала ему однажды Лукерья. — Я вижу, как ты маешься! Поедем!.. Дети об этом тоже мечтают.
— Какая ты у меня! — только и смог вымолвить Тенел. У него горло перехватило от слез. В который уж раз он подумал: «Золотая досталась мне жена!»
На семейном совете порешили, что заработают поя больше денег, купят хорошую лошадь, крепкую повозку — и вот тогда!..
В один прекрасный весенний день Тенел и Лукерья погрузили на телегу свой домашний скарб, детишек и, распрощавшись с деревней, с каждым домом, с каждым жителем, пустились в дальний путь… Им приходилось не раз задерживаться в дороге, чтобы подработать денег, запастись провизией, новой одежонкой… Тенел с десятилетним Палваном не брезговали никакой работой. Лукерья и Маша посильно им помогали.
…Когда они добрались до восточного побережья Аральского моря, то обнаружили там большое скопление людей. Русские строили военные форпосты. Тенел и Лукерья решили, что негоже им появляться на родине Тенела без средств и имущества, и они нанялись на строительство военной крепости… Как только до них дошла весть, что русские вступили на каракалпакскую землю, они снялись с места. «Скорее, скорее домой! — не терпелось Тенелу. — В родной аул!»
3
В это же самое время в песках Каракумов от жажды и истощения погибали-умирали два путника — Калли-бек и седой человек, казавшийся совсем глубоким стариком, хотя ему не было и шестидесяти лет. Они лежали, полумертвые, на песчаном холме, худые — кожа да кости, покрытые грязью и пылью, как колючки в пустыне. Лишь по едва заметному дрожанию ресниц можно было догадаться, что путники еще дышат.
Их окружала безжизненная, с редкими саксаулами пустыня до самого горизонта. Песок, сплошной песок вокруг, и небо — бездонное, белесое небо, а на нем беспощадное солнце, которое поглядывало с любопытством вниз: кого бы еще загнать в нору? Кого бы еще опалить и обжечь?..
Путники лежали, взявшись за руки. Им казалось, что так им будет не столь страшно умирать, расставаться с жизнью…
— Аман, — простонал Каллибек, — Аман, не пожевать ли нам зерен от колючки?
— Жажда замучает, потерпим до ночи! — едва разлепив губы, отозвался Аман.
Каллибек был в отчаянии: «Неужели пришел мой конец? Столько пережить опасностей, добраться почти до дома и…» Он впал в забытье и стал не то грезить, не то вспоминать.
Тогда, почти двадцать лет назад, его купил у турецкого офицера англичанин. Купил как скотину, уже приготовленную к закланию, и привез с собой в Лондон. Здесь хозяин дал Каллибеку немного времени, чтобы освоиться, попривыкнуть. Он гулял по городу сначала в сопровождении мрачноватого слуги, потом — свободно, самостоятельно… Однажды Каллибека привели к мулле-турку и сказали, что тот научит его читать и толковать Коран, а вместе с ним — законы шариата… Два года одолевал он религиозные премудрости, два года вбивали ему в голову то, что он мог бы выучить и в Хиве… Правда, за два года он стал понимать англичан и сам научился изъясняться с ними, но ни о каких науках и думать, и мечтать было нечего…
Наступил день, когда хозяин вызвал Каллибека к себе:
— Я тобой доволен! Мулла тоже! А теперь слушай! Мы собираемся освободить Среднюю Азию от русских. Пробил твой час. Возвращайся на родину. Ты теперь грамотный, хорошо образованный мулла. Вживайся там, в своих краях, либо как мулла, либо как дервиш или там странник, путешественник — это как тебе будет удобнее. Но… но все, что отныне будет изрекать твой язык, — должно быть направлено против русских! Тебе будут верить — народ у вас доверчивый и темный! Ты много повидал! Англия сделала тебя человеком!..
Каллибек сразу же вспомнил Каракум-ишана. «Видно, этого тоже обучали здесь премудростям ислама! Ненависти к русским… Чтобы меня не пристрелили на месте, для вида соглашусь!»
— Хорошо, хозяин! Понял! — ответил он решительно.
Вскоре Каллибека посадили на корабль, отплывающий в Париж..
Каллибек оказался в Париже. Здесь, в этом многолюдном, ошеломляющем своей красотой городе, Каллибек замыслил удрать, скрыться от своих спутников.
В большом городе затеряться было нетрудно. Каллибек купил новую одежду, переоделся, свою отнес в укромное местечко и ночью сжег… В каждом прохожем ему мерещились преследователи, люди, которым приказано изловить его и привести на расправу к хозяевам. Каллибек устроился мусорщиком в глухом парижском пригороде, но, боясь за свою жизнь, часто менял жилище и работу… Со временем он узнал Париж не хуже тех, кто родился и вырос на бедных его улицах и в переулках… И все же беспокойство все гнало, все подгоняло Каллибека куда-то, пока не пригнало в Марсель. Здесь он нанялся в порт грузчиком.
* * *
«Эх, глупая моя башка! — отрывочные слова Каллибека скорее напоминали бред, чем связную нормальную речь. — Дырявая моя голова! Почему я удрал в Париже от тех, кто направлялся в наши края!.. Уж они бы доставили меня до родных мест, обязательно бы доставили! А там… Кто помешал бы мне там во всем признаться моим соплеменникам, покаяться!.. Казнили бы меня или помиловали, зато я все же увидел бы родину, вдохнул бы ее воздух, выпил бы глоток воды из Амударьи!.. Жил ли, умер ли — похоронен был бы на родной земле! На своей сторонушке!.. А может быть, я поступил правильно?.. Искупил теперь своими страданиями, своими муками прегрешения против Михайлова, Тенела, Ерназара-ага?.. Свою измену русскому царству?.. О господи! Прими мою душу с миром! О, как не хочется умирать… в этой знойной пустыне, в безвестности… Вдали уже виднеются мои… мои… наши холмы и горы. Добраться бы, уцелеть! Ведь не раз я бывал на краю пропасти…»
В Марселе Каллибек пробыл недолго; через год судьба занесла его в Алжир. Его нанял к себе одновременно и садовником и сторожем состоятельный алжирец; Каллибек обхаживал и охранял сад, большой сад с финиковыми пальмами, а когда созревал урожай, собирал его. Он собирал и припрятывал финиковые косточки; мысли о родине не покидали Каллибека; он мечтал по возвращении высадить у себя в стране финиковые рощи… Рощи райских деревьев… И быть садовником…
Образ жизни приучил Каллибека к постоянному молчанию, к постоянной настороженности и замкнутости. Он на собственном, горьком опыте убедился, что на чужбине единственный его друг — это он сам и что никто, ни один человек, не придет к нему на помощь. Рассчитывать можно лишь на себя, а следовательно, раскрывать и душу, и рот не стоит… Каллибека все считали глухонемым, и его это устраивало. А сам он научился и слушать, и слышать, и наблюдать.
Хозяин Каллибека куда-то переехал, и его наняли к себе два дюжих молодца; они объяснили ему, что работа у него будет ночная, нелегкая, зато прибыльная. Каллибек догадался потом, что они контрабандисты. Действовали они всегда ночью — выходили, когда стемнеет, в море, принимали какие-то тюки с судов, мешки, возвращались под покровом ночи в свою тщательно замаскированную то ли землянку, то ли пещеру; прятали там добычу и заваливались спать. День у них превращался в ночь, ночь уходила на опасный контрабандистский промысел.
Обедали хозяева Каллибека ближе к сумеркам. Они сосредоточенно, мрачно поглощали пищу, вроде бы и не ощущая ее вкуса и запаха. Они выделяли Каллибеку часть вырученных денег, как он догадывался, — совсем незначительную часть, но кормили-поили досыта: на веслах им нужен был сильный гребец. Иногда контрабандисты пропадали на день-два, а то и на три. Каллибек тогда оказывался запертым на замок, в одиночестве, с небольшим запасом воды и пищи — как в зиндане…
Пролетели еще два года его жизни.
Однажды контрабандисты явились в полночь очень возбужденные. Они спустились в свой тайник и вскоре предстали перед Каллибеком с мешками за плечами. Хозяева переложили содержимое в один здоровенный мешок и взвалили его на плечи Каллибека. Мешок был очень тяжелый.
Потом, как обычно, они бесшумно уселись в лодку и приказали Каллибеку грести, соблюдая особую осторожность. Они плыли долго, однако сегодня никто сигнала им не подавал. У Каллибека, уж на что он был вынослив и закален, начали неметь руки. На этот раз ни один из контрабандистов почему-то не подменял его на веслах. Они лишь понукали его шепотом: «Давай, давай, быстрее, быстрее!»
Каллибек заподозрил недоброе. Контрабандисты замыслили избавиться от него! От свидетеля! А потом бежать, скрыться от только им известной беды… Каллибек внутренне подобрался, приготовился к схватке… Один контрабандист набросился на него и тут же, получив удар веслом, с глухим криком полетел за борт. Каллибек не стал медлить и дожидаться, пока на него кинется второй, — приготовился к новому удару. Он успел оглушить рулевого и пихнуть его ногой — тот скатился в море. Каллибек ьидел, как один из утопающих схватился за мешок и так вместе с ним и пошел на дно. Рун левой кричал, ругался, умолял, но дотянуться до лодки не мог — Каллибек отгонял, отпихивал его веслом…
…Каллибека заметили с большого торгового судна и подобрали едва живого…
Начались его скитания из города в город, из страны в страну. Где он только не был: Александрия, восточный Судан, Египет… Менялось вокруг все — неизменной оставалась изнурительная и грязная работа ради куска хлеба, ради того, чтобы не умереть от голода.
В Суэце ему удалось за три года скопить денег на проезд до Бомбея. Каллибек слышал, что в Индию прибывает множество купцов из разных частей света и стран, из Туркестана тоже. Он решил добраться до Индии, а там и до родных мест… Каллибек смог оплатить капитану корабля свой проезд лишь наполовину, остальную половину — работой.
Индия ошеломила Каллибека: огромная страна, разноязыкая, пестрая, очень богатая и совсем нищая. Здесь, как и повсюду, припеваючи жилось людям с толстым карманом, и она была очень неуютной для тех, кто не располагал таковым. И в Индии Каллибек изведал лишения, голод, болезни. Он понял, окончательно понял, что человек без родины — полчеловека, а может быть, и совсем не человек. Он направился на север страны. С кем только судьба не сводила его в его странствиях! Каких только людей не встретил! И все же ни с кем по-настоящему и не сблизился. Попутчики так и оставались для него попутчиками…
Каллибек никого не винил в этом: жизнь самого его сделала угрюмым и скрытным, недоверчивым и подозрительным… Он не внушал людям доверия…
В одном из городов Каллибек познакомился с пожилым седым человеком по имени Аман. Рассказав, что отец его был каракалпак, а мать — индианка, Аман поведал Каллибеку, что отец завещал ему обязательно побывать на его родине.
Каллибек обрел в этом сдержанном, много изведавшем на своем веку человеке не просто спутника, но и доброго товарища: у них была общая цель. Плечом к плечу двигались они по Шелковому пути в Туркестан, на землю предков.
Оказавшись в глуби Каракумов, Каллибек и Аман были уже совсем на пределе сил — измождены, истощены зноем, голодом и жаждой. Верные клятве не покидать друг друга, они готовились вместе принять смерть…
* * *
Каллибек призывал на помощь бога, молил продлить им жизнь, хоть на малый, совсем крошечный срок — увидеть бы только на миг каракалпакскую степь, родной аул…
Вдруг Аман слегка сжал его пальцы: Каллибек взглянул на него; из горла Амана вырвался хрип:
— Пески шевелятся… Каллибек оперся на локти.
— Люди! Люди!.. Всадники! — напрягся он, чтобы произнести всего три слова надежды.
Каллибек ошибся, назвав людьми разбойников… Они, будто настоящие пустынные шакалы, обладали зорким зрением: углядели распростертые на холме тела, прискакали.
— Эй, кто такие? Спускайтесь вниз! По-прежнему держась за руки, Каллибек и Аман
покатились вниз. Следом посыпался песок, забивая им глаза, уши и рот. Всадники приблизились.
— Ба, да это же — ожившие покойники? — присвистнул один из них. — Нам не привыкать! Мы в песках только таких и встречаем! Одни, без каравана!.. Ну и что, небось подыхаете от голода и жажды! И на нас рассчитываете, а? — словно прокаркал он.
Ружья у всадников были английские, и Каллибек подумал: «Неужели англичане и сюда добрались?»
— Люди добрые! Помогите! Умираем! — взмолился он, и по его щекам потекли слезы.
— У нас самих туго с питьем и едой. В наш век задаром ничего не дается! — начал кривляться другой всадник. — Мы подбросим вам хлеба и воды, от себя, можно сказать, оторвем, но с условием… Вон, видите, саксаул? Кто первый добежит до него и вернется к нам обратно, тот и получил хлеб и воду!
Саксаул врос в пески, как одинокий, брошенный на произвол судьбы старик…
— Да вы смелее, до него не более сорока шагов! Никакие мольбы, никакие слезы не способны были
разжалобить этих зверей — это Каллибек и Аман понимали. Они отпустили руки друг друга и сделали шаг вперед. Тут же рухнули оба. Поползли.
Всадники чуть не валились с коней от хохота: — Эй вы! Ублюдки! Вы не люди, вы — ящерицы?
— Видать, хочется сучьим детям жить! Выжить! я
— Давайте быстрее, быстрее, поторапливайтесь! Вас ожидают хлеб и вода!
Каллибек начал обгонять Амана; старик схватил его за ногу, пытаясь задержать.
— Не оставляй меня, друг, не оставляй!..
— Аман, все будет пополам! — прохрипел, оглянувшись, Каллибек. Аман отпустил его, и он пополз дальше, вперед, вперед — к хлебу и воде. К жизни!
Грабители бросили две маленькие лепешки, положили у ног крохотный, как детский кулак, бурдючок…
— Поднимайтесь вон на ту вершину! На северо-востоке от нее увидите заросли турангиля. Возле них проходит дорога, она прямиком выведет вас через три дня пути в аул! — объяснили Каллибеку всадники и скрылись.
Каллибек сделал два глотка и огромным усилием воли остановил себя — оставил воду для Амана. Разломил пополам одну лепешку и тут же вцепился в нее зубами. Аман неподвижно лежал лицом вниз, шагах в двадцати. Вместе с водой и кусочком хлеба к Каллибеку вернулась жизнь, к тому же он узнал дорогу! Он положил хлеб за пазуху, с величайшей осторожностью взял в руки бурдючок с водой и пополз к Аману. Тот был недвижим. Каллибек наклонился, приподнял его голову; с нее, как слезы, заструился песок. Он позвал: «Аман-ага, Аман-ага!»- влил ему в рот несколько капель воды. Никаких признаков жизни. И тут Каллибека ударила мысль: его товарищ мертв, не выдержал этой дикой, этой жуткой гонки! Каллибек зарыдал. И откуда только у него брались слезы, ведь тело его и глаза совсем высохли!.. Но у горя неисчислимые запасы — и слез, и сердечной боли, и душевных мук…
Каллибек оплакивал горькую жизнь свою и Амана, страдания и муки, которые оба они пережили в этом страшном мире, где полным-полно людей, но где царит непроходимое, неодолимое, всесильное одиночество…
Он похоронил Амана под сыпучими песками Каракумов; чтобы его могила не затерялась вовсе, Каллибек воткнул в изголовье ветки саксаула. Прочитав заупокойную молитву и в последний раз оглянувшись н" а холмик, двинулся в направлении, которое ему указали всадники.
У подножия холма, на который ему предстояло подняться, Каллибек споткнулся обо что-то твердое, острое и слегка поранил ногу. Он вгляделся — это был человеческий череп.
Каллибек содрогнулся.
4
Народ — что море. Уж и ветер давно утих, а оно, если разбушуется-разволнуется, все не успокаивается…
После прихода русских каракалпаки долго еще пребывали в волнении, взбудораженные событиями, исполненные надеждами на лучшую жизнь. Возникали и затихали слухи, рождались были и небылицы, но все они были светлые, радужные. И русские люди представали в них всегда добрыми, великодушными, сильными защитниками слабых и обиженных. Прошел слух, что земли по северному берегу Амударьи отходят к русскому царству. И потянулись люди с южного берега на северный целыми аулами, целыми семьями…
Пронесся слух, что русские припугнули хивинского хана, запретили ему вмешиваться в дела каракалпаков, угнетать и притеснять их, — у людей новая радость, опять ликование…
Однажды в ауле, на берегу Казахдарьи, появилась семья Тенела. Он сам, Лукерья, их дети, лошадь, осел, повозка с поклажей. Люди опять стали судить-рядить: да, не зря, ясное дело, не зря бросали они в небо шапки, не зря присоединились к России! Вон каким молодцом да богачом вернулся их Тенел! Вон какую семью завел да привез на родную землю!
Лукерья все годы их совместной жизни исподволь выведывала у Тенела о привычках и обычаях его народа. Дети Тенела тоже никого не чурались; они охотно, хотя и скромно, отвечали на вопросы, которые так и сыпались со всех сторон.
— Ой, Тенел, ой, ровесник! — хвастался один из его старых приятелей, — Первым признал тебя я! Как только упал мой взгляд на твоего пострела, так я обо всем догадался и смекнул! Сын — вылитый ты! Когда ты уезжал, ну такой, точно такой был!.. Ох, бежит же, скачет времечко, ой скачет, не угонишься за ним!.. И сестра твоя, бывало, так же опрятно тебя и чистенько одевала!..
Тенел продолжал разгружать лошадь и осла. Люди стали ему помогать. Потом кто-то прикинул местечко, поровнее да поудобнее, для лачуги, очистил, притоптал-выровнял землю; другие поспешили — кто за тамариском, кто за камышом… И вот уже встает-растет на глазах у всех лачуга для семьи Тенела. Лукерья тоже не сидела сложа руки. Она соорудила очаг, разожгла в нем огонь, поставила на него кумган с водой; потом принялась сооружать треножник для котла. И не напрасно: кто-то из старых друзей Тенела привел по такому случаю маленького ягненка на поводу…
Около нового жилища Тенела стало совсем шумно и весело, то и дело раздавались шутки, смех. Люди радовались…
Шло время. К семье Тенела тянулись все, кто жил с нею рядом, по соседству, или же вдали, кто шел или ехал мимо аула. Каждого Лукерья и Тенел встречали приветливо, от чистого сердца, каждому, как могли, старались ответить на вопрос о том, какая она, Россия, как там живут люди, что делают, как одеваются, что едят, какие там праздники.
Постепенно Тенел обжился: построил себе на русский манер небольшую избу, покрыл ее соломой. Купил барана и двух коз. Лукерья с дочкой настегали одеял и подстилок. Тенел и Палван разыскали среди зарослей тростника красную коноплю и из ее волокон сплели сеть. Рыбной ловлей глава семьи увлек всех домочадцев — ею охотно занимались даже Лукерья с Марией.
В один из дней всей семьей, расположившись около необычного своего для каракалпаков дома, вязали невод. Этому искусству Тенел обучил и сына, и дочь, и жену. Около соседней юрты появился человек. Он был в лохмотьях, которые висели на нем как на жерди; на голове — длиннющие, давно не чесанные волосы. Невольно сразу же привлек внимание его нос. Он был как-то странно сплющен, что придавало лицу выражение не то устрашающее, не то беспомощное… Судя по всему, дервиш-попрошайка. Бродяга оперся на посох и затянул гнусаво, нудно:
Эй, люди, послушайте меня! Начало жизни всегда прекрасно, Но конец ее всегда тяжел! Каждый человек ищет смысл жизни, Но познал ты его или нет, Но постиг ты тайну бытия или нет, — Все равно не кичись, ибо конец один у всех!..Импровизируя на ходу, дервиш тянул печальную, безнадежную свою песню. Тенелу показался его голос знакомым, отдаленно напоминал ему чей-то… Но чей?
В дверях юрты показался старенький человек; он держал копченую рыбешку — она уместилась у него на ладони.
— Эй, дервиш! Ты много странствовал, а кто много видел, тот много знает. Прямо мучение мне с глазами! Они почти не видят! И кости не дают мне покоя — все ноют и ноют! Может, подскажешь мне средство от моих болезней?
Бродяга взял у старика рыбешку, бросил в видавшую виды переметную суму, скривил губы в улыбке-гримасе.
— Разве есть лекарство, разве может быть целебное средство от старости? От твоих болезней тебя избавит только одно — смерть!
Старик, будто ему к пяткам приложили тлеющие уголья, резко отпрянул от дервиша и спрятался в юрте.
Бродяга направился к избе Тенела.
Тенел одним глазом наблюдал за дервишем. На его бедре он увидел непременную принадлежность всех дервишей — горлянку, но эта была сделана из человеческого черепа, покрашенного в черный цвет. Бродяга протянул к Палвану руку за лепешкой и вдруг схватил мальчика обеими руками; не отпуская его, так и впился в него глазами. Он одеревенел, точно превратился в иссохший, готовый рассыпаться в прах ствол без коры.
Лукерья всполошилась.
— Дервиш, отпусти мальчика! — крикнула она. Тот отпустил Палвана и поплелся прочь, как неживой. Сам не ведая почему, Тенел позвал:
— Дервиш, вернись! Выпей пиалушку чая вместе с нами!
Тот, еле передвигая ноги, повернулся. Хрипло, внезапно лишившись голоса, бродяга с волнением прошептал:
— Люди добрые! Этот мальчик кого-то мне напоминает!
— Кого? — тоже шепотом откликнулся Тенел, почти узнав его и боясь себе в этом признаться.
— В детстве у меня был друг по имени Тенел, мальчик так похож на него!
— Каллибек? Ты? Ты жив?!
Каллибек уронил посох и бросился в раскрытые объятия друга. Своего единственного друга!.. Мужчины обнялись. На глазах у них были слезы.
Лукерья и дети не раз слышали от Тенела о Каллибеке, их юности и странствиях. Они обрадовались, что встретились, свиделись все-таки друзья.
Лукерья пригласила Каллибека в дом. Но и там, удобно расположившись в опрятной, чистенькой комнате, Тенел и Каллибек все еще не могли опомниться, успокоиться, осушить слезы. С улыбкой, молча, растроганно взирали они друг на друга… Лукерья хлопотала, замесила тесто. Она расстелила дастархан, поставила перед мужчинами полную миску жареного проса.
— Полакомьтесь пока! Сынок, разожги огонь в тандыре, будем печь лепешки в честь дорогого гостя!..
Мужчины остались наедине: Каллибек потянулся к миске и набрал полную горсть проса.
— Боже, я, наверно, лет двадцать не ел такого замечательного проса, как это! — Каллибек излучал счастье.
Жизнь жестоко потрепала его друга, понял Тенел, хлебнул, бедолага, лиха: совсем почти старик!.. Да, не сладко ему пришлось в Туретчине, не сладко!..
— Вот и довелось нам свидеться, Каллибек, дружище! Все-таки на этом свете лучше быть живым, чем мертвым! — воскликнул Тенел.
— Жить, конечно, хорошо… даже в этом мире! Особенно когда тебе выпадает такая встреча! — Каллибек вытер слезы. — Ну, рассказывай! Сначала ты!..
Тенел смущенно пожал плечами: ему было немножко неловко перед другом за свое счастье и благополучие. Он коротко, намеренно бесстрастно изложил ему то, что случилось с ним после их разлуки.
— Теперь твоя очередь, Каллибек! Рассказывай о себе!.. Я часто тебя вспоминал, особенно когда приходилось туго!
— А уж как я скучал!.. Только меня, меня еще совесть мучила, Тенел! Крепко мучила! — Каллибек зажмурился, помолчал, потом произнес:-Видишь ли, распространяться много о том, что видел сам, — это ведь один из способов убеждать других людей, что ты умен, привлекать к себе их внимание… Я же, я все время старался от людей скрываться. Мне было выгоднее прослыть дураком или немым, но уцелеть… Тебе я расскажу все, ничего не скрою. Выложу всю правду о себе и о мире, каким я его постиг, каким для себя открыл. — И Каллибек действительно без прикрас нарисовал Те-нелу картину своих странствий, тех унижений, тягот и опасностей, которые повсюду настигали, преследовали его. — Честно признаюсь тебе, Тенел, к какому заключбнию я пришел, прожив бурную и нескладную жизнь. Богатый везде богатый, бедный везде бедный, бродяга и нищий — всюду бродяга и нищий… Везде и всюду идет борьба за существование, богач теснит-притесняет бедняка, а сильный пожирает, уничтожает слабого. Раньше я считал, да мы вместе с тобой так считали, — самый счастливый человек на этом свете тот, кто много знает и много понимает. Однако я ошибался. Это заблуждение. Все как раз наоборот. Чем больше человек знает и видит, чем больше странствует по белу свету, тем он несчастнее. Потому что он лучше начинает постигать все несовершенства, все изъяны мира, все несправедливости и подлости его.
— Не согласен! Я-то думаю иначе. И глупый поумнеет, коли будет много знать. — Тенел засмеялся, ему хотелось успокоить Каллибека, который был в страшном возбуждении. — Даже бии наши и те ныне поумнели! Вспомни, какими всесильными были они в пору, когда мы с тобой отправились в Оренбург…
— Ничуть они не поумнели, ни капли не изменились! — перебил его Каллибек с болью в голосе. — Про них можно сказать лишь одно: горбатого могила исправит! Хотя не такие уж они и дураки или глупцы! Они умны по-своему, но только для себя, когда это касается их хищных интересов! Тут они умны!
— Не совсем тебя понимаю.
— Что ж в этом удивительного, Тенел? Кто возьмет на себя смелость утверждать, что он понимает, все понимает в этом непонятном мире?.. Я, например, уразумел твердо одно: этот мир непостижим и запутан.
— Ты, наверно, стольким языкам научился в своих странствиях? — поинтересовался Тенел. — С любым купцом из любой страны объясниться можешь, а?
— Что тебе ответить? Знаю немного русский, немного английский, французский, арабский… Но честно — ничего толком не знаю, ни одного языка! — сознался Каллибек. — Ведь я выдавал себя за немого, а так разве научишься чужому языку?..
— А науки разные?.. — спросил Тенел.
— Видел я, Тенел, много, так много, что редко кому выпадает! Паровозы и пароходы — помнишь мечту наших детских лет? — не только видел, но и ездил на них. Работал на промыслах, где добывали из-под земли нефть! На плантациях гнул спину. Какие только диковинные деревья и растения не попадались мне!.. Однако чему можно научиться, коли катишься по земле словно мяч… — Каллибек всхлипнул, не сдержался.
— Эх, написать бы обо всем этом!
Ты думаешь, это интересно кому-нибудь?.. Хотя, как знать, может, ты и прав! Впечатлений у меня столько, что в одну голову они не умещаются.
— Э, братец, а ты считай, что у тебя их две! Твоя и вон этот череп.
— А ты наблюдательный, приметливый… Всегда был таким.
— Не такая это вещь, чтобы не заметить!
— Ты не думай, что я ношу эту горлянку из-за жестокости или равнодушия! Нет! — Каллибек отхлебнул чай, отломил горячую лепешку, которые успела испечь Лукерья. — Я поранился об этот череп у подножия одного холма. Он, холм, я знал, даст мне нужные ориентиры к дому… Понимаешь, только я собрался на него вскарабкаться, как споткнулся и оцарапал ногу… Я усмотрел в этом знак, уж не знаю — хороший или плохой, но знак… Мои предки встретили меня таким вот образом… Кто ведает, вдруг это череп самого Чингисхана или Алакоза, а может быть, Маман-бия, моего или твоего отца… Или такого же бездомного, неприкаянного бродяги, как я сам!.. — Каллибек умолк, погрузился в раздумье. — Какая, в сущности, разница? Все одно! Какие мы были наивные! Как верили, что кто-то думает о нас, печется о нашем благе. Чепуха все это, чепуха! Любой и каждый одержим заботой лишь о себе самом! Нигде — ни в Европе, ни в Африке, ни в Азии, — нигде не обнаружил я головы, которая болела бы чужой болью! 'Нигде!.. — Каллибек распалился, глаза его загорелись недобрым огнем; он, казалось, забыл о радости встречи. — А так называемые владыки мира — цари, короли, ханы, эмиры!.. Эти мерзавцы только и делают, что рискуют тысячами чужих голов, посылая их на бой, воевать, посылая ради наживы и богатства!.. Алчность движет миром, алчность!.. По правде говоря, я подобрал тогда в Каракумах и приспособил для себя этот череп не потому только, что он напомнил мне о моей вине перед родиной. А потому еще, что решил: пусть хоть череп сослужит мне службу! Хоть он!.. — Каллибек задохнулся, рванул на себе ворот одежды, будто она его душила.
— Ну, а твоя, собственная твоя голова? Служила она когда-нибудь для других, болела за чужого?.. — осторожно, чтобы не обидеть друга, спросил Тенел.
— Я не считаю, что я лучше других! — перебил его Каллибек. — Себе цену я знаю. Не высока она! Мне и живется потому в этом мире неуютно, плохо живется! — Каллибек угрюмо насупился. — Остался кто-нибудь в живых из семьи Алакоза?
— Сын остался, ему теперь семнадцать лет! В тот день добрым людям удалось спрятать его, он был трехмесячным младенцем.
— С кем же он живет?
— С Кумар-аналык, она жива, хотя и совсем уже дряхлая…
— Ну и что же ты думаешь о Ерназаре, Айдосе, Ма-ман-бии? Скажи мне, Тенел, откровенно! Неужто то же, что и в годы наши невозвратные?
— Конечно, скажу откровенно, как и положено друзьям!.. По-моему, эти люди думали не только о себе, болели не только своей болью! Наверно, и они ошибались, эти умные головы, но думали они о благе людей!.. Мечта Маман-бия сбылась — каракалпаки перешли в русское царство! Я понимаю так: Маман будто зеркало перед каракалпаками поставил — зеркало России — и велел им: глядите, вникайте! Айдос-бий посчитал, что причиной бедствий народных является именно оно, это зеркало, указывающее на Россию, и потому только решил закрыть его своими руками!.. Об Алакозе… Ала-коз был великий каракалпак! Уж у него-то голова была золотая, уж она-то работала ради всего народа!
— По-моему, Алакоз прежде всего был врагом самому себе. Не жилось ему в мире и спокойствии, как всем остальным людям! С его умом-то он мог бы жить припеваючи! И людей бы не положил зря столько. Умная голова — она может столько бед натворить, что глупой не снилось!.. — едко, в сердцах заявил Каллибек.
— Не говори так об Алакозе, грех это! Благодарность, по-моему, должна быть одной из первых человеческих заповедей! — твердо и непримиримо произнес Тенел. — Я видел много добра от людей, от Алакоза тоже… и никогда этого не забуду!.. Потом, судить да рядить вообще легко, куда легче, чем самому сделать что-то путное, по себе знаю! — поспешил добавить он, опасаясь, как бы Каллибек не принял его слова на свой счет. — Да, в одном ты прав: есть сильные, есть слабые!
— Да, а бог у слабых отнимает все и все передает сильным!
— Ну а ты, Каллибек, на чьей же стороне ты?..
— Ни на чьей! Не желаю быть ни для Кого ни другом, ни врагом! Я сам по себе! Знаешь, на земле дольше всего живут люди, которых никто и ничто не волнует! Уж в этом-то я уверен — убеждался не раз!
Лукерья увидела, как сник, огорчился Тенел, и поспешила предотвратить разлад.
— Ешьте, угощайтесь, пожалуйста! — придвинула она к гостю блюдо с лепешками и чайник с чаем.
Тенел поднялся, подошел к нише, где хранилась посуда, вынул нож. Он вышел из дома вместе с сыном. Тенел чувствовал, что его друг озлоблен, истомился от одиночества, что его мучают угрызения совести, а больше всего — сознание нелепо прожитой жизни.
Каллибек никогда раньше не сидел на таких мягких одеялах, не опирался на такие чистые подушки, не находился в таком уютном доме, среди ласковых, искренне расположенных к нему людей. Здесь, рядом, женщина с глубокими серыми глазами, спокойная, держится с достоинством, ухаживает за ним с ненавязчивым вниманием и радушием. Красивые, послушные дети, готовые по первому знаку родителей сделать все, что им скажут. Боже, какой счастливый Тенел!
— Как вам живется в ауле, сверстница? Не скучаете ли? — обратился Каллибек к Лукерье.
— Э, курдас![12] — ответила Лукерья. — Люди везде люди. Поначалу, что уж хитрить, непривычно было, тосковала. А теперь привыкла! Отношение к нам самое доброе, со всеми мы живем в ладу и дружбе. Дети наши тоже привыкли, нашли себе друзей. Дружат с детьми поэта Бердаха — водой не разольешь! Наша Мария завела себе хорошую подружку, дочку Бердаха — Хурли-ман. У девочки приятный голосок, вот они вместе с моей и распевают песни, как птицы певчие заливаются!
— Как хорошо! — вздохнул Каллибек. — А я…
— Не тужи, курдас! И у тебя будет свой дом!
— Не будет у меня ни семьи, ни дома!
— А наш дом… чем не твой?
— У человека должен быть свой дом, где он хозяин и всему голова… потому что сам его построил, сам возвел. Или… или не должно быть никакого. Вот как у меня!
— Да полно тебе! Главное, веру не терять, хотение иметь — и все будет! Не то что дом — хоромы! — утешала его Лукерья. — Гони от себя прочь печальные мысли, сегодня у нас праздник! Вон друг твой зарезал барана, побегу пособлю ему.
— Нет, нет, не надо резать для меня барана! — протестующе замахал руками Каллибек. — Я и так сыт!
— Не отказывайся, курдас, от угощения, не торопись! У нас еще вечер впереди, и ночью у друзей найдется о чем потолковать! — увещевала его Лукерья.
Каллибек выскочил на улицу.
— Тенел! Остановись, друг! Недостоин я такого почета! — зачастил, заикаясь, Каллибек.
— Э, друг! Коли бы дом был пустой, тогда какой спрос!.. Гостя надо уважить! Да и себя тоже! Праздник у нас сегодня, большой праздник!
— Я же не смогу ответить вам тем же! У меня не то что барана, пиалушки для чая нет!
— Наш дом — твой дом! — Широко улыбаясь, Тенел ловко разделывал баранью тушу.
До глубокой ночи затянулась беседа друзей. О чем только не было переговорено! Когда они уже собрались на покой, Каллибек вдруг спросил Тенела:
— Помнят люди Алакоза или забыли?
— Помнят!.. Да, помнят! Недавно Бердах сказал: «Герой и сам крепость, и его могила тоже крепость!» Люди обозначили место, где Алакоз был убит. Сейчас оно стало местом паломничества для каракалпаков. Вот так-то, друг мой Каллибек!
* * *
На следующий день Каллибек распрощался с Тенелом и его семьей. Прощался он так, словно собирался опять уехать в Африку или Индию. Жадно всматривался в их лица и все не решался сделать первый шаг. Потом молча повернулся спиной и пошел неуверенно, пошатываясь. Напоследок, не поворачивая головы, помахал рукой — Тенел и Лукерья все ждали его; надеялись, что однажды он объявится — и тогда уж они ни за что не отпустят его от себя. Но он не объявился. Никто его больше не встречал.
Он исчез навсегда.
…Ерназар Алакоз называл когда-то Тенела «мой народ». Дом Тенела стал своим домом для всех, кто желал хоть что-нибудь знать о России, кому нужен был умный и добрый совет…
Люди шли в этот дом и шли. С каждым годом их становилось все больше.
Примечания
Note1
Тулепберген Каипбергенов — Народный писатель Каракалпакстана и Узбекистана. Герой Узбекистана. Лауреат Государственных премий СССР, Узбекистана, Каракалпакстана. Лауреат Международных премий имени Махмуда Кашкарий, Михаила Шолохова, а также премий ВЦСПС и Союза писателей СССР. Победитель конкурсов газеы «Правда» и журнала «Крестьянка». Хаджи.
(обратно)Note2
Кааба — священный камень и храм в Мекке, место паломничества мусульман всего мира.
(обратно)Note3
Кише — тетя; по обычаю, внук, старший ребенок сына, считается сыном дедушки и бабушки, поэтому свою мать он называет кише.
(обратно)Note4
Горуглы- герой одноименного восточного эпоса.
(обратно)Note5
Шынкобыз — национальный музыкальный инструмент.
(обратно)Note6
Каракалпакский обычай: когда девушку вводят в дом жениха, ей открывают лицо.
(обратно)Note7
Батман — мера веса; в батмане 20 килограммов.
(обратно)Note8
Кукнар — наркотик, приготовляемый в виде отвара из головок опийного мака.
(обратно)Note9
Дегелей и шегирме — каракалпакские национальные головные уборы из бараньей шкуры.
(обратно)Note10
Баксы — певец.
(обратно)Note11
Бирюч — парламентарий.
(обратно)Note12
Курдас — сверстник.
(обратно)
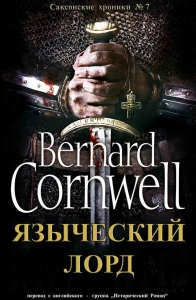

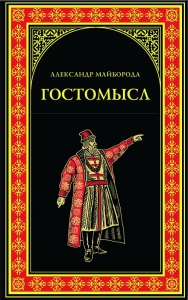




Комментарии к книге «Непонятные», Тулепберген Каипбергенович Каипбергенов
Всего 0 комментариев